Посвящается Даниэлю и Стивену
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Мне очень приятно, что «Россия при старом режиме» делается доступной хотя бы для небольшой части русской аудитории. Мне всегда хотелось думать, что я работаю в рамках русской историографической традиции и обращаюсь в первую очередь к русскому читателю. Не знаю, право, пожелал ли бы я посвятить более тридцати лет жизни изучению истории России и писанию работ на эту тему, не питай я надежды, что рано или поздно смогу найти выход на аудиторию, для которой прежде всего предназначались мои исследования.
С момента первого появления книги в 1974 г. некоторые рецензенты, особенно русского происхождения, высказали на ее счет ряд критических замечаний, на которые я хотел бы сразу же вкратце ответить.
Согласно одним критическим отзывам, мое изложение эволюции русского политического устройства слишком односторонне, слишком «гладко» в том смысле, что я, по словам этих критиков, уделил недостаточно внимания сопротивлению общества поползновениям вотчинного государства. В ответ на такое обвинение я могу лишь заметить, что существует уже обширная превосходная литература о борьбе русского общества против самодержавия, тогда как, насколько я знаю, моя книга впервые подробно разбирает иную сторону этого процесса, а именно рост государственной власти в России. Каждый, имеющий хотя бы самые минимальные познания в области русской истории, знаком с Радищевым, с декабристами, с Герценом, с «Народной волей». Однако многие ли, даже среди профессиональных историков, слыхали об Уголовном уложении 1845 г. или о «Временных законах» от 14 августа 1881 г., которые, возможно, наложили еще более глубокий отпечаток на ход исторического развития? Спору нет, сопротивление русского общества самодержавию получает у меня поверхностное освещение, но толковать это следует не как безучастие с моей стороны, а как результат решения придерживаться главного предмета книги, то есть роста русского государства и его способности отражать нападки на свою власть внутри страны.
Иные критики поставили под сомнение разумность моего решения завершить изложение 1880-ми годами, вместо того, чтобы довести его до 1917 г. Причины этого решения разбираются в Предисловии к английскому изданию и обсуждаются еще более подробно в завершающей главе книги. Могу еще добавить, что я начал работу над продолжением «России при старом режиме», а именно над двухтомной «Историей русской революции», которую я поведу с конца XIX в., примерно с того времени, на котором обрывается настоящая книга.
Бессмысленно, да и просто недостойно, отвечать тем критикам, которые усматривают в моих работах враждебность по отношению к России и к русским людям. В истории русского общественного мнения выстраивается долгая череда горячих патриотов, которые страстно изобличали изъяны в психологии своего народа и в учреждениях страны, но притом любили Россию ничуть не меньше других. Моя книга укладывается по большей части в рамки западнической, или «критической» традиции русской мысли, которая уходит своими корнями глубоко в толщу русской культуры по крайней мере со времени Петра I. Более того, в моей книге нет ничего, отдаленно напоминающего пессимизм Чаадаева, Гоголя, Чехова или Розанова. Я отдаю себе отчет в том, что русские люди, критически отзывающиеся о России, менее уязвимы обвинениям в антирусских настроениях, чем высказывающие подобные же взгляды иноземцы. Но ведь это проблема чисто психологическая, а не интеллектуальная: я никак не могу принять довода о том, что критическое отношение, если оно высказывается посторонним, изобличает какую-то враждебность. Каждый, кто прочтет мою книгу беспристрастно, обнаружит, что я особо подчеркиваю влияние природной среды на ход русской истории и отношу многие его моменты на счет сил, неподвластных населению страны.
«Россия при старом режиме» имеет свой тезис. Я не выдумывал его; тезис этот вырисовывался все более и более выпукло по мере моего углубления в разнообразные стороны русской истории. Мои изыскания убедили меня в основательности так называемой «государственной школы», и мое принципиальное расхождение с нею состоит в том, что если ее ведущие теоретики второй половины XIX в. склонны были усматривать в некоторых явлениях лишь относительно маловажные и, возможно, преходящие отклонения от западноевропейской модели развития, я, современник событий, произошедших после 1917 г., скорее смотрю на них как на явления более значительные и непреходящие. Мои трактовки, излагаемые на последующих страницах, выросли из обработки исторического материала на протяжении многих лет. Лучше всего будет пояснить, как я пришел к своим выводам, процитировав строки из «Записных книжек» английского писателя и ученого Самуэля Батлера:
Я никогда не позволял себе выдвигать какой-либо теории, покуда не чувствовал, что продолжаю наталкиваться на нее, хочу я того или нет. Пока можно было упорствовать, я упорствовал и уступал лишь тогда, когда начинал думать, что смышленые присяжные с умелым руководством не согласятся со мной, если я стану упорствовать дальше. Я сроду не искал ни одной из своих теорий; я никогда не знал, каковы они будут пока не находил их; они отыскивали меня, а не я их.
Мне хотелось бы выразить глубокую признательность переводчику книги Владимиру Козловскому, подсказавшему мне идею ее издания по-русски и самоотверженно потрудившемуся над этим точным и изящным переводом.
Ричард Пайпс Кембридж, Массачусетс. Октябрь 1979 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предметом этой книги является политический строй России. Книга прослеживает рост российской государственности от ее зарождения в IX в. до конца XIX в. и параллельное развитие основных сословий — крестьянства, дворянства, среднего класса и духовенства. В ней ставится следующий вопрос: почему в России, в отличие от остальной Европы,— к которой Россия принадлежит в силу своего местонахождения, расы и вероисповедания,— общество оказалось не в состоянии стеснить политическую власть какими-либо серьезными ограничениями? Я предлагаю несколько ответов на этот вопрос и затем пытаюсь показать, как оппозиция абсолютизму в России имела тенденцию обретать форму борьбы за какие-то идеалы, а не за классовые, интересы, и как царское правительство в ответ на соответствующие нападки разработало административные методы, явно предвосхитившие методы современного полицейского государства. В отличие от большинства историков, ищущих корни тоталитаризма XX века в западных идеях, я ищу их в российских институтах. Хотя я время от времени упоминаю о более поздних событиях, мое повествование заканчивается в основном в 1880-е годы, ибо, как отмечается в заключительной главе, ancien regime в традиционном смысле этого выражения тихо почил в Бозе именно в этот период, уступив место бюрократическо-полицейскому режиму, который по сути дела пребывает у власти и поныне.
В своем анализе я делаю особый упор на взаимосвязь между собственностью и политической властью. Акцентирование этой взаимосвязи может показаться несколько странным для читателей, воспитанных на западной истории и привыкших рассматривать собственность и политическую власть как две совершенно различные вещи (исключение составляют, разумеется, экономические детерминисты, для которых, однако, эта взаимосвязь везде подчиняется жесткой и предопределенной схеме развития). Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл, и что отсутствие такого разграничения составляет главное отличие правления западного типа от незападного. Можно сказать, что наличие частной собственности как сферы, над которой государственная власть, как правило, не имеет юрисдикции, есть фактор, отличающий западный политический опыт от всех прочих. В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в древнем Риме), чтобы она раздвоилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит par excellence к той категории государств, которые политическая и социологическая литература обычно определяет как «вотчинные» [patrimonial]. В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) является одновременно и сувереном государства и его собственником. Трудности, с которыми сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множащихся контактов и соперничества с Западом, имеющим иную систему правления, породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое не удалось преодолеть и по сей день.
Характер книги исключает подробный научный аппарат, и я, по большей части, ограничиваюсь указанием источника прямых цитат и статистических данных. Однако любой специалист легко увидит, что я в большом долгу перед другими историками, на которых я здесь не ссылаюсь.
Ричард Пайпс.
ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Что бы ни писали патриотические русские историки, когда Господь сотворял род людской, Он поместил россиян отнюдь не в том месте, где они пребывают ныне. В самые ранние времена, по которым у нас имеются какие-либо источники, сердцевина России, — лесистая полоса, в центре которой располагается Москва, — населялась народами финского и литовского происхождения, тогда как в прилегавших к ней с востока и юга районах жили тюркские племена. Русские впервые мигрировали на эту территорию в конце первого тысячелетия новой эры. До этого они вместе с другими славянами населяли область, границы которой невозможно очертить даже с приблизительной точностью; полагают, однако, что она лежала к северу от Карпат, между Вислой и Одером на западе и нынешней Белоруссией на востоке. О предыстории славян известно немного. Археологический материал, который нельзя связать с какой-либо определенной этнической или даже расовой группой, окаменевшие обломки языков и этнические названия давно сгинувших народностей, попадающиеся в ранних исторических сочинениях и рассказах путешественников, породили изрядное число теорий, однако конкретных свидетельств у нас ничтожно мало. С какой-либо степенью определенности можно утверждать единственно, что в ранний период своей истории славяне были кочевыми скотоводами и объединялись в рода и племена, и что они не знали ни политической, ни военной организации. С запада и с юга соседями их были готы, а на севере земли их граничили с литовскими. Venedi или Veneti, о которых упоминают Плиний Старший и Тацит, были, по всей видимости, славянами. Это стародавнее название сохранилось в немецком Wenden, обозначавшем несуществующий больше народ Западных славян, и в современном финском слове Venaja, которым финны называют Россию. Говоря о них, иноземцы также использовали имена Antae и Sclaveni. Сами славяне, видимо, звали себя именами «словене» или «словяне», происходившими от «слово» и обозначавшими народы, наделенные даром речи, — в отличие от «немцев» («немых»). Последнее наименование было дано славянами всем прочим европейцам, а в более конкретном смысле относилось к их германским соседям.
Во времена Римской империи славяне жили в Центральной Европе однородной, этнически недифференцированной массой. После падения империи однородность эта стала нарушаться вследствие того, что они оказались захвачены волной переселения народов, вызванной напором азиатских варваров. По всей видимости, миграционное движение славян началось в конце IV в. н. э. вслед за вторжением в Европу гуннов, уничтоживших соседние готские королевства, однако массовый характер переселение обрело лишь в VI в. после наплыва новой волны азиатских пришельцев — аваров. Вслед за вторжением аваров одна группа славян двинулась на юг, на Балканский полуостров, и остановилась лишь по достижении границ Византии. Другие отправились на восток. Здесь им не противостояло ни политической, ни военной силы, и они распространились компактными группками по всему пространству от Черного моря до Балтийского, по пути покоряя крайне отсталых финнов и литовцев и поселяясь промеж них. Именно в эту эпоху переселения, то есть между VI и X вв. н. э., распалась пранация славян. Сперва славяне разделились на три крупные территориальные общности (Западных, Южных и Восточных); во втором тысячелетии новой эры они продолжали дробиться дальше — на отдельные народы. В иных частях славянского мира процесс этот не достиг своего завершения и по сей день.
Перед тем, как приступить к рассмотрению исторической эволюции Восточных славян, от которых пошли русские, следует более или менее обстоятельно описать природные условия, с которыми они повстречались вследствие своего переселения. В случае России географический фактор особенно важен, поскольку (как будет указано ниже) страна в основе своей настолько бедна, что позволяет вести в лучшем случае весьма скудное существование. Бедность эта предоставляет населению весьма незначительную свободу действий, понуждая его существовать в условиях резко ограниченной возможности выбора. С точки зрения растительности Россию можно подразделить на три основные зоны, которые поясами тянутся с востока на запад [Хорошее описание российской географии в ее связи с историей страны содержится в W. H. Parker, An Historical Geography of Russia (London 1968)]:
1. Тундра. Эта область, лежащая к северу от Полярного круга и покрытая мхами и лишайниками, неспособна обеспечить организованную жизнь человека;
2. К югу от тундры простирается громадный, величайший в мире лес, покрывающий большую часть северной половины Евразии от Полярного круга до 45-50° северной широты. Лес этот можно дальше подразделить на три части: А. Хвойная тайга в северных районах, состоящая в основном из ели и сосны; Б. Смешанный лес, частью хвойный, частью лиственный, покрывающий центральную область России, где расположена Москва и где покоятся истоки современного русского государства; и В. Лесостепь — промежуточная полоса, отделяющая лес от травянистой равнины;
3. Степь — огромная равнина, простирающаяся от Венгрии до Монголии. Лес растет здесь лишь при посадке и уходе, а сама по себе природа способна лишь на траву и кустарник.
Что до пахотной почвы, то Россию можно подразделить на две основные зоны, граница между которыми, грубо говоря, совпадает с линией, разделяющей лес и степь. В лесной зоне преобладающим типом почвы является подзол, содержащий скудное количество естественных питательных веществ, находящихся притом в подпочве и требующих глубокой вспашки. В этой области множество болот, а также обширных песчаных и глинистых участков. В ряде районов лесостепи и в большей части собственно степи преобладающим типом почвы является чернозем, цвет и плодородие которого объясняются присутствием перегноя — продукта гниения травы и валежника. Чернозем содержит от 2 до 16% перегноя, насыщающего слой земли толщиной от полуметра до трех метров. Он покрывает примерно сто миллионов гектаров, являющихся центром сельского хозяйства России.
Климат России относится к так называемому континентальному типу. Зимняя температура понижается по мере продвижения в восточном направлении. Самые холодные районы России лежат не в самых северных, а в самых восточных ее областях: Верхоянск, сибирский город, в котором зарегистрирована самая низкая в мире температура, находится на той же северной широте, что и Нарвик,— незамерзающий норвежский порт. Эта особенность российского климата объясняется тем, что производимый Гольфстримом теплый воздух, согревающий Западную Европу, охлаждается по мере того, как удаляется от атлантического побережья и продвигается вглубь материка. Одним из следствий этого является то обстоятельство, что Сибирь с ее потенциально неистощимым запасом пахотной земли по большей части непригодна для земледелия. В восточных ее районах земли, расположенные на широте Англии, возделывать вообще нельзя.
Распределение осадков отличается от схемы расположения растительности и почв. Обильнее всего они на северо-западе, вдоль балтийского побережья, куда их приносят теплые ветра, а по мере продвижения в противоположном направлении, к юго-востоку, они уменьшаются. Иными словами, они обильнее всего там, где почва всего беднее. Другая особенность осадков в России состоит в том, что дожди обыкновенно льют сильнее всего во второй половине лета. В Московской области наиболее дождливые месяцы — это июль и август, когда выпадает почти четвертая часть годичной нормы осадков. Незначительное изменение в распределении осадков может обернуться засухой весной и ранним летом, за которой следуют катастрофические ливни в уборочную. В Западной Европе дожди на протяжении всего года распределяются куда более равномерно.
Водные пути. Реки России текут с севера на юг и наоборот; ни одна из крупных рек не протекает с востока на запад, или с запада на восток. Однако притоки больших рек располагаются именно в этом направлении. Поскольку поверхность России плоская (в ее Европейской части нет точки выше 500 м ) и реки ее начинаются не в горах, а в болотах и заболоченных озерах, падение их незначительно. В результате Россия обладает единственной в своем роде сетью судоходных водных путей, состоящих из больших рек с их многочисленными притоками, соединяющихся меж собой удобными волоками. Пользуясь даже примитивными средствами транспорта, можно проплыть через Россию от Балтийского моря до Каспийского и добраться по воде до большинства земель, лежащих между ними. Речная сеть Сибири густа отменно — настолько, что в XVII в. охотникам на пушного зверя удавалось в самое короткое время проделывать тысячи верст до Тихого океана и заводить регулярную речную торговлю между Сибирью и своими родными местами. Если бы не водные пути, до появления железной дороги в России можно было бы влачить лишь самое жалкое существование. Расстояния так велики, а стоимость починки дорог при резком перепаде температур столь высока, что путешествовать по суше имело смысл лишь зимой, когда снег даст достаточно гладкую поверхность для саней. Этим объясняется, почему россияне так зависели от водного транспорта. До второй половины XIX в. подавляющая часть товаров перевозилась на судах и на баржах.
Подобно другим славянам, русские в древние времена были пастушеским народом, и, подобно им, поселившись на новых землях, они мало-помалу перешли к земледелию. На их беду области, куда проникли Восточные славяне и где они обосновались, необыкновенно плохо пригодны для земледелия. Коренное финское и тюркское население относилось к нему как к побочному занятию, в лесной зоне устремившись в охоту и рыболовство, а в степной — в скотоводство. Русские поступили по-другому. По всей видимости, сделанный ими упор на земледелие в самых неблагоприятных природных условиях является причиной многих трудностей, которые сопровождают историческое развитие России. Мы уже отметили некоторые из этих трудностей: скверное качество почвы на севере и капризы дождя, который льет сильнее всего именно тогда, когда от него меньше всего толка, и имеет обыкновение выпадать позднее, чем нужно для земледелия. Своеобразное географическое и сезонное распределение осадков является основной причиной; того, что на протяжении того периода русской истории, о котором имеются какие-то свидетельства, в среднем один из трех урожаев оказывается довольно скверным. Однако наиболее серьезные и трудноразрешимые проблемы связаны с тем, что страна расположена далеко на севере. Россия с Канадой являются самыми северными государствами мира. Верно, что современная Россия располагает обширными территориями с почти тропическим климатом (Крым, Кавказ и Туркестан), однако эти земли были приобретены поздно, по большей части в эпоху экспансии империи в середине XIX в. Колыбель России, та область, которая подобна Бранденбургу у немцев и Илю у французов, находится в зоне смешанных лесов. До середины XVI в. россияне были буквально прикованы к этой области, ибо степями с их драгоценным черноземом владели враждебные тюркские племена. Русские стали проникать в степи во второй половине XVI в., но вполне завладели ими лишь в конце XVIII в., когда они наконец нанесли решающее поражение туркам. В эпоху становления своего государства они жили между 50 и 60° северной широты. Это приблизительно широта Канады. Проводя параллели между этими двумя странами, следует, однако, иметь ввиду и кое-какие отличия. Подавляющее большинство канадского населения всегда жило в самых южных районах страны, по Великим Озерам и реке Св. Лаврентия, то есть на 45°, что в России соответствует широте Крыма и среднеазиатских степей. Девять десятых населения Канады проживает на расстоянии не более трехсот километров от границы США. К северу от 52-ой параллели в Канаде мало населения и почти нет сельского хозяйства. Во-вторых, на протяжении всей своей истории Канада имела дружественные отношения со своим более богатым южным соседом, с которым она поддерживала тесные экономические связи (по сей день она получает больше американских капиталовложений, чем любая другая страна). И, наконец, Канаде никогда не приходилось кормить большого населения: те канадцы, которым не находилось работы в народном хозяйстве, имели привычку перебираться на временное или постоянное жительство в США. У России не было ни одного из этих преимуществ: соседи ее не были богаты или дружески расположены, и стране приходилось полагаться на свои собственные ресурсы, чтобы прокормить население, которое уже в середине XVIII в. превышало население сегодняшней Канады. Важнейшим следствием местоположения России является чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая. В тайге, вокруг Новгорода и Петербурга он длится всего четыре месяца в году (с середины мая до середины сентября). В центральных областях, около Москвы, он увеличивается до пяти с половиной месяцев (с середины апреля до конца сентября). В степи он продолжается полгода. Остальная часть русского года совсем не хороша для сельскохозяйственных работ, потому что земля делается тверда, как камень, и окутывается толстым снежным покровом.
В Западной Европе, для сравнения, этот период длится восемь-девять месяцев. Иными словами, у западноевропейского крестьянина на 50-100% больше времени на полевые работы, чем у русского. Далее, в тех частях Европы, где теплая зима, зимние месяцы можно использовать для неземледельческих занятий. Экономические и социальные последствия этого простого климатического обстоятельства будут подробнее рассмотрены ниже.
Короткий период полевых работ и спутница его — длинная холодная зима ставят перед русским крестьянином дополнительную трудность. Он должен содержать скот в закрытом помещении на два месяца дольше, чем западноевропейский фермер. Таким образом, скот его не пасется ранней весной, и когда его наконец выпускаю на выпас, он уже изрядно истощен. Русский скот всегда был низкого качества, невзирая на попытки правительства и просвещенных помещиков его улучшить; ввозные западные породы быстро вырождались до такого состояния, что делались совсем неотличимы от довольно жалкой местной разновидности. Сложности, которыми былой чревато разведение крупного рогатого скота, привели к тому, что в лесной зоне не развилось действительно экономичное мясомолочное хозяйство. Они плохо сказались на качестве рабочего скота и вызвали вечный недостаток навоза, особенно на севере, где он нужнее всего.
Следствием плохих почв, ненадежных осадков и короткого периода полевых работ явилась низкая урожайность в России.
Наиболее достоверным способом измерения урожайности будет использование показателей, демонстрирующих сколько раз посеянное зерно воспроизводит само себя (когда, к примеру, одно посеянное зерно при уборке урожая приносит пять зерен, мы говорим о коэффициенте урожайности «сам-пят», или 1:5). Коэффициент урожайности в средневековой Европе обыкновенно составлял 1:3 («сам-третей»), либо, в лучшем случае, 1:4 («сам-четверт»); это — минимальная урожайность, при которой имеет какой-то смысл заниматься хлебопашеством, ибо ее хватает, чтобы прокормить население. Следует отметить, что при урожае в «сам-третей» количество посеянного зерна ежегодно не утраивается, а удваивается, ибо каждый год одно из каждых трех собранных зерен надобно откладывать для нового сева. Это также означает, что из трех акров пахотной земли один должен быть занят под производство семян. Во второй половине XIII в. западноевропейские урожаи начали значительно увеличиваться. Основной причиной этого послужил рост городов, чье торгово-ремесленное население перестало выращивать хлеб и вместо этого покупало его у крестьян. Появление богатого городского рынка на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты побудило западноевропейских землевладельцев и крестьян производить товарные излишки путем более интенсивного использования рабочей силы и обильного унавоживания. В конце Средних Веков западноевропейская урожайность выросла до «сам-пят», а затем, на протяжении XVI-XVII вв., она продолжала улучшаться и достигла уровня «сам-шест» и «сам-сем». К середине XVII в. страны развитого сельского хозяйства (во главе которых шла Англия) регулярно добивались урожайности в «сам-десят». Такое резкое улучшение урожайности имело еще более важное хозяйственное значение, чем может показаться на первый взгляд. Там, где можно надеяться, что земля регулярно вернет десять зерен за одно посеянное, крестьянину надо откладывать на семена лишь десятую часть урожая и посевной площади — вместо третьей части, как ему приходится делать при урожайности в «сам-третей». Чистая отдача от урожая в «сам-десят» в четыре с половиной раза превышает отдачу от урожая в «сам-третей», что теоретически дает возможность прокормить в данной области во столько же раз большее население. Нетрудно оценить, к каким результатам приводит наличие таких излишков в течение ряда лет. Можно утверждать, что цивилизация начинается лишь тогда, когда посеянное зерно воспроизводит себя по меньшей мере пятикратно; именно этот минимум (предполагая отсутствие ввоза продовольствия) определяет, может ли значительная часть населения освободиться от необходимости производить продукты питания и обратиться к другим занятиям. «В стране с достаточно низкой урожайностью невозможны высокоразвитая промышленность, торговля и транспорт [B.H.Sticher van Bath, Cyieldratios, 810-18201 в Afdeting Agrarische Geschledenis Bydragen (Wageningen 1963), Э 10, стр. 14). Все приводимые мною статистические данные об урожайности в Западной Европе почерпнуты из этого источника]. Можно добавить: невозможна там и высокоразвитая политическая жизнь.
Подобно остальной Европе, Россия в Средние Века как правило получала урожаи в «сам-третей», однако, в отличие от Запада, она в течение последующих столетий не знала резкого подъема урожайности. В XIX в. урожаи в ней оставались более или менее такими же, как и в XV в., в худые годы падая до «сам-друг», в хорошие поднимаясь до «сам-четверт» и даже «сам-пят», но в среднем веками держались на уровне «сам-третей» (чуть ниже этого на севере и чуть выше на юге). В принципе, такой урожайности в общем-то хватало, чтобы прокормиться. Представление о русском крестьянине как о несчастном создании; извечно стонущем под гнетом и гнущим спину, чтобы обеспечить себе самое жалкое существование, просто несостоятельно. Один из знатоков русского сельского хозяйства недавно поставил под сомнение эту господствующую точку зрения, написав:
Вот получается парадоксальная вещь: занимается исследователь положением крестьян в период раннего феодализма. Так уже им плохо, что идти дальше совершенно некуда. Они погибают совершенно. И вот потом им становится еще хуже: в XV веке — еще хуже, в XVI, XVII, XVIII, XIX вв. хуже, хуже и хуже; И так дело продолжается вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции... жизненный стандарт крестьян эластичен и... он может сокращаться, но все-таки не до бесконечности. Как они существовали? [А. Л. Шапиро в книге Академии Наук Эстонской ССР, Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы (1958), Таллин, 1959, стр. 221].
Ответ на этот вопрос, разумеется, состоит в том, что традицонный взгляд на жизненные условия и достаток русского крестьянина, по всей видимости, неверен. Подсчеты дохода новгородских крестьян в XV в. и крестьян Белоруссии и Литвы в XVI в. (и те и другие жили в северных районах с низкокачественным подзолом) и в самом деле дают основания полагать, что этим группам вполне удавалось прокормить себя. [А. Л. Шапиро, Аграрная история Северо-Запада России, Л., 1971, стр. 366-7, 373. «Ceвеpo-Запад» — это обычный советский эвфемизм для обозначения Новгородского государства); также История СССР, 1972, Э 1, стр. 156]. Беда русского земледелия была не в том, что оно не могло прокормить хлебороба, а в том, что оно было никак не в состоянии произвести порядочных излишков. Разрыв в производительности труда между Западной Европой и Россией увеличивался с каждым столетием. К концу XIX в., когда хорошая германская ферма регулярно собирала более тонны зерновых с одного акра земли, русские хозяйства едва-едва добивались шестисот фунтов. В конце XIX в. один акр. пшеницы в России приносил лишь одну седьмую английского урожая и менее половины французского, прусского или австрийского. [О Западной Европе см. Энциклопедический словарь о-ва Брокгауз к Ефрон. СПб, 1902, XXIVа, стр. 930.1] Производительность российского сельского хозяйства, судить ли о ней, исходя из коэффициента урожайности, или из урожая на акр, была самой низкой в Европе.
В низкой производительности российских полей нельзя, однако, винить один лишь климат. Скандинавия, несмотря на свое северное расположение, уже к XVIII в. добилась урожайности в 1:6, тогда как прибалтийские области Российской Империи, находившиеся в руках немецких баронов, в первой половине XIX в. приносили от 4,3 до 5,1 зерна на одно посеянное, то есть давали урожай, при котором возможно накопление излишков. [И. Д. Ковальченко. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. М., 1967, стр. 77]
Другой причиной низкой производительности сельского хозяйства России, помимо уже перечисленных природных факторов, было отсутствие рынков сбыта. Здесь, как и в большинстве исторических явлений, причина и следствие в своем взаимодействии влияют друг на друга: причина порождает следствие, однако следствие затем делается самостоятельной силой и, в свою очередь, начинает воздействовать на свою первоначальную причину, трансформируя ее. Неблагоприятные природные условия привели к низким урожаям; низкие урожаи породили нищету; из-за нищеты не было покупателей на сельскохозяйственные продукты; нехватка покупателей не позволяла поднять урожайность. Конечным результатом всего этого было отсутствие побудительных стимулов к улучшению сельского хозяйства. Разорвать этот порочный круг могло лишь вмешательство каких-то внешних обстоятельств, а именно установление торговых связей с другими странами или крупные научно-технические нововведения.
Очевидно, что сбывать сельскохозяйственные излишки следует не другим крестьянам, а тем, кто сам не производит продуктов питания, иными словами горожанам. При отсутствии городского рынка сбыта излишки зерна мало на что годны, кроме как на перегон в спиртное. Как отмечалось выше, рост урожайности в средневековой Европе первоначально был связан с ростом городов; появление достаточно многочисленного торгово-ремесленного слоя служило стимулом для прогресса земледелия и стало возможным благодаря этому прогрессу. В России же города никогда не играли важной роли в хозяйстве страны и, как ни парадоксально, с течением веков роль эта скорее уменьшалась, чем росла. Еще в конце XVIII в. Горожане составляли всего 3% общего населения страны, но и эта цифра может ввести в заблуждение, ибо горожане испокон веку состояли по большей части из помещиков и крестьян, производивших свои собственные продукты питания. Не могла Россия сбывать зерно и за границей, поскольку до середины XIX в. на него не находилось внешнего рынка, появившегося лишь тогда, когда промышленно развитые страны решили, что ввоз продовольствия обойдется им дешевле его производства. Россия стоит слишком далеко от великих торговых путей, чтобы развитая городская цивилизация сложилась в ней на базе внешней торговли. Трижды на протяжении своей истории она была втянута в русло международной торговли, и каждый раз результатом этого явился рост городов. Но всякий раз расцвет городской культуры оказывался недолговечным. Впервые это произошло между IX и XI вв., когда вследствие, мусульманских завоеваний восточное Средиземноморье оказалось закрытым для христианской торговли; и через Россию пролег удобный короткий путь от Северной Европы до Ближнего Востока. Большинство важнейших городов Руси были основаны в этот период. Эта торговля пришла к концу около 1200 г., когда путь в Византию перерезали тюркские кочевники. Второй период русского участия в международной торговле имел место между XIII и XV вв., когда Новгород был одним из важнейших членов Ганзейского союза. Эта связь была порвана Москвой в конце XV в.; с тех пор не прошло и ста лет, как Новгород был до основания разрушен Москвой. Третий период начался в 1553 г., когда английские купцы открыли морской путь в Россию через Северное море. Развившаяся вслед за тем внешняя торговля снова вызвала оживленный рост городов, на этот раз вдоль дорог и рек, соединявших Москву с Северным морем. Однако эта торговля остановилась в конце XVII в., отчасти из-за того, что под давлением своих собственных купцов российское правительство отобрало у иностранных торговых людей ранее дарованные им привилегии, а отчасти из-за падения западного спроса на русские товары. Немногочисленные и, за исключением Москвы, немноголюдные русские города сделались по преимуществу военными и административными центрами и в таком своем качестве не представляли серьезного рынка для сбыта продовольствия.
Таким образом, не было экономического стимула, чтобы попытаться восполнить то, чем обидела природа. И российский помещик, и российский крестьянин смотрели на землю как на источник скудного пропитания, а не обогащения. Да и в самом деле, ни одно из крупнейших состояний России не вышло из земледелия. В него вкладывали скромные средства, ибо урожаи получались самые жалкие, а рынок сбыта был крайне узок. Еще на протяжении большей части XIX в. основным орудием русского пахаря была примитивная соха, которая не переворачивала, а царапала землю (максимальная глубина вспашки составляла 10 сантиметров), однако имела то преимущество, что не требовала большой тягловой силы и работала в десять раз быстрее плуга. Основной культурой была рожь, предпочтенная благодаря своей выносливости и приспособляемости к северному климату и бедной почве. При том изо всех зерновых культур она дает самые низкие урожаи. От XVI до XIX в. земледелие зиждилось по большей части на травопольной системе, при которой третью часть посевной площади постоянно надо было держать под паром, чтобы восстановить плодородие. Система эта была столь неэкономична, что в странах развитого сельского хозяйства, таких как Англия, от нее отказались еще в конце Средних Веков. В России вся идея была в том, чтобы выжать из земли как можно больше, вложив в нее как можно меньше времени, труда и средств. Всякий россиянин стремился отвязаться от земли: крестьянину больше всего хотелось бросить пашню и сделаться коробейником, ремесленником или ростовщиком; деревенскому купцу — пробиться в дворяне; дворянину — перебраться в город или сделать карьеру на правительственной службе. Общеизвестная «безродность» русских, отсутствие у них корней, их «бродяжьи» наклонности, столь часто отмечавшиеся западными путешественниками, привыкшими к людям, ищущим своих корней (в земле ли, в общественном ли положении), в основном проистекают из скверного состояния русского земледелия, то есть неспособности главного источника национального богатства — земли — обеспечить приличное существование.
Насколько неприбыльным занятием было в России земледелие, особенно в лесной зоне, можно понять из подсчетов Августа Гакстгаузена — прусского знатока сельского хозяйства, побывавшего там в 1840-х гг. Гакстгаузен сравнил доход, приносимый двумя гипотетическими хозяйствами (размером в 1.000 га пашни и луга каждое), одно из которых находится на Рейне у Майнца, а другое — в Верхнем Поволжьи поблизости от Ярославля. Согласно его выкладкам, на немецкой ферме такого размера должно быть постоянно занято 8 крестьян и б крестьянок; кроме того, требуется 1.500 человеко-дней сезонного наемного труда и 4 упряжки лошадей. Все расходы по ведению хозяйства на ней составят 3.500 талеров. При расчетном общем доходе в 8.500 талеров ферма будет приносить 5.000 талеров чистой прибыли ежегодно. В Ярославле, только потому, что более короткий период полевых работ требует большей концентрации рабочей силы, для выполнения той же работы понадобятся 14 крестьян и 10 крестьянок, 2.100 человеко-дней наемного труда и 7 упряжек. Соответствующие расходы снизят чистую прибыль почти что вдвое, до 2.600 талеров. Эти выкладки строятся на том, что земля в обоих случаях равноценна, чего на самом деле, естественно, не происходит. Если же еще добавить к списку проблем в русской части этой балансовой ведомости жестокие зимы, которые не дают крестьянам заниматься полевыми работами шесть месяцев из двенадцати; дороговизну транспорта из-за больших расстояний, плохих дорог и разбросанности населения; меньшую производительность труда русского крестьянина по сравнению с немецким; и — последнее, но от того не менее важное обстоятельство — низкие цены на сельскохозяйственные продукты, становится очевидным, что земледелие на Севере России не было доходным предприятием и имело смысл лишь в отсутствие иных источников заработка. Гакстгаузен заключает советом: если вам подарят поместье в Северной России при условии, чтоб вы вели в нем хозяйство так же, как на ферме в Центральной Европе, лучше всего будет отказаться от подарка, потому что год за годом в него придется вкладывать деньги. Согласно этому автору, поместье в России могло стать доходным лишь при двух условиях: при использовании на сельскохозяйственных работах труда крепостных (что освободит помещика от расходов по содержанию крестьян и скота) или сочетании земледелия с мануфактурой (что поможет занять крестьян, сидящих без дела в зимние месяцы) [August von Haxthausen, Studien uber die innern Zuslande Russlands (Hanover 1847), 1, стр. 174-7]. В 1886 г. русский специалист по землепользованию подтвердил мнение Гакстгаузена, заявив, что в России капитал, вложенный в государственные облигации, приносит большую прибыль, чем средства, пущенные в сельское хозяйство; правительственная служба тоже была доходнее земледелия [А.Н. Энгельгардт, цит. в Труды Императорского Вольного ЭкономическогоОбщества, май 1866, т..II, ч. 4, стр. 410.]. Теперь мы можем понять, почему немецкий комментатор заметил в начале XIX в., что ни в какой другой стране Европы «сельское хозяйство не ведется так нерадиво» [H. Storch, Tableu historique et statistique de Russie (Paris 1801), цит. в Parker Historical Geography, p. 158.]. История русского сельского хозяйства являет собой повесть о том, как безжалостно эксплуатировали почву, взамен давая ей ничтожно малое, количество питательных веществ (если их давали вообще) и таким образом приводя ее в полное истощение. В. О. Ключевский имел ввиду это обстоятельство, когда говорил об имевшемся у древнерусского хлебопашца неповторимом умении «истощать почву» [О. Ключевский, Боярская Дума древней Руси, Петербург, 19l9, стр. 307].
Именно потому, что земля рожала с такой неохотой, и надежда на нее была столь шаткой, россияне всех сословий с незапамятных времен выучились пополнять доход от земледелия всякими промыслами. В своем девственном состоянии лесная полоса России изобиловала неистощимым на первый взгляд количеством дичи: оленями, лосями, медведями и необыкновенным разнообразием пушного зверя, которого промышляли крестьяне, работавшие на князей, помещиков, монастыри и на самих себя. Меда было сколько угодно; не было даже нужды строить ульи, ибо пчелы клали мед в дуплах засохших деревьев. Реки и озера кишели рыбой. Это изобилие дало ранним русским поселенцам возможность жить сносно, не в скудости. Насколько важную роль играли в российском бюджете лесные промыслы, видно из того обстоятельства, что в XVII в. прибыль от продажи пушнины (в основном иноземным купцам) составляла самое большое поступление в императорскую казну. По мере расчистки леса под пашню и выпасы и исчезновения дичи, в особенности наиболее ценных пород пушного зверя, из-за чрезмерной охоты россияне все больше переходили от эксплуатации природных богатств к промышленности. В середине XVIII в. в России возникла своеобразная кустарная промышленность, использовавшая труд как свободных людей, так и крепостных и обслуживавшая местный рынок. Эта промышленность в значительной степени Удовлетворяла потребности земледелия и домашнего хозяйства, производила грубые ткани, столовые принадлежности, иконы, музыкальные инструменты и т. д. Тот факт, что и помещик, и крестьянин между серединой XVIII и серединой XIX в. были относительно зажиточны, в немалой степени был результатом существования этой промышленности. К концу XIX в. рост фабричного производства отчасти вытеснил с рынка немудреную кустарную продукцию, лишив крестьянина (особенно в северных районах страны) крайне важного побочного дохода.
Как ни велико было значение промыслов, они не могли служить основой народного хозяйства, которое, в конечном итоге, зиждилось на земледелии. Быстрое истощение почвы, к которому вело российское сельское хозяйство, понуждало крестьянина вечно перебираться с места на место в поисках целины или залежных земель, восстановивших плодородие длительным отдыхом. Даже если бы население страны оставалось неизменным, в России всегда происходила бы необыкновенно живая крестьянская миграция. Бурный рост населения в Новое время в большой степени поощрял эту тенденцию.
Насколько можно судить по несовершенным демографическим источникам, до середины XVIII в. население России оставалось относительно небольшим. По максимальным подсчетам, оно составляло 9-10 миллионов человек в середине XVI в. и 11-12 миллионов — в его конце; согласно более сдержанной оценке, оно равнялось, соответственно, 6 и 8 миллионам. Эти цифры сравнимы с данными того же века для Австрии — 20 млн., Франции — 19 млн., и Испании— 11 млн., население Польши в XVII в. составляло около 11 млн. человек. Как и в других Странах Европы, демографический взрыв начался в России примерно в 1750 г. Между 1750 и 1850 гг. население Российской Империи выросло в четыре раза (с 17-18 до 68 миллионов). Увеличение это можно частично отнести за счет захватов, присоединивших до 10 миллионов человек, однако даже в свете поправки на экспансию естественный прирост был огромен. После 1850 г., когда территориальная экспансия практически прекратилась (Туркестан — единственная крупная область, присоединенная после середины XIX в.,— был малонаселен), население России увеличивалось головокружительными темпами: с 68 миллионов в 1850 г. до 124 миллионов в 1897 г. и до 170 миллионов в 1914 г. Если во второй половине XVI в население выросло приблизительно на 20%, то во второй половине XIX в. оно удвоилось. Прирост населения в России во второй половине XIX в. был самым высоким в Европе — и это в то время, когда урожаи зерновых в империи были ниже, чем в любой европейской стране. [Приводимые выше статистические данные касательно населения почерпнуты из нескольких источников, в том числе: С. В. Вознесенский, Экономика России XIX-XX вв в цифрах. Л., 1924, I; А. И. Копанев, «Население русского государства в XVI в.» в Исторических записках, 1959, Э 64, стр. 254; В. М. Кабузан, Народонаселение России в XVIII-первой половине XIX в., М. 1963; и А. Г. Рашин, Население России за 100 лет (1811-1913), М., 1956.].
Если население не вымирало от голода (а до наступления коммунистического режима этого с ним не случалось, несмотря на периодические неурожаи и вспышки голода в отдельных районах страны), то для прокорма всех этих лишних ртов откуда-то должно было браться продовольствие. О ввозе его не могло быть и речи, ибо Россия мало что имела для продажи за границу, чтобы выручить средства на закупку пищевых продуктов, и те, кто занимался экспортом — царь и богатейшие помещики — предпочитали ввозить предметы роскоши. Если уж на то пошло, зерно составляло важнейшую статью российского экспорта: в XIX в. страна продолжала вывозить зерно, даже когда его не хватало для ее собственного населения. Повышение производительности сельского хозяйства более обильным унавоживанием, использованием машин и прочими способами его рационализации не представлялось возможным отчасти потому, что полученная прибыль не окупила бы понесенных затрат, отчасти из-за того, что нововведениям противилась жесткая социальная организация крестьянства. Капитал вкладывался в землю в основном в тех хозяйствах юга России, которые поставляли сельскохозяйственные продукты в Англию и Германию; однако подъем производства на этой земле не приносил выгоды крестьянину. Выход тогда лежал в распашке все новых и новых земель, то есть в экстенсивном — а не интенсивном — хозяйстве. Согласно имеющимся в источниках статистическим данным, такая необходимость приводила к неуклонному расширению посевной площади, выросшей с 1809 по 1887 г. на 60% (с 80 до 128 миллионов гектаров) [С.М. Дубровский, Столыпинская реформа, 2-е изд., М., 1930, стр. 18]. Обилие целины не стимулировало повышения производительности хозяйства: распахивать новые земли было легче и дешевле, чем улучшать старые. Однако даже такого безостановочного расширения посевной площади не хватало, поскольку, как ни бурно оно происходило, население росло еще скорее, а урожаи оставались на прежнем уровне. К 1800-м гг. в средней и южной полосе России целины практически не оставалось, и земельная рента выросла необыкновенно. В то же самое время, как мы уже отмечали, рост современной промышленности лишал крестьянина основного источника побочного дохода, сужая рынок сбыта незамысловатых изделий кустарного производства. Вот, в двух словах, корни знаменитого «аграрного кризиса», потрясшего империю в последний период ее существования и в такой большой степени ответственного за ее падение.
До тех пор, однако, пока внешние пределы страны можно было раздвигать до бесконечности, русский крестьянин оставлял позади себя истощенную почву и рвался все дальше и дальше в поисках земель, которых не касалась еще человеческая рука. Колонизация является настолько основополагающей чертой российской жизни, что Ключевский видел в ней самую суть бытия России: «История России, — писал он в начале своего знаменитого «Курса русской истории», — есть история страны, которая колонизуется» [В. О. Ключевский, Курс русской истории, М.. 1937, 1, стр. 20.].
До половины XVI в. русская колонизация по необходимости ограничивалась западными областями лесной зоны. Попытки внедриться в черноземную полосу неизменно наталкивались на непреодолимый отпор. Чернозем лежал в степях с их тучными пастбищами, и тюркские кочевники, основным занятием которых было скотоводство, уничтожали все создававшиеся там земледельческие поселения. Путь на восток, в Сибирь, сперва преграждался Золотой Ордой, а после ее распада в XV в. ее преемниками — Казанским и Астраханским ханствами. Единственная область, открытая для русской колонизации в первые пять-шесть столетий российской истории, лежала далеко на севере. Колонисты, шагая за монастырями, иногда и в самом деле забирались в районы к северу от верховьев Волги, однако этот неприветливый край не мог принять сколько-нибудь значительного населения.
Коренной поворот в истории российской колонизации произошел в 1552-1556 гг. с покорением Казанского и Астраханского ханств. Русские поселенцы немедленно устремились в сторону средней Волги, изгоняя с лучших земель коренное тюркское население. Другие шли еще дальше, перебирались через «Камень», как они называли Уральские горы, в южную Сибирь, где лежали обширные полосы девственного чернозема. Однако основной поток переселенцев и тогда, и впоследствии двигался в южном и юго-восточном направлениях в сторону так называемой Центральной Черноземной Полосы. В 1570-х гг. правительство обставило степь цепью острогов, протянувшейся от Донца до Иртыша, и под ее защитой крестьяне осмелились вторгнуться в области, бывшие доселе вотчиной кочевников. Раз начавшись, переселение это катилось дальше со стихийным, напором. Всякое крупное экономическое или политическое потрясение в центре России приводило к новому всплеску переселения. В этом колонизационном движении когда крестьянин шел впереди правительства, когда оно прокладывало ему дорогу, но рано или поздно им суждено было сойтись и соединиться. Одной из основных причин той цепкости, с которой русским всегда удавалось удерживать завоеванные территории, было то обстоятельство, что политическое освоение у них сопровождалось и по сей день сопровождается колонизацией.
Подсчитано, что на протяжении XVII и XVIII вв. более двух миллионов переселенцев перебрались из центральных областей России на юг, проникнув сперва в лесостепь, а потом и в собственно степь. За эти два столетия около 400 тысяч человек переселились также в Сибирь. Самая мощная миграционная волна захлестнула черноземную полосу после 1783 г., когда Россия аннексировала Крым и покорила местное население, которое веками терзало русские поселения набегами. В XIX - начале XX в. 12-13 миллионов переселенцев, в основном уроженцев центральных губерний, перебрались на юг, и еще четыре с половиной - пять миллионов мигрировали в южную Сибирь и среднеазиатские степи. В ходе последнего передвижения коренное азиатское население массами сгонялось со своих родовых пастбищ.
В ранний период (1552-1861 гг.) основная масса русских переселенцев состояла либо из свободных крестьян и беглых крепостных, либо еще крепостных, пригнанных из центральных районов страны для работы в поместьях служивших на границе офицеров. После освобождения крепостных в 1861 г. переселенцы были свободными крестьянами, которые теперь иногда устраивались на новом месте с помощью правительства, стремившегося решить проблему сельского перенаселения в центральных губерниях. Столетиями население России географически распределялось в виде клина, основание которого покоилось в западной части лесной полосы, а конец указывал на юго-восток. Этот демографический клин со временем удлинялся, отражая неуклонное перемещение российского населения со своей первоначальной лесной родины в сторону степей. В Новое время наиболее плотная концентрация русского населения наблюдалась в черноземной полосе. В этом смысле революция изменений не принесла. Между 1926 и 1939 гг. более четырех миллионов человек перебрались на восток, в основном в степи Казахстана. Перепись 1970 г. свидетельствует, что движение это не прекратилось, и население страны продолжает расти за счет центральных областей. В ходе мощного сдвига, происходящего в России на протяжении четырех столетий, население оттекает из центральной лесной полосы, в основном на восток и на юг, наводняя области, заселенные народами других рас и культур, и производя на своем пути серьезные демографические потрясения [С конца Второй Мировой войны происходит также активная миграция русского населения в области, первоначально занятые поляками, евреями, немцами и прибалтами. В отличив от прежней колонизация, эта в огромной степени городская Она время от времени сопровождалась массовым выселением и депортацией коренных народов по обвинению в «национализме».].
Рассмотрев хозяйственные и демографические последствия обстоятельств России, мы можем теперь перейти к последствиям социального характера.
Во-первых, надо отметить, что российская география не благоприятствует единоличному земледелию. Видимо, существует некое общее правило, согласно которому северный климат располагает к коллективному ведению хозяйства: «Все указывает на то, что поля, лежащие на севере, обрабатывались людьми, смотревшими на земледельческий труд как на коллективное предприятие, тогда как поля юга возделывались теми, кто был полон решимости отстоять самостоятельность и свободу действий каждого земледельца на своей земле» [R. Dion, Essai sur la formation da paysage rural francais (Tours 1934), стр. 31 цит. в Michael Сonfinо, Systemes agraires el progres agricole (Paris — The Hague 1969). стр. 415.]. Тому много причин, однако в конечном счете все они связаны с краткостью периода полевых работ. Если работу, на которую у X человек уходит Y дней, делать за 1/2 Y дней, понадобится уже 2Х работников; то же самое относится к тягловым животным и сельскохозяйственному инвентарю, используемому этими работниками. Тот непреложный факт, что полевые работы в России приходится проводить за четыре-шесть месяцев (а не за восемь-девять месяцев, имеющихся в распоряжении западного фермера), заставляет трудиться весьма напряженно и совокупно использовать людские и материальные ресурсы и домашний скот. Русский крестьянин-единоличник, обрабатывающий землю вместе с женой и малолетними детьми, да с одной-двумя лошадьми, просто не в состоянии справиться с работой в климатических условиях лесной зоны, и ему не обойтись без помощи женатых детей и соседей. Необходимость трудиться сообща не так велика в южных областях России, что объясняет, почему в дореволюционное время большинство единоличных хозяйств — хуторов находилось на Украине и в казацких областях.
Коллективный характер русского земледелия оказал влияние на структуру крестьянской семьи и деревенской организации.
Традиционным типом крестьянской семьи, преобладавшим в России еще столетие назад, была так называемая большая семья, состоявшая из отца, матери, малолетних детей и женатых сыновей с женами и потомством. Глава такой группы (обычно отец) звался «большаком», или хозяином. После его смерти семья обычно разделялась на более мелкие семьи, хотя иногда случалось, что после смерти или выхода из строя отца сложная семья продолжала существовать в прежнем виде под началом одного из братьев, избранного на должность большака. За главой семьи — большаком, оставалось последнее слово во всех семейных делах; он также устанавливал порядок полевых работ и проводил сев. Власть его, первоначально проистекавшая из обычного права, в 1860-х гг. была узаконена волостными судами, которые в семейных спорах предписывали подчиняться его решению. Все имущество находилось в совместном владении. В экономическом смысле такая семья обладала громадными преимуществами. Большинство понимавших толк в сельских делах полагали, что полевые работы в России лучше всего выполнялись большими семьями и что качество крестьянского труда в значительной степени зависело от сметки и авторитета большака. И правительство, и помещики делали все от них зависящее, чтобы сохранить этот институт, — не только из-за его очевидного воздействия на производительность труда, но и поскольку он давал им определенные политические и социальные преимущества. Как чиновники, так и помещики предпочитали иметь дело с главой семьи, нежели чем с ее отдельными членами. Затем, им по душе была уверенность, что если кто-либо из крестьян почему-то (например, из-за болезни или запоя) не выйдет на работу, о нем; позаботятся родные. Отношение самих крестьян к такой семье было более сложным. Они, несомненно, видели ее экономические преимущества, ибо стихийно сами пришли к ней. Однако им не нравились трения, неизбежно возникавшие при жизни нескольких супружеских пар под одной крышей. Они также хотели вести свое собственное хозяйство. Получив свободу в 1861 г., бывшие крепостные начали выделяться из большой семьи, распавшейся таким образом на свои составные ячейки, что имело плохие последствия для русского сельского хозяйства и для достатка самих крестьян.
Основной социальной единицей у древних славян была племенная община, состоявшая, согласно подсчетам, из 50-60 человек, находящихся в кровном родстве и трудящихся сообща. С течением времени основанные на кровном родстве коллективы распались, уступив место общности нового типа, основанной на совместном владении пахотной землей и выпасами и называвшейся «миром», или «общиной». Происхождение этого знаменитого института более столетия служит предметом оживленной дискуссии. Спор завязался в 1840-х гг., когда группа романтических националистов, известных под именем славянофилов, обнаружила, что институт крестьянской общины существует преимущественно среди славян и стала превозносить его в качестве доказательства того, что русским людям, лишенным якобы приобретательских инстинктов западных европейцев, суждено разрешить социальные проблемы человечества. Гакстгаузен популяризировал этот взгляд в своей книге, напечатанной в 1847 г. Во второй половине XIX в. русский мир сделался в Западной Европе отправной точкой целого ряда теорий об общинном земледелии в первобытном обществе. В 1854 г., однако, против этого подхода выступил ведущий историк так называемого западнического лагеря Борис Чичерин, утверждавший, что крестьянская община не являлась по своему происхождению ни древней, ни автохтонной, а была создана российской монархией в середине XVIII в. для удобства налогообложения. До этого времени, по мнению Чичерина, земля находилась во владении отдельных крестьянских дворов. Проведенные в дальнейшем исследования лишь запутали вопрос. Современные ученые полагают, что община периода империи действительно была, как и утверждал Чичерин, новым институтом, хотя более старинным, чем он предполагал. Бесспорно также, что в ее становлении основную роль сыграло давление со стороны правительства и помещиков. В то же время на ее формирование оказали, видимо, значительное влияние и экономические факторы — постольку, поскольку существует несомненная связь между наличием земли и характером общинного землевладения: там, где земли недостает, имеется склонность к общинной форме землевладения, тогда как там, где ее обилие, вместо этого возобладает дворовое или даже семейное землевладение.
Кто бы ни был ближе к истине в этом споре, в эпоху империи подавляющее большинство русских крестьян владели землей всей общиной; в центральных губерниях община существовала практически повсеместно. Пахотная земля была разбита на участки, исходя из качества почвы и отдаленности от деревни. Всякий двор имел право получить на каждом из этих участков одну или несколько полосок в зависимости от числа своих взрослых членов, которыми, как правило, признавались мужчины от 15-17 до 60-65 лет и замужние женщины до 45 лет. Полоски были довольно узки, от 3 до 4 метров в ширину и несколько сот метров в длину. У одного двора могло быть от тридцати до пятидесяти таких полосок, иногда больше, разбросанных в десятке мест по окрестностям деревни. Основная цель такого устройства состояла в том, чтобы дать каждому двору возможность платить свою долю налогов и аренды. Поскольку дворы со временем увеличивались или уменьшались в размере, община периодически (например, каждые 9, 12 или 15 лет) устраивала свою перепись населения, исходя из которой совершался «черный передел», сопровождавшийся перераспределением полосок. Такой порядок был предназначен для того, чтобы обеспечить каждого крестьянина равноценным земельным наделом, а каждый двор — достаточным количеством пахотной земли, чтобы прокормиться и рассчитаться с помещиком и с правительством. На самом деле многие крестьяне терпеть не могли расставаться с наделами, в которые было вложено немало времени и труда, особенно если из-за роста населения деревни новый передел урезал причитающуюся каждому двору землю. Властям поэтому приходилось время от времени вмешиваться и навязывать передел крестьянам.
Иногда проводят аналогию между дореволюционной общиной и колхозом, который был создан советским режимом в 1928-1932 гг. В пользу этой аналогии можно сказать немного помимо того, что для обоих институтов характерно отсутствие одного атрибута — частной собственности на землю, а так они коренным образом отличаются друг от друга. Мир не был «коллективом»: земля возделывалась единолично, каждым двором по отдельности. Что еще более важно, входивший в мир крестьянин был хозяином продуктов своего труда, тогда как в колхозе они принадлежат государству, которое платит крестьянину за работу. Советский колхоз ближе всего подходит к институту, встречавшемуся в России при крепостном праве и называвшемуся «месячиной». При такой системе помещик объявляет всю землю своей, крепостные работают на него целый день, а он платит им деньги на прокормление.
В отличие от большой семьи, навязанной им совокупностью хозяйственной необходимости и давления сверху, к общине крестьяне были весьма расположены. Членство в ней позволяло не тревожиться о будущем и в то же время не стесняло серьезно свободы передвижения. Община также давала всем право пользоваться лугами и делала возможной координацию полевых работ, весьма необходимую при существующих климатических условиях и системе неогороженных участков, превращаемых после снятия урожая в выгон. Такой координацией занимался совет мира, состоящий из большаков. Крестьяне упорно держались за общину, и им дела не было до критики, которой подвергали ее экономисты, смотревшие на нее как на камень, висящий на шее наиболее предприимчивых крестьян. В ноябре 1906 г. царское правительство приняло меры по облегчению процедуры объединения полосок в единоличные хозяйства. В окраинных районах империи это законодательство имело ограниченный успех, а в центральной России крестьянство его почти игнорировало. [К 1913 г лишь 17,7% крестьянских дворов воспользовались правом на объединение своих полосок и выделение из общины; большинство из них жило на Украине и в Белоруссии; А. Н. Челинцев, Сельскохозяйственная география России, Берлин, 1923. стр. 117, и Lazar Volin, Л Century of Russian Agriculture (Cambridge, Мам. 1970), p. 107].
Поскольку главным предметом этой книги является политический строй России, здесь довольно будет обрисовать влияние природной среды на характер страны лишь в самых общих чертах. Природа, на первый взгляд, предназначила России быть раздробленной страной, составленной из множества независимых самоуправляющихся общностей. Все здесь восстает против государственности: бедность почвы, отдаленность от великих путей мировой торговли, низкая плотность и высокая подвижность населения. И Россия вполне могла бы оставаться раздробленной страной, содержащей множество разрозненных местных политических центров, не будь геополитических факторов, настоятельно требовавших сильной политической власти. Экстенсивный, крайне расточительный характер русского земледелия и вечная потребность в новых землях вместо полей, истощенных непомерной вспашкой и скудным унавоживанием, бесконечно гнали русских вперед. Пока процесс колонизации ограничивался тайгой, он мог идти стихийно и без военного прикрытия. Однако желанные тучные земли лежали в степях, в руках у кочевых тюркских и монгольских племен, которые не только не терпели земледельческих поселений на своих пастбищах, но и совершали то и дело набеги на лес в поисках невольников и иной добычи. До конца XVIII в., когда, благодаря своей лучшей политической и военной организации, русские наконец взяли верх, мало кто из них был в состоянии внедриться в степную зону; более того, они нередко страдали от нашествий своих степных соседей. В XVI-XVII вв. редко случался год, чтобы русские не вели боев на своих южных и юго-восточных границах. Хотя некоторые русские историки имеют склонность усматривать в этих войнах чисто оборонительный характер, они достаточно часто были результатом напора российской колонизации. В западных областях, где русские соседствовали с поляками, литовцами, шведами и немцами, было несколько спокойнее, но даже здесь в течение этого периода война случалась приблизительно каждый второй гид. Когда западные соседи шли на восток, когда инициатива переходила к русским, искавшим выхода к портам или к тучным землям Речи Посполитой. Таким образом, военная организация делалась просто необходимой, ибо без нее нельзя было проводить столь жизненно важную для народно-хозяйственного благополучия России колонизацию.
В таком случае можно было бы ожидать, что Россия произведет в ранний период своей истории нечто сродни режимам «деспотического» или «азиатского» типа. Логика обстоятельств и в самом деле толкала Россию в этом направлении, однако в силу ряда причин ее политическое развитие пошло по несколько иному пути. Режимы типа «восточной деспотии» появлялись, как правило, не в ответ на насущную военную необходимость, а из потребности в эффективном центральном управлении, могущем организовывать сбор и распределение воды для ирригации. Так возник строй, который Карл Витфогель называет «агродеспотией», характерной для значительной части стран Азии и Центральной Америки [Karl A. Wltfogel. Oriental Despotism (New Haven, Conn. 1957).]. Но в России не было нужды в том, чтобы власть помогала извлекать богатство из земли. Россия традиционно была страной широко разбросанных мелких хозяйств, а не латифундий, и понятия не имела о централизованном управлении экономикой до установления военного коммунизма в 1918 г. Но если бы даже в таком управлении имелась нужда, природные условия страны помешали бы его созданию. Достаточно лишь представить себе сложности транспорта и связи в России до появления железных дорог и телеграфа, чтобы прийти к выводу: о таком контроле и слежке, какие надобны для «восточного деспотизма», здесь не могло быть и речи. Огромные расстояния и климат, отмеченный суровыми зимами и вешними паводками до наступления Нового времени делали создание в России постоянной дорожной сети невозможным. В V в. до н. э. в Персии гонец Дария передвигался по Царской Дороге со скоростью 380 км в сутки; при монголах в Персии XIII в. правительственные курьеры покрывали за то же время 335 км. В России уже после того, как во второй половине XVII в. шведскими и немецкими специалистами было создано регулярное почтовое сообщение, курьеры ползли со средней скоростью 6-7 км в час; поскольку они к тому же ехали только днем, с Божьей помощью и в хорошее время года они могли сделать в сутки километров 80. Депеша шла от Москвы до какого-нибудь из важнейших окраинных городов империи, вроде Архангельска, Пскова или Киева, дней восемь — двенадцать. Таким образом, получение ответа на запрос занимало три недели.[И. П. Козловский. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве, 2 т., Варшава, 1913]. С городами и деревнями, лежащими на некотором отдалении от главных дорог, в особенности вдоль восточной границы, связи практически не было. Одно это обстоятельство не позволяло создать в России хорошо организованный бюрократический режим прежде 1860-х гг., когда появились железные дороги и телеграфная связь. В результате этого сложилась довольно противоречивая ситуация: экономические обстоятельства и внешнее положение требовали создания в России высокоэффективной военной и, соответственно, политической организации, и тем не менее экономика страны находилась в противоречии с такой организацией. Существовало коренное несоответствие между возможностями страны и ее потребностями.
Способ, которым было разрешено это затруднение, представляет ключ к пониманию политического развития России. Государство не выросло из общества, не было оно ему и навязано сверху. Оно скорее росло рядом с обществом и заглатывало его по кусочку. Первоначально средоточием власти было личное поместье князя или царя, его oikos, или двор. В пределах этого поместья князь был абсолютным повелителем, отправляя власть в двух ипостасях суверена и собственника. Здесь он распоряжался всем и вся, будучи эквивалентом греческого despotes'a и римского dominus'a, русским государем, то есть господином, хозяином, полным собственником всех людей и вещей. Поначалу население княжеского поместья состояло из рабов и прочих лиц, так или иначе попавших в кабалу к его владельцу. За пределами своих владений, там, где жило вольное и весьма подвижное население, русский правитель пользовался поначалу совсем незначительной властью, сводившейся в основном к сбору дани. Двоевластие такого рода установилось в лесной зоне в XII-XIII вв., в то же самое время, как в Англии, Франции и Испании начало складываться современное западное государство как нечто, отделенное от правителя. Отталкиваясь от крепкой базы своих частных владений, русские князья (не сразу, и лишь поборов сильное сопротивление) распространили свою личную власть и на вольное население за пределами этих владений. Ставшая во главе страны Московско-Владимирская княжеская династия перенесла учреждения и порядки, первоначально выработанные ею в замкнутом мирке своего oikos'a, на все государство в целом, превратив Россию (по крайней мере, в теории) в гигантское княжеское поместье. Однако даже заявивши права на Россию и провозгласивши ее своим частным владением, или вотчиной (XVI-XVII вв.), русское правительство не имело средств, чтобы поставить на своем. У него, таким образом, не было иного выхода, кроме как смириться с продолжением старого двоевластия и отдать большую часть страны на откуп помещикам, духовенству и чиновникам в обмен на определенную сумму налога или службу. Однако принцип, что Россия является собственностью своего суверена, своего dominus'a, установился вполне твердо. Чтобы провести его в жизнь, недоставало лишь денежных и технических средств, но в свое время появятся и они.
Политические мыслители, начиная с Аристотеля, выделяли особую разновидность «деспотических», или «тиранических», способов правления, характеризующихся собственническим отношением к государству, хотя, кажется, никто не удосужился разработать теорию такого строя. В Книге III своей «Политики» Аристотель отвел короткий абзац форме правления, которую он называет «отеческой» (paternal) и при которой царь правит государством таким же образом, как отец управляет своим семейством. Однако Аристотель не развивает этой темы. В конце XVI в. французский философ Жан Бодин (Jean Bodin) говорит — о «сеньориальной» (seigneurial) монархии, при которой правитель является собственником своих подданных и их имущества (см. ниже, стр. #92). Гоббс в «Элементах права» делит формы правления на два основных типа: Содружество (Commonwealth), создаваемое по взаимному согласию для обороны от внешнего неприятеля, и Вотчину (Dominium), или «Вотчинную Монархию» (Patrimonial . Monarchy), создаваемую в результате завоевания и подчинения «нападающему под страхом смерти» [Thomas Hobbes, The Elements of law, Natural and Politic (Cambridge 1928), pp. 81-2, 99-100]. Однако и Гоббс ограничился одной лишь постановкой проблемы. Термин «вотчинный (patrimonial) режим» был вызволен из небытия и пущен в современный научный оборот Максом Вебером. Он выделяет три типа политической власти, отличающиеся друг от друга в основном своим административным характером, и определяет «вотчинный строй» как вариант личной власти, основанный на традиции (другой вариант называется «богопомазанным» [charismatic]). «Там, где власть строится прежде всего на традиции, но на деле претендует быть неограниченной личной властью, она будет называться «вотчинной» [Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization (London 1947). n. 318]. В своей крайней форме, «султанизме», она предполагает собственность на всю землю и полное господство над населением. При вотчинном режиме экономический элемент, так сказать, поглощает политический. «Там, где князь организует свою политическую власть — то есть свою недомениальную силу физического принуждения по отношению к своим подданным за пределами своих наследственных, вотчинных земель и людей, иными словами, к своим политическим подданным,— в общих чертах так же, как власть над своим двором, там мы говорим о вотчинной государственной структуре». «В таких случаях политическая структура становится по сути дела тождественной структуре гигантского княжеского поместья» [Max Weber. Wirtschaft und Gezellschaft (Tubingen 1947). II, стр. 684].
В использовании термина «вотчинный» для обозначения режима, при котором право суверенитета и право собственности сливаются до такой степени, что делаются неотличимы друг от друга, и где политическая власть отправляется таким же образом, как экономическая, есть значительные преимущества. «Деспотия», чей корень есть греческое despotes, имеет более или менее ту же этимологию, что и patrimonial, но с течением времени она стала означать отклонение от истинной монархической власти (которая, считается, уважает право собственности своих подданных) или ее извращение. Вотчинный режим, с другой стороны, есть самостоятельная форма правления, а не извращение какой-то другой формы. Здесь конфликтов между суверенитетом и собственностью нет и быть не может, ибо, как и в случае первобытной семьи, в которой главенствует pater familias, они есть одно и то же. Деспот ущемляет право собственности своих подданных; вотчинный правитель просто-напросто вообще не признает за ними этого права». Отсюда вытекает, что при вотчинном строе не может быть четкого разграничения между государством и обществом, постольку, поскольку такое разграничение предполагает наличие не только у суверена, но и у других лиц права осуществлять контроль над вещами и (там, где существует рабовладение) над людьми. В вотчинном государстве нет ни официальных ограничений политической власти, ни законоправия, ни личных свобод. Однако в нем может иметься высокоэффективная политическая, хозяйственная и военная организация, происходящая из того, что всеми людскими и материальными ресурсами страны распоряжается один и тот же человек или люди — король или бюрократы.
Классические примеры вотчинных режимов можно встретить среди эллинистических государств, возникших вслед за распадом империи Александра Великого, таких как Египет Птолемеев (305-30 гг. до в. э.) или государство Атталидов в Пергаме (ок. 283-133 гг. до н. э.). В этих царствах, основанных завоевателями-македонянами, правитель держал в руках все или почти все производительное богатство страны. В частности, он владел всей обрабатываемой землей, которую эксплуатировал либо непосредственно, при помощи своих приближенных, использующих принадлежащую ему рабочую силу, либо косвенно, путем раздачи поместий в служебное владение своей знати. Эллинистический царь часто был также главным промышленником и купцом своего государства. Главным назначением такого устройства было обогащение суверенного собственника. Вместо того, чтобы пытаться всемерно умножить ресурсы страны, упор делался на стабилизации, дохода, и для этой цели правительство устанавливало твердые квоты товаров, которые оно ожидало получить от населения, а остальные предоставляло ему. В самых крайних случаях, таких как эллинистический Пергам, появилось, видимо, подобие плановой экономики. В отсутствие свободного рынка общественные классы в обычном понимании этого слова возникнуть не могли, но вместо них были сословия, организованные иерархически для обслуживания царя и имевшие тенденцию застывать в касты. Не было знати с четко определенными правами и обязанностями, но лишь ранги или «чины» служилых людей, чье положение всецело зависело от монаршей милости. Бюрократия обладала большой силой, но ей не давали стать наследственной. Как и знать, своим положением и привилегиями она была обязана царю [M. Rostovtzeff The Social and Economic History of the Hellenistic World, 3 vols (Oxford 1941), и E. Bevan, A History of Egypt under tbe Ptolemeis Dynasty (London 1927)]. Термином «вотчинный строй» лучше всего определяется тип режима, сложившегося в России между XII и XVII вв. и сохраняющегося — с перерывами и кое-какими видоизменениями — до сего времени. Нельзя сыскать лучшего описания московской системы правления в высшей точке ее развития в XVII в., чем характеристика, данная Юлиусом Керстом (Julius Kaerst) эллинистическому миру: Эллинистическое государство представляет собой: лично-династический режим, который не вырастает из конкретной страны или народа, но навязывается сверху какой-то конкретной политической общности (Herrschaftsbezirk). Соответственно, он располагает особыми, технически подготовленными орудиями господства, которые также не выросли первоначально из данной страны, но связались с династическим правителем чисто личными узами. Они составляют главную опору новой монархической власти в форме бюрократии, подчиненной царской воле, и армии готовых к битве воинов. Политическая власть не только сосредоточивается в личности правителей, но и самым настоящим образом коренится в ней. Граждан (demos) как таковых вообще не существует. Народ суть объект правящей власти, а не самостоятельный носитель некоей национальной миссии [Geschichte des Hellonismus , 2-е изд. (Leipzig Berlin 1926) II, стр. 235-6].
История вотчинной формы правления в России является главной темой настоящей книги. Книга исходит из посылки, что основополагающие черты российской, политической жизни проистекают из отождествления суверенитета и собственности, иными словами, из «собственнического» подхода к политической власти, которым обладают стоящие у кормила правления. Часть I прослеживает рост и эволюцию вотчинного строя в России. Часть II рассматривает основные сословия и разбирает вопрос о том, почему они не превратились из объекта политической власти в субъект политических прав. Часть III обрисует конфликт между государством и интеллигенцией, развернувшийся в период империи и при ведший в 1880-х гг к модернизации вотчинных институтов, в которых можно безошибочно разглядеть зачатки тоталитаризма.
I. ГОСУДАРСТВО
ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС ВОТЧИННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
В середине VII в., когда переселявшиеся на восток славяне забирались все дальше в русские леса, причерноморские степи попали под власть хазаров, тюркского народа из Средней Азии. В отличие от других тюркских народностей того времени, хазары не ограничились кочевым образом жизни, сосредоточенным на скотоводстве, а стали оседать на землю и браться за хлебопашество и торговлю. Основной их торговой артерией была Волга, которую они держали в руках до самой северной границы судоходства. По этому водному пути они доставляли добытые в Леванте предметы роскоши на торговые пункты в населенных угро-финскими народностями лесах, где выменивали их на невольников, меха и всякое сырье. К концу VIII в. хазары создали мощное государство — каганат, простиравшееся от Крыма до Каспия и на север до средней Волги. В это время, скорее всего под влиянием еврейских поселенцев из Крыма, правящая верхушка хазар перешла в иудаизм. Военная сила каганата ограждала причерноморские степи от азиатских кочевников и дала ранним славянским проходцам возможность создать шаткий плацдарм в черноземной полосе. В VIII-IX вв. славяне, жившие в степях и примыкающих к ним лесах, платили хазарам дань и пользовались их защитой.
Из того немногого, что мы знаем о восточных славянах этого периода (VII-IX вв.), следует, что они были организованы в племенные общины. В лесной полосе, где жило большинство из них, преобладало подсечно-огневое земледелие, примитивный метод, вполне соответствовавший условиям их существования. Сделав в лесу вырубку и утащив бревна, крестьяне поджигали пни и кустарник. Когда утихало пламя, оставалась зола, настолько богатая поташем и известью, что семена можно было сеять прямо по земле, с минимальной подготовкой почвы. Обработанная таким образом земля давала несколько хороших урожаев; стоило ей захиреть, как крестьяне переселялись дальше и повторяли ту же процедуру в новой части бесконечного леса. Эта земледельческая техника требовала постоянного движения и поможет объяснить, почему славяне распространились по всей России с такой замечательной скоростью. Подсечно-огневое земледелие продолжало преобладать в России до XVI в., когда под совокупным давлением государства и служилых землевладельцев крестьянам пришлось осесть на землю и перейти к трехполью; однако в отдаленных северных районах его продолжали практиковать и на протяжении немалой части нашего столетия.
Характерной чертой ранних славянских поселений была постройка укреплений. В степях они были земляными, а в лесу деревянными или дерево-земляными. Такие незатейливые форпосты служили для защиты жителей разбросанных по окрестным вырубкам поселений. В раннюю эпоху по всей Руси были сотни таких племенных укрепленных сооружений. Племенные общины складывались в более крупные социальные образования, своим связующим звеном имеющие поклонение одним и тем же богам и известные под несколькими именами, например, «мир».[Этот ранний «мир» не следует путать с земледельческой общиной, носившей то же название, но созданной значительно позже.] Совокупность миров составляла племя — самую крупную социальную и территориальную общность, известную восточным славянам в ранний период; летописи упоминают имена примерно десятка племен. Подобно племенным образованиям в других странах, здесь правил патриарх, обладавший практически безграничной властью над единоплеменниками и их имуществом. На этом этапе у славян не было ни институтов, ни чиновников, назначенных нести судебную или военную функцию, следовательно, ничего, что бы напоминало хотя бы самую рудиментарную форму государственности.
В IX в. волжская торговля хазар остановила на себе внимание варягов. IX век был для варягов временем необычайной экспансии. Явившись из Скандинавии, они рассыпались по Центральной и Западной Европе, где вели себя, как хотели, и завоевали Ирландию (820 г.), Исландию (874 г.) и Нормандию (911 г.). Во время этой первой полосы захватов часть варягов повернула на восток и основала поселения на землях, впоследствии сделавшихся Россией. Первой варяжской колонией на русской земле был Aldeigjuborg, крепость на берегу Ладоги. Это была превосходная база для разведки водных путей, ведущих на юг, в сторону великих центров левантийского богатства и культуры. В это самое время пути, соединяющие Северную Европу с Ближним Востоком через Россию, приобрели особую важность, поскольку мусульманские завоевания VIII в. закрыли Средиземноморье для христианской торговли. Отталкиваясь от Aldeigjubrg'a и других крепостей, выстроенных поблизости от него и дальше к югу, варяги разведывали в своих вместительных плоскодонных ладьях реки, ведущие к Ближнему Востоку. Вскоре они обнаружили то, что средневековые русские источники называют «Сарацинским путем» — сеть рек и волоков, соединяющую Балтийское море с Черным через Волгу,— и вошли в торговые сношения с хазарами. Клады арабских монет IX-X вв., найденные во многих концах России и Швеции, свидетельствуют о широте и активности варяжского торга. Арабский путешественник Йбн-Фадлан оставил яркое описание погребения варяжского («русского») вождя, которое он наблюдал на волжской ладье в начале X в.
В конечном итоге, однако, «сарацинский путь» оказался для варягов менее важным, чем «путь из варяг в греки», ведущий вниз по Днепру к Черному морю и Царьграду. Пользуясь этой дорогой, они совершили несколько набегов на столицу Византийской империи и вынудили византийцев предоставить им торговые привилегии. Тексты договоров, в которых перечисляются эти привилегии, полностью приводятся в «Повести временных лет» и являются древнейшими документами, содержащими сведения о варягах. В IX и X вв. между русским лесом и Византией завязались торговые отношения, которыми заправляли вооруженные купцы-варяги.
В большей части находившейся под их владычеством Европы варяги осели и приняли роль территориальных владетелей. В России они поступили по-иному. В силу вышеуказанных причин они видели мало выгоды в том, чтобы утруждаться земледелием и территориальными претензиями, и предпочитали заниматься торговлей с иноземцами. Постепенно они завладели всеми главными водными путями, ведущими к Черному морю, и настроили на них крепостей. Из этих опорных пунктов они собирали со славян, финнов и литовцев дань в виде товаров, имевших наибольший спрос в Византии и арабском мире — рабов, мехов и воска. Именно в IX в. стали появляться в России населенные центры нового типа: уже не крошечные земляные или деревянные укрепления славянских поселенцев, а настоящие города-крепости. Они служили обиталищем варяжских вождей, их семей и дружины. Вокруг них часто вырастали пригороды, населенные туземными ремесленниками и торговцами. Около каждой крепости находятся захоронения. Варягов и славян часто хоронили в одних и тех же курганах, однако могильники у них сильно отличались друг от друга; варяжские содержали оружие, драгоценности, домашнюю утварь ясно выраженного скандинавского типа, а иногда и целые ладьи. Судя по археологическим данным, варяги селились в России в четырех основных районах: 1. вдоль Рижского залива; 2. вокруг Ладоги и Волхова; 3. к востоку от Смоленска; 4. в двуречьи между верховьями Волги с Окой. Помимо того, у них были обособленные поселения, наибольшим из которых являлся Konugard (Киев). Все четыре района варяжских поселений располагались на торговых путях, соединявших Балтийское с Каспийским и Черным морями. В своих сагах варяги звали Россию «Гардарик», «царство городов».
Поскольку для содержания гарнизонов требовалась лишь часть наложенной на туземное население дани, а наиболее ценная ее доля предназначалась для вывоза на отдаленные рынки, достигаемые опасными путями, варяжским городам надо было создать какую-то организацию. Этот процесс завязался около 800 г. с появлением на Ладоге первых варяжских поселений и завершился около 882 г., когда князь Helgi (Олег) собрал под своим началом два конечных пункта греко-варяжского пути — Holmgard (Новгород) и Konugard (Киев). Центральная торговая организация управлялась из Киева. Выбор его диктовался тем, что, поскольку западная Русь находилась в варяжских руках до этого места, Киев был самой южной точкой, до которой варяги могли без забот провозить товары, собранные по всей стране в виде дани и предназначенные для Царьграда. Наибольшую опасность представляло собой следующее колено пути, от Киева до Черного моря, потому что здесь товару предстояло пересечь степь, засоренную грабителями-кочевниками. Каждую весну, стоило сойти льду, дань из широко разбросанных пунктов сбора переправляли по рекам в Киев. Май был занят снаряжением большого ежегодного каравана. В июне лодки, нагруженные рабами и товарами, отплывали под сильной охраной из Киева вниз по Днепру. Наиболее опасным участком пути была полоса гранитных порогов на расстоянии 23-65 верст к югу от Киева. По словам императора Константина VII Багрянородного, варяги выучились пробиваться по реке через первые три порога, но перед четвертым принуждены были выгружать товар и обходить порог пешком. Лодки частью перетаскивались волоком, частью переносились на себе. Одни варяги помогали нести товар, другие сторожили челядь, третьи высматривали неприятеля и отражали его нападения. Караван оказывался в относительной безопасности только после прохода последнего порога, когда люди и товар могли снова погрузиться в ладьи. Отсюда очевидно значение Киева и ясно, отчего его избрали столицей варяжского торгового предприятия в России. Киев выступал в двояком качестве: как главный складочный пункт дани, собранной со всех концов Руси, и как порт, из которого дань отсылали под охраной к месту назначения.
Вот таким образом, почти побочным продуктом заморской торговли между двумя чужими народами, варягами и греками, и родилось первое государство восточных славян. Державная власть над городами-крепостями и окрестными землями была взята династией, утверждающей свое происхождение от полулегендарного варяжского князя Hroerekr'a, или Roderick'a (Рюрика русских летописей). Глава династии, великий князь, правил в Киеве, а сыновья его, родичи и главные дружинники сидели в провинциальных городах. Понятие «Киевское государство» может привести на ум территориальную общность, известную из норманнской истории Франции, Англии и Сицилии, однако следует подчеркнуть, что ничем подобным оно не было. Варяжское государство в России напоминало скорее великие европейские торговле предприятия XVII-XVIII в., такие как Ост-Индская компания или Компания Гудзонова залива, созданные для получения прибыли, но вынужденные из-за отсутствия какой-либо администрации в районах своей деятельности сделаться как бы суррогатом государственной власти. Великий князь был par excellence купцом, и княжество его являлось по сути дела коммерческим предприятием, составленным из слабо связанных между собой городов, гарнизоны которых собирали дань и поддерживали — несколько грубоватым способом — общественный порядок. Князья были вполне независимы друг от друга. Вместе со своими дружинами варяжские правители Руси составляли обособленную касту. Они жили в стороне от остального населения, судили своих по особым законам и предпочитали, чтоб их останки хоронили в отдельных могилах. Варяги правили с известной небрежностью. В зимние месяцы князья в сопровождении дружины ездили в деревню, устраивая доставку дани и творя суд и расправу. Лишь в XI в., когда Киевское государство уже выказывало признаки упадка, в более крупных городах появились вечевые собрания, на которые сходились все взрослые мужчины. Вече давало князю советы по важным политическим вопросам. В Новгороде и Пскове вече даже сумело вытребовать себе законодательные полномочия и принудить князей выполнять свою волю. Но за исключением этих двух случаев между вечем и князем обыкновенно складывались непринужденные, неформальные отношения. Нельзя, разумеется, говорить о том, чтобы жители Киевской Руси обладали институтами для давления на правящую элиту, особенно в IX и X вв., когда вече еще просто не существовало. В пору расцвета киевской государственности властью пользовались в духе средневекового торгового предприятия, не стесненного ни законом, ни народной волей.
Ничто так хорошо не выражает отношения варягов к их русскому княжеству, как то обстоятельство, что они не затруднились выработать четкого порядка княжеского владения. В IX и X вв. дело, по-видимому, решалось силой; после смерти киевского правителя князья набрасывались друг на друга, и до того момента, как победитель завладевал киевским столом, пропадало всякое подобие национального единства. Позднее делался целый ряд вполне безуспешных попыток учредить упорядоченную процедуру престолонаследия. Перед своей смертью в 1054 г. великий князь Ярослав поделил главные города между своими пятью сыновьями, наказав им слушаться старшего, которому он отдал Киев. Из этого, однако, ничего не вышло, и усобицы продолжали повторяться. Впоследствии киевские князья стали собирать советы, на которых обговаривали и иногда улаживали свои распри, в том числе и конфликты из-за городов. Ученые давно спорят о том, был ли в Киевской Руси на самом деле какой-нибудь порядок княжеского владения, и если да, то каковы были его основополагающие принципы. Авторы XIX в., в котором воздействие Гегеля на историческую мысль достигло наивысшей силы, полагали, что русское государство в эту раннюю эпоху находилось на доправительственной (pre-governmental) стадии общественного развития, когда царство со входящими в него городами принадлежало целому династическому роду. По их понятию, существовал подвижной порядок владения по очереди старшинства, при котором князья сидели в городах поочередно; старший князь получал киевский стол, а младшие садились по порядку в провинциальных городах. В самом начале нашего века этот традиционный взгляд был поставлен под сомнение А. Е. Пресняковым, считавшим, что киевские князья относились к государству как к единому целому и боролись друг с другом за владение всем государством, а не отдельными городами. Некоторые современные историки придерживаются видоизмененной версии старой родовой теории, полагая, что киевские князья позаимствовали обычаи кочевых тюркских племен вроде печенегов, с которыми они постоянно соприкасались и у которых старшинство велось по боковой линии, то есть от брата к брату, а не от отца к сыну. Какой бы порядок, однако, ни избрали в теории варяги и их преемники в России, на деле они не соблюдали никакого порядка вообще, вследствие чего Киевское государство бесконечно потрясалось усобицами того рода, каким позднее предназначалось погубить империю Чингисхана. Как показал Генри Мэн, отсутствие права первородства является характерной особенностью власти и собственности на той стадии развития общества, где нет различия между частным и публичным правом. Тот факт, что варяги смотрели на Русь как на свою нераздельную династическую собственность, а не собственность отдельного члена или ветви семьи,— и как бы они ни считали уместным разделить ее — дает основание полагать, что у них отсутствовало четкое понятие о политической власти и что они рассматривали свою власть скорее как частное, а не публичное дело.
Норманны нигде не выказали сильной сопротивляемости ассимиляции, и по крайней мере в этом смысле их русская ветвь не была исключением. Это племя неотесанных пиратов, вышедшее из отсталого края на задворках цивилизованного мира, повсеместно имело склонность пропитываться культурой народов, покоренных ими силою оружия. Киевские варяги ославянились к половине XI в., то есть примерно к тому времени, когда из норманнов во Франции сделались галлы. Важным фактором их ассимиляции явился переход в православие. Одним из последствий этого шага было принятие церковно-славянского — литературного языка, созданного византийскими миссионерами. Использование этого языка во всех писаных документах как светского, так и церковного содержания без сомнения сыграло немалую роль в размывании этнических варяжских черт. Другим фактором, способствовавшим ассимиляции, были браки со славянками и постепенное проникновение туземных воинов в ряды некогда чисто скандинавской дружины. Все киевляне, подписавшие договор, заключенный в 912 г. между киевскими князьями и Византией, носили скандинавские имена (например, Ingjald, Farulf, Vermund, Gunnar). Впоследствии эти имена были либо ославянены, либо заменены славянскими, и в летописях (первый полный текст которых относится к 1116г.) варяжские имена появляются уже в своей славянской форме; так, Helgi делается Олегом, Helga превращается в Ольгу, Ingwarr в Игоря, a Waldemar — во Владимира.
В результате родственного языкового процесса этническое имя, которыми в начале называли себя норманны Восточной Европы, перенеслось на восточных славян и на их землю. В Византии и в западных и арабских источниках IX-X вв. слово «Русь» всегда относилось к людям скандинавского происхождения. Так, Константин Багрянородный в De Administrando Imperio («Об управлении империей»), приводит два параллельных ряда имен днепровских порогов, один из которых, представляемый как «русский», оказывается скандинавским, тогда как другой является славянским. Согласно Вертинским анналам, византийское посольство, явившееся в 839 г. ко двору императора Людовика Благочестивого в Ингельгейме, привезло с собой группу людей, именовавшихся «росами» (Rhos); на вопрос о своей национальности они назывались шведами. «Quos alios nos nomine Nordmannos appellamus» («те, кого мы еще зовем норманнами»), — так историк X в. Лиудпранд Кремонский определяет «Rusios». Мы уже упомянули описание погребения «русского» князя, Данное Ибн-Фадланом, содержимое могильников и подписи киевлян под договором с Византией. Следует особо подчеркнуть все эти факты, ибо в течение последних двух столетий сверхпатриотические русские историки считали себя обязанными отрицать обстоятельство, казавшееся неопровержимым стороннему наблюдателю, а именно, что основателем Киевского государства и первым носителем имени «русские» был народ скандинавского происхождения. Откуда взялось название «Русь», однако, совсем неясно. Одно возможное объяснение связано с Roslagen'om, шведским побережьем к северу от Стокгольма, чьи жители и по сей день известны как Rospiggar (произносится «руспиггар») Другое связано с древне-исландским Ropsmenn, или Ropskarlar, означающим «гребцы, мореходы». Финны, бывшие первыми, с кем столкнулись варяжские поселенцы на Ладоге, звали их Ruotsi; это имя сохранилось в современном финском языке и обозначает Швецию (как отмечалось выше, «Россия» по-фински будет Venaja). По тому же лингвистическому правилу, по которому славяне переиначивают финские имена, из Ruotsi получилась «Русь». Первоначально «Русь» обозначала варягов и их страну. Арабский географ Ибн-Русте, писавший около 900 г., говорит, что Русь (которых он отличает от славян) живут в стране озер и лесов, скорее всего имея в виду область Ладоги-Новгорода. Но по мере ассимиляции варягов и пополнения рядов их дружинников славянами слово «Русь» утратило этнический оттенок и стало обозначать всех людей, оборонявших города-крепости и участвовавших в ежегодных походах в Царьград. Тут уж немного потребовалось, чтобы название «Русь» распространилось и на страну, в которой жили эти люди, и, наконец, на всех обитателей этой страны, вне зависимости от их происхождения и занятий. Случаи такого перенесения имени завоевателя на завоеванное население встречаются нередко; на ум сразу приходит пример Франции, как стали называть Галлию, позаимствовав имя у вторгшихся в нее франков-германцев.
Варяги дали восточным славянам ряд вещей, без которых не могло бы обойтись слияние разношерстных племен и племенных союзов в национальную общность: рудиментарную государственную организацию, возглавляемую одной династией, общую религию и национальное имя. Никто не знает, насколько было развито в X-XI вв. у восточных славян чувство народного единства, поскольку по этому периоду из местных документов есть лишь летописи, а они более позднего происхождения.
Заслуживает упоминания и иное наследство, оставленное варягами восточным славянам,— наследство отрицательное; мы уже упомянули и будем еще неоднократно упоминать о нем на страницах этой книги. Киевское государство, основанное варягами и унаследованное их славянскими и ославяненными потомками, не вышло из общества, которым оно правило. Ни князья, ни их дружинники — сырой материал будущего боярского сословия — не были выходцами из славянского общества. То же самое, разумеется, относится и к Англии после норманнского завоевания. Однако в Англии, где земля плодородна и представляет великую ценность, она была незамедлительно поделена между членами норманнской верхушки, превратившейся в землевладельческую аристократию. В России же норманнская верхушка продолжала сохранять полуколониальный характер: свой главный интерес она видела не в сельскохозяйственной эксплуатации земли, а в извлечении дани. Местные ее корни лежали совсем мелко. Перед нами тип политического образования, характеризующийся необычайно глубокой пропастью между правителями и управляемыми. В Киевском государстве и в киевском обществе отсутствовал объединяющий общий интерес: государство и общество сосуществовали, сохраняя свои особые обличья и вряд ли чувствовали какие-то обязательства друг перед другом. [Насколько мало лежало у варягов сердце к своему русскому царству, можно понять из эпизода в жизни великого князя Святослава. Захватив в 968 г болгарский город Переяславец (римский Мартианополь), он заявил на следующий год матери и боярам: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, — там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси— же меха и воск, мед и рабы» Повесть временных лет, подготовка текста Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, ч. 1 М.-Л., 1950, стр. 246. Намерение это не осуществилось из-за нападения печенегов на Киев, но отношение говорит само за себя.]
Киевское государство распалось в XII в. Падение его объясняется совокупным действием внутренних и внешних причин.
Внутренняя причина заключалась в неспособности правящей династии разрешить проблему княжеского владения. Поскольку не было установленного порядка перехода Киева и меньших городов с волостями из рук в руки по смерти их властителей, князья были склонны приобретать собственническое чувство по отношению к попадавшим под их власть областям. Так право эксплуатировать данный город или волость, задуманное как временное и условное, превращалось в прямую собственность. Княжеский обычай завещать города и волости в бессрочное владение сыновьям, по всей видимости, вполне утвердился к 1097 г., когда состоявшийся в Любече съезд киевских князей признал за каждым князем право собственности на земли, унаследованные от отца. Хотя совместная династическая собственность на Россию официально так и не была отменена, на деле ее больше не принимали в расчет.
Заключенная в этом процессе центробежная тенденция усугублялась произошедшим тогда внешним событием, а именно упадком русской торговли с Византией. В 966-977 гг. в пылу спора о контроле над единственной группой славян, еще платящей дань хазарам, князь Святослав разрушил столицу хазарского каганата. Этим безрассудным поступком он открыл шлюзы, через которые в причерноморские степи немедленно хлынули враждебные тюркские племена, до той поры сдерживаемые хазарами. Сперва пришли печенеги. В XI в. за ними последовали половцы (куманы), крайне воинственный народ, совершавший такие жестокие набеги на плывущие из Киева в Царьград караваны, что в конце концов это торговое движение совсем замерло. Походы, предназначенные потеснить половцев, имели мало успеха; одна из таких катастрофических кампаний, предпринятая в 1185 г., увековечена в «Повести о полку Игореве». В середине XII в. русские князья перестали чеканить монету, из чего можно заключить, что у них были серьезные финансовые затруднения и что происходило раздробление хозяйственного единства страны. Киевские беды еще умножились в 1204 г., когда Четвертый крестовый поход захватил и разграбил Царьград, в то же время открыв восточное Средиземноморье для христианского судоходства. Иными словами, около 1200 г исчезли особые обстоятельства, в течение предшествующих четырех столетий приведшие населенные восточными славянами земли под единое правление.
Внутренние и внешние тенденции, тянувшие независимо друг от друга, но в одну сторону, развязали мощные разрушительные силы и привели к тому, что страна раздробилась на замкнутые и практически суверенные княжества. Тяга, разумеется, была не в одном только направлении. Как и прежде, страна продолжала управляться членами одной династии и исповедовать одну и ту же веру, которая резко отделила ее от своих католических и мусульманских соседей. Эти центростремительные силы с течением времени дали России объединиться вновь. Но это случилось несколько столетий спустя, а в данный момент перетянула центробежная сила. Движение было в сторону создания земель, состоящих из хозяйственно независимых княжеств, каждое из которых в силу внутренней логики имело тенденцию делиться и переделиваться до бесконечности.
В начальной стадии этого раздробления Киевское государство распалось на три основных области: одну на севере с центром в Новгороде; другую на западе и юго-западе, вскоре захваченную Литвой и Польшей; и третью на северо-востоке, в районе между Окой и Волгой, где власть в конечном итоге была взята княжеством Московским.
Самая зажиточная и культурная из этих областей лежала на северо-западе. После падения Византии остатки русской заморской торговли переместились на Балтийское море, и Новгород с зависимым от него Псковом занял место Киева как деловое средоточие страны. Как прежде хазары и варяги, новгородцы продавали сырье и ввозили преимущественно предметы роскоши. Из-за своего северного расположения Новгород был не в состоянии обеспечить себя продовольствием и вынужден был закупать зерно в Германии и в двуречьи Оки и Волги. В Западной Европе, где к этому времени рабовладение практически вывелось, не было рынка на рабов, традиционно являвшихся главным экспортным товаром Руси, и челядь, таким образом, оставалась в России, что привело к важным социально-экономическим последствиям, речь о которых ниже. Процветание Новгорода зиждилось на тесном сотрудничестве с Ганзейским союзом, чьим активным членом он сделался. Немецкие купцы основали постоянные колонии в Новгороде, Пскове и нескольких других русских городах. От них требовалось обещание сноситься с производителями товаров лишь через русских посредников; взамен они получили полный контроль над всей заморской частью дела, включая перевоз и сбыт. В поисках товаров для торговли с немцами новгородцы разведали и колонизировали большую часть севера страны, раздвинув пределы своего государства вплоть до Урала.
Около середины XII в. Новгород стал политически обособляться от других киевских княжеств. Даже во время наивысшего расцвета киевской государственности он пользовался в какой-то степени привилегированным положением, возможно потому, что был старшим из варяжских городов и поскольку близость к Скандинавии помогала ему несколько тверже противостоять ославяниванию. Сложившийся в Новгороде порядок правления во всех своих главных чертах напоминал форму, известную из историй средневековых городов-государств Западной Европы. Большая часть богатства находилась в руках не князей, а сильных торговых и земледельческих фамилий. Юридическое отмежевание государственного имущества от имущества, выделяемого на нужды князя, произошло в Новгороде уже в XIV в., если не раньше (в Москве, как мы отметим ниже, это случилось только спустя пять столетий). Вследствие этого государство здесь сделалось юридическим лицом довольно рано. [Н. Н. Дебельский Гражданская дееспособность по русскому праву до конца XVII века. СПб 1903, стр. 321].
Задача расширения земель княжества, в других местах взятая на себя князьями, в Новгороде выполнялась деловыми людьми и крестьянами. Поскольку в умножении новгородского богатства и земель князья играли второстепенную роль, они пользовались относительно малой властью. Главной их задачей было отправление правосудия и командование ратью города-государства. Все прочие политические функции лежали на вече, которое после 1200 г стало средоточием новгородского суверенитета. Вече избирало князя и устанавливало правила, которых он был обязан держаться. Старейшая из соответствующих договорных грамот относится к 1265 г. Правила эти отличались строгостью, особенно в вопросах финансовых. Князь владел неким имуществом, однако и ему и его дружинникам недвусмысленно запрещалось обзаводиться поместьями и челядью на территории Новгорода и даже эксплуатировать промыслы без позволения веча. Князь не мог поднимать налогов, объявлять войну и заключать мир и каким бы то ни было образом вмешиваться в деятельность новгородских учреждений и в политику города. Иногда ему конкретно воспрещалось входить в прямые сношения с немецкими купцами. Эти ограничения ни в коей мере не были пустой формальностью, о чем свидетельствует изгнание из Новгорода князей, обвиненных в выходе за пределы своих полномочий. В один особенно бурный период в Новгороде за 102 года перебывали один за другим 38 князей. Вече также распоряжалось гражданским управлением города и при надлежащих ему волостей и назначало церковного владыку. Решающая власть на вече находилась в руках новгородских бояр, патрициата, ведущего свое происхождение от старой дружины и состоящего из сорока виднейших фамилий, каждая из которых организовывалась в корпорацию вокруг личности святого-покровителя какого-либо храма. Эти фамилии монополизировали все высокие должности и в немалой степени определяли характер принимаемых на вече решений. Независимость их не знала себе подобия ни в одном русском городе ни тогда, ни после. Несмотря на свою гордыню, Господин Великий Новгород, однако, не имел сильных общеземских амбиций. Довольствуясь торговлей и своей собственной, не стесняемой извне жизнью, он не пытался сделаться вместо Киева политическим центром страны. Экономическая необходимость, в случае торговли с Византией призывавшая к национальному объединению, не требовала его в торговле с ганзейскими купцами.
В западных и юго-западных областях бывшего Киевского государства дело обстояло по-иному. Своими постоянными набегами печенеги и половцы сделали невыносимой жизнь славянских поселенцев в черноземном поясе и прилегающей к нему лесной полосе, и тем пришлось покинуть степи и отступить под прикрытие леса. Насколько сильно упало значение Киева еще задолго до его разрушения татарами в 1241 г., можно судить по отказу суздальского князя Андрея Боголюбского перебраться в завоеванный им в 1169 г. город и вступить в звание великого князя; он предпочел отдать Киев младшему брату и остался в своих владениях в глубине леса.
В течение XIII-XIV вв. основная территория былого Киевского государства — бассейн Днепра и его притоков — попала под власть литовцев. Заполняя вакуум, созданный распадом Киевского государства, они не встретили большого сопротивления и скоро сделались хозяевами западной и юго-западной Руси. Великий князь литовский не вмешивался во внутреннюю жизнь завоеванных княжеств и не стеснял местных институтов и традиций. Мелкие князья стали его вассалами, платили ему дань и служили ему во время войны, но в остальном им никак не досаждали. У великого князя было меньше земли, чем у князей и их дружинников, вместе взятых. Это неблагоприятное распределение богатства заставляло его внимательно прислушиваться к пожеланиям Рады, составленной из его виднейших вассалов. Если в Новгороде князь напоминал выборного президента, то великий князь Литовской Руси немало походил на конституционного монарха.
В 1388 г. Польша и Литва вошли в династический союз, вслед за чем территории Литвы и литовской Руси постепенно соединились. Затем управление подверглось некоторой централизации, исчезли старые литовские институты, но, тем не менее, никак нельзя было назвать централизованным правительство этой монархии, состоявшей из двух народностей. Высшие классы восточных областей выгадали от постепенного упадка польской монархии, добыв себе всевозможные вольности и привилегии, такие как право собственности на свои земельные владения, облегчение условий правительственной службы, доступ к административным должностям и участие в избрании польских королей. Литовское дворянство; бывшее частью католическим, частью православным, сделалось настоящей аристократией. Польша-Литва вполне могли бы поглотить большую часть русского населения и устранить необходимость создания отдельного русского государства, не будь религиозного вопроса. В начале XVI в. Польша колебалась на пороге протестантизма. Ее отпадение от Рима было в конечном итоге предотвращено огромными усилиями католической церкви и ее иезуитской ветви. Отведя эту опасность, Рим вознамерился не только истребить в польско-литовской монархии последние следы протестантизма, но и заставить живущее там православное население признать свою власть. Эти попытки увенчались кое-каким успехом в 1596 г., когда часть православной иерархии в литовских землях образовала униатскую церковь, православную по обряду, но подвластную Риму. Большинство православного населения отказалось, однако, сделать то же самое и стало ждать помощи с востока. Этот религиозный раздел, пуще усугубленный контрреформацией, породил большую вражду между поляками и русскими и не дал литовско-польскому государству стать потенциальным средоточием национальных русских чаяний.
Таким образом, ни Новгород, ни Польша-Литва, несмотря на свое богатство и высокую культуру, не были в состоянии вновь объединить восточных славян: один из-за своего узкого, чисто коммерческого кругозора, другая из-за сеющего распрю религиозного вопроса. В отсутствие других кандидатов эта задача легла на плечи самой бедной и отсталой области России, расположенной на северо-востоке у слияния Волги и Оки.
Когда Киевское государство находилось на вершине своего расцвета, эта область была третьестепенным пограничным районом. Население там было все еще по преимуществу финским; по сей день почти все тамошние реки и озера носят финские названия. Подъем области начался в XII в., когда ее главный город Ростов Великий сделался наследственной собственностью младшей ветви семьи великого князя киевского Владимира Мономаха. Первый самостоятельный правитель Ростова младший сын Мономаха Юрий Долгорукий (ок. 1090-1157) оказался весьма предприимчивым колонизатором. Он выстроил множество городов, деревень, церквей и монастырей и щедрыми земельными пожалованиями и освобождением от налогов переманивал в свои владения поселенцев из других княжеств. Эта политика была продолжена его сыном Андреем Боголюбским (ок. 1110-1174). Проделанный М. К. Любавским тщательный анализ исторической географии Ростовского края обнаружил, что уже к концу XII в. он был наиболее плотно населенным районом России.[М. К. Любавскнй, Образование основной государственной территории великорусской народности, Л., 1929.] Переселенцы устремились сюда со всех сторон,— из Новгорода, западных земель и степи,— привлеченные освобождением от налогов, безопасностью от набегов кочевников и относительно добрым качеством почвы (район Волги-Оки пересекается полосой чернозема с содержанием перегноя в 0,5-2%). Колонисты поступали здесь точно так же, как за несколько столетий до этого, придя в Россию,— сперва сооружая остроги, а потом рассыпаясь вокруг них небольшими поселениями, состоящими из одного-двух дворов. Славяне затопили туземное финское население и в конце концов ассимилировали его смешанными браками. Смешение двух народностей произвело новый расовый тип великороссов, у которых из-за примеси финно-угорской крови появились некоторые восточные черты (например, скуластость и маленькие глаза), отсутствующие у других славян.
Княжество Ростовское со временем стало колыбелью нового русского государства — государства Московского. Русская историография традиционно полагала, что, само собой разумеется, Московское государство является прямым преемником Киевского и что державная власть, которой некогда владели великие князья киевские, перешла от них в руки московских правителей. Западные Ученые также по большей части признают прямую преемственность между Киевом и Москвой. Вопрос, однако, отнюдь не очевиден. Ключевский первым подчеркнул коренные различия между северо-восточными княжествами и Киевским государством. Впоследствии Милюков показал, что традиционная схема берет начало в писаниях московских публицистов конца XV— начала XVI в., старавшихся поддержать московские притязания на всю Россию, особенно на земли, находившиеся тогда под властью Литвы; у них она была некритически заимствована историками периода империи. Взяв критику Ключевского и Милюкова за отправную точку, украинский историк Михаил Хрущевский пошел еще дальше, утверждая, что законных преемников Киева следует искать в западных княжествах Галиче и Волыни, впоследствии захваченных Литвой, поскольку именно здесь живее всего сохранились киевские традиции и институты. Москва, по его понятию, являлась новым политическим образованием. [П. Милюков Главные течения русской исторической мысли. М., 1898. стр. 192-204. В. И. Ламанский. ред. Статьи по славяноведению, СПб. 1904. I, стр. 298-304].
Не берясь разрешать спора, ведущегося между историками о том, притязания какой народности, великорусской или украинской, на киевское наследие имеют под собою более твердую почву, нельзя игнорировать важную проблему, поднятую критиками теории о прямой преемственности между Киевом и Москвой. В Московском государстве и в самом деле были введены существенные политические новшества, создавшие в нем строй, весьма отличный от киевского. Происхождение многих из этих новшеств можно вести от того, каким образом сложилось Московское государство. В Киевской Руси и во всех вышедших из нее княжествах, кроме северо-восточных, население появилось прежде князей: сперва образовались поселения и лишь потом политическая власть. Северо-восток, напротив, был по большей части колонизирован по инициативе и под водительством князей; здесь власть предвосхитила заселение. В результате этого северовосточные князья обладали такими властью и престижем, на, которые сроду не могли рассчитывать их собратья в Новгороде и Литве. Земля, по их убеждению, принадлежала им; города, леса, пашни, луга и речные пути были их собственностью, ибо строились, расчищались и эксплуатировались по их повелению. Такое мнение предполагало также, что все живущие на их земле люди были их челядью либо съемщиками; в любом случае, они не могли претендовать на землю и обладать какими-либо неотъемлемыми личными «правами». Так на северо-восточной окраине сложилось некое собственническое мировоззрение; пронизав все институты политической власти, оно придало им характер, подобия которого было не сыскать ни в других частях России, ни в Европе.
Собственность в средневековой России обозначалась термином «вотчина». Он постоянно встречается в средневековых летописях, духовных грамотах и договорах между князьями. Корень его «от» тот же, что и в слове «отец». Вотчина по сути дела есть точный эквивалент латинского patrimonium'a и, подобно ему, обозначает собственность и полномочия, унаследованные от отца. Когда не существовало твердых юридических дефиниций собственности и суда, где можно было бы отстоять свои притязания на нее, приобретение путем наследования было если и не единственным, то наверняка наилучшим доказательством владельческого права. «Оставленное мне отцом» значило «неоспоримо мое». Такой язык легко понимали в обществе, в котором все еще живы были патриархальные порядки. Между разными видами собственности не проводили никакого различия: вотчиной было и поместье, и рабы, и ценности, и права на рыболовство и разработку недр, и даже предки, или родословная. Еще важнее,— что ею была и политическая власть, к которой относились как к товару. В этом нет ничего странного, если учесть, что в древней Руси политическая власть по сути дела означала право налагать дань, которым обладала группа иноземных завоевателей, то есть она являлась экономической привилегией и мало чем еще. Вполне естественно, в таком случае, что многочисленные дошедшие до нас духовные грамоты северо-восточных князей читаются как обыкновенные инвентаризационные описи, в которых города и волости без разбору свалены в одну кучу с ценностями, садами, мельницами, бортями и конскими табунами. Иван I в своей духовной называет московское княжество своей вотчиной и в таком качестве считает себя вправе завещать его сыновьям. Духовная грамота Ивана внука Дмитрия Донского (ок. 1389 г.) определяет как вотчину не только княжество Московское, но и великокняжеское звание. В своем формальном, юридическом аспекте духовные русских князей до такой степени походили на обычные гражданские документы, что их даже свидетельствовали третьи лица.
Будучи частной собственностью, княжества на северо-востоке (и лишь там) передавались по наследству в согласии с владельческими традициями русского обычного права, то есть сперва какое-то имущество отказывалось женщинам и также обычно церковным учреждениям, а потом они делились на примерно равноценные доли для распределения между наследниками мужского пола. Такая практика может показаться странной современному человеку, привыкшему считать государство неделимым, а монархию наследной по праву первородства. Однако право первородства есть сравнительно новое явление. Хотя его иногда придерживались в первобытных обществах, античность его не знала; оно не было известно ни римлянам, ни варварам-германцам и почти не встречалось в странах ислама. Оно появилось впервые там, где роль собственности не ограничивалась лишь прокормом ее владельца, то есть где ее назначение — позволить ему отправлять военную и иную службу — предполагало, что ее нельзя урезать ниже какого-то оптимального минимума. На Западе право первородства стало утверждаться со времени бенефиций, жалованных Карлом Великим. С распространением феодализма и условного землевладения оно получило широкое признание в Европе. Связь между условным землевладением и правом первородства особенно заметна в случае Англии, где аллодиальная собственность была развита меньше всего, а право первородства — больше всего. Право первородства пережило феодализм в Западной Европе по двум причинам. Одной из них было растущее знакомство с римским правом, которое не знало условного землевладения и имело обыкновение отметать в сторону многочисленные ограничения, накладываемые на наследника феодальным обычаем, превращая в прямую собственность то, что было задумано как сорт опеки. Другой был рост капитализма, давший младшим сыновьям заработать себе на жизнь без того, чтобы непременно наследовать часть родительского имущества. Однако право первородства так и не пустило корней в России, поскольку здесь не было ни одного из условий, надобных для его появления, в том числе знания римского права и возможностей кормиться с промышленности или торговли. Твердый принцип русского обычного права состоял в разделе всего имущества равными долями между наследниками мужского пола, и все попытки правительства поломать эту традицию окончились неудачей. По смерти одного из северо-западных князей его княжество дробилось между сыновьями, каждый из коих получал свою долю, или удел. Так и делалось на частных владениях. Сделалось привычкой проводить аналогию между уделом и appanage, термином из словаря французского феодализма. Бельгийский медиевист Александр Эк (Alexander Eck) совершенно правильно критикует эту аналогию на том основании, что хотя термины «удел» и appanage обозначают имущество, или «кормление», которое правитель отказывает сыновьям, во Франции этот институт сводился лишь к пожизненному пожалованию, возвращаемому в казну по смерти держателя, тогда как удел есть наследственная собственность, даваемая в бессрочное пользование. [Alexandre Eck, Le Moyen Age Russe (Paris 1933), p. 43]
Удел, наследуемый русским князем от отца, делался его вотчиной, которую, когда приходило ему время писать духовную грамоту, он в свою очередь дробил (вместе с новоприобретенными землями) дальше между своими сыновьями. Такой обычай вел к неуклонному уменьшению северо-восточных княжеств, часть из которых урезалась до размера мелкого имения. Эпоха, на протяжении которой шло это дробление,— с половины XII до половины XV в., известна в исторической литературе под именем «удельного периода».
Одна из постоянных опасностей исторического изучения связана с трудностью различения теории от практики, трудности, присутствующей в России больше, чем в других странах, ибо здесь амбиция всегда расположена бежать далеко впереди наличных возможностей. Хотя в теории княжество принадлежало князю, в действительности ни у кого из удельных правителей не было ни денег, ни администрации, чтобы утвердить свои владельческие притязания. В средневековой России настоящая собственность на землю и все другие природные богатства (в отличие от собственности теоретической) устанавливалась точно так, как это представляли себе Локк и иные классические теоретики, а именно «выведением» предметов из «первобытного состояния» и «соединения» их со своим трудом. Типичное княжество на девять десятых состояло из девственной природы и представляло собой, таким образом, res nullius. Ключевский следующим образом описывает, как в удельной Руси складывалась собственность на землю помимо наследования:
Эта земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающие, мною к ней привязанные,— таков был диалектический процесс усвоения мысли о частной земельной собственности первыми русскими землевладельцами. Такая юридическая диалектика была естественна в то время, когда господствующим способом приобретения земельной собственности на Руси служило занятие никому не принадлежащих пустынных пространств. [В. О. Ключевский, с «Подушная подать» и отмена холопства в России, в Опыты и исследования. Первый сборник статей. Петроград, 1918. стр. 315-16.]
Будучи не в состоянии колонизировать пустоши собственными силами, но стремясь заселить их, ибо поселенцы умножали богатство края и приносили доход, князья домогались, чтобы к ним переселялись зажиточные военно-служилые люди, монастыри и крестьянские семьи. Таким образом, в каждом удельном княжестве образовалось три основных разряда землевладения: 1. частные земли князя, непосредственно им эксплуатируемые; 2. владения землевладельцев и монастырей; и 3. так называемые «черные земли», возделываемые вольными крестьянами. В хозяйственном отношении эти три разряда за исключением размера не сильно отличались друг от друга. Удельная Русь не знала больших латифундий. Даже крупнейшие владения состояли из множества крошечных ячеек — деревенек в один-два двора, рыбных ловель, бортей, садов, мельницу рудничков,— разбросанных как попало по речным берегам и росчистям.
Князь был крупнейшим землевладельцем удельного государства. Львиная доля его доходов поступала от эксплуатации его личных земель; экономическое могущество князя основывалось на его oikos'e, его дворцовой собственности, обрабатываемой и управляемой рабочей силой, составленной в одних княжествах по большей части, а в других исключительно из несвободных людей, холопов. Холопы брались из двух основных источников. Одним была война; многие холопы являлись пленниками или потомками пленников, захваченных в столь часто происходивших в удельный период набегах на соседние княжества и вылазках в лесную глушь. Другим источником была беднота, которая либо понуждалась идти в кабалу по неуплате долгов, либо попадала в нее добровольно в поисках покровительства и защиты. Исторический опыт подсказывает, что в хозяйстве, основанном на рабском труде, решающим фактором бывает предложение, а не спрос, то есть хозяйство такого типа может появиться из-за наличия большого числа рабов, для которых надо изыскать работы. [Рабовладельческое хозяйство Америки составляет исключение из этого правила.] Разрыв торговли с Византией, где имелся большой спрос на рабов, образовал в России XII— XIII вв. излишек живого товара. Известны случаи, когда вслед за успешной военной кампанией пятерых рабов продавали за стоимость одной козы. Такой избыток, вероятно, давал удельным князьям очень сильный побудительный мотив для поворота к эксплуатации земли. Основным занятием в дворцовом хозяйстве удельного князя было хлебопашество. Удовлетворить нужду княжеского двора в зерне было нетрудно, а излишки его девать было почти некуда; кое-что закупал Новгород, однако и его потребности были ограничены, а что касается перегонки его на спиртное, то этому искусству русские выучились у татар только в XVI в. Энергия в основном уходила в промыслы, увлечение которыми превратило иные княжеские дворы в оживленные коммерческие предприятия. Нижеследующее описание относится к более поздней эпохе, однако в своих главных чертах оно действительно и для удельного периода:
Резиденция князя в XV в., будь то Москва, Переяславль-Рязанский, Можайск или Галич, являлась не только политическим центром государства, но и центром обширного княжеского хозяйства, тем, чем в частной вотчине является хозяйский двор, хозяйская усадьба. В духовных грамотах московских князей Москва-усадьба нередко даже заслоняет собою Москву — столицу княжества. Москва XV в. окружена кольцом рассыпанных по берегам Москвы-реки и Яузы сел, деревень и починков, принадлежащих великим и удельным князьям; на посаде и в городе расположены их дворы, сады и псарни, целые слободы княжеских мастеров, огородников, садовников; на Яузе, на Неглинной, на Клязьме рядами тянутся княжеские мельницы. Вдоль низких берегов Москвы-реки и Ходынки раскинуты обширные заливные луга и покосы, принадлежащие им. Окрестности Москвы заселены княжескими оброчниками и купленными людьми, княжескими промышленниками — бобровниками, сокольничими, псарями, конюхами. За Москвой-рекой тянутся бортные леса, Добрятинская борть с разбросанными по ней деревнями княжеских бортников (пчеловодов). Среди всех этих сел и деревень, садов и огородов, псарен и мельниц Кремль, наполовину застроенный княжескими дворами, с их службами — дворцами и житницами, с сокольней и с дворами портных и мастеров, носит яркие черты большой усадьбы, господствующей над всей этой пестрой картиной княжеского хозяйства. Такой же характер большой усадьбы носили и прочие княжеские резиденции: в Переяславле, столице Рязанского княжества, тот же ряд княжеских дворов; под городом княжеские мельницы, поля и луга; на посаде сидят принадлежащие князьям рыболовы и ястребники, за городом — их бортники окологородные. [С. В. Бахрушин, «Княжеское хозяйство XV и первой половины XVI в.», в его Научные труды, М., 1954, II, стр. 14]
Управление этими сложными хозяйствами вверялось дворовому штату княжеской усадьбы, который тоже состоял в основном из холопов; однако и вольные люди на таких должностях находились в полукабальном состоянии в том смысле, что не могли уйти от хозяина без разрешения. Главным управителем двора был «дворецкий», или «дворский»; под его руководством служили всякие люди, надзиравшие за конкретными источниками дохода: один смотрел за бортями, другой заведовал садами, третий — соколами. Доходная собственность носила название «путь», а надзиравший за нею управитель звался «путным боярином», или «путником». Путному боярину выделялись деревни и промыслы, на счет доходов с которых он кормился со своим штатом. Административные функции на княжеском дворе организовывались по хозяйственному принципу, то есть путный боярин творил суд и расправу и командовал холопами и прочими крестьянами в своем собственном хозяйственном ведомстве. Он обладал такой же властью над жителями деревень и городов, назначенных в его личное кормление.
За пределами княжеского владения управление было сведено до минимума. Светские и церковные землевладельцы обладали широкими иммунитетами, позволявшими им облагать податями и судить население своих поместий, тогда как у черных крестьян было самоуправление в виде общинных организаций. Однако постольку, поскольку имелась необходимость отправлять определенные публичные функции (например, собирать подати, а позднее, после татарского завоевания,— дань), они вверялись дворецкому и его штату. Таким образом, дворцовая администрация выступала в двойном качестве: главное ее дело управление княжеским хозяйством — по необходимости дополнялось руководством всем княжеством в целом, что является непременной чертой всех режимов вотчинного типа.
Как и можно было ожидать, холопы, на которых были возложены административные обязанности, вскоре отмежевались от занятых физическим трудом собратьев и составили касту, находящуюся где-то на полдороге между вольными и подъяремными людьми. В некоторых источниках эти две категории определяются как «приказные» и «страдные» люди. В силу своих обязанностей и предоставляемой им власти первые составляли как бы низший разряд знати. В то же время официально у них не было вообще никаких прав, и свобода передвижения их была строго ограничена. В договорные грамоты удельных князей обычно вносились пункты, обязывающие договаривающиеся стороны не переманивать друг у друга дворовых слуг, обозначавшихся такими именами как «слуги подворские», «дворные люди», или, коротко, «дворяне». Эта группа людей впоследствии сделалась ядром главного служилого класса Московской Руси и России периода империи.
Так обстояло дело в частных владениях удельного князя. За пределами своего поместья князь обладал ничтожно малой властью. С населения в целом ему не причиталось ничего, кроме податей, и оно могло, как ему заблагорассудится, переселяться из одного княжества в другое. Право вольных людей бродить по Руси твердо укоренилось в обычном праве и было официально признано в договорных грамотах князей. Существование его, разумеется, являло собой аномалию, ибо, хотя приблизительно с 1150 г. русские князья превратились в территориальных властителей с сильно развитой владельческой психологией, дружинники и простолюдины, живущие на их земле, продолжали вести себя так, как будто Русь все еще остается собственностью всей династии. Первые поступали на службу, а вторые арендовали землю там, где условия были им больше по душе. Разрешение этого противоречия является одной из главных тем Московского периода русской истории. Произошло это разрешение лишь в середине XVII в., когда московские правители — к тому времени цари всея Руси — сумели, наконец, заставить и военно-служилый класс, и простолюдинов сидеть на месте. До этого же на Руси были оседлые правители и бродячее население. Удельный князь мог облагать податью жителей всего своего государства, но не мог указывать ее плательщикам, как им жить; у него не было подданных и, следовательно, не было публичной власти. Помимо князей, единственными землевладельцами северо-восточной Руси в средние века были духовенство и бояре. Разбор церковной собственности мы отложим до главы, посвященной церкви (Глава 9), а здесь коснемся лишь светского землевладения. В удельный период термин «боярин» обозначал светского землевладельца, или сеньора. [В начале XVII в. оно стало обозначать почетный чин, жалуемый виднейшим царским приближенным (числом не более тридцати), обладание который давало право заседать в царской Думе. Здесь и далее слово «боярин» используется в своем первоначальном смысле.] Предки этих бояр служили в дружинах киевских князей. Находя, подобно им, все меньше и меньше возможностей нажиться на заграничной торговле и грабительских набегах, они повернулись в XI-XII вв. к эксплуатации земли. Князья, будучи не в состоянии предложить им жалованье или добычу, теперь раздавали им землю из своих громадных запасов необработанной пустоши. Эта земля жаловалась в вотчину; иными словами, владелец мог отказывать ее своим наследникам. Статья 91-я «Русской Правды» (Пространная редакция), свода законов, относящегося к началу XII в., заявляет, что если боярин не оставит после себя сыновей, владения его переходят не в казну, а к дочерям; эта установка указывает, что к тому времени бояре были абсолютными собственниками своих владений. По всей видимости, бояре пользовались рабским трудом меньшие, чем князья. Большую часть земли они сдавали в аренду съемщикам, иногда оставляя небольшую ее долю себе для непосредственной эксплуатации холопами или арендаторами, отрабатывающими ренту («боярщина», позднее укороченная в «барщину»). Поместья покрупнее были копией княжеских хозяйств и, подобно им, управлялись штатом домашних слуг, организованных по «путям». Богатые бояре были практически суверенными правителями. Управители княжеского хозяйства редко беспокоили их людей; иногда это официально запрещалось им иммунитетными грамотами.
Светские вотчины были аллодиальной собственностью. По смерти владельца кое-какое имущество отказывалось вдове и дочерям покойного, вслед за чем вотчина дробилась равными долями между наследниками мужского пола. Вотчину можно было свободно продать. В позднейшее время, в середине XVI в., московская монархия ввела законодательство, дававшее роду вотчинника право выкупить в течение определенного периода (сорока лет) имущество, ранее проданное им посторонним лицам. В удельный период таких ограничений не было. Хотя бояре почти непременно отправляли военную службу (в немалой степени по той причине, что дохода со своих владений им не хватало), земля их представляла собой аллод, и они не были обязаны служить князю, на чьей территории находилось их поместье. В Киевской Руси дружина состояла из вольных людей, выбиравших себе предводителей и служивших им по своему желанию. Эта традиция уходила корнями в обычаи древних германцев, в соответствии с которыми вожди собирали вокруг себя временные отряды добровольцев (comites). Свобода выбирать себе вождя имела широкое распространение между германскими народами, включая норманнов, покуда ее не стеснили узы вассалитета. В России обычай вольной службы пережил раздробление Киевского государства и продержался весь удельный период. Положение бояр немало походило на положение гражданина современного западного государства, который платит налог на недвижимость местным властям или государству, где владеет собственностью, однако имеет законное право проживать и работать, где хочет. Юридический обычай гарантировал русским боярам право поступать на службу князю по своему выбору; они могли даже служить иноземному правителю, такому как великий князь Литовский. Княжеские договорные грамоты нередко содержали пункты, подтверждающие это право и прибегающие обыкновенно к стандартной формуле: «а боярам и слугам нашим межи нас вольным воля». Служилый человек мог покинуть своего князя практически без предупреждения, воспользовавшись своим правом «отказа». Этим обстоятельством объясняется, почему в управлении своими личными владениями удельные князья предпочитали использовать холопов и полусвободных слуг.
Обрабатываемая земля, не эксплуатируемая ни князем, ни светскими и церковными вотчинниками, являлась «черной», то есть подлежащей податному обложению (в отличие от освобожденной от оного «белой» церковной и служебной земли). Состояла она по большей части из пашни, расчищенной в лесу крестьянами по своей инициативе, однако в эту категорию нередко включались и города и торговые пункты. Крестьяне были организованы в самоуправляющиеся общины, члены которых сообща занимались большой частью полевых работ и раскладывали между собой податные обязательства. Юридический статус черной земли был довольно двусмысленным. Крестьяне вели себя так, как будто она была их собственностью, продавали ее и передавали по наследству. Юридически, однако, она им не принадлежала, о чем свидетельствует тот факт, что земля крестьян, умерших, не оставив мужского потомства, присоединялась к владениям князя, а не передавалась потомкам женского пола, как происходило с боярской землей. Черные крестьяне были в любом смысле вольными людьми и могли переселяться, куда хотели; как славно говорили в то время, перед ними простирался через всю Россию «путь чист, без рубежа». Подати, которые они платили князю, являлись по сути дела формой ренты. Периодически их навещали слуги с княжеского двора, а так они жили замкнутыми независимыми общинами. Они, как и бояре, не были подданными князя, но его арендаторами, и отношения между ними носили скорее частный (хозяйственный), нежели чем публичный (политический) характер.
Из всего, сказанного об удельном княжестве, должно быть очевидно, что публичная власть средневекового русского князя, его imperium, или jurisdictio, отличалась крайней слабостью. У него не было способа принудить кого-либо, кроме своих холопов и слуг, исполнять свою волю; а любой другой человек — ратник, крестьянин, купец — мог уйти от него и перебраться из этого княжества в чье-нибудь еще. Иммунитетные грамоты, первоначально дававшиеся для привлечения переселенцев, в конечном итоге привели к выводу из княжеской юрисдикции большой части жителей церковных и светских вотчин. Вся реальная власть удельного князя вытекала из его собственности на землю и холопов, то есть из его положения, которое римское право определило бы как статус dominus'a. Именно по этой причине можно сказать, что российская государственность с самого начала приобрела решительно вотчинный характер, корни которого лежат в отношениях не между государем и подданными, а между сеньором и полусвободной рабочей силой его поместья.
Северо-восточная Русь удельного периода во многих, отношениях напоминает феодальную Западную Европу. Мы видим здесь то же самое раздробление государства на небольшие, замкнутые, полусуверенные ячейки и замену публичного порядка личными отношениями. Мы также находим здесь некоторые знакомые феодальные институты, такие как иммунитеты и манориальное судопроизводство. Исходя из этих сходных черт, Н. П. Павлов-Сильванский утверждал, что между XII и XVI вв. в России существовал строй, являвшийся, с мелкими вариациями, феодальным в самом полном смысле этого слова. [Суммируется в его Феодализм в древней Руси, СПб. 1907. Блестящая критика данной позиции и анализ всей проблемы российского «феодализма» содержится в П. Б. Струве. «Наблюдения и исследования из области хозяйственной жизни и права древней Руси», Сборник Русского Института в Праге, 1929. I, стр. 389-464] Эта точка зрения сделалась обязательной для коммунистических историков, однако ее не разделяет подавляющее большинство современных ученых, не стесненных цензурными путами. Как и во многих других спорных вопросах, много зависит здесь от того, какой смысл вкладывается в то или иное понятие, а это, в свою очередь, зависит в данном случае от того, ищет исследователь сходные черты или отличия. На протяжении последних десятилетий широко распространился обычай вкладывать в исторические понятия насколько возможно широкий смысл с тем, чтобы уместить в одну рубрику явления из истории самых разных народов и эпох. Там, где строят историческую социологию или типологию исторических институтов, и в самом деле, видимо, можно не без пользы употребить «феодализм» как термин, обозначающий любой строй, характеризующийся политической раздробленностью, частным правом и натуральным хозяйством, основанным на несвободной рабочей силе. В таком толковании «феодализм» представляет собой распространенное историческое явление; можно сказать, что в свое время через него прошли многие страны. Если же, однако, пытаться установить, что именно обусловило такое разнообразие политических и общественных институтов, существующих в современном мире, то от применения столь широкого термина проку будет немного. В частности, чтобы узнать, отчего в Западной Европе сложилась система институтов, отсутствующих в других местах (если только их не завезли туда европейские эмигранты), необходимо выделить черты, отличавшие феодальную Западную Европу от прочих «феодальных» обществ, после чего становится очевидным, что некоторые элементы западноевропейской разновидности феодализма нельзя обнаружить в других местах, даже в таких странах, как Япония, Индия и Россия, прошедших через долгие периоды падения централизованной власти, господства частного права и отсутствия рыночного хозяйства.
Западноевропейский феодальный строй можно свести к трем элементам: 1. политической раздробленности; 2. вассалитету; и 3. условному землевладению. Мы найдем, что эти элементы в России либо вообще не существовали, либо, если и имелись, то выступали в совершенно ином историческом контексте и привели к диаметрально противоположным результатам.
(1) После Карла Великого политическая власть на Западе, в теории принадлежавшая королю, была присвоена графами, маркграфами, герцогами, епископами и прочими могущественными феодалами. De jure, статус средневекового западного короля как единственного богопомазанного властителя не оспаривался даже тогда, когда феодальный партикуляризм достиг своего зенита; однако была подорвана его способность пользоваться номинально находившейся в его распоряжении властью. «Теоретически феодализм никогда не упразднял королевской власти; на практике же могущественные сеньоры, если можно так выразиться, вынесли королевскую власть за скобки». [Jean Touchard, Histoire des idees politiques (Paris 1959), I, стр 159]
Того же нельзя сказать про Россию, по двум причинам. Во-первых, Киевское государство, в отличие от империи Карла Великого, не прошло периода централизованной власти. Таким образом, в удельной Руси не могло быть никакого номинального правителя с законными притязаниями на монополию политической власти; вместо этого там имелась целая династия мелких и крупных князей, обладавших одинаковыми правами на королевский титул. Здесь нечего было «выносить за скобки». Во-вторых, ни одному средневековому русскому боярину или церковному иерарху не удалось присвоить себе княжеской власти; раздробление происходило из-за умножения князей, а не из-за присвоения княжеских прерогатив могущественными вассалами. Как будет отмечено в главе Третьей, эти два взаимосвязанных обстоятельства имели глубокое влияние на процесс становления царской власти в России и на характер русского абсолютизма.
(2) Вассалитет представлял собою личностную сторону западного феодализма (так же, как условное землевладение являло собою его материальную сторону). Он был договорными отношениями, в силу которых властитель обязывался предоставить содержание и защиту, а вассал отвечал обещанием верности и службы. Взаимные обязательства, скрепленные церемонией коммендации, воспринимались заинтересованными сторонами и обществом в целом весьма серьезно. Нарушение условий договора любой из сторон аннулировало его. С точки зрения развития западных институтов следует особо выделить четыре аспекта вассалитета. Прежде всего, он представлял собою персональный договор между двумя лицами, имеющий силу лишь в течение их жизни; он прекращал свое действие по смерти одного из них. Он подразумевал личное согласие: вассальные обязательства не переходили по наследству. Наследственный вассалитет появился только в конце феодальной эры; считают, что он был одной из важнейших причин упадка феодализма. Во-вторых, хотя первоначально вассалитет являлся договором между двумя лицами, благодаря умножению числа вассалов он создал целую сеть взаимоотношений между самыми разными людьми; побочным продуктом его было установление прочных социальных уз между обществом и правительством. В-третьих, обязательства вассалитета распространялись на его сильнейшую сторону — сеньора — ничуть не в меньшей степени, чем на слабейшую -г вассала. Невыполнение сеньором своих договорных обязательств освобождало вассала от необходимости соблюдать свои. «Своеобразие [западного феодализма],— писал Марк Блох (Маrc Bloch), сравнивая его с одноименным периодом в Японии,— заключалось в том, что он придавал огромное значение понятию договора, обязательного для властителей; и таким образом, хотя по отношению к бедным он носил угнетательский характер, он воистину оставил в наследство нашей западной цивилизации нечто, что мы и по сей день находим вполне привлекательным». [Feudal Society (London 1961). р 452] Этим нечто, разумеется, было право — идея, которая в свое время привела к учреждению судов, сперва как средства разрешения тяжб между правителем и вассалом, а впоследствии как постоянного элемента общественной жизни. Конституции, которые в конечном итоге есть лишь обобщенные формы феодального договора, происходят от института вассалитета. В-четвертых, помимо своей юридической стороны, феодальный договор имел и нравственный аспект: в дополнение к своим конкретным обязательствам правитель и вассал обещали проявлять по отношению друг к другу добрую волю. Хотя эта добрая воля представляет собой весьма расплывчатую категорию, она явилась важным источником западного понятия гражданственности. Страны, в которых вассалитет либо отсутствовал, либо означал лишь односторонние обязательства слабых по отношению к сильным, с великим трудом пытаются вселить в своих чиновников и население то чувство общего блага, в котором западные государства всегда черпали немалую долю своей внутренней силы.
Что же мы видим в России? Вассалитета в истинном смысле слова нет и в помине. [Вассалитет существовал в Литовской России. Иногда князья н бояре из района Волги-Оки, пользуясь правом выбирать себе господина, становились под защиту великого князя Литовского и заключали с ним договоры, делавшие их его вассалами. Пример такого договора между великим князем Иваном Федоровичем Рязанским и Витольдом, великим князем Литовским, заключенного ок. 1430 г., можно найти в книге под ред. А. Л. Черепнина, Духовные и договорные грамоты великих удельных князей XIV-XVI вв., М.-Л,, 1950, стр. 67-68. В северо-восточной Руси таких договоров, кажется, не знали.] Русский землевладельческий класс — боярство — должен был носить оружие, но не был обязан служить какому-либо конкретному князю. В отношениях между князем и боярином не было и следа взаимных обязательств. На западной церемонии коммендации вассал опускался на колени пред своим господином, который символическим защитительным жестом покрывал его руки ладонью, поднимал его на ноги и обнимал его. В средневековой России соответствующая церемония заключалась в клятве («целовании креста») и земном поклоне боярина князю. Хотя иные историки утверждают, что отношения между князьями и боярами регулировались договором, тот факт, что из русских (в отличие от литовских) земель до нас не дошло ни единого документа такого рода, заставляет нас всерьез усомниться в их существовании. В средневековой России отсутствуют свидетельства взаимных обязательств, лежавших на князе и его слугах, и, таким образом, какого-либо намека на юридические и нравственные «права» подданных, что не порождало особой нужды в законоправии и суде. Ущемленному боярину некуда было обращаться за справедливостью; у него был единственный выход — воспользоваться своим правом перехода и переметнуться к другому господину. Следует признать, что свобода отделения — «право», которым боярин, можно сказать, и в самом деле обладал,— есть основополагающая форма личной свободы, которая, на первый взгляд, должна была способствовать складыванию в России свободного общества. Однако свобода, которая не зиждется на праве, неспособна к эволюции и имеет склонность обращаться против самой себя; это акт голого отрицания, по сути своей отвергающий какие-либо взаимные обязательства и просто крепкие отношения между людьми. [После 1917 г. русские и подчиненные им народы уяснили это дорогой ценой. Щедрые ленинские обещания крестьянам, рабочим и национальным меньшинствам, позволявшие им взять в свои руки землю и промышленность и пользоваться неограниченным правом на самоопределение (обещания, дававшие крайнюю степень свободы, но неоговоренные в законе и незащищенные судом), в конечном итоге привели к совершенно противоположным результатам.]
Способность бояр покидать своих князей, когда им заблагорассудится, понуждала и князей вести себя так, как им заблагорассудится; и, поскольку в конечном итоге росла-то именно княжеская власть, боярам не единожды пришлось раскаиваться в этом своем драгоценном «праве». Когда Москва покорила всю Русь, и больше не оставалось независимых удельных князей, под чью власть можно было бы перебраться, бояре обнаружили, что оказались вообще без всяких прав. Тогда им пришлось взвалить на себя весьма тяжелые служебные обязательства, не получая ничего взамен. Хроническое российское беззаконие, особенно в отношениях между стоящими у власти и их подчиненными, проистекает в немалой степени из отсутствия какой-либо договорной традиции вроде той, что была заложена в Западной Европе вассалитетом.
Следует указать и на то, что в России не знали иерархии феодального подчинения. Бояре поступали на службу только к князьям, и хотя те из них, кто был по-богаче, имели иногда своих собственных «вассалов», отсутствовали разветвленные узы верности между князем, боярином и вассалом боярина и, следовательно, не существовало всей сложной сети взаимозависимости, столь характерной для западного феодализма и столь важной для политического развития Запада.
(3) Материальной стороной западного феодализма был феод, то есть собственность (земля или должность), временно жалуемая вассалу в качестве вознаграждения за службу. Хотя современные ученые не считают больше, что почти вся земля в феодальной Европе находилась в условном держании, никто не ставит под сомнения того факта, что феод тогда был господствующей формой землевладения. Практика предоставления собственности в условное владение служилому классу известна и в других местах, однако сочетание феода с вассалитетом есть уникально западноевропейское явление.
До самого недавнего времени полагали, что какая-то форма условного землевладения была известна и в России, по крайней мере в 1330-х гг., когда Иван Калита вставил; в свою духовную грамоту абзац, ссылавшийся, казалось, на такой вид землевладения. Однако крупнейший знаток средневекового землевладения в России С. В. Веселовский, показал, что эта точка зрения основывается на превратном прочтении текстов и что на самом деле первые русские феоды — поместья — появились лишь в 1470-х гг. в покоренном Новгороде. [Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.-Л., 1947, I, стр. 264, 283] До того времени Россия знала единственную форму землевладения — аллод (вотчину), не связанный с несением службы. Отсутствие в удельной Руси какой-либо формальной зависимости между землевладением и несением службы означало, что там отсутствовала коренная черта того феодализма, который практиковался на Западе. Условное землевладение, появившееся в России в 1470-х гг., было не феодальным, а антифеодальным институтом, созданным абсолютной монархией с целью разгрома класса «феодальных» князей и бояр (см. ниже, Глава 3). «Когда они [вольные люди в России] были вассалами, у них не было еще государева жалованья, или по крайней мере не было fiefs-terre, т. е. они сидели, главным образом, на своих вотчинах (аллодах),— пишет Петр Струве.— А когда у них явились fiefs-terre, в форме поместий, они перестали быть вассалами, т. е. договорными слугами». [Струве, «Наблюдения», стр. 415. Струве использует термин «вассалитет» идиосинкразически для обозначения службы, несомой добровольно, а не под принуждением.]
В удельной Руси был институт, соответствовавший западному fief-office,— «кормления», как назывались административные должности в провинции. Назначения такого сорта, однако, всегда делались на ограниченный срок (максимум два-три года) и не могли сделаться наследственной собственностью своих держателей, как часто случалось с западным fief-office. По сути дела, они представляли собой вознаграждение, выдаваемое преданным слугам заместо денег, которых русским князьям вечно сильно не доставало.
Отсутствие в России феодальных институтов западноевропейского типа в значительной мере обусловило отклонение политического развития этой страны от столбовой дороги, которой шла Западная Европа. Феодализм часто рассматривают как строй, органически противоречащий государственности; в обыденной речи понятие «феодальный» подразумевает замкнутость, дезорганизацию, недостаток гражданственности. Такое толкование, сделавшееся популярным благодаря Французской революции и либеральным публицистам XIX в., не разделяется современными историками. Последние принимают во внимание скрытые центростремительные тенденции, присущие западному феодализму, и огромный вклад, внесенный им в становление современной государственности. Вассалитет показал себя превосходным заместителем государственной власти во время ее упадка, а местами и исчезновения вслед за развалом империи Каролингов. Когда западные короли неспособны были больше пользоваться публичной властью территориальных правителей, у них все еще оставалась кое-какая власть благодаря личным обязательствам, данным им вассалами. Поначалу феодальная власть распространялась лишь на вассалов, лично присягнувших на верность королю (vassi dominici), однако в ряде западных стран она в конце концов распространилась и на вассалов вассалов. Таким образом, путем постройки иерархии феодальной зависимости возник порядок подчиненности, который, даже будучи по своему происхождению частным и договорным, функционировал наподобие порядка публичного и обязательного. И именно из феодальных институтов выросли некоторые из важнейших политических институтов современного государства. Феодальная curia regis, первоначально бывшая собранием королевских вассалов, созванных, чтобы помочь королю советом, которого он как господин имел право у них испрашивать, в XIII в. сделалась во Франции центральным органом королевского правительства, пользующимся услугами платных чиновников. В XIII в. Генеральные Штаты во Франции и в Англии превратились из нерегулярных съездов, созываемых в периоды чрезвычайного положения, в парламенты, которые сделали свою былую обязанность своим правом. Точно так же и судебная система Англии и Франции, выросла из феодального института, а именно права вассала на публичный суд, творимый не его господином, а третьим лицом. Таким образом, невзирая на все свои противовластные тенденции, феодализм предоставил в распоряжение западных монархов прекрасный набор орудий, при помощи которых они сумели укрепить свою власть и устроить централизованные государства. Державная власть над личностью вассалов и контроль над их феодами могли сделаться (а местами и действительно стали) средством установления державной власти над всем народом и населяемой им территорией. Правители Германии и Италии не смогли как следует воспользоваться этим орудием; властителям Англии, Франции и Испании это удалось, и, начиная с 1300 г., они заложили основания мощных централизованных государств. В этих трех странах феодализм послужил колыбелью, в которой было выпестовано современное государство. [Вклад феодализма в формирование современного государства является темой книги Heinrich Mitteis lehnrecht and Slaatsgewalt (Weimar 1933)]
Русский удельный князь, не имевший в своем распоряжении вассалитета и условного землевладения, находился в весьма невыгодном положении по сравнению с западным королем. Он был хозяином лишь в своем собственном поместье. Вполне естественно, в таком случае, что накопление земли становилось его навязчивой идеей. Он покупал землю, выменивал ее, брал в приданое и захватывал силой. Из-за этой страсти, усугублявшей и без того недурно развитые у них приобретательские инстинкты, более честолюбивые удельные князья превращались в обыкновенных дельцов.
По этой причине, когда идеи «государства» и «суверенитета» пришли наконец в Россию (это случилось в XVII в.), их инстинктивно воспринимали сквозь вотчинную призму. Московские цари смотрели на свою империю, раскинувшуюся от Польши до Китая, глазами вотчинников — более или менее так же, как глядели некогда их предки на свои крошечные уделы. Привычка рассматривать царство и его обитателей с позиций собственника крепко укоренилась в сознании российских правителей и служилого класса. Когда императоры XIX в.— по воспитанию люди насквозь западные — твердо отказывались даровать стране конституцию, они вели себя в каком-то смысле подобно обыкновенным собственникам, опасающимся, что создание юридического прецедента поставит под угрозу их права на имущество. Последний русский государь Николай II по темпераменту идеально подходил на роль конституционного монарха. И, тем не менее, он не мог пойти на предоставление конституции, а когда его к тому вынудили, не умел соблюсти ее, ибо смотрел на самодержавную власть как на род доверительной собственности, которую долг повелевает ему передать наследнику в неприкосновенности. Вотчинное умонастроение составляло интеллектуальную и психологическую основу авторитарности, присущей большинству русских правителей и сводившейся по сути дела к нежеланию дать «земле» — вотчине — право существовать отдельно от ее владельца — правителя — и его «государства».
Свойства, отличавшие внутреннее развитие ранней русской государственности,— необыкновенно глубокая пропасть между держателями политической власти и обществом и собственническая, вотчинная манера отправления державной власти,— были усугублены сокрушительным внешним событием — монгольским завоеванием 1237-41гг. Со времени своего поселения в Восточной Европе славяне приучились относиться к набегам кочевников как к неизбежному. К началу XIII в. они даже сумели установить с некогда вселявшими в них ужас половцами modus vivendi, начали вступать с ними в браки и участвовать в совместных военных предприятиях. Но у них всегда оставались и леса, куда можно было отойти в случае опасности. Кочевники редко забирались туда надолго, и славянские поселенцы, обрабатывавшие землю в районе Волги-Оки, не говоря уж о жителях отдаленных новгородских земель, были относительно ограждены от них. Поэтому появление монгольских всадников в лесных дебрях зимой 1236-1237 гг. явилось великим потрясением, следы которого и по сей день не вполне стерты в сознании русского народа. То были передовые разъезды большой армии под предводительством Батыя, внука Чингисхана, получившего в наследство часть всемирной монгольской империи, лежащую в направлении заходящего солнца. Воины Батыя не были просто мародерами в скоротечном набеге: они представляли собою превосходную боевую силу, пришедшую покорить и остаться на всегда. Главные силы их войска проникли в русский лес весной 1237 г., «как тьма, гонимая облаками», по выражению араба, видевшего их набег в другом месте. В 1237-1238 гг., а затем снова в 1239-1241 гг. они разорили русские города и деревни, вырезав всех, кто осмелился оказать им сопротивление. Из больших городов один Новгород избежал разгрома благодаря весеннему половодью, сделавшему его болотистые окрестности непроходимыми для монгольской конницы. Спалив дотла Киев, захватчики направились на запад. Они, вероятно, завоевали бы и Западную Европу, если бы летом 1242 г., когда они стояли лагерем в Венгрии, их не настигла весть о смерти Чингисхана, вслед за чем они повернули назад в Монголию и с тех пор больше не возвращались.
Северо-восточная Русь и Новгород теперь сделались данниками одного из ответвлений монгольской империи, так называемой Золотой Орды, центром которой был Сарай в нижнем Поволжьи (Литва, имевшая значительное русское население, избежала этой участи). [Покорившее Русь войско возглавлялось монголами, однако ряды его состояли в основном из людей тюркского происхождения, в обиходе известных под именем татар. Золотая Орда мало-помалу «отюрчилась», или «отатарилась», и по этой причине часто говорят о «татарском иге»] Монголов не интересовала земля, а уж тем более лес; им надобны были деньги и рекруты. Вместо того, чтобы оккупировать Русь, как они поступили с более богатыми и культурными Китаем и Ираном, они обложили ее данью. В 1257 г. с помощью привезенных китайских специалистов они провели первую всеобщую перепись населения Руси и, исходя из нее, разложили обязательства по выплате дани. Как и в Китае, основной единицей налогообложения был двор. В дополнение к этому на все товары, обмениваемые посредством торговли, был наложен налог с оборота («тамга»). Каждый город был обязан брать на постой монгольских чиновников с вооруженной стражей, занимающихся сбором дани и тамги, набором рекрутов (по большей части детей) и вообще блюдущих интересы своих хозяев. Нечем было удержать этих эмиссаров и их стражу от измывательств над населением. Русские летописи полнятся описаниями учиненных монголами зверств. Иногда население возмущалось (например, в Новгороде в 1257-1259 гг. и в ряде городов в 1262 г.), однако такое неповиновение неизменно каралось с крайней жестокостью. [Я не хочу создать впечатления, что монголы и тюрки Золотой Орды были всего лишь свирепыми варварами. В это время они почти во всех отношениях культурно стояли выше русских; еще в 1591 г. так отзывался о них английский путешественник Джайлс Флетчер (Giles Fletcher). Однако, как убедительно продемонстрировали во время Второй мировой войны немцы и японцы, люди, стоящие на высоком культурном уровне у себя в стране, способны вести себя на завоеванных землях вполне отвратительно. Чем резче культурные различия между завоевателем и покоренным, тем более склонен первый считать своих жертв недочеловеками и обращаться с ними соответственно. Как гласит японская пословица: «На чужой стороне у человека нет соседей»].
Монгольский хан сделался первым бесспорным личным сувереном страны. В русских документах после 1240 г. он обычно именуется «царем», или «цезарем», каковые титулы прежде того предназначались императору Византии. Ни один князь не мог вступить на власть, не заручившись предварительно его грамотой — «ярлыком». Чтобы получить ярлык, удельным князьям приходилось ездить в Сарай, а иногда даже и в Каракумы, в Монголию. Там им нужно было совершить особый ритуал — пройти в монгольских одеждах меж двух костров — и коленопреклоненно просить о грамоте на свою вотчину. Иногда их подвергали чудовищным издевательствам, и иные князья расстались в Сарае с жизнью. Ярлыки распределялись буквально с аукциона, где выигрывал тот, кто обещал больше всего денег и людей и лучше других гарантировал, что сможет держать в руках беспокойное население. По сути дела, условием княжения сделалось поведение, противоречащее тому, что можно назвать народным интересом. Князья находились под бдительным взором ханских агентов, рассеянных по всей Руси (еще в конце XV в. у них было постоянное представительство в Москве), и им приходилось выжимать и выжимать дань и рекрутов из населения, не будучи в состоянии задуматься о том, что приносят ему такие меры. Любой ложный шаг, любые недоимки могли закончиться вызовом в Сарай, передачей ярлыка более угодливому сопернику, а, быть может, и казнью. Князья, под влиянием момента выступавшие на стороне народа против сборщиков дани, немедленно навлекали на себя ханскую кару. В этих обстоятельствах начал действовать некий процесс естественного отбора, при котором выживали самые беспринципные и безжалостные, прочие же шли ко дну. Коллаборационизм сделался у русских вершиной политической добродетели. Вече, никогда не имевшее особой силы на Северо-Востоке, вслед за недолгой полосой подъема в XII в. переживало резкий упадок. Монголам, видевшим в нем хлопотное средоточие народного недовольства, вече пришлось совсем не по душе, и они толкали князей от него избавиться. К середине XIV в. за исключением Новгорода и Пскова от вече не осталось почти ничего. С ним исчез единственный институт, способный в какой-то мере обуздывать держателей политической власти.
Ученые сильно расходятся в оценке воздействия монгольского господства на Русь; некоторые придают ему первостепенное значение, другие видят в нем лишь налет на внутренних процессах, проходивших в условиях удельного, или «феодального», строя. Вряд ли, однако, можно усомниться в том, что чужеземное засилье, в своей худшей форме тянувшееся полтора века, имело весьма пагубное действие на политический климат России. Оно усугубляло изоляцию князей от населения, к которой они и так склонялись в силу механики удельного строя, оно мешало им осознать свою политическую ответственность и побуждало их еще более рьяно употреблять силу для умножения своих личных богатств. Оно также приучало их к мысли, что власть по своей природе беззаконна. Князю, столкнувшемуся с народным недовольством, чтобы добиться повиновения, стоило только пригрозить позвать монголов, и такой подход с легкостью перешел в привычку. Русская жизнь неимоверно ожесточилась, о чем свидетельствует монгольское или тюркско-татарское происхождение столь великого числа русских слов, относящихся к подавлению, таких как «кандалы», они же «кайдалы», «нагайка» или «кабала». Смертная казнь, которой не знали законоуложения Киевской Руси, пришла вместе с монголами. В те годы основная масса населения впервые усвоила, что такое государство: что оно забирает все, до чего только может дотянуться, и ничего не дает взамен, и что ему надобно подчиняться, потому что за ним сила. Все это подготовило почву для политической власти весьма своеобразного сорта, соединяющей в себе туземные и монгольские элементы и появившейся в Москве, когда Золотая Орда начала отпускать узду, в которой она держала Россию.
ГЛАВА 3. ТОРЖЕСТВО ВОТЧИННОГО УКЛАДА
Собрание множества мелких полусуверенных политических единиц в унитарное государство, управляемое абсолютным монархом, было осуществлено в России методами, отличными от тех, которые знакомы из западной истории. Как отмечалось выше, удельный порядок отличался от западного феодализма несколькими особенностями, две из которых оказали прямое влияние на процесс политического объединения России. Во-первых, в России никогда не было одного общенационального суверена (монгольский хан тут не в счет). Вместо этого в ней была единая княжеская династия, разделенная на множество соперничающих ответвлений. Во-вторых, раздробление общенациональной политической власти произошло здесь не в результате узурпации ее феодалами, а из-за раздела ее между самими князьями. По этим взаимосвязанным причинам создание унитарного государства в России происходило более сложным путем, чем на Западе. Там стояла одна главная задача: обуздание узурпаторов-феодалов и отобрание у них в пользу монарха полномочий, которыми он обладал в теории, но бессилен был воспользоваться. В России для достижения той же цели надобно было сделать два шага. Прежде всего, следовало твердо установить, кому из многочисленных Рюриковичей должно сделаться единоличным держателем верховной власти «единодержцем». Только по разрешении этого вопроса (а разрешение это должно было быть сделано силою, ибо в обычном праве наставлений на этот счет не было) — тогда и только тогда — мог победитель обратиться к более привычной задаче подавления своих соперников и приобрести также и звание «самодержца». Иными словами, в России процесс перехода от «феодальной» раздробленности требовал не одной, а двух стадий, на первой из которых князья боролись друг с другом, а на второй победоносный великий князь сражался со знатью и — в меньшей степени — с духовенством. На практике, разумеется, процесс установления «единодержавия» и «самодержавия» отнюдь не был разграничен так четко, как может показаться из этих понятий. Потребности исторического анализа, однако, делают целесообразным такое разграничение, поскольку специфичное для России движение к «единодержавной» власти многое объясняет в последующем конституционном развитии страны.
Национальное объединение России началось около 1300 г., то есть одновременно с аналогичными процессами в Англии, Франции и Испании. В то время отнюдь не казалось неизбежным, что в России сложится унитарное государство, или что столицею его сделается Москва. Нет ничего проще, чем доказывать, что случилось именно так, как должно было случиться. Это к тому же и весьма приятственное занятие, ибо оно вроде бы подтверждает то мнение, что все всегда происходит к лучшему, а это придает бодрости простому человеку и вполне устраивает его начальников. Однако у концепции исторической неизбежности имеется один дефект: она крепка задним умом, то есть хороша для писателей истории, а не для ее творцов. Если судить по поведению удельных князей, то когда началось собирание Руси, не было такого уж сильного убеждения в его желательности, а уж тем паче неизбежности. Теологические и исторические основания были подведены под этот процесс значительно позже. На самом деле нелегко было бы доказать, что Россия не могла бы пойти по пути Германии или Италии и вступить в Новое время в состоянии крайней раздробленности.
Если, однако, России суждено было объединиться, тогда в силу вышеозначенных причин эту задачу могли бы решить не Новгород и не Литва, а одно из северовосточных удельных княжеств. Здесь из первоначального княжества со стольным градом Ростовом Великим путем бесконечного деления вотчин получилось множество больших и малых уделов. После 1169 г., когда Андрей Боголюбский решил не бросать своего удела и не переезжать в Киев на великокняжеский стол (см. выше, стр. #57), титул великого князя стал связываться с его излюбленным городом Владимиром. Братья его и потомки их правили Владимиром поочередно с прямым потомством Боголюбского. Монголы уважали этот обычай, и человек, которого они сажали великим князем, одновременно принимал звание князя Владимирского, хотя как правило, и не переселялся во Владимир. При удельном порядке великокняжеский титул давал своему носителю мало власти над братьями, однако обладал неким престижем и предоставлял также право собирать подати с города Владимира и окрестных земель, по каковой причине этого звания усердно добивались. Монголы предпочитали наделять им князей, которых находили особенно услужливыми.
В соперничестве за Владимир и за великокняжеское звание верх взяли потомки Александра Невского. Невский, старший сын князя Владимирского, во время монгольского вторжения был князем Новгородским и Псковским и отличился в сражениях с немцами, шведами и литовцами. В 1242 г., после смерти отца, он ездил в Сарай на поклон к покорителю страны, где, скорее всего, просил также ярлык на Владимир. По неизвестной причине монголы доверили Владимир младшему брату Невского, а самому ему жаловали ярлык на Киев и Новгород. Он выждал время и спустя десять лет, в 1252 г., сумел уговорить хана изменить свое решение. При помощи приданного ему ханом монгольского войска он захватил Владимир, сверг брата и принял звание великого князя. Последующее поведение Невского вполне оправдало доверие, оказанное ему монголами. В 1257-1259 гг. он подавил вспыхнувшее в Новгороде народное восстание против монгольских переписчиков, а через несколько лет сделал то же самое в еще нескольких мятежных городах. Все это, наверное, весьма пришлось по душе его хозяевам. После смерти Невского в 1263 г. монголы несколько раз отбирали Владимир у его потомков и передавали его по очереди князьям Тверским, Рязанским и Нижегородским; однако потомству его всегда удавалось забрать город обратно, и в конце концов оно сделало Владимир и великокняжеское звание наследственной собственностью, вотчиной своего дома.
Невский и потомки его были обязаны своим успехом хитрой политике по отношению к завоевателю. Золотая Орда, чьими слугами они были, вышла из объединения кочевых родов и племен, собранных Чингисханом для ведения войны. Даже став большим государством, с многочисленным оседлым населением, она не располагала аппаратом, надобным для управления такой страной, как Русь, с ее просторами и разбросанным населением. Ордынские сборщики дани («баскаки») и переписчики, сопровождаемые большими дружинами, вызывали большую неприязнь в народе и провоцировали многочисленные восстания, подавляемые монголами с большой жестокостью, но, тем не менее, вновь повторявшиеся. Если бы Русь была столь же богата и культурна, как Китай или Персия, монголы безусловна просто оккупировали бы ее и сели бы править в ней сами. Но поскольку дело обстояло не так, им не было смысла самим селиться в лесу, и они предпочитали оставаться в степях с их тучными пастбищами и богатыми торговыми путями. Сперва они попробовали использовать монгольских откупщиков, однако из этого ничего не получилось, и в конце концов они порешили, что лучше самих русских дела никто не делает. Невский, а тем паче его преемники, вполне отвечали этой задаче. По ордынскому поручению они приняли на себя административную и податную ответственность за русские земли, а в награду пользовались сравнительной независимостью от монголов в своих княжествах и некоторым влиянием в Сарае; последнее оказалось весьма добрым орудием борьбы с князьями-соперниками. Покуда деньги доставлялись аккуратно, а страна оставалась в относительно замиренном состоянии, у монголов не было причин менять сложившийся порядок дел. С наибольшим успехом коллаборационистскую тактику использовали родичи Александра Невского, сидевшие, в Московском уделе, в XIII в. еще не игравшем заметной роли. Удел этот, был выкроен в 1276 г. для сына Невского Данилы Александровича. Сыну Данилы Юрию в 1317 г удалось добиться руки ханской сестры и в придачу права на Владимирское княжение. Восемь лет спустя он был убит сыном князя Тверского, которого монголы казнили по наущению Юрия; вслед за этим Москва (впрочем, без Владимира и без великокняжеского звания) перешла к его младшему брату Ивану Даниловичу, впоследствии сделавшемуся Иваном I. Новый властитель показал себя чрезвычайно даровитым и беспринципным политиканом. По подсчетам одного исследователя, он провел большую часть своего правления либо в Сарае, либо по дороге туда, из чего можно сделать вывод о размахе его сарайских интриг. [А. Н. Насонов, Монголы и Русь, М.-Л., 1940, стр. 110.] Будучи ловким дельцом (в народе его прозвали Калитой — «денежной сумой»), он нажил весьма по тем временам значительное состояние. Немалая доля его доходов поступала от дорожных сборов, которыми он обложил людей и товары, пересекающие его владения, оседлавшие несколько торговых путей. Эти деньги дали ему возможность не только быстро выплачивать свою долю дани, но и покрывать недоимки других князей. Последним он одалживал деньги под залог их уделов, которые иногда забирал себе за долги. Бедность русского земледелия и его ненадежность вносила в жизнь среднего удельного князя-данника немалый элемент риска, отдавая его на милость своего богатейшего родственника.
Самым серьезным соперником Ивана в борьбе за благосклонность монголов был князь Тверской, которому после смерти старшего брата Ивана Юрия удалось отобрать у Москвы великокняжеское звание. В 1327 г. жители Твери возмутились против монголов и вырезали группу высоких сарайских чиновников, присланных для надзора за сбором дани. Немного поколебавшись, тверской князь стал на сторону восставших. Как только весть об этом достигла Ивана, он помчался в Сарай. Возвратился он во главе объединенного монгольско-русского карательного войска, которое так разорило Тверь, а в придачу и немалую часть Средней России, что этот край не совсем оправился от разрушений и полвека спустя. В награду за верность монголы пожаловали Ивану великокняжеское звание и назначили его генеральным откупщиком по сбору дани во всей Руси. Привилегия эта безусловно обходилась недешево, поскольку из-за нее Иван стал ответчиком за недоимки других князей, однако он получил и единственную в своем роде возможность влезать во внутренние дела соперничающих с ним уделов. Контроль над данью означал, по сути дела, монополию доступа на ханский двор. Воспользовавшись этим, Иван и его преемники запретили другим князьям вступать в прямые сношения с другими государствами, включая Орду, кроме как через посредничество Москвы. Таким образом Москва постепенно изолировала своих соперников и выбралась на первый план как посредница между завоевателем и его русскими подданными. Монголам не пришлось раскаиваться в милостях, которыми они осыпали Ивана. В двенадцать оставшихся лет своей жизни он служил им не хуже своего деда Александра Невского, держа в повиновении (когда надобно, то и силою) Новгород, Ростов, Смоленск и любой другой город, который осмеливался поднять голову. Карл Маркс, которого нынешнее правительство России считает авторитетным историком характеризовал этого первого выдающегося представителя московской линии как «смесь татарского заплечных дел мастера, лизоблюда и верховного холопа.» [Karl Marx, Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century (London, 1969), p.112]
Москва извлекла из благосклонности Орды немало выгод. Монголы, часто совершавшие набеги на другие районы страны с целью грабежа и захвата пленников, склонны были уважать собственность своего главного агента, вследствие чего Московское княжество сделалось островком относительного спокойствия в стране, истерзанной постоянной резней. Чтобы заручиться защитой, которую единственно мог дать этот главный коллаборант, бояре со своими дружинниками переходили на службу к московскому князю. Pax mongolica, каковы бы ни были его темные стороны, поставил добрую часть Азии и Ближнего Востока под власть одной династии, данницей которой была Русь. Благодаря созданию этой политической общности появились широкие возможности для торговой деятельности. Именно во время монгольского господства русские купцы впервые стали пробираться до Каспийского и Черного морей и заводить торговлю с персами и турками, и именно в этот период в северо-восточных княжествах начали развиваться элементарные торговые навыки.
Москва также сильно выгадала от церковной поддержки. Высший русский иерарх Митрополит Киевский, когда Киев обезлюдел, в 1299 г. перенес свой престол во Владимир. У него были веские причины для поддержки тесных связей с Ордой, поскольку во время монгольского господства церковь и монастыри освобождались от дани и всех прочих повинностей, которыми было обложено население Руси. Эта ценная привилегия оговаривалась в грамоте, которую каждый новый хан должен был подтверждать при вступлении на власть. Для сохранения своих преимуществ церковь, разумеется, нуждалась в хорошем представительстве в Сарае. В 1299 г. распря между Тверью и Москвой не была еще разрешена, и хотя Митрополит предпочитал Москву, он счел за благо держать формальный нейтралитет и посему обосновался во Владимире Однако после тверского восстания 1327 г. и разорения города Иваном I в исходе борьбы сомневаться более не приходилось. На следующий же (1328) год митрополичий престол был перенесен из Владимира в Москву, которая с этого времени сделалась центром русского православия и «святым городом». Во всех последующих усобицах по поводу великокняжеского звания церковь верно поддерживала притязания Москвы, а та в благодарность жаловала, ей крупные земельные владения, пользовавшиеся закрепленными в особых грамотах иммунитетами.
Хотя сильный приобретательский дух владел всеми удельными князьями, московские князья, по-видимому, унаследовали выдающиеся деловые способности, оказавшиеся большим преимуществом в эпоху, когда политическая власть в значительной мере воспринималась и измерялась как имущество. Они собирали деревни, города и промыслы с целеустремленностью сегодняшних монополистов, вознамерившихся взвинтить цены путем скупки какого-либо товара. Они не упускали ни малейшей возможности сделать прибыль и торговали восточными коврами, драгоценными камнями, пушниной, воском и любым другим ходким товаром. Они продолжали заниматься этим даже после того, как предъявили притязания на императорский титул, чем всегда немало изумляли бывающих в Кремле иноземцев. Как будет показано ниже (Глава 8), в XVI и XVII вв. московские цари имели практически полную монополию на оптовую торговлю страны, равно как и на промышленность и горное дело. У некоторых из них корыстолюбие достигало необыкновенных пределов: Иван III, к примеру, требовал, чтобы иноземные послы возвращали ему шкуры, овец, которых он посылал им к столу. [С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. М.. I960. III, стр 146-7]. Они богатели, пеклись о своем богатстве и предпринимали всяческие предосторожности, чтоб потомки их не промотали скопленное ими состояние. На свое счастье, князья московские, как правило, жили долго; за почти два столетия между вступлением на царствие Василия I (1389 г.) и смертью Ивана IV (1584 г.) в Москве перебывало всего пять правителей — по тем временам замечательное долгожитие.
Ловкость, с которой князьям московским удалось нейтрализовать наиболее пагубную установку русского наследственного права, объясняется скорее их деловой хваткой, нежели наличием какого-то политического замысла (существование которого не подтверждается никакими свидетельствами). Они не могли совсем игнорировать обычай, требовавший, чтобы каждый наследник мужского пола получал равную долю вотчины, однако им удалось без лишнего шума обойти его. Духовные грамоты их читаются, как помещичьи завещания, и даже Москва и великокняжеское звание передаются по наследству, как простой товар. Однако богатство и власть Москвы настолько сильно зависели от ее отношений с Ордой, что от них скоро не осталось бы и следа, если бы в московском княжестве не позаботились об учреждении какого-то порядка старшинства. Так, уже в ранний период московские князья стали в своих духовных оказывать предпочтение старшему сыну, увеличивая его долю с каждым поколением, пока, наконец, к началу XVI в. он не сделался несомненным главой дома. Дмитрий Донской (ум. в 1389 г.) разделил свою вотчину между пятью сыновьями, оставив старшему, Василию I, назначенному им великим князем, примерно треть ее и предписав ему выплачивать 34,2% монгольской дани. Василий I отказал все единственному пережившему его сыну — Василию II. Как будто стремясь оградить положение Василия II как единственного наследника от покусительств со стороны своих собственных братьев, Василий I посадил его на княжение еще когда был жив сам. Когда пришла пора ему умирать, Василий II отказал своему старшему сыну Ивану III столько же городов, сколько остальным четырем сыновьям, вместе взятым. Иван III продолжил эту традицию, завещав своему старшему сыну Василию III шестьдесять шесть лучших городов из девяноста девяти имевшихся в его распоряжении; остальным четырем сыновьям пришлось поделить между собой уделы, содержащие тридцать три меньших города. Насколько была увеличена благодаря всем этим операциям доля старшего сына, можно вывести из того факта, что если при вступлении на царствование в 1389 г. Василий I должен был выплачивать 34,2% монгольской дани, причитавшейся с отцовского поместья, то ко времени вступления на престол его праправнука Василия III в 1505 г. его теоретическая доля дани (ибо к тому времени дань уже не платили) выросла до 71,7%. Таким образом, к началу XVI в. назначаемые младшим сыновьям уделы превращаются в лишь пожизненные владения и поэтому не грозят больше раздроблением семейного состояния. К этому времени вошло в обычай (как в феодальной Франции) передавать великому князю выморочные уделы. В такой форме уделы просуществовали до конца династии Рюриковичей в 1598 г. Коренное политическое преобразование — введение порядка престолонаследия по праву первородства — было совершено тихо, почти закулисно, в рамках имущественного права и через институт наследования собственности. Принятие такого порядка дало московским правителям огромное преимущество перед соперничающими князьями, продолжавшими раздроблять свои владения на равные доли между наследниками.
Как говорилось выше, завоевание Москвой безусловного первенства в России включало два процесса: внешний, целью которого было принудить все другие удельные княжества, а также Новгород и Литву, признать московского правителя своим сувереном, и внутренний, направленный на придание верховной власти вотчинного, поместного, характера, то есть на переход земли и населяющих ее жителей в полную ее собственность. Корнями своими оба эти процесса уходят в идею вотчины.
Происходили ли великие князья Владимирские из Москвы, Твери или какого-нибудь иного удельного княжества, они всегда рассматривали свои владения как вотчину, то есть свою безусловную собственность. Их власть над своими владениями может быть уподоблена власти держателя dominium'a в римском праве, определяемой как «абсолютная собственность, исключающая иные виды собственности и подразумевающая за своим обладателем право пользования, злоупотребления и уничтожения». [Raul Vinogradoff в The Legacy of the Middle Ages. C. G. Crump and E F Jacob eds. (Oxford 1926). p. 300]. Поначалу вотчинные притязания князей ограничивались городами и волостями, унаследованными или лично приобретенными ими. Однако с середины XV в., в связи с укреплением могущества московских князей и их переходом к открытой борьбе за установление верховной власти над всей Русью, значение термина расширилось и стало обнимать всю страну. Как сказали однажды литовцам послы Ивана III, «ано не то одно наша вотчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся русская земля, Киев и Смоленск, и иные городы, которые он [Великий Князь Литовский] за собою держит к литовской земле, с Божиею волею из старины, от наших прародителей, наша отчина». [M. Дьяконов, Власть московских государей, СПб, 1889. стр. 133]. Когда впоследствии Иван IV вторгся в Ливонию, которая никогда не входила в состав Киевского государства, он безо всяких колебаний стал звать вотчиной и ее.
Представление о королевстве как о личной вотчине монарха не было абсолютно чуждо и западной политической мысли. Сохранились записи о беседах Фридриха II с двумя правоведами, в которых он спрашивал их, «не является ли император по праву dominus'om всего, что принадлежит его подданным». Собеседник, у которого достало мужества ответить, полностью отверг такой взгляд: «он господин в политическом смысле, но не в смысле собственника». [Paul Vinogradoff, Roman in Medieval Europe (Oxford 1929), p. 62]. Вотчинный подход так и не укоренился на Западе, где теоретики твердо придерживались резкого разграничения между собственностью и властью, между dominium'om и imperium'om или jurisdictio. Концепция политической власти, отправляемой как dominium, представляла собою очевидную угрозу интересам частных собственников, в Западной Европе столь многочисленных и влиятельных, и одного этого хватило, чтобы сделать ее неприемлемой. Распространение знаний римского права в XII в. способствовало подведению под это разграничение твердого теоретического основания. В своих «Шести книгах о республике» (1576-1586) Жан Бодин, основатель современной теории суверенитета, в дополнение к двум традиционным формам единоличной власти монархической и (ее извращение) тиранической, выделил третий тип, названный им «сеньориальным». Монархия такого рода, по его мнению, создается в результате вооруженного захвата. Отличительным признаком lа monarchie seigneuriale является то обстоятельство, что «король делается господином достояния и личности своих подданных... управляя ими наподобие того, как глава семьи управляет своими рабами». Бодин добавляет, что в Европе существуют всего два таких режима, один в Турции, а другой — в Московии, хотя они широко распространены в Азии и Африке. Он считал что народы Западной Европы такого правительства не потерпели бы. [Jean Bodin, The Six Bootes of a Commonweals (1606) (Cambridge. Mass. 1962). Book II, Ch, 2, pp. 197-204]. Речь шла, разумеется, не столько о понятиях и названиях. В основе вотчинного порядка лежала мысль о том, что между собственностью правителя и собственностью государства нет различия, тогда как в Западной Европе считалось, что такое разграничение необходимо. Начиная примерно с 1290 г. обычай во Франции требовал, чтобы король относился к имуществу короны как к неприкосновенному фонду. После 1364 г. от французских королей требовалась клятва, что они не отторгнут ни малейшей части доставшегося им при вступлении на трон королевского поместья; исключение составляли лишь государственные доходы, личное имущество и завоеванные земли. Далее, в XVI в. постановили, что завоеванные королем территории остаются в его распоряжении всего на десять лет, а потом включаются в поместье короны. [Jacques Ellul, Histoire des institutions (Paris, 1956), II, стр. 235-6, 296]. Таким образом, французские правители — наиболее авторитарные в Западной Европе — должны были отказаться от права собственности на имущество короны; даже нарушая этот принцип на практике, они не оспаривали его правомочности. Испанский правовед XV в. четко и кратко сформулировал отношение Западной Европы к «сеньориальному» или вотчинному, правлению: «Королю вверено лишь управление делами королевства, а не господство над вещами, ибо имущество и права Государства имеют публичный характер и не могут являться ничьей вотчиной». [J. H. Elliott, Imperial Spain, 1469-1716 (London 1963), p. 73]. Что же до святости частной собственности, то она была аксиомой западной политической философии и юриспруденции, начиная со Средних веков. И хотя этот принцип периодически нарушали, его правомочность никогда всерьез не ставили под сомнение, покуда не распространились социалистические учения Нового времени. Одним из стандартных критериев, использовавшихся западной мыслью для различения законного короля от деспота, было то обстоятельство, что первый уважает собственность своих подданных, а второй — нет.
В России такие возражения против «сеньориальной» формы правления неизвестны. В целом ряде писем, адресованных Ивану IV из своего литовского прибежища, князь Андреи Курбский обрушился с нападками на всю идею государства как вотчины. Однако проведенный недавно анализ переписки Ивана с Курбским ставит ее подлинность под такое сильное сомнение, что на нее нельзя больше полагаться как на источник. [Edward L. Keenan, The Kurbskii-Groznyi Apocrypha (Cambridge, Mass. 1971)]. В экономических обстоятельствах, господствовавших в России в Средние века и в начале Нового времени, институт частной собственности не мог устойчиво опереться ни на обычай, ни закон, а незнание римского права делалось серьезным препятствием для внесения этого института со стороны. Соответственно, между ролью царя как собственника и как суверена не проводилось разграничения. По мере московской экспансии новые территориальные приобретения немедленно присоединялись к вотчине великого князя и оставались при ней навсегда. Таким образом, российская монархия выросла прямо из порядка власти удельного княжества, то есть из порядка, который был рассчитан первоначально на экономическую эксплуатацию, основанную большей частью на рабском труде.
То обстоятельство, что русское государство вышло из княжеского поместья, отразилось и в происхождении его административного аппарата. К несчастью, пожар Москвы 1626 г. уничтожил большую часть архивов центральной администрации, поэтому трудно установить, когда и при каких обстоятельствах она создавалась. Однако достаточно известно для уверенного предположения, что она выросла непосредственно из учреждений, которым первоначально было поручено управление частным поместьем удельного князя. В течение долгого времени — скорее всего, до середины XVI в..— двор московского князя выполнял двойную функцию: заведования княжеским поместьем и управления остальной частью княжества. «...Вплоть до реформ 50-х и 60-х годов XVI в. общий контроль над всей системой местного управления осуществлялся не кем иным, как дворцовыми ведомствами ... которые сосредоточивали в своих руках почти все основные отрасли государственного управления того времени...». [Н. Е. Носов, Очерки по истории местного управления русского государства первой половины XVI века, .М.-Л., 1957, стр. 322; си. затем у А. А. Зимина в Исторических записках, Э63, 1958. стр. 181].
Особенно замечательную эволюцию претерпели исполнительные органы московского управления — приказы. Этимологию термина «приказ» следует искать в языке удельного княжества: как уже отмечалось (стр. #67), «приказные люди» были домашними рабами и княжескими служащими, выполнявшими функции управления в больших поместьях, как княжеских, так и частных. Приказ — это название учреждения, возглавлявшегося таким управителем. Московские приказы, насколько можно понять, за самым малым Исключением были впервые созданы лишь во второй половине XVI в., то есть через добрую сотню лет после того, как Москва сделалась столицей царства. До этого времени служившие князю управители — дворецкий и путные бояре — продолжали; когда на то была нужда, нести публичные административные функции за пределами княжеского поместья. По мере завоевания и присоединения к Москве других уделов дворы низложенных князей переносились в Москву и восстанавливались там как новые административные единицы; так появились там особые ведомства для управления Рязанью, Новгородом и прочими областями. Каждый из этих областных приказов представлял собою как бы отдельное правительство, имеющее всю полноту власти на вверенной ему территории. Подобным же образом распорядились в XVI в. с завоеванным Казанским царством, а в XVII в. с Сибирью. Таким образом, наряду с чисто функциональными приказами в Москве появились ведомства, построенные по территориальному принципу. Такая система управления не давала ни одной области царства возможности создать органы самоуправления или хотя бы приобрести начатки политического самосознания. Как пишет П. Н. Милюков:
При самом начале развития наших учреждений мы наталкиваемся на огромную разницу с западом. Там каждая область была плотным замкнутым целым, связанным особыми правами... Наша история не выработала никаких прочных местных связей, никакой местной организации. Немедленно по присоединении к Москве, присоединенные области распадались на атомы, из которых правительство могло лепить какие угодно тела; Но на первый раз оно ограничилось тем, что каждый такой атом разъединило от соседних и привязало административными нитями к центру. [П. Н. Милюков, Очерки по истории русской культуры, 6-е изд., СПб. 1909, ч 1, стр. 197].
Все это, разумеется, в значительной степени обусловило отсутствие в царской и императорской России каких-либо сильных местных средоточий власти, могущих потягаться со столичным правительством.
Взамен переведенной в Москву местной администрации двор московского князя открывал отделения в главных городах покоренных княжеств. Они отправляли частные и публичные функции точно так же, как некогда княжеский двор внутри удельного княжества. Под напором административных забот, множившихся по мере беспрерывного территориального расширения Москвы, дворцовое управление князя преобразовалось в «Приказ Большого Дворца». Этот безусловно важнейший приказ является первым таким ведомством, о котором у нас имеются твердые сведения. И все равно экспансия Москвы проходила столь стремительно, что потребности управления превосходили возможности княжеского дворцового штата, поэтому со временем начала зарождаться рудиментарная государственная администрация, отделенная от княжеского двора. Сперва появился Казенный приказ, а впоследствии своими собственными ведомствами обзавелись и другие управители. [Здесь я в основном следую за А. К. Леонтьевым, Образование приказной системы управления в русском государстве, М., 1961].
На всем протяжении своего развития московская администрация сохраняла следы поместной системы управления, из которой выросла. Как и удельные пути (стр. #66), московские приказы были организованы в соответствии с источниками дохода, а не с какими-то принципами публичной ответственности. А причина этого лежала в том, что, как и поместное управление, они были созданы для извлечения товаров и услуг. И, как и прежде, каждому приказу были предоставлены собственные источники существования, и каждый из них чинил суд и расправу над людьми, находившимися в пределах его компетенции. Эти пережитки удельного периода просуществовали в русской системе управления до того момента, когда Петр I, следуя западным образцам, ввел принцип административного рационализма и учредил национальный бюджет.
На Западе государственная машина также выросла из аппарата, управлявшего королевскими поместьями. В России, однако, поместные учреждения превратились в государственные необычайно поздно. Во Франции это разделение завершилось к XVI в., а в России оно началось только в XVIII в. Такая задержка приобретает немалое значение, если вспомнить, что национальные государства стали складываться в обеих странах примерно в одно и то же время, то есть около 1300 г. Во-вторых, в России различие между поместной и публичной сферами всегда оставалось довольно нерезким, что не могло не наложить отпечатка на поведение управителей. Западный феодализм создал ряд учреждений (суд, curia regis, Генеральные Штаты) которые самим фактом своей отделенное от управления королевского двора укрепляли ощущение публичного порядка. Английский теоретик конституционного права XVI в. Томас Смит хорошо выразил это, сказав, что суверенитет есть результат слияния короля и народа, происходящего, когда заседает парламент. В России государственное управление выросло не из сознания, что князь и государство — это разные вещи и нуждаются поэтому в раздельных учреждениях, а скорее из того, что штат княжеского двора был больше не в состоянии один справиться с задачей управления. Представление о том, что правитель и государство отнюдь не тождественны (естественное в любой стране с феодальным прошлым), появилось в России лишь в XVIII в. под влиянием западных теорий. Но к этому времени политические взгляды и обычаи страны уже вполне сложились.
Другим свидетельством в пользу точки зрения о том, что московский государственный аппарат вырос из поместного управления московских князей, является метод оплаты русского чиновничества. В удельном княжестве в тех сравнительно редких случаях, когда члену княжеского двора надобно было исполнять свои обязанности за пределами поместья (например, в черноземных областях), предполагали, что его жалованье будет обеспечиваться местным населением. Соответствующие платежи делались деньгами или натурой и звались «кормлениями». Московские цари оставили этот порядок в силе. Чиновники приказов и прочих ведомств, проживающие в Москве и служащие под непосредственным началом суверена, получали содержание из царской казны. Однако провинциальной администрации никаких денег не отпускалось, и ее представители получали кормления в виде регулярных платежей, а также платы за выполнение конкретной работы. Этот порядок также продержался до Петра, который ввел регулярное жалованье для государственных чиновников. Однако поскольку финансовые затруднения ближайших преемников Петра принудили их временно прекратить выплату жалованья, послепетровская бюрократия снова начала жить за счет кормлений. Таким образом, и по своей организации, и по способу вознаграждения трудов своих чиновников Московское государство следовало обычаям удельного княжества, что убедительно указывает на его происхождение из княжеского поместья.
Этот тезис, кроме того, подтверждается неумением русских провести теоретическое или практическое различие между тремя типами собственности: собственностью, принадлежащей лично монарху, собственностью государства и собственностью частных лиц. В удельный период частная собственность на землю признавалась в форме вотчины. Но, как будет показано в следующей главе, в XV и XVI вв. московской монархии удалось ликвидировать аллоды и обусловить светское землевладение несением государственной службы. И лишь в 1785 г., при Екатерине II, когда русским землевладельцам удалось заручиться четко выраженными юридическими правами на свои поместья, в России снова появилась частная собственность на землю. В свете этого нечего удивляться, что такое разграничение между собственностью короля и собственностью короны, которое проводилось во Франции со времен позднего средневековья, в России стало признаваться очень поздно:
...ни в Москвском уделе, ни в великом княжении Владимирском, в котором утверждается та же московская линия князей, ни в Московском государстве мы не находим ни малейших указаний на наличность государственных имуществ, которые отличались бы от имущества князя. В Москве есть только земельные имущества великого князя, а не государственные. Земли великого князя различаются на черные и дворцовые; последние приписаны к дворцам и несут особые повинности на их содержание; но и те и другие одинаково принадлежат государю и даже повинностями не всегда различаются. Великий князь одинаково распоряжается как теми, так и другими. Черные земли могут быть приписаны к дворцу, а дворцовые отписаны в черные. И те и другие могут быть розданы в поместья и вотчины, могут быть назначены сыновьям, княгиням, дочерям, монастырям и т. д. Наши источники не делают никакого различия между куплями государя, конфискованными им у частных людей землями и другими владениями, способ приобретения которых остался нам неизвестен. Все это безразлично называется государевыми землями и управляется на одинаковых основаниях. [В. Сергеевич, Древности русского права. 2-е изд., СП6, 1911, III, стр. 22-3].
В России первые попытки отграничить царские земли от государственных были сделаны Павлом I, учредившим Департамент Уделов для управления имуществом Романовых, доходы от которого использовались для содержания царской семьи. При Николае I это ведомство было превращено (1826 г.) в Министерство Императорского Двора и Уделов, выделявшееся тем, что не подлежало контролю со стороны Сената и прочих государственных органов, а отчитывалось лишь перед самим императором. В 1837 г. было создано Министерство Государственных Имуществ, ведавшее государственной собственностью. Прежде того поступавшие от этих двух видов собственности доходы объединялись в общий фонд. До этого же времени русские императоры, как им заблагорассудится, передавали или продавали частным лицам обширные государственные земли с сотнями тысяч крестьян. Но даже после этих реформ различия между собственностью короны и государства твердо не соблюдали. Министерство Государственных Имуществ было создано не из хорошего юридического тона, а в связи с тем, что без него миллионами государственных крестьян распоряжались из рук вон плохо. Учредивший оба вышеозначенных министерства Николай I всегда без долгих размышлений перемещал крестьян из императорских владений на государственные земли, и наоборот. То обстоятельство, что до начала XVIII в. в России не было государственного бюджета, а после 1700 г. и до 1860-х гг. он оставался строго охраняемой государственной тайной, лишь способствовало такой практике. В своем качестве вотчинника всея Руси московский правитель обращался со своим царством примерно так, как его предки обходились со своими поместьями. Идея государства отсутствовала в России до середины XVII в. и даже после своего появления не была толком усвоена. А поскольку не было концепции государства, не было и следствия ее — концепции общества. [Некоторые ученые (например, Джон Кип (John Keep) в Slavonic and East European Review, April 1970, p. 204, и Ганс Торке [Hans TorkeJ в Canadian Slavic Studies, winter 1971, p. 467) усматривают на Руси нарождающееся общество уже в конце XVII в. (Кип) н даже в середине XVI в. (Торке). Профессор Кип основывает свою точку зрения на брожении среди служилого класса, однако заключает, что его попытки добиться кое-какой свободы от государства не увенчались успехом. Свидетельства, приводимые профессором Торком, в основном указывают на то, что русское правительство в XVI в. увидело целесообразность привлечения разных сословий к управлению страной. Идея общества, как я се понимаю н как она обычно определяется на Западе, предполагает признание государством права социальных групп на юридический статус и на узаконенную сферу свободной деятельности. В России же это право было признано лишь в царствованне Екатерины II]. То, что в современном русском языке выражается словом «общество» (неологизм XVIII в.), в словаре Московской Руси обозначалось словом «земля». В Средние века этим термином называлась доходная собственность. [Г. Е. Кочин, ред., Материала для терминологического словаря древней России. М.-Л, 1937, стр. 126]. Иными словами, «земля» воспринималась главным образом не как противовес сеньору, царю, а как объект его эксплуатации. Как и везде, целью вотчинного строя на Руси была выжимка из страны всего имевшегося в ней дохода и рабочей силы. Джайлс Флетчер, поэт и государственный деятель елизаветинских времен, в 1588-1589 гг. побывавший в России и оставивший во многих отношениях лучшее из дошедших до нас описаний Московского царства, сделанных очевидцами, сообщает, что Иван IV нередко сравнивал свой народ с бородой или с отарой овец, поскольку обоих для доброго роста надобно часто стричь. [Giles Fletcher, Of the. Russe Commonwealth (London 1591), p. 41]. Неизвестно, аутентична эта метафора или ее выдумали жившие в Москве английские купцы, однако в любом случае она верно отражает дух, пропитывавший внутреннюю политику Московского правительства, да и вообще любого правительства вотчинного, или «сеньориального» типа.
На каком-то этапе московской истории вотчинное умозрение, корни которого лежали в чисто экономических представлениях, приобрело политическую окраску. Вотчинник — землевладелец сделался вотчинником-царем. Дух остался тот же, однако стал выражаться в новых формах и потребовал теоретического обоснования. Имеющихся данных недостает, чтобы точно сказать, когда и как случилась эта трансформация. Однако есть убедительные свидетельства того, что дело решилось в царствование Ивана III, когда два события одновременно освободили Москву и подвластные ей княжества от внешней зависимости и впервые позволили северо-восточной Руси почувствовать себя суверенным государством.
Одним из этих событий явился распад Золотой Орды. Порядок престолонаследия, существовавший у «белой кости» (потомков Чингисхана), отличался крайне запутанной системой старшинства, больше подходившей для племенной организации кочевого народа, чем для империи, и вызывавшей бесконечные междоусобицы. В 1360-х гг. соперничающие между собой кучки претендентов учинили в Орде великий разброд; на протяжении последующих двадцати лет в Сарае пересидело по меньшей мере четырнадцать ханов. Москва пользовалась этими распрями и натравливала соперников друг на друга. В 1380 г. Дмитрий князь Московский даже отважился выступить против монголов с оружием в руках. Верно, что он пошел всего-навсего против крымского хана-узурпатора; также верно, что одержанная им на Куликовом поле победа имела небольшое военное значение, поскольку два года спустя монголы отомстили за неудачу и разорили Москву. И тем не менее, Куликовская битва показала русским, что они могут тягаться со своими хозяевами.
Орда, уже резко ослабевшая из-за усобиц, получила решающий удар от Тимура (Тамерлана). Со своего опорного пункта в Средней Азии тюркский завоеватель предпринял с 1389 по 1395 г. три кампании против Орды, и во время последней войска его разрушили Сарай. Орда так и не оправилась от этих ударов. В середине XV в. она распалась на несколько частей, важнейшими из которых были Казанское, Астраханское и Крымское ханства. Эти государства-преемники Орды, в особенности Крымское ханство, все еще могли без труда совершать набеги на Русь, но полной власти над ней уже больше не имели. А к концу XV в. Москва уже решала, кому из претендентов сидеть на казанском троне. В царствование Ивана III Москва перестала платить дань Орде и государствам — ее преемникам (по преданию, это произошло в 1480. г.). Другим событием, способствовавшим политизации московских правителей, явилось крушение Византийской империи. Отношения России с Византией никогда не отличались четкой определенностью. Со времени крещения Руси несомненно полагали, что она стоит, в некоей зависимости от Константинополя. Об этом не уставала напоминать греческая иерархия, любившая выдвигать теорию Юстиниана о «гармонии», или «симфонии», согласно которой церковь и императорская власть не могут существовать друг без друга. Подразумевалось, что в силу этого православные на Руси должны сделаться подданными византийских императоров, но осуществить эти притязания не было никакой возможности, а во время монгольского господства они вообще сделались бессмысленными, ибо императором Руси в ту пору был большой нехристь — монгольский хан. Византия имела кое-какой контроль над Русью через духовенство, то есть через назначения на высокие иерархические должности, делавшиеся или утверждавшиеся Константинополем. Но даже эта нить порвалась после 1439 г., когда Русь отвергла унию Византии с католиками, заключенную на Флорентийском Соборе. Великие князья Московские, исходившие из убеждения, что Византия совершила во Флоренции грех вероотступничества, с тех пор стали назначать своих собственных митрополитов, не утруждая себя больше испрашивать одобрение греческой иерархии. Так или иначе, все притязания, которые византийский император и византийская церковь могли иметь на власть над Русью, потеряли значение в 1453 г., когда Константинополь был захвачен турками, и императорская линия пресеклась.
После падения Византийской империи у православной церкви были веские причины на то, чтобы способствовать созданию на Руси крепкой царской власти. Этот вопрос будет подробнее разбираться в главе, посвященной отношениям между церковью и государством (Глава 9). Здесь же следует подчеркнуть лишь главное обстоятельство. Православная церковь, стесненная магометанами, соперничающая с католиками и расшатываемая еретическими реформистскими движениями в своей собственной иерархии, боролась за свою жизнь. С падением Константинополя московский правитель стал выступать как единственный в мире православный князь, способный оградить православную церковь от сонма ее внешних и внутренних противников. Посему, чтобы выжить, надо было поддерживать московских властителей и воспитывать в этих накопителях земель и дельцах политическое сознание, которое позволит им выглянуть за узкий горизонт своих поместий. После 1453 г. греческая и русская православные иерархии делали все, что могли, дабы сделать из московского князя защитника веры, ответственного за благоденствие всех православных христиан. Одной из кульминационных точек этого, процесса явился церковный синод 1561 г., присовокупивший к своим решениям послание константинопольского патриарха к Ивану IV, провозглашавшее последнего «царем и государем православных христиан во всей вселенной». [Цит. в Helmut Neubauer. Car und Setbstherncher (Wiesbaden 1964), стр. 39-40].
Крушение Золотой Орды и Византии освободило Москву от подчинения двум империям, претендовавшим на какую-то форму верховной власти над нею. Поэтому именно в это время — во второй половине XV в.— великие князья Московские начинают мало-помалу величать себя царским титулом. Иван III был первым русским правителем, изредка называвшим себя царем. Первоначально этим званием величали византийского императора, а с 1265 г. оно предназначалось для хана Золотой Орды. Женившись на племяннице последнего византийского императора, Иван III стал пользоваться и его двуглавым императорским орлом. Сын его Василий звал себя царем еще чаще, а внук Иван IV узаконил в 1547 г. этот обычай, сделав звание «царя всея России» титулом российских правителей. В городах и селах, северо-восточной Руси завелись теперь значительные идеи. Князья, предки которых некогда ползали на четвереньках на потеху хану и его придворным, ныне вели свою родословную от императора Августа, корона же якобы была пожалована им Византией. Ходили разговоры о том, что Москва является «Третьим Римом» и что ей предопределено на веки вечные занять место развращенных и павших Рима Петра и Рима Константина. Среди темного народа пошли фантастические легенды, связывающие деревянный по большей части город на Москве-реке со смутно понимаемыми событиями библейской и античной истории.
Вот при таких обстоятельствах вотчинное мировоззрение и приобрело политическую окраску. Далее встает вопрос: какой образец для подражания избрали московские князья, добивавшиеся самодержавной, имперской власти? Они были знакомы с двумя образцами — византийским василевсом и монгольским ханом. Западные короли для этой цели не годились, отчасти из-за своего католичества, отчасти потому, что, по крайней мере номинально, они были вассалами Римского императора и по этой причине не были настоящими суверенами в том смысле, какой вкладывала в это понятие Москва. В 1488 г. в Москву явился посланец императора Фридриха III, прося ее помощи в войне с турками. Чтобы заручиться содействием Ивана III, он предложил ему помощь в приобретении королевской короны. Данный на это предложение ответ не только показывает, какого высокого мнения был о себе московский князь, но и косвенным образом демонстрирует, что он думал про обычных европейских монархов: «... мы Божиею милостию Государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление именем от Бога, как наши прародители ... а постановления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим». [Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными СПб. 1851, I. стр. 12].
Византийский образец сделался известным на Руси почти исключительно через посредство духовенства и церковной литературы. У Москвы не было прямых дипломатических или торговых связей с Константинополем и потому не было и возможности узнать, что представляет собою тамошний монарх и что он делает. Церковь по вышеуказанным причинам была весьма заинтересована в сильной русской монархии. Она потворствовала ее амбициям, способствовала выработке доктрины самодержавия и разработала сложный церемониал коронации. Неясно только, как церковь могла обучить московских князей искусству политики.
Если мы хотим узнать, где Москва обучилась науке царствования (не как некоего идеала, а как реально действующего института), нам следует обратиться к Золотой Орде. Вопрос о монгольском влиянии сильно задевает русских, которых очень обижает предположение о том, что их культурное наследие, возможно, несет на себе кое-какую печать Востока, а в особенности — восточной державы, памятной более всего своими чудовищными зверствами и уничтожением великих центров цивилизации. Тем не менее, вопрос этот обойти нельзя, и несоветские историки, за немногими исключениями, готовы отвести монгольскому влиянию важную и даже решающую роль в становлении Московского государства. В предыдущей главе затрагивался вопрос о духовном и нравственном влиянии монгольского владычества на русскую политику; здесь мы коснемся его влияния на институты.
Золотая Орда дала первый пример централизованной политической власти, с которым вплотную столкнулись русские князья. На протяжении полутора веков хан был их абсолютным господином. Его могущество и величие почти полностью стерли из памяти образ византийского василевса. Последний являл собою нечто весьма отдаленное, легенду; ни один из удельных князей не бывал в Константинополе, зато многим из них была очень хорошо известна дорога в Сарай. Именно в Сарае имели они возможность вплотную лицезреть абсолютную монархию за работой, лицезреть власть, «с которой нельзя входить в соглашение, которой надо подчиняться безусловно». [В. Сергеевич, Древности русского права, 3-е изд., СПб., 1908, II, стр 34]. Здесь они научились облагать налогами дворы и торговые сделки, вести дипломатические отношения, управлять курьерской службой и расправляться с непокорными подданными. Русский словарь хранит отчетливые следы этого влияния. Слово «казна» есть прямое заимствование из языка татаро-монголов, равно как и понятия «деньги» и «таможня», оба происходящие от «тамги», обозначавшей при монголах казенную печать, ставившуюся на товарах в знак уплаты пошлины. Связывавшая Москву с провинцией «ямская служба» была тем же самым монгольским «ямом», но под другим начальством. Татаро-монгольское воздействие на язык репрессий отмечалось выше (стр. #82). Возможно, самым важным, чему научились русские у монголов, была политическая философия, сводившая функции государства к взиманию дани (или налогов), поддержанию порядка и охране безопасности и начисто лишенная сознания ответственности за общественное благосостояние.
В период, когда Москва выступала агентом Орды на Руси, ей пришлось создать административный аппарат, соответствующий нуждам аппарата, которому он служил. Ввиду природного консерватизма политических учреждений нет ничего удивительного в том, что эта структура управления осталась почти неизменной даже после того, как Московское княжество сделалось суверенным государством. Так, не покончили с данью, которую великий князь Московский собирал для хана; вместо этого дань превратилась в налог, взимаемый для великого князя. Точно так же полагалось поддерживать монгольскую курьерскую службу, теперь уже для великого князя. [А. Лаппо-Данилевский, Организация прямого обложения в Московском государстве, СПб., 1890, стр 14-15]. Так, почти незаметно, Москва переняла многие монгольские институты. Из-за хозяйственной ориентации удельного княжества, из которого вышло Московское государство, и сопутствующей ей неразвитости политических институтов русские, естественно, склонны были заимствовать у монголов вещи, которых у них самих не было, то есть центральные налоговые ведомства, связь и средства подавления.
Есть кое-какие указания на то, что первые цари смотрели на себя как на наследников монгольских ханов. Хотя под церковным влиянием они иногда ссылались на византийский образец, они не называли себя преемниками византийских императоров. В. Савва обнаружил, что в поисках международного признания своих прав на царское или имперское звание российские правители не указывали на преемство своей власти от Византии. [В. Савва, Московские, цари и византийские василевсы Харьков, 1901 стр 400]. С другой стороны, нет недостатка в свидетельствах того, что они придавали первостепенное значение завоеванию государств-преемников Золотой Орды — Казани и Астрахани. Уже во время последнего наступления на Казань и Астрахань Иван называл их своей вотчиной; это утверждение могло значить лишь одно — что он смотрел на себя как на наследника хана Золотой Орды. Чиновник московского Посольского Приказа Григорий Котошихин, бежавший в Швецию и написавший там весьма ценное сочинение о московском государстве, начинает свой рассказ с сообщения, что Иван IV сделался «царем и великим князем всея Руси» с того момента, как завоевал Казань, Астрахань и Сибирь. [О России в царствование Алексея Михайловича, сочинение Григорья Котошихина 4-е изд.. СПб.. 1906. стр. 1]. Титул «белого царя», иногда использовавшийся московскими правителями в XVI в., по всей вероятности связан с «белой костью» — родом потомков Чингисхана и, возможно, представляет собою еще одну попытку подчеркнуть преемство от правящей монгольской династии. Достоверные документальные свидетельства по теории российского монархического правления в период его становления весьма скудны. Однако что касается политических воззрений московского двора, то здесь аутентичных материалов достаточно, чтобы сделать по этому поводу кое-какие обобщения. Западные люди, посетившие Россию в XVI-XVII вв., были ошеломлены заносчивостью, с которой они столкнулись в Москве. По наблюдениям иезуита Поссевино, отправленного Папой послом к Ивану IV, царь был абсолютно убежден в том, что является могущественнейшим и мудрейшим правителем на свете. Когда в ответ на его похвальбу Поссевино вежливо напомнил Ивану о других прославленных христианских князьях, тот спросил — скорее презрительно, чем недоверчиво — «Да сколько же их на свете?» (Quinam isti sunt in mundo?). Жители Москвы, обнаружил Поссевино, разделяли самомнение своего правителя, ибо посол слышал, как они говорили:
Это знает лишь Господь и наш Великий Господин (Magnus Dominus) (то есть наш Князь). Этот наш Великий Господин знает все. Одним словом он может развязать любой узел и разрешить все затруднения. Нет такой веры, с обрядами и догмами которой он не был бы знаком. Всем, что мы имеем, и тем, что мы хорошо ездим верхом, и тем, что мы в добром здравии, всем этим мы обязаны милости нашего Великого Господина.
Поссевино добавляет, что царь усердно насаждает такую веру среди своего народа. [Antonio Possevino, Moscovia (Antwerpen 1567), стр. 55, 93].
По отношению к иноземным послам, особенно западным, московский двор любил выказывать нарочитую грубость, как бы стараясь показать, что в его глазах они представляют правителей низшего сорта. По московским понятиям, настоящий суверен должен был отвечать трем условиям: происходить из древнего рода, занимать трон по праву наследования и не зависеть ни от какой другой власти, внешней или внутренней. [Дьяконов, Власть, стр 146-62: и его Очерки общественного и государственного строя древней Руси, 3-е изд., СПб 1910, стр 419-20]. Москва чрезвычайно гордилась древностью своего рода, который она еще сильнее состарила, поведя его от дома римского императора Августа. С макушки этого вымышленного генеалогического древа она могла свысока смотреть почти на все современные ей королевские дома. Что касается способа вступления на престол, то здесь также высоко ставился наследственный принцип: настоящий король должен быть вотчинным, а не выборным, посаженным. Покуда польский трон занимал наследственный монарх Сигизмунд Август, Иван IV, обращаясь к королю Польскому, звал его братом. Однако он отказался называть так преемника Сигизмунда Стефана Батория, потому что этого короля избрали на должность. Наибольшее значение придавалось критерию независимости. Правитель есть настоящий суверен, или самодержец, лишь в том случае, если он может делать со своим царством, что хочет. Ограничение королевской власти звалось «уроком», а ограниченный монарх — «урядником». Всегда, когда перед Москвой вставал вопрос об установлении отношений с какой-либо иностранной державой, она доискивалась, сам ли себе во всем хозяин ее правитель — не только в сношениях с другими странами (такими вещами западная дипломатия тоже всегда интересовалась), но и в своем собственном королевстве. Ранний пример такой практики относится к 1532 г., когда император Бабур, глава только что основанной в Индии Могольской династии, отправил в Москву посланца с предложением «быть в Дружбе и братстве» с великим князем Московским Василием III. Москва отрицательно отреагировала на этот пробный шар. Великий князь «в братстве к нему не приказал, потому что он не ведает ево государства — неведомо: он государь или государству тому урядник». [Русско-индийские отношения в XVII в Сборник документов М., 1958. стр 6]. Такой же подход проявился в письме, посланном Иваном IV в 1570 г королеве Елизавете:
И мы чаяли того что ты на своем государстве государыня и сама владеешь и своей государьской чести смотришь и своему государству прибытка. И мы потому такие дела и хотели с тобою делати. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые и о наших о государских головах и о чести и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. [Юрий В. Толстой, Первые сорок лет сношений между Россиею и Англией 1553-1593, СПб. 1875. стр. 109].
В конечном итоге, предъявляемым Москвой высоким требованиям отвечали лишь два властителя: турецкий султан и ее собственный великий князь,— те самые два правителя, которых Бодин выделил как «сеньориальных» монархов Европы. Теперь мы можем понять, почему Иван IV пренебрежительно отреагировал на упоминание Поссевино о других «прославленных» христианских королях.
В завершение разбора вотчинного монархического правления в ранний период истории современного русского государства следует обратить внимание на любопытный этимологический факт. У ранних славян для обозначения главы семейства, обладавшего всей полнотой власти над имуществом семьи, равно как и над жизнями ее младших членов (которых он мог продать в рабство), одновременно использовались два слова: «господин» (или «господ») и «государь» (или «господар»). Эти слова родственны многим терминам индо-европейского словаря, касающимся дома и его противоположности незнакомца, таким как латинское hostis («чужой, враг») и hostia («жертвенное животное, жертва») и английские антонимы host («хозяин») и guest («гость»). [J Baly. Eur-Aruan Roots (London 1897). I. pp. 355-7]. В документах Киевского и раннего удельного периодов слова «господин» и «государь» употреблялись вперемешку для обозначения и правителя и владельца, что не удивительно ввиду отсутствия сколько-нибудь серьезного различия между властью и собственностью на этом этапе исторического развития Руси. Из этого правила было одно важное исключение, а именно что рабовладелец всегда звался «государем». К концу удельного периода произошло размежевание значений: «господин» стал относиться к власти в публичной сфере, а «государь» — в частной. Обращаясь к удельному князю, вольные люди обыкновенно звали его господином. Новгород тоже называл себя «Господином Великим Новгородом». «Государь», с другой стороны, стал в конце концов обозначать то, что у классических греков называлось бы despotes'om, а по латыни — dominus'om Князь был «господином» вольных людей, живущих в его уделе, и «государем» для своих рабов. В своем поместье обычный вотчинник также назывался «государем» еще в XVII в. Таков был обычай, покуда Москва не заняла главенствующего положения в стране. Собственнический характер княжеской власти в России отражается в том, что цари избавились от этого терминологического различения и требовали, чтобы их величали исключительно государями. Этот обычай повелся с начала XV в. и, возможно, представлял собою намеренное подражание монгольской традиции. Иван III ставил титул государя на своих монетах и печатях и требовал, чтобы именно так его и величали. После того, как на трон сел Иван IV, «государь» сделался частью официального титула российских правителей и начал использоваться во всех официальных документах. Очевидно значение того факта, что термин, обозначающий «суверена» в современном русском языке, произошел из словаря частного права, от cлова, обозначавшего собственника, и в особенности собственника рабов. Термин «государство», в отличие от английского state, не подразумевает различия между частным и публичным, между dominium'om и imperium'om; оно представляет собою чистой воды dominium, обозначая «абсолютную собственность, исключающую иные виды собственности и подразумевающую за своим обладателем право пользования, злоупотребления и уничтожения» [Как отмечает Леонардо Шапиро (Leonard Schapiro, Totalitarianism, London 1972, p. 129), английский термин state («государство») и его аналоги происходят от латинского status, передающего значения звания, порядка, устроенности,— иными словами, от понятия, подразумевающего правовые отношения. В понятии «государя» эти оттенки полностыо отсутствуют.]
Подобно другим историкам, при разборе эволюции русской монархии мы сосредоточили свое внимание на Москве, поскольку она сделалась столицей российской империи, да и история ее известна лучше истории всех других княжеств. Однако вотчинное умозрение и вотчинные институты не ограничивались Москвой, они коренились в удельном строе и во всем геополитическом положении северо-восточной Руси. Составленное в 1446-1453 гг. в Твери «Слово инока Фомы» поет хвалы князю Тверскому почти в таких же тонах, в каких московская панегирическая литература позднее воспевала своего царя. «Слово» называет тверского князя «царем», «государем», «самодержцем», наследником императорского титула и говорит о Твери как о новой столице православной веры. [Werner Philipp. 'Ein Anonymus der Tverer Pubiizistik im 15 Jahrhundert Festschrift fur Dmytro Cwzevskyej zum 60. Geburlstag (Berlin 1954), стр 230-7]. Этот отрывок дает основание предположить, что, случись по-иному, историки вполне могли бы говорить о Твери как об источнике вотчинного строя в России. Питая великую веру в свои силы, Москва принялась в середине XV в. собирать обширную «вотчину», на которую она предъявляла свои права. В теории, целью московской экспансии было поставлено собирание всех земель, составлявших Русь. Отсюда речь шла и о большей части Литвы. Однако, как мы отмечали выше, «речь шла также и о Казани, Астрахани и Ливонии, которые сроду не входили в Киевское государство. Из-за отсутствия в этой части земного шара природных границ даже с самыми лучшими намерениями нельзя было провести рубеж, отделяющий земли Руси от территорий, заселенных народами других рас и вероисповеданий. Когда еще только начинало складываться национальное государство, под русской властью жили финны и тюрки. Позднее к ним добавились другие народы. В результате этого устройство национального государства и создание империи (процессы, на Западе разделенные и по месту, и по времени) происходили в России одновременно, бок о бок, и были практически неотличимы друг от друга. Когда какая-то территория аннексировалась Москвой, была она или нет частью Киевского государства и к какой бы нации или религии ни принадлежало ее коренное население, она немедленно присоединялась к «вотчине» правящего дома, и все последующие монархи относились к ней как к некоему священному неделимому фонду, отдавать который не полагалось ни при каких обстоятельствах. Цепкость, с которой российские правители вне зависимости от их текущей идеологии держались за каждый квадратный сантиметр земли, когда-либо принадлежавшей одному из них, коренится в вотчинной психологии. Это территориальное выражение того же принципа, исходя из которого российские правители ни под каким видом добровольно не уступали своим подданным ни йоты политической власти. [Занятные примеры этой психологии можно обнаружить в советских учебниках истории, рассматривающих все происшедшие за последнюю тысячу лет поглощения русским государством чужой территории как «присоединения». Точно такое же действие со стороны другого государства превращается в «захват». Так, например, русское императорское правительство «присоединило» Туркестан к России, тогда как викторианская Англия «захватила» Египет.].
В 1300 г. Московское княжество занимало примерно 20 тысяч кв. км. В ту пору оно было одним из более мелких уделов. В течение последующих полутора веков рост его происходил в основном за счет соседей на востоке и северо-востоке. Особенно ценным приобретением было княжество Нижегородское, пожалованное Москве ханом Золотой Орды в обмен на помощь против одного из его соперников. Обладание стратегическим районом у слияния Оки и Волги давало Москве превосходный опорный пункт для дальнейшей экспансии. При вступлении на царствование в 1462 г Иван III получил в наследство 430 тысяч кв. км земли территорию чуть больше послеверсальской Германии. Основная часть этой земли была либо куплена, либо взята за долги. Последнюю свою покупку Иван III сделал в 1474 г, когда приобрел ту часть княжества Ростовского, которая ему еще не принадлежала. С тех пор Москва росла за счет захватов. Освободившись от ордынского господства, Москва стала вести себя в духе усвоенных у Орды понятий о поведении суверенной державы.
Важнейшим приобретением Ивана был город-государство Новгород, земли которого покрывали большую часть северной России. Хотя Новгород был зажиточен и культурен, он не мог состязаться с Москвой на поле брани. Из-за северного расположения и заболоченности земледелие его было весьма низкоурожайным. Сделанные за последнее время подсчеты показывают, что в середине XV в 77,8% новгородских землевладельцев не получали со своих поместий достаточно средств, чтобы купить себе экипировку для войны. [А. Л. Шапиро, ред., Аграрная история Севера-Запада России, Л.. 1971. стр. 332]. Москва начала оказывать на Новгород политическое давление еще в конце XVI в., когда она приобрела Белоозеро, обладание которым довело ее владения до берегов Онежского озера и дало ей возможность перерезать новгородскую территорию пополам.
Московское завоевание Новгорода началось в 1471 г.. В тот год между княжествами произошло столкновение. Хотя Москва без труда разгромила слабое новгородское войско, Иван III предпочел не вмешиваться во внутренние дела города-государства, удовольствовавшись пока тем, что Новгород признал себя его вотчиной. Шесть лет спустя это формальное главенство превратилось в фактический контроль. Как сообщают летописи, в марте 1477 г. новгородские представители прибыли в Москву на аудиенцию к великому князю. Во время переговоров новгородцы, явно безо всякого умысла, обратились к Ивану с титулом «господарь» (вариант «государя»), вместо, как было у них принято, «господина». Иван тут же ухватился за эти слова и на следующий месяц отправил в Новгород своих представителей осведомиться, какого это «государства» захотела его вотчина. Новгородцы в панике отвечали, что не давали никому полномочий называть великого князя «государем». В ответ на это Иван снарядил войско и в ноябре, когда подсохли болота, преграждающие подступы к городу, появился у стен Новгорода. Склоняясь пред неизбежным и пытаясь спасти что можно, новгородцы просили Ивана, чтобы признание его своим «господином государем» не привело и к концу их традиционных вольностей. Они просили, чтобы назначенный царем в Новгород наместник вершил суд и расправу совместно с новгородским представителем, чтобы с города взималась твердо установленная подать, чтобы гражданам Новгорода не грозило насильственное переселение или конфискация имущества и чтобы их не заставляли служить царю за пределами своей земли. Иван с раздражением отверг эти условия: «князь великий то вам сказал, что хотим господарьства на своей отчине Великом Новгороде такова, как наше государьство в Низовской земле на Москве; и вы нынечя сами указываете мне, а чините урок нашему государьству быти: ино то которое мое государьство?» [Патриаршая или Никоновская Летопись, Полное Собрание Русских Летописей, СПб., 1901 хii, стр. 170 и далее.]. В конце концов Новгороду пришлось сдаться и распрощаться со всеми своими вольностями. Он согласился упразднить все институты самоуправления, включая вече; вечевой колокол, веками созывавший граждан на сход, был снят и увезен в Москву. Настаивая на упразднении веча, Иван вел себя точно так же, как монголы, когда они завоевали Русь за два столетия до этого. Новгородцам удалось добиться у своего нового повелителя лишь обещания, что им не придется служить за пределами новгородской территории. То было не право, а лишь любезность с царской стороны, и вскоре она превратилась в пустой звук.
В своем новоприобретенном владении Иван стал практиковать систематическое устранение потенциальных противников тем же примерно методом, который сталинский проконсул в Венгрии Ракоши пять веков спустя назвал «тактикой салями» (salami tactics). Усевшийся в Новгороде московский наместник приказал, чтобы из города постепенно вывозились семьи, чье общественное положение и антимосковская репутация могли сделать их опасными для московского господства над покоренным городом-государством. В 1480 г. под тем предлогом, что новгородцы вынашивают против него заговор, Иван велел своим войскам занять город. Было арестовано несколько тысяч граждан большая часть местного патрициата. Некоторых узников казнили, а оставшиеся с семьями были расселены на землях поблизости от Москвы, где у них не было ни корней, ни влияния. Их вотчины были конфискованы в пользу великого князя. В 1484, 1487, 1488 и 1489 г. процедуру повторили. Такие массовые выселения, прозванные «выводами», впоследствии проводились и в других покоренных городах, например, в Пскове после его захвата сыном Ивана Василием III в 1510 г.. В этих случаях вотчинный принцип наделял князя властью перебрасывать своих подданных из одного конца государства в другой так, как будто бы он перемещает рабов в пределах своего поместья.
Так у новгородцев мало-помалу отобрали их вольности, а создававшие величие города фамилии были казнены или рассеяны. В 1494 г., использовав в качестве предлога убийство русского купца в ганзейском городе Ревеле, Москва закрыла склад Ганзы в Новгороде, арестовала ее членов и конфисковала их товары. Эта мера имела губительные последствия для благосостояния не только самого Новгорода, но и всего Ганзейского союза. [На заседании Ганзейского союза в 1628 г говорилось, что все его крупнейшие коммерческие предприятия в Европе основывались на торговле с Новгородом. Иван Андреевский, О Договоре Новгорода с Немецкими городами и Готландом, СПб., 1855, стр 4.]. Так оно и шло, пока в 1570 г. Иван IV в припадке безумия не велел сравнять Новгород с землей; резня его граждан длилась много недель. После этой дикой выходки Новгород раз и навсегда был низведен до положения заштатного городка.
Преемники Ивана продолжали собирать территории, лежащие к западу и юго-западу от Москвы, и останавливались лишь доходя до границ могущественной Речи Посполитой. Между вступлением на престол Ивана III в 1462 г. и смертью его сына Василия III в 1533 г. территория Московского государства выросла более чем в шесть раз (от 430 тыс. кв. км до 2.800 тыс. кв. км ). Но самые большие завоевания были еще впереди. В 1552 г. Иван IV захватил с помощью немецких военных инженеров Казань и таким образом устранил главный барьер на пути русской экспансии в восточном направлении. Со времени вступления Ивана на престол в 1533 г. и до конца XVI в. московское царство удвоилось в размере— с 2,8 до 5,4 миллионов кв.км. На всех завоеванных территориях проводились массовые конфискации земли. В первой половине XVII в. русские охотники за пушниной прошли, практически не встретившись с сопротивлением, через всю Сибирь и в замечательно короткое время добрались до границ Китая и берегов Тихого океана. Шедшие за ними по пятам царские чиновники объявляли эти земли царской собственностью. Лет за пятьдесят Россия, таким образом добавила к своим владениям еще 10 миллионов квадратных километров.
Уже к середине XVII в русские цари правили самым большим государством на свете. Владения их росли темпами, не имевшими себе равных в истории. Достаточно будет сказать, что между серединой XVI в и концом XVII в. Москва приобретала в среднем по 35 тысяч кв. км. — площадь современной Голландии — в год в течение 150 лет подряд. В 1600 г Московское государство равнялось по площади всей остальной Европе. Захваченная в первой половине XVII в. Сибирь опять же вдвое превышала площадь Европы. Население этого громадного царства было невелико даже по понятиям своего времени. В наиболее населенных областях (Новгороде, Пскове и районе Волги-Оки) плотность населения в XVI в составляла в среднем 3 человека на квадратный километр, а бывала и 1 человек на кв. км. на Западе же соответствующая цифра составляла от 20 до 30 человек. Большая часть России была покрыта девственными лесами, в значительной части которых никогда не ступала нога человека. Подсчитано, что между Уралом и лежащей в 750 километрах от него столицей Сибири Тобольском проживало 10 тысяч человек. Столь низкая плотность населения в большой степени объясняет бедность Московского государства и его ограниченную маневренность.
Однако эти соображения не тревожили правителей страны. Они с удовольствием думали о своей неограниченной власти и выслушивали слова иноземцев о том, что площадь их вотчины превышает поверхность полной луны. Добившись необыкновенного успеха в достижении власти через накопление недвижимого имущества, они склонны были отождествлять политическую власть с расширением территории, а расширение территории — с абсолютной, вотчинной властью. Мышлению их оставалась чуждой выработанная на Западе в XVII в. идея международной системы государств и сопутствующего ей равновесия сил. То же касается и идеи взаимности между государством и обществом. Успех, как его понимало тогда московское правительство, вырабатывал у него необыкновенно консервативное мировоззрение.
ГЛАВА 4. АНАТОМИЯ ВОТЧИННОГО УКЛАДА
Люди все считают себя холопами, то есть рабами своего Государя.
Сигизмунд Герберштейн, немецкий путешественник XVI в. в России. [S. Herberstein, Rerum Moscoviticarum Commentarii (Basileae 1571) стр 49].Каким образом была осуществлена такая необычайная экспансия Москвы? Ответ на этот вопрос лучше всего искать во внутреннем устройстве Московского государства и особенно в узах, соединявших государя со своей «землей». Ценой гигантских усилий и немалых тягот для всех, кого, эти усилия затронули, цари в конце концов сумели превратить Россию в огромное поместье царствующего дома. Порядок управления, существовавший некогда в их частных поместьях, приобрел политический характер и постепенно навязывался всей стране, пока не охватил все уголки империи. В этом обширном, государстве царь сделался сеньором, население — его холопами, а земля и все прочее доходное имущество — его собственностью. Такое устройство не лишено было серьезных недостатков, однако оно давало московским правителям такой механизм для использования рабочей силы и ресурсов, с которым не могло равняться ни одно европейское или азиатское правительство.
Превращение России в вотчину своего правителя заняло два столетия. Процесс этот начался в середине XV в. и завершился к середине XVII в.. Между этими датами лежит полоса социальных потрясений, невиданных даже в России, когда государство и общество бесконечно враждовали друг с другом по мере того, как первое пыталось навязать свою волю второму, а второе делало отчаянные усилия этого избежать.
Поместье удельного князя представляло собой устройство для хозяйственной эксплуатации, основанной на рабском труде (в этом была его наиболее характерная черта). Его население ставилось на работу; оно трудилось не на себя, а на своего хозяина-князя. Оно делилось на две основные категории — рабов, занятых физическим трудом, и рабов, занятых в управлении и состоявших в иных ответственных должностях. За пределами княжеского поместья существовала совсем иная социальная структура. Здесь жители были по большей части свободны: боярин и простолюдин могли переселяться, куда хотели, в поисках лучших условий службы, целинных земель или доходных промыслов. Их обязанности по отношению к князю практически ограничивались уплатой налогов.
Чтобы устроить свою империю по образцу и подобию удельного княжества — сделать всю Россию своей вотчиной не только на словах, но и на деле, царям надо было решить несколько задач. Им следовало положить конец традиционному праву вольного населения перебираться с места на место; всех землевладельцев надо было заставить служить московскому правителю, что означало превращение их вотчин в ленные поместья, а всех простолюдинов прикрепить к месту работы, то есть закрепостить. По совершении этого надо было поделить все население на группы в зависимости от занятий и социального положения и предписать каждой из них определенные обязанности. Следовало создать разветвленный административный аппарат, построенный по образцу удельного двора, чтобы сословия действительно выполняли возложенные на них обязанности. Решение этих задач оказалось делом многотрудным, настолько противоречили они обычаям и традициям страны. Предстояло ликвидировать существовавшую до того неограниченную свободу передвижения и социальную мобильность, которая в каких-то пределах имелась в России. Полная собственность на землю (либо унаследованную, либо получившуюся расчисткой леса) должна была уступить место владению по царской милости. Стране, которой почти никак не управляли, предстояло попасть под недремлющее бюрократическое око. Распространение поместного порядка на всю страну являлось по сути дела социальной революцией. Сопротивление ему было соответственным.
Следуя поместной практике, московские правители поделили население империи на два основных сословия. Служившие им в войске или в управлении составили служилое сословие. Прочие — земледельцы, ремесленники, торговцы, охотники, рыбаки и всякие работники физического труда — сделались «тяглым» сословием («тягло» обозначало подати и рабочую силу, которые простолюдины обязаны были предоставить царю). Эти две группы иногда были известны под именами «мужей», или «людей», и «мужиков». Как и в удельный период, духовенство составляло отдельную социальную структуру, параллельную светской. Оно не платило податей и не служило. [Москва также сохранила унаследованный от прошлого класс холопов, члены которого жили за пределами социальной структуры. Разговор о них пойдет дальше в этой главе]. Разделение на служилое и тягловое сословия сыграло основополагающую роль в социальном развитии Московской и императорской России. По одну сторону разделяющей их границы стояли люди, работавшие непосредственно на правителя и, фигурально выражаясь, составлявшие часть его двора. Они не были знатью (nobility) в западном смысле слова, поскольку не имели сословных привилегий, на Западе отличавших знать от простых смертных. И виднейшего московского служилого человека могли лишить жизни и имущества по прихоти государя. Как сословие в целом, однако, служилые люди пользовались весьма реальными материальными преимуществами. Наиболее ценным из оных была монополия на землю и на крепостных: до 1861 г. только лица, занесенные в списки служилого сословия, могли владеть поместьями и использовать труд крепостных (духовенство, как всегда, составляло из этого правила исключение). По другую сторону стояли «мужики», не имевшие ни личных прав, ни экономических преимуществ, кроме тех, которые им удавалось приобрести в обход закона. Их делом было производство товаров и поставка рабочей силы, требуемых для содержания монархии и ее слуг.
Пересечь разделявшую эти два сословия границу было практически невозможно. В ранний период Москва мирилась с кое-какой социальной мобильностью и даже в определенных пределах поощряла ее в своих собственных интересах. Однако тенденция исторического развития несомненно указывала в сторону складывания каст. Московское государство, интересовавшееся лишь службой и доходами, хотело, чтобы всякий знал свое место. Структура бюрократии соответствовала структуре управляемого ею общества; бюрократия тоже стремилась к максимальной социальной неподвижности, то есть к как можно меньшему передвижению людей из одной податной и служебной категории в другую, ибо каждое такое передвижение вносило путаницу в ее бухгалтерские книги. В XVI и XVII вв. были приняты законы, запрещавшие крестьянам покидать свои участки, а купцам — менять место жительства. Священникам запретили слагать с себя сан; сыновья их должны были вступать на отцовское поприще. Под угрозой тяжких наказаний простолюдинам не разрешалось переходить в ряды служилого класса. Сыновьям служилых людей следовало по достижении совершеннолетия регистрироваться в соответствующем ведомстве. В своей совокупности эти меры привели к тому, что социальное положение в Московской Руси сделалось наследственным.
Теперь мы разберем по очереди историю московских слуг и простолюдинов и покажем, как они попали в зависимость от монархии.
В общих исторических обзорах говорится иногда, что русские бояре утратили право на свободный уход от князя по той причине, что со временем Москва поглотила все удельные княжества, и боярам некуда было больше податься. На самом деле, однако, это право превратилось в пустой звук еще до того, как Москва присоединила всю остальную удельную Русь. Обычай этот никогда не пользовался симпатией удельных князей. Особенно неприятным делало его то обстоятельство, что иногда недовольные бояре покидали своего князя en masse, оставляя его без войска накануне битвы. Московский Великий князь Василий I попадал в такое положение дважды — в 1433 г. и затем снова в 1446 г. Считается, что Новгород уже в XIII в. принял меры к тому, чтобы бояре, имевшие вотчины на его землях, не могли поступить на службу к князьям за пределами новгородской территории. Москва стала нарушать право свободного перехода уже в 1370-х гг. [A. Eck, Le Moyen Age Russe (Paris 1933). стр. 89-92. M. Дьяконов, Очерки общественного и государственного строя древней Руси, 3-е изд., СПб., 1910, стр. 204-5]. Сначала московские князья пытались запугать возможных перебежчиков всяческими притеснениями и грабежом их поместий. Меры эти, однако, желаемого действия не возымели, и при Иване III стали использовать куда более сильнодействующие средства. В 1474 г., усомнившись в преданности Даниила Холмского, могущественного удельного князя из Твери, Иван заставил его поклясться, что ни он, ни дети его никогда не покинут московской службы. Царь попросил митрополита и одного из бояр быть свидетелями клятвы, а потом еще для верности заставил восьмерых бояр внести залог в сумме восьми, тысяч рублей, пропавший бы, если б Холмский или его отпрыски нарушили клятву. Впоследствии такая процедура повторялась неоднократно; причем число поручителей иногда заходило за сотню. Сложилась своего рода круговая порука, связывающая высшие слои служилого класса. С более мелкими мужами расправлялись еще круче. При уходе от князя боярину надо было заручиться документом, в котором записывался его ранг и какую он нес службу. Если Москва желала помешать его уходу, заправляющее послужными списками ведомство либо отказывалось выдать боярину искомый документ, либо намеренно занижало его ранг и положение; в обоих случаях страдала его карьера. Москва также часто давила на удельных князей, чтобы добиться возврата перешедших к ним бояр; иногда она употребляла и силу. По мере разрастания московской территории спастись от длинных рук князя можно стало лишь в Литве. Однако после 1386 г. всякий перебежчик туда автоматически делался вероотступником, поскольку в тот год Литва обратилась в католичество; это значило, что царь считал себя вправе конфисковать имущество не только самого беглеца, но и его семьи и его рода. Любопытно, что при заключении договоров с другими удельными князьями Москва настаивала на включении в них традиционного пункта о праве бояр выбирать себе князей, хотя сама такого права больше не соблюдала. Это было уловкой, рассчитанной на то, чтобы обеспечить непрерывный приток служилых людей из самостоятельных княжеств в Москву. Когда же поток этот поворачивался в противоположном направлении, Москва знала, как его остановить, что бы там ни писалось в договорах.
На словах право свободного перехода соблюдалось еще в 1530-х гг., хотя на деле с ним покончили за несколько десятилетий до этого. Как и в случае почти всех поворотных пунктов русской истории, юридические документы совсем плохо отражают здесь, каким образом произошла такая перемена. Законодательного акта, запрещающего свободный переход бояр, не существует, равно как нет и документа, закрепощающего крестьян. Новый обычай явился результатом совокупности конкретных мер, принятых, чтобы помешать боярам уходить от князя, и отдельных распоряжений, типа содержащегося в духовной Ивана III и относящегося к Ярославскому княжеству. Ко времени составления этой духовной грамоты уже вошло в обычай, что тот, кто владеет землей на московской территории, должен нести службу (либо самому царю, либо его слугам) в ее пределах. Отказ от службы означал, по крайней мере в теории, потерю прав на землю. На практике же многим землевладельцам удавалось избежать службы и спокойно жить в своих уединенных поместьях. Об этом свидетельствует нескончаемый поток указов, обещающих суровые наказания за отказ явиться по приказу в войско или дезертирство. Случайно сохранившийся документ из окрестностей Твери показывает, что во второй половине XVI в. по меньшей мере один из четырех живших там вотчинников никому не служил. [В. Сергеевич, Древности русского права 2-е изд., СПб., 1911, III, стр. 17-18]. Однако был установлен принцип обязательной службы; оставалось только как следует провести его в жизнь. Владение землей и служба, по традиции разделенные в России, сделались теперь взаимозависимы. В стране, знавшей в прошлом только аллод, оказалось с тех пор одно условное землевладение. Ленное поместье, неизвестное в «феодальной» средневековой России, появилось в ней заботами абсолютной монархии.
Введение обязательной службы для всех землевладельцев явилось большой победой русского самодержавия: «Ни в одной другой европейской стране суверену не удалось обусловить все нецерковное землевладение несением службы». [Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia (Princeton N J 1961), p 169]. Однако битва была выиграна лишь наполовину. Хотя бояре не могли больше отказываться от службы на своего князя, у них еще оставалось немало способов противиться его воле. За фасадом единодержавной, самодержавной монархии сохранялись мощные пережитки удельной эпохи. Даже хотя княжества их были присоединены к Москве, а самих их записали в число царских слуг, богатейшие из прежних князей продолжали вести себя в своих владениях, как мелкие суверены. Присоединение было нередко простой формальностью: Москва могла взять в свои руки крупнейший город, или города, и посадить там своих агентов, однако сельская местность оставалась под контролем тамошнего князя и его бояр. Иные из низложенных князей держали дворовый штат, построенный, как некое подобие правительства, раздавали иммунитетные грамоты монастырям и светским помещикам и шли в битву во главе собственных полков. А некоторые, как отмечалось выше, вообще отказывались служить. Такие землевладельцы весьма гордились древностью своей родословной и нарочно отгораживались от новых служилых фамилий. В середине XVI в. они завели родословные книги, в которых в больших подробностях записывались все их предки. Наибольшим почетом пользовался «Государев родословец», составленный в 1555-1556 гг.. Книга эта начиналась с родословной царской, прослеживая ее вплоть до древнеримских императоров, затем переходила к остальной части рюриковского дома, к «царским» династиям Казани, Астрахани и Крыма, к удельным князьям и завершалась знатными боярскими родами. Фамилии и рода, внесенные в этот и подобные списки, назывались «родословными». Они составили особую группу, осознающую свое положение и обладающую немалым могуществом, так что с ней приходилось считаться даже наиболее своевольным царям.
Родословные семьи и рода составили в каком-то смысле клуб для узкого круга: они и только они могли претендовать на высшие чины (боярина, окольничего и думного дворянина) на царской службе. В начале XVII в. девятнадцать родов, почитавшихся наиболее знатными, обладали особыми привилегиями, дававшими их представителям возможность достичь вершин служебной лестницы более или менее автоматически. Котошихин (см. выше, стр. #105) говорил в середине XVII в. о тридцати родах, обладавших исключительными правами на высшие посты, в том числе на членство в царском совете, высшие административные должности в главных городах, судейские места в основных приказах и важные дипломатические назначения. Не, внесенным в родословные списки служилым людям приходилось довольствоваться службой в коннице и на менее значительных административных должностях. Монархии приходилось мириться с таким устройством, поскольку в противном случае она рисковала столкновением с объединенным сопротивлением ведущих домов государства. Царь мог делать все, что ему угодно, кроме — изменения родословной той или иной боярской семьи, ибо родословная считалась «вотчиной», лежащей за пределами полномочий даже самой царской власти.
Родословные бояре не только составляли среду, из которой черпались кандидаты на высшие административные должности; они также могли в большой мере указывать, кому именно из них следует эти должности занять. Это они делали при посредстве института «местничества», введенного где-то в начале XV в. и официально упраздненного в 1682 г. Московский служилый класс даже в своих верхних слоях представлял смешение людей самого разного происхождения и положения: потомков Рюриковичей, чья родословная тягалась в знатности с генеалогией самого царствующего дома и которые, пореши судьба по-иному, сами бы сидели на царском престоле; наследников крещеных татарских князей и ханов; бояр, чьи предки служили московскому дому; бояр низложенных удельных князей и так называемых «детей боярских», являвших собою нечто вроде испанских гидальго — обычно вконец разорившихся безземельных воинов. Даже среди родословных выступали резкие социальные различия. Чтобы не утратить своего положения и не раствориться в безликой массе, родословные семейства и рода выработали чрезвычайно сложную и изощренную систему чинов и заставили монархию принимать ее во внимание при назначении на высшие должности и составлении протокола придворных и церковных церемоний.
У каждого из этих родов имелся свой собственный внутренний табель, основанный на старшинстве. Отец был на одно «место» впереди сыновей и на два — впереди внуков: Старшинство среди братьев, дядьев, племянников, двоюродных братьев и родни со стороны мужа или жены, равно как и составлявших род семейств, регулировалось подробными правилами. Когда членам рода предстояло назначение на должность, прилагали большие усилия к тому, чтобы находившиеся на низших ступенях местнической лестницы не пробрались вперед вышестоящих.
Еще большее значение имели местнические счеты, регулирующие отношения между фамилиями и родами. Послужные списки всех служилых людей (которые в XVII в. объединялись примерно в 3 тысячи родов, составлявших 15 тысяч семейств) хранились в делах Разрядного Приказа, или, как его сокращенно называли, Разряда. Они дошли до наших дней и состоят из тысяч томов, являющих собою памятник усердию московской бюрократии. Исходя из этих записей, можно было установить, какие должности и места на официальных церемониях занимали когда-либо предки и родственники данного лица, а также кто стоял выше, а кто — ниже их. Все это заносилось в особые местнические книги. Бояре пользовались этими записями, чтобы побудить царя при назначении на должности принимать во внимание относительное положение родов и их отдельных членов. Родовая честь требовала, чтобы служилый человек отказывался от должности, подчиненной и даже равной тому, чьи предки или родственники в прошлом подчинялись его собственным предкам или родственникам. Поступить по-иному значило бы навсегда запятнать свой род и понизить служебное положение всех его членов, как живущих, так и еще не родившихся. [Именно поэтому практиковавшееся Москвой намеренное снижение служебного положения боярина, имевшее целью предотвратить его уход, было таким действенным средством.] При таком взгляде на вещи неважен был характер должности и ее значение; важно было лишь то, кто под чьим началом служит. Накануне всякой битвы царя атаковали челобитными слуги, протестовавшие против того, что им дали командную должность ниже их законного «места». Некоторые кампании приходилось выносить вообще за пределы местнической иерархии (то есть о них не велось записей для использования в будущих местнических счетах); не будь этого ухищрения, непонятно, как Москва вообще смогла бы воевать. Но и на гражданской службе, а еще чаще на придворных церемониях, не было конца челобитным и тяжбам самого ребяческого характера. Нижеследующий текст, являющийся, как полагают, последним примером местнических дрязг, может послужить хорошей иллюстрацией:
В 1691 г. 15 апреля велено быть у стола Патриарха Адриана боярам Льву Кирил. Нарышкину, князю Григ. Афан. Козловскому, окольничему Феод. Тим. Зыкову, думному дьяку Емел. Игнат. Украинцеву. Князю Козловскому по каким-то местническим счетам показалось неприличным ехать на этот обед к Патриарху и потому он отказался ехать за болезнью; но во дворце, около царя знали, вероятно, причину отказа Козловского и посылают ему сказать, что если он болен, то бы ехал непременно и колымаге. Не поехал и тут Козловский. Ему велят сказать, что если он не поедет в колымаге, его привезут во дворец насильно в телеге. Козловский и после этой угрозы не поехал. Его привезли насильно в телеге к Красному Крыльцу; он не хотел выходить из телеги и его насильно отнесли в Крестовую Патриаршую Палату и посадили за стол. Козловский нарочно лег на пол и долго лежал. Тогда велено его посадить за стол невольно; но Козловский не сидел за столом, а все валился на бок и тогда приказали разрядным подъячим держать его. После обеда на площади у Красного Крыльца объявили Козловскому указ, что «за его ослушание отнимается у него честь и боярство и записывается он с городом Серпейском, чтобы на то смотря и иным впредь так делать было не выгодно». [М. Яблочков, История дворянского сословия в России. СПб., 1876. стр. 415-16.]
Для разрешения местнических раздоров учредили особые боярские комитеты. Они обыкновенно решали не в пользу челобитчика и для острастки других нередко приговаривали его к кнуту или иному унижению.
Местничество явно соблюдалось не строго, иначе правительственный механизм совсем бы остановился. Оно было по сути дела большой помехой и раздражало монарха, ибо напоминало ему, что он не полный хозяин в своем собственном доме. Хотя сильным царям удавалось держать бояр в узде, в тяжелые для монархии времена (например, во время регентства или в междуцарствие) раздоры промеж боярских родов угрожали целостности государства. Все эти соображения побудили монархию создать рядом с древними родами другой класс служилых людей, менее склонных к родовой обособленности, более зависимых и сговорчивых, класс, который никогда не знал свободы перехода и собственных вотчин.
Вспомним (стр. #67), что у удельных князей имелись дворовые слуги, звавшиеся дворецкими и занимавшие в поместьи всякие административные должности. Большинство из них были рабами; однако даже больным людям из их числа не давали уйти от хозяина. Они весьма напоминали ministeriales феодальной Германии и Австрии. Ряды их неуклонно пополнялись «детьми боярскими», безземельными и потому склонными прибиваться к княжескому двору и служить за какую угодно плату. В начале XVI в. Москва располагала довольно большим резервом таких второразрядных слуг. Они целиком и полностью зависели от царя и потому хорошо могли пригодиться ему в противовес родословным фамилиям и родам.
Основное различие между боярами и дворянами состояло в том, что первые владели вотчинами, а вторые — нет. Именно обладание вотчинной землей определяло, пользуется ли служилый человек (пусть даже лишь в теории) правом уйти от князя. С расширением московских владений царские земли сильно разрослись, а вместе с ними выросла нужда в слугах, поскольку бояр не хватало для службы в укрепленных городах, построенных для охраны растянувшихся границ государства. Поэтому возникла мысль раздать часть этой земли дворянам в ленное владение, называвшееся с 1470-х гг. поместьем. Завоевав Новгород и вырезав или выселив его виднейших граждан, Иван III провел там большую земельную реформу. Он конфисковал в свою пользу 81,7% пахотной земли, более половины которой забрал в царское хозяйство для прямой эксплуатации, а большую часть остатка распределил между дворянами в виде поместий. [А. Л. Шапиро, ред.. Аграрная история Северо-Запада России. Л.. 1971. стр. 333]. Вывезенной им из Новгорода и расселенной в центральных областях Московии новгородской знати Иван также роздал новые земельные владения на поместном праве. В отличие от вотчины, поместье юридически было царской собственностью. При испомещении слуг подразумевалось, что они и потомки их могут сохранить за собой поместья лишь покуда они исправно служат царю.
Поскольку, начиная е царствования Ивана III, вотчиной тоже можно было владеть лишь в том случае, если обладатель ее служит царю, встает вопрос, чем же отличались друг от друга эти формы землевладения. [Не желая пуще усложнять вопрос, мы все же добавим, что в более поздний период московской истории термин «вотчина» относился не только к владениям, унаследованным от отца; существовали также вотчины купленные и полученные за выдающуюся службу.]. Прежде всего, вотчину можно было делить между наследниками и продавать, поместье же нет. Во-вторых, вотчина слуги, не оставившего сыновей, оставалась в роду, тогда как поместье возвращалось в царскую казну. В-третьих, с середины XVI в. род обладал правом выкупать в течение сорока лет вотчину, проданную его членом на сторону. В силу этих причин вотчина считалась более высокой формой условного землевладения, и ее предпочитали поместью. У зажиточных слуг обычно было и то, и другое.
У монархии интерес был противоположный. Все качества, делавшие вотчину привлекательной для служилого сословия, порочили ее в царских глазах. На завоеванных землях Иван III и Василий III проводили систематическую конфискацию вотчин,— как это было впервые сделано в Новгороде,— которые они присваивали себе и потом целиком или по частям раздавали в поместья. Из-за такой политики количество вотчинных земель неуклонно уменьшалось. По смерти Василия III (1533 г.) вотчина все еще преобладала в центральных областях Московии, откуда произошла правящая династия и где она приобрела земли еще до изобретения поместий. По окраинам этой колыбели московского дома — в Новгороде Пскове, Смоленске, Рязани и на других территориях, захваченных после 1477 г.,— большей частью служебной земли владели на поместном праве.
Введение обязательной службы для всех землевладельцев имело далеко идущие последствия для дальнейшей истории России. Оно означало не более и не менее как упразднение частной собственности на землю, а поскольку земля в России оставалась основным источником богатства, конкретным результатом этой меры явилось практическое исчезновение частной собственности на средства производства. Это произошло как раз в то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направлении. С упадком вассалитета после 1300 г. западный лен превратился в прямую собственность своего держателя, а развитие торговли и промышленности создало дополнительный источник богатства в форме капитала. В начале нового времени большая часть богатства на Западе постепенно сосредоточилась в руках общества, что сильно придало ему весомости в отношениях с короной; в России же корона, так сказать, экспроприировала общество. Именно это сочетание самодержавной политической власти с почти полным контролем над производительными ресурсами страны сделало московскую монархию столь могущественным учреждением.
Чтобы довести до конца процесс экспроприации, оставалось еще разделаться с боярами, владевшими крупными вотчинами в центральных областях Московии. Это сделал Иван Грозный. Царь этот безусловно страдал психическим расстройством, и было бы ошибкой приписывать рациональную цель всем его политическим мероприятиям. Он казнил и пытал, чтобы изгнать обуявших его духов, а не из намерения изменить направление русской истории. Однако вышло так, что люди, стоявшие у него на дороге, более всего мешавшие ему и доводившие его до приступов слепой ярости, принадлежали к родословным фамилиям, владевшим вотчинами в Москве и ее окрестностях. Уничтожив такое их множество, Иван без всякого на то умысла изменил соотношение сил в русском обществе и наложил глубокий отпечаток на его будущее.
В 1550 г. Иван сделал невиданное дело: он пожаловал поместья в окрестностях Москвы 1.064 «детям боярским», большинство из которых были обедневшими дворянами, а многие — и потомками холопов. Таким шагом он даровал этим парвеню почетное звание «московских дворян», до того предназначенное лишь родословным боярам. В этом прозвучало прямое предостережение древним родам. В последующие годы Иван был слишком погружен в реформы управления и внешнюю политику, чтобы пойти на прямое столкновение с боярами. Однако наконец решившись на него, он выказал жестокость и садизм, которые только могут быть уподоблены жестокости и садизму Сталина в 1930-е гг.
В 1564 г. Иван поделил страну на две части. Одна половина, названная «земщиной», представляла собою собственно царство, так сказать, государственную, публичную часть страны. Другую он поставил под свое собственное начало и назвал «опричниной». Из-за почти полного отсутствия записей, относящихся к периоду, когда Россия находилась при таком официальном двоевластии (1564 — 1572 гг.), очень трудно отчетливо установить, что же именно там происходило. Однако политические последствия опричнины представляются достаточно очевидными. Иван временно отказался от методов своих предшественников, пытавшихся сделать слишком много в слишком сжатые сроки. Он вывел из царства в целом те области, в которых царской власти все еще приходилось считаться с хорошо укрепившейся, мощной оппозицией и где процесс превращения страны в поместье властителя еще не достиг полного завершения. Теперь он присоединил эти области к своему личному двору, то есть включил их в состав своего частного владения. В результате этого шага он, наконец, мог свободно выкорчевать крупные вкрапления боярских вотчин, остававшиеся от удельных времен. После того, как царский указ зачислял их в опричнину, отдельные московские улицы, городки, рынки и в особенности большие вотчины делались личной собственностью царя и в таком качестве передавались специальному корпусу опричников. Этой публике, состоявшей из доморощенного и иноземного сброда, дозволялось безнаказанно подвергать измывательствам и казни обитателей находившихся под их властью областей и грабить их имущество. Бояре, которым посчастливилось пережить террор, получили в виде компенсации за свои вотчины поместья в других районах страны. Примененные тогда методы в принципе не отличались от приемов, использованных Иваном III на землях покоренного Новгорода, однако на этот раз они были обращены на древнее ядро Московского государства и на территории, захваченные им раньше всего. Как показали изыскания С. Ф. Платонова, взятые в опричнину земли находились главным образом в центральных районах страны, тогда как земщина охватывала окраинные области, захваченные Иваном III и Василием III.
Опричнина была официально упразднена в 1572 г., и обе половины страны были снова слиты воедино. Вслед за этим запретили под страхом смерти упоминать это некогда наводившее ужас слово. Некоторых опричников наказали; участки конфискованной земли были кое-где возвращены своим владельцам. Однако дело было сделано. Была разрушена основа боярского могущества. Еще по крайней мере целое столетие, а в иных отношениях и несколько десятилетий сверх того, родословные бояре продолжали иметь сильное влияние при дворе. Коли на то пошло, наибольшей расцвет местничества приходится на XVII в., то есть на время после царствования Ивана IV. И тем не менее, их экономическое могущество было подорвано, а корни на местах оказались подрублены. Будущее принадлежало не боярам, а дворянам. В конце XVI в., после отмены опричнины, это некогда презираемое сословие второразрядных слуг стало получать на придворных церемониях предпочтение перед рядовыми боярами, уступая место лишь представителям наиболее именитых родов. После опричнины частная собственность на землю больше не играла в Московской Руси сколько-нибудь значительной роли; с разорением вотчинных гнезд древних фамилий вотчина сделалась ленным поместьем, жалуемым на более благоприятных условиях, чем собственно поместье, но все равно всего лишь ленным поместьем. [Одним из побочных результатов массовых экспроприации 1477 и 1572 гг. было практически полное исчезновение в России городов, принадлежащих частным лицам. В удельной и в ранней Московской Руси многие города — по большей части торговые — строились на землях частных вотчин и принадлежали боярам. Теперь и их конфисковали в пользу короны.]. «Государевы служилые люди» получали вознаграждение главным образом в виде вотчин и поместий. Но для этой цели использовались также должности и жалованье.
Заслуженные военачальники и чиновники могли сколотить изрядное состояние, добившись назначения на провинциальный пост. Как отмечалось выше, в Московской Руси расходы по содержанию местного управления и судопроизводства несло население («кормления»). Толково воспользовавшись таким назначением, можно было нажиться с необычайной скоростью. Главный провинциальный управитель Московского государства — «воевода» — являл собой своего рода сатрапа, сочетавшего административные, налоговые, военные и судебные функции, каждая из которых позволяла ему выжимать деньги. Покуда воевода поддерживал порядок и аккуратно доставлял положенное количество податей и слуг, монархии дела не было, как он распоряжается своею властью; такое отношение не так уж отличается от отношения монголов к покоренной ими Руси. Однако, в отличие от монголов, Москва пеклась о том, чтобы никто из воевод не закрепился у власти. Должности раздавались строго на ограниченное время, причем год был нормой, полтора — знаком исключительной благосклонности, а два представляли собою самый предельный срок. Воевод никогда не назначали туда, где они владели поместьями. Политические последствия такого обычая не ускользнули от внимания Джайлса Флетчера, который отметил в 1591 г., что «герцогов и дьяков... обыкновенно сменяют в конце каждого года... Они живут сами по себе, не видя ни признания, ни расположения от народа, которым управляют, ибо не родились и не выросли средь него и не имеют еще наследства ни там, ни в другом месте». [Giles Fletcher, Оf the Russe Commonwealth (London 1591), p. 311-2].
Служившим в Москве чиновникам высокого ранга выплачивали регулярное жалованье. Начальники приказов получали до тысячи рублей в год (что равняется 50 — 60 килограммам золота в ценах 1900 г.). Секретари и писцы получали гораздо меньше. На другом конце спектра стояли рядовые дворяне, получавшие самое большее несколько рублей в год накануне важных кампаний, дабы возместить часть стоимости коня и оружия, и даже на эти деньги им надобно было подавать особую челобитную.
Для владельцев вотчин и поместий служба начиналась в пятнадцать лет. Она была пожизненной и прекращалась лишь с утерей трудоспособности или по старости. Большинство служило в коннице. Военно-служилые люди обычно проводили зимние месяцы в своих поместьях и весной отправлялись в часть. В 1555 или 1556 г. сделали попытку ввести четкие нормы служебных обязанностей: с каждых 50 десятин пахотной земли полагалось поставить одного полностью экипированного конника, а с каждых дополнительных 50 десятин — одного вооруженного ратника. По всей видимости, провести эту реформу в жизнь не оказалось возможности, поскольку в XVII в. от нее отказались и ввели новые нормы; основанные на числе крестьянских дворов, которыми владел служилый человек. Подростки служили с отцовской земли; если ее не хватало, они получали собственное поместье. Соперничество из-за освободившихся поместий занимало много времени у дворян, бесконечно испрашивавших новых пожалований. Служба могла также быть и гражданской, особенно когда речь шла о родословных семействах и родах, чьи старшие представители собирались в царской Думе. Этот орган постоянно заседал в Кремле, и членов его могли призвать к своим обязанностям в любое время дня и ночи. К служилому сословию принадлежали также чиновники исполнительных ведомств, равно как и дипломаты. Высшие чиновники, как правило, владели немалым количеством земли.
Во второй половине XVI в. в Москве было учреждено два ведомства, надзирающих за тем, чтобы служилый класс не уклонялся от своих обязанностей. Одно из них, Разряд, уже упоминалось выше. Разряд, видимо, поначалу ведал личными делами и в то же время вел учет поместных владений, однако позднее эта вторая его функция была вверена особому Поместному Приказу. Исходя из полученных им от Разряда сведений, этот приказ следил за тем, чтобы со всей находящейся в руках служилого сословия земли государству доставлялось положенное количество службы. По всей видимости, работали эти два ведомства весьма исправно. Подсчитано, что в 1560-х гг. Разряд вел дела по меньшей мере 22 тысяч служилых людей, рассеянных по огромной территории. Случалось, что Разряд делался бюрократической опорой власти отдельных людей, как произошло во второй половине царствования Ивана IV, когда он попал в руки братьев Андрея и Василия Щелкаловых.
После перечисления всех ее составных частей можно представить себе, насколько сложна была московская служебная структура в XVII в., когда вся эта система сложилась полностью. При всех сколько-нибудь ответственных назначениях надо было иметь в виду три разнородных фактора в биографии кандидата: его родословную, чиновность (служебный ранг) и разрядность (должности, в которых он прежде состоял). [В. О. Ключевский, Боярская Дума древней Руси, СПб., 1919, стр. 216].
Подсчитано, что в середине XVI в. в России имелось 22-23 тысячи служилых людей. Из этого числа тысячи две-три были занесены в московские послужные списки и представляли собой родословную элиту, имевшую большие поместья, иногда достигавшие тысячи и больше десятин. Остальные тысяч двадцать были занесены в послужные списки провинциальных городов. Большинство этих слуг были чрезвычайно бедны и имели в среднем по 35-70 десятин. В конце XVI в. один служилый человек приходился на 300 лиц податного сословия и духовного звания. В XVII в. это отношение выросло лишь на немного: в 1651 г. Россия, имея около 13 миллионов населения, располагала 39 тысячами служилых людей, или одним на каждых 333 жителей. Очевидно, эта цифра представляет собою максимум того, что могла содержать тогдашняя экономика.
Московский служилый класс, от которого произошли по прямой линии дворянство эпохи империи и коммунистический аппарат Советской России, являет собою уникальное явление в истории общественных институтов. В западной истории нет термина, который определил бы его удовлетворительно. То был резерв квалифицированной рабочей силы, который государство использовало для исполнения всех и всяческих потребных ему функций: военной, административной, законодательной, судебной, дипломатической, торговой и промышленной. То обстоятельство,: что жил он почти исключительно на средства, добываемые эксплуатацией земли и (после 1590-х г.) труда крепостных, явилось результатом превратности российской истории, а именно недостатка наличного капитала. Позднее, в XVIII и XIX вв., гражданская часть служилого сословия была переведена на жалованье, но характер и функции ее остались без значительного изменения. Корни этого, класса покоились не в земле, как происходило со знатью во всем мире, а в царской службе. В иных отношениях русское служилое сословие являлось вполне современным институтом, в своем роде предтечей нынешнего чиновничества, продвигающегося по службе в зависимости от своих заслуг. Члены его могли достичь высокого положения лишь в том случае, если были полезны своему нанимателю. Хотя они имели преимущества перед остальным населением, в отношениях с короной положение их было весьма и весьма шатким.
Так обстояло дело со служилым сословием. 99,7% россиян, к нему не принадлежавших и не относившихся к духовенству, несли государству всяческие повинности, как денежные, так и трудовые; собирательно такие повинности назывались «тяглом». Термин этот имеет поместное происхождение. В удельный период говорилось, что деревни «тянутся» к поместью или к городу, которому они должны выплачивать подати или арендную плату. Позднее слово это стало обозначать податные обязанности вообще. В Московской Руси неслужилые жители назывались «тяглым населением». Но еще в XIX в., когда это слово перестало использоваться государством, «тягло» широко применялось в частных поместьях для обозначения единицы крепостной рабочей силы, обыкновенно состоявшей из крестьянина с женой и одной лошади.
Входившие в тягло повинности исчислялись в Москве на основании писцовых книг. Единицей налогообложения в деревне была иногда площадь пахотной земли, иногда — двор, иногда — сочетание первого со вторым. Торговое население городов и сел облагалось подворно. У местных властей было в дополнение к этому также право налагать на население всяческие рабочие повинности в качестве тягла. Ответственность за раскладку денег и работы возлагалась на само тягловое население. Исчислив общую сумму потребных государству поступлений, московское начальство раскладывало ее между разными областями и тягловыми группами. Затем местным властям и помещикам вменялось в обязанность позаботиться о том, что тяглецы поровну распределили между собой податные обязательства. Как колоритно выразился Милюков, правительство «большей частью предоставляло подати самой найти своего плательщика». [П. Милюков. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого 2-е изд., СПб.. 1905. стр 11]. Такой порядок подразумевал круговую поруку. Все тяглецы объединялись в общины, чьи члены сообща несли ответственность за деньги и работу, истребованные у данной группы. Порядок этот задерживал развитие индивидуального земледелия и крупного частного предпринимательства в России.
Сумма входивших в тягло денег и услуг не была постоянной. Правительство исчисляло налоги в соответствии со своими надобностями и представлениями о том, сколько может заплатить население. После иноземных вторжений и сильных засух их понижали, а в изобильные годы — повышали. Порядок этот был в высшей степени непредсказуем; всякий раз, когда государству требовались дополнительные доходы, оно придумывало новый налог и присовокупляло его к массе уже существующих. Вводились особые подати для выкупа русских пленников из татарской неволи, для снаряжения формируемых стрелецких отрядов, для поддержания ямской службы. Московская налоговая политика создает впечатление, что правительство намеренно препятствовало накоплению в руках населения избыточного капитала, незамедлительно выкачивая его новым налогообложением.
Особенно своевольно взималось тягло там, где речь шла о поставке рабочей силы для государственных надобностей. Воеводы могли потребовать, чтобы жители работали на постройке фортификаций, починке дорог и мостов и брали на постой и кормили войска. Поскольку производимая в виде тягла работа никак не оплачивалась, она представляла собою разновидность принудительного труда. Когда в конце XVII в. правительству понадобились рабочие для мануфактур и шахт, открываемых по лицензии иноземными промышленниками, оно нашло их без особого труда: оно просто погнало туда мужиков, не принадлежавших ни к какой тягловой группе, или освободило от выплаты денежного тягла какое-то число дворов в окрестных деревнях и поставило на работу всех живущих там трудоспособных мужчин. Как будет показано ниже (Глава 8), рабочие, занятые на основанных Петром предприятиях и горноразработках, набирались таким же способом. Когда в начале XVII в. Москва решила организовать в дополнение к регулярной армии, состоящей из дворянской конницы, пехотные полки под командой западных офицеров, ей не было нужды вводить новой формы рекрутского набора. Уже в конце XV в. в армии служили тысячи рекрутов. В 1631 г. был издан указ, по которому земли, не дающие служилых людей,— например, владения храмов, вдов, несовершеннолетних, отставных слуг и «черные земли» самостоятельных крестьян,— должны были регулярно поставлять одного пешего ратника с каждых пятисот акров пашни. Эти «даточные люди» явились первыми регулярными рекрутами в Европе. Иногда сидящее на казенных землях тягловое население поголовно переселяли в отдаленные районы страны. Например, в XVII в. целые деревни черных крестьян были вывезены в Сибирь, чтобы кормить тамошние дворянские гарнизоны. Введением тягла московское правительство обзавелось бесконечно гибким методом взнуздания простых работников, точно так же, как в обязательной государственной службе оно имело удобный способ вербовки людей с высокой квалификацией. Тяглое сословие состояло по большей части из крестьян, торговцев и ремесленников. Была также, однако, и небольшая категория военных людей, несших постоянную службу, но все равно не относившихся к служилому сословию (в том числе стрельцы, казаки и пушкари). Они образовывали наследственную касту, в том смысле, что сыновья их должны были идти по отцовским стопам, однако привилегиями они не обладали; в ряды их был широко открыт вход для посторонних, и земли им не полагалось. Жили они в основном торговлей, которой занимались в перерывах между кампаниями.
Оказалось, что отнять свободу передвижения у простолюдинов труднее, чем у служилого сословия. У помещика можно было отбить охоту переходить на чужую службу одним из вышеперечисленных способов; да и его собственное поместье и земли его семьи всегда выступали своего рода залогом. Другое дело было удерживать крестьян или торговцев, не владевших обрабатываемой ими землею, не пекущихся о карьере и способных с великой легкостью раствориться в бескрайних лесах. Проблему можно было решить единственно прикреплением простолюдинов к месту жительства и к своей тягловой группе — иными словами, их закрепощением.
Говоря о ленном поместье в России, мы отметили, что оно возникло не в период «феодальной» раздробленности, как в Западной Европе, а в разгар монархической централизации. То же самое можно сказать и о крепостном праве. В Западной Европе крепостное право возникло вслед за развалом государственной власти в начале Средневековья. В XIII-XIV вв. вместе с ликвидацией в большой части Западной Европы феодального строя исчезло и крепостное право, и бывшие крепостные сделались арендаторами. В России же, напротив, большинство сельского населения превратилось из арендаторов в крепостных где-то между 1550 и 1650 гг., то есть в то самое время, когда монархия, освободившись от последних пережитков удельного партикуляризма, стала абсолютной хозяйкой страны. Как и обязательная служба для землевладельцев, закрепощение крестьян явилось одним из этапов превращения России в царское поместье.
Неслужилое население России было закрепощено не одним махом. Когда-то считалось, что в 1592 г. Москва издала некий общий указ, запрещающий свободное передвижение крестьян, но от этой точки зрения уже отказались. Ныне закрепощение рассматривается как постепенный процесс, занявший целое столетие, если не дольше. Один из приемов состоял в прикреплении к земле крестьян черных и торговых общин, другой — в закрепощении крестьян в частных поместьях. Когда решающую роль играли хозяйственные факторы, когда политические.
До середины XVI в. право крестьян на уход от помещика оспаривалось нечасто. О нескольких таких случаях сохранились записи; обычно препятствия чинились по просьбе влиятельных монастырей или бояр. Например, в 1455 и 1462 гг. великий князь разрешил Троице-Сергиевскому монастырю удержать на месте крестьян нескольких принадлежащих ему деревень, перечисленных поименно. Такие меры составляли исключение. Однако уже в середине XV в. Москва стала ограничивать тот отрезок года, в который крестьяне, могли воспользоваться своим правом на уход от землевладельца. Откликаясь на жалобы помещиков, что крестьяне бросают их в разгар полевых работ, монархия издала указы, ограничивающие период перехода; обычно устанавливалась одна неделя до и одна после осеннего Юрьева дня (26 ноября по старому стилю и 4-7 декабря по новому), поскольку к этому времени все сельскохозяйственные работы уже заканчивались. Судебник 1497 г. распространил эту дату на все земли, находившиеся под московским господством.:
Во второй половине XVI в. произошли два события, заставившие правительство принять решительные меры для остановки крестьянского переселения. Одним из них было завоевание Казани и Астрахани, открывшее для русской колонизации большую часть черноземной полосы, до тех пор находившейся под властью кочевников. Крестьяне сразу же ухватились за эту возможность и стали массами покидать лесную полосу и перебираться на целинные земли, лежащие на востоке, юго-востоке и на юге.
К тому времени, когда Иван Грозный ввел опричнину (1564 г.), население центральных районов Московии уже порядком оскудело. Хотя опричнина была направлена против бояр, большинство жертв ее злодеяний (как и большинство жертв любого другого террора) составляли простые люди, в данном случае крестьяне, жившие в поместьях, которые были конфискованы у бояр и переданы опричникам. Спасаясь от их лап, крестьяне еще большим числом бежали на вновь завоеванные земли. Этот поток продолжался тридцать лет и привел к тому, что обширные области центральной и северо-западной России традиционно наиболее густонаселенные — наполовину опустели. Земельные переписи между 1581 и 1592 гг. указывают, что многие деревни опустели и стали зарастать лесом, пахота превратилась в выгоны, а церкви, когда-то звеневшие песнопениями, стояли пустыми и притихшими. Оскудение населения в таких масштабах поставило государство и его служилое сословие перед серьезным кризисом. Пустые деревни не платили податей в казну и не поставляли рабочей силы, надобной для того, чтобы освободить служилый класс для войны. Особенно страдали рядовые дворяне, излюбленный класс монархии. В соперничестве за рабочие руки, ожесточавшемся по мере бегства крестьян из центральных областей, дворяне обыкновенно уступали монастырям и боярам, которые привлекали крестьян лучшими условиями. Монархия не могла сидеть сложа руки и смотреть, как подрываются основы ее богатства и власти, поэтому она принялась издавать указы для остановки оттока крестьян.
Первыми прикрепили к земле черных крестьян. Начиная с 1550-х гг. издавались указы, запрещающие крестьянам этого разряда сниматься с места. Одновременно были прикреплены к земле крестьяне-торговцы и ремесленники, тоже считавшиеся черными. Как будет показано в главе о среднем классе, торговля в Московской Руси велась главным образом в специально отведенных для этого местах, называвшихся посадами. Иногда это были отдельные городские кварталы, иногда — предместья, иногда — села. Лица, имеющие разрешение на торговлю или изготовление каких-либо изделий на сбыт, объединялись в так называемые «посадские общины», ответственные круговой порукой за тягло каждого своего члена. Ряд указов, первый из которых был издан в середине XVI в., запрещал членам посадских общин переселяться на другое место.
Прикрепление черных крестьян, торговцев и ремесленников мотивировалось по большей части стремлением оградить интересы казны. А закрепощая крестьян, живущих в вотчинах и поместьях, правительство пеклось прежде всего о благе служилого сословия. Этих крестьян закрепостили постепенно совокупностью хозяйственного давления и законодательных актов. Историки России не пришли к единому мнению о том, какой из этих двух моментов сыграл решающую роль.
За исключением северных областей, где крестьянин жил на отшибе, он нигде не обладал юридической собственностью на землю; земля была монополизирована короной, церковью и служилым сословием. Русский земледелец был по традиции арендатором — довольно шаткое положение в стране, где природные условия неблагоприятны для сельского хозяйства. Садясь в поместье землевладельца, он, согласно обычаю, заключал с ним договор (в ранний период московской истории — устный, а позднее обыкновенно — письменный), в котором устанавливалось, сколько он будет платить или отрабатывать за аренду. Нередко по условиям того же договора землевладелец давал съемщику воспособление в форме ссуды (под 20 и выше процентов), семян, скота и орудий. Чтобы уйти из поместья на новое место, крестьянин должен был вернуть сумму этого воспособления, выплатить пожилое за жилье, которым пользовался с семьей, возмещение за убытки, понесенные землевладельцем из-за того, что он не сделал зимней работы, а иногда и особый сбор за выход. Если крестьянин уходил без такой расплаты с помещиком, власти обращались с ним как с несостоятельным должником и в случае поимки возвращали кредитору полным холопом. Сильно задолжавшие крестьяне оказывались по сути дела прикованы к месту. Чем дольше они ходили в должниках, тем меньше у них было возможности выйти из этой зависимости, ибо долг их рос из-за бесконечно множащихся процентов, а доход оставался более или менее постоянным. Хотя такие крестьяне-должники и обладали теоретическим правом выхода в районе Юрьева дня, воспользоваться этим правом они могли не часто. Хуже того, в 1580 г. правительство временно отменило выход в Юрьев день, а в 1603 г. эта временная мера сделалась постоянной. С тех пор не осталось дней, в которые крестьянин имел бы право уйти от помещика, если последний сам не желал ему такое предоставить. Примерно в то же самое время (конец XVI в.) московские приказы начали учет крестьянских долгов помещикам. Нуждавшиеся в рабочих руках богатые помещики иногда уплачивали недоимки крестьянина и сажали его в своем имении. Таким путем перемещалось немалое число крестьян; обычно они переселялись так из мелких поместий в крупные вотчины и монастыри. Однако избавленный от долгов крестьянин мало что от этого выигрывал, потому что скоро попадал в долги к своему новому помещику. Такое вызволение должников смахивало скорее на торговлю живым товаром, чем на осуществление права выхода. Единственным выходом для задолжавшего крестьянина было бегство. Он мог бежать к помещику, достаточно сильному, чтобы оградить его от преследователей, или во вновь открываемые для колонизации степные области, или в живущие своим законом казацкие общины, состоявшие из беглецов из России и Польши и находившиеся на Дону и на Днепре. Чтобы затруднить такие побеги, правительство провело между 1581 и 1592 гг. кадастр, официально зарегистрировавший место жительства крестьян. Из этих списков можно было установить, откуда бежал крестьянин. В 1597 г. правительство постановило, что крестьяне, бежавшие после 1592 г., подлежат при поимке возвращению своим помещикам; успевшие бежать до 1592 г. были вне опасности. Между должниками и другими крестьянами никакого различия не проводили. Полагали, что место жительства согласно записям в кадастрах 1581-1592 гг. является доказательством принадлежности крестьянина к данной местности (именно этот указ — впоследствии утраченный — ввел ранних историков в заблуждение, приведя их к мысли, что в 1592 г. был издан некий общий закон о поземельном прикреплении крестьян). В начале XVII в. срок давности для беглецов периодически возобновлялся, всегда отталкиваясь в качестве отправной точки от 1592 г. В конце концов Уложение 1649 г. отменило все ограничения во времени на возврат беглых крестьян. Оно запретило давать им прибежище и указало, что беглецов должно отсылать обратно в свои деревни вне зависимости от давности побега, а скрывающие их обязаны возмещать их помещику все понесенные им убытки. Принято вести полновесное крепостное право в России от этой даты, хотя появилось оно добрых полвека прежде того.
Строго говоря, прикрепленные к земле крестьяне не принадлежали своим помещикам; они были glebae adscripti. В документах Московского периода всегда проводилось различие между крепостными и рабами — холопами. С точки зрения правительства, это различие имело определенный смысл: холоп не платил податей, не облагался тягловыми повинностями и не принадлежал ни к какой общине. Холопство имело свои неудобства для правительства, и оно издало немало указов, запрещающих подданным отдаваться в кабалу, вследствие чего число холопов в Московской Руси неуклонно снижалось. Однако с точки зрения крепостного различие между ним и холопом было не так уж значительно. Поскольку у русской монархии, серьезно говоря, не было аппарата местного управления, русские помещики традиционно обладали большой властью над жителями своих имений. С. Б. Веселовский, первым обративший внимание на историческую роль пoместного судопроизводства в средневековой России как прелюдии к крепостному праву, показал, что даже в удельный период то, как землевладелец обращался со своими арендаторами, считалось, его личным делом. [С. Б. Веселовский, К вопросу о происхождении еотчинного режима. М., 1928]. Такой подход, разумеется, сохранялся и дальше. Хотя она больше не жаловала иммунитетных грамот, московская монархия XVI и XVII вв. охотно отдавала крестьян в частных имениях на милость своих помещиков. После поземельного прикрепления крестьян помещики стали часто отвечать за подати своих крепостных, и эта ответственность лишь усилила их власть в своих поместьях.
Эта тенденция обернулась зловещими последствиями, для крестьянства, поскольку монархия продолжала передавать своим слугам большие количества дворцовых и черных земель. В 1560-х и 1570-х гг. она раздала в поместья служилому сословию большую часть чернозема в южных и юго-восточных пограничных областях, отвоеванных у Казани и Астрахани. Усевшись на престол в 1613 г., династия Романовых, стремившаяся укрепить свое положение, также раздавала землю щедрою рукою. К началу XVII в. в сердце Московского государства черные земли почти все вывелись, а вместе с ними исчезло и большинство вольных хлебопашцев, живших самоуправляющимися общинами. Ключевский подсчитал, что во второй половине XVII в. из 888 тысяч тягловых дворов 67% находились на боярской и дворянской земле (10 и 57% соответственно), а 13,3% — на церковных землях. Иными словами, 80,3% тягловых дворов находились в частных руках. Корона владела непосредственно лишь 9,3%. Остаток составлялся отчасти из дворов черных крестьян (около 50 тысяч, главным образом на севере,— мало что оставалось от некогда самой многочисленной категории русского крестьянства) и посадских общин (около 43 тысяч). [Цит в Институт Истории Академии Наук СССР, История СССР М., 1948, I, стр 421]. Таким образом, к концу XVII в. четверо из каждых пяти россиян практически перестали быть подданными короны — в том смысле, что государство отдало помещикам почти всю власть над ними. Такое положение вещей получило формальное выражение в Уложении 1649 г. Среди сотен статей, определявших власть помещиков над крестьянами, не было ни одной, которая бы эту власть как-нибудь ограничивала. Уложение признает крестьян живым движимым имуществом, делая их лично ответственными за долги разорившихся помещиков, запрещает им жаловаться на помещиков за исключением случаев, когда речь идет о безопасности государства (тогда жалоба вменялась им в обязанность), и лишает их права давать показания в суде при разборе гражданских тяжб.
Из всего сказанного выше об обязательной службе помещиков, следует очевидный вывод, что крепостное состояние крестьян не было в России неким исключительным явлением, а представляло собою составную часть всеохватывающей системы, прикрепляющей все население к государству. В отличие от раба древнего мира или обеих Америк, крепостной Московской Руси не был несвободным человеком, живущим среди вольных людей, илотом среди граждан. Он был членом общественного организма, никому не позволявшего свободно распоряжаться своим временем и имуществом. Наследственный характер общественного положения в Московской Руси и отсутствие грамот, гарантирующих членам общественных групп какие-либо права и привилегии, означали,— с западноевропейской точки зрения,— что все россияне без исключения влачили несвободное существование. [По словам Марка Блоха, в феодальной Франции и Бургундии «появилось представление, что свобода будет утрачена, если нет возможности сделать свободный выбор хотя бы раз в жизни. Иными словами, полагали, что любые наследственные узы несут на себе отпечаток рабства» (Feudal Society, London, 1961, p. 261) Что до второго пункта, то на Западе было принято, что сословие составляют лишь те, кто принадлежит к группе, получившей королевскую хартию; по этой причине считалось, что западные крестьяне, у которых подобных хартий не было, сословия не составляют (Jacques Ellul, Histolre des institutions (Paris 1956), II, стр. 224)]. Михаил Сперанский, обозревая современную ему Россию через призму своего западного образования, заключил, что в ней есть лишь два состояния: «рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым...». [M. M. Сперанский, Проекты и записки, М.-Л., 1961, стр. 43]. Эти слова написаны в 1805 г., когда юридическое положение дворян неизмеримо улучшилось по сравнению с XVI и XVII вв.
Разумеется, крестьянин находился в самом низу общественной пирамиды, и в некоторых отношениях (хотя и не во всех) ему приходилось горше других, однако он принадлежал к некоей всеобщей системе, и его неволю следует рассматривать как неотъемлемую ее часть: «Крестьянин не был прикреплен ни к земле, ни к лицу; он был, если можно так выразиться, прикреплен к государству; он был сделан государственным работником, при посредстве помещика». [Н. Хлебников, О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории, СПб., 1869, стр. 273]. По меньшей мере в одном отношении московские служилые люди находились в худшем положении, чем их крепостные: в отличие от них, слуги государевы не могли жить круглый год дома, в кругу семьи. Насколько тяжела была доля служилого человека, можно заключить из нескольких статей в Судебниках 1497 и 1550 гг., препятствующих помещикам отдаваться в холопы, чтобы избежать государственной службы. Торгово-ремесленное население также было прикреплено к своей профессии и месту жительства. Иными словами, крепостное состояние крестьян было лишь наиболее распространенной и самой заметной формой несвободы, которая пронизывала каждый слой московского общества, создавая замкнутую систему, где не было места личной вольности.
Административный аппарат Московской Руси был замечательно несложен. У царя имелся совет, звавшийся либо «Думой», либо «Боярами» (знакомый всем термин «Боярская дума» представляет собою неологизм, введенный историками XIX в.). Предшественников его можно отыскать в варяжский период, когда князья имели обычай держать совет со старшими членами своих дружин. В удельную эпоху такие советы обыкновенно состояли из служилых людей, которым было поручено управление княжеским имением и сбор податей; они назывались «путными боярами». С ростом монархии совет великого князя московского был расширен и начал включать, в дополнение к его близким родственникам и главным чиновникам, представителей виднейших родословных фамилий. В XIV, XV и начале XVI в. Дума была отчетливо аристократической, но по мере истощения власти древних родов их представителей заместили обычные служилые люди. В XVII в. вопрос о том, кому заседать в Думе, решался скорее на основании заслуг, чем происхождения.
Историки России пролили немало чернил, обсуждая вопрос о том, обладала ли Дума законодательной и административной властью, или она просто утверждала чужие решения. Имеющиеся данные, по всей видимости, подкрепляют вторую точку зрения. У Думы не было ряда важнейших особенностей, которые отличают учреждения, обладающие настоящей политической властью. Состав ее был крайне непостоянен: мало того, что члены ее менялись с великой скоростью, но и число их непрестанно варьировалось, иногда достигая 167, иногда падая до двух. Регулярного расписания заседаний не было. Протоколов дискуссий не велось, и единственным свидетельством участия Думы в выработке решений служит формула, записанная в тексте многих указов: «царь указал, а бояре приговорили». У Думы не было четко оговоренной сферы деятельности. Она прекратила свое существование в 1711 г., тихо и почти незаметно, из чего можно заключить, что ей не удалось обзавестись корпоративным духом и что она не так уж много значила для служилой элиты. В силу всех этих причин на Думу следует смотреть не как на противовес царской власти, а как на ее орудие; она была предтечей кабинета, а не парламента. Главное ее значение состояло в том, что она позволяла высшим сановникам участвовать в выработке решений, которые им потом приходилось проводить в жизнь. Она действовала — особенно активно тогда, когда перед правительством стояли важные внешнеполитические решения, и из рядов ее вышли виднейшие дипломаты страны. На закате своего существования, в конце XVII в. Дума все больше брала на себя управление приказами и все активнее занималась юридическими вопросами (проект Уложения 1649 г. был составлен комитетом Думы).
В иных случаях, особенно в периоды национального кризисов, когда монархии была надобна поддержка «земли», состав Думы расширялся, и она превращалась в «Собор» (как и «Боярская Дума», широко употребительный термин «Земский Собор» был изобретен в XIX в.). Тогда всем членам Думы рассылались личные приглашения (эта характерная деталь указывает на отсутствие у Думы корпоративного статуса), которые получало также и высшее духовенство. Кроме того, приглашения отправлялись в провинцию, дабы служилые люди и тяглецы высылали своих представителей. Не было ни установленной процедуры выборов, ни избирательных квот; иногда в инструкциях говорилось, чтоб посылали столько представителей, сколько хотят. Первый известный нам Собор заседал в 1549 г. В 1566 г. Иван созвал собор, чтобы заручиться его помощью в разрешении финансовых и прочих затруднений, вызванных неудачной войной с Ливонией. Золотой век Собора последовал за Смутным временем (1598-1613 гг.). В 1613 г. особенно представительный Собор (он включал в себя черносошных крестьян) избрал на престол Михаила — первого из Романовых. Затем Собор заседал почти без перерывов до 1622 г., помогая бюрократии восстанавливать порядок в израненной войной стране. По мере упрочения положения новой династии соборы собирались все реже. В 1648-1649 гг., в полосу крупных волнений в городах, Собор попросили утвердить Уложение. Последний Собор был созван в 1653 г., после чего это учреждение исчезло из российской жизни.
Между московскими Соборами и европейскими Генеральными Штатами начала Нового времени (включая период, когда они временно не функционировали) имеется такое множество поверхностных параллелей, что аналогии тут неизбежны. Тем не менее, если историки России не могут прийти к единому мнению насчет исторической функции Думы, то по поводу Соборов разногласий среди них не так уж много. Даже Ключевский, полагавший, что между X и XVIII вв. Дума была настоящим правительством России, смотрел на Соборы как на орудие абсолютизма. Его взгляд на Собор 1566 г. (что он был «совещанием правительства со своими собственными агентами») [Опыты и исследования — первый сборник статей, Петроград. 1918, стр. 406] применим и ко всем другим Соборам. Основное различие между западными Генеральными Штатами и русскими Соборами проистекает из того, что в России не было ничего подобного трем западноевропейским «сословиям», являвшимся юридически признанными корпоративными объединениями, каждый член которых обладал правами и привилегиями, соответствующими своему положению. В России имелись лишь чины, которые, разумеется, определяли положение своих носителей по отношению к государю. Русские Соборы были собраниями «всех чинов московского государства». Считалось, что участники их несут государственную службу, и им выплачивалось жалованье из казны. Присутствие на Соборах было обязанностью, а не правом. Как и в Думе, там не было процедурных норм, системы подбора участников (представителей) и расписания. Некоторые Соборы заседали часами, другие днями, а иные — месяцами и даже годами.
В общем, Думу и Соборы следует рассматривать как временные учреждения, в которых у государства поневоле была нужда до тех пор, пока оно не смогло позволить себе добротного административного аппарата. Дума служила связующим звеном между короной и центральной администрацией, а Собор — между короной и провинцией. Когда бюрократический аппарат улучшился, от обоих учреждений тихо избавились.
Бюрократия была все еще на удивление малочисленна. Согласно недавним подсчетам, весь штат центрального административного аппарата в конце XVII в. насчитывал (исключая писцов) около 2 тысяч человек. Более половины чиновников из этого числа служили в четырех главных приказах — Поместном, двух приказах, ведавших правительственными доходами (Приказе Большого Дворца и Приказе Большой Казны), и в Разряде. [Н. Ф. Демидова, «Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII-XVIII вв.», Академия Наук. Институт Истории. Абсолютизм в Рoccuu (XVII-XVIII вв.). М., 1964, стр 208-42]. Приказы поделили между собою страну отчасти по функциональному, отчасти по географическому принципу. Примерами первого принципа служат четыре вышеупомянутых приказа, а второго приказы, ведавшие Сибирью, Смоленском и Малороссией. На местах управление было вверено воеводам (см. выше, стр. #130). Судопроизводства, отделенного от управления, не существовало. В иных случаях — особенно в середине XVI в. правительство поощряло создание органов местного самоуправления. Но более тщательный анализ этих органов демонстрирует, что их первоочередным назначением было служить придатком рудиментарной государственной бюрократии, а не печься об интересах населения, о чем свидетельствует их подотчетность Москве. [А. А. Кизеветтер. Местное самоуправление в России — IX-XIX Ст.Исторический очерк, 2-е изд. Петроград, 1917, стр. 47-52].
Незаменимым спутником политического устройства, которое так много требовало от общества, был аппарат контроля за населением. Кому-то надо было следить за тем, чтобы на миллионах квадратных километров принадлежавшей Москве земли служилые люди являлись на службу, простолюдины сидели в своих общинах и несли тягло, а торговцы уплачивали налоге оборота. Чем большие требования выдвигало правительство, тем больше уклонялось от них общество, и государству, как выразился Соловьев, приходилось систематически заниматься «гоньбой за человеком»:
«Гоньба за человеком, за рабочею силою производится в обширных размерах по всему Московскому государству: гоньба за горожанами, которые бегут от тягла всюду, куда только можно, прячутся, закладывают, пробиваются в подъячие; гоньба за крестьянами, которые от тяжких податей бредут розно, толпами идут за Камень (Уральские горы), помещики гоняются за своими крестьянами, которые бегут, прячутся у других землевладельцев, бегут в Малороссию, бегут к казакам». [С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, М., 1960, VII, стр. 43].
В идеале московскому государству надо было бы иметь современную полицию со всеми ее техническими возможностями. Однако, поскольку у него не было средств на содержание даже самого рудиментарного аппарата слежки за своими владениями, ему приходилось прибегать к более грубым методам.
Самым действенным и распространенным из них был донос. Выше уже отмечалось, что Уложение 1649 г. сделало одно исключение из правила, запрещающего крестьянам жаловаться на своих помещиков, а именно в том случае, если жалоба касается деяний, направленных против государя и государства. Диапазон таких антиправительственных преступлений был весьма широк. К ним относились правонарушения, которые на языке современной тоталитарной юриспруденции были бы названы «экономическими преступлениями», такие как сокрытие крестьян от переписчиков или ввод в заблуждение Поместного Приказа относительно размера своих земельных владений. Уложение сильно полагалось на донос, чтобы обеспечить государству положенное количество службы и тягла. Согласно некоторым его статьям (например, Глава II, Статьи 6, 9, 18 и 19), недонесение об антиправительственных заговорах каралось смертью. Уложение предусматривало, что семьи изменников (в том числе их малолетние дети) подлежат смертной казни, если вовремя не донесут властям о затеваемом преступлении и, таким образом, не посодействуют его предотвращению. [Этот чудовищный юридичский постулат был воскрешен Сталиным в 1934 г., когда он приступал к настоящему террору. Тогда к 58-ой статье Уголовного Кодекса были добавлены пункты, по которым недонесение о «контрреволюционных преступлениях» каралось лишением свободы минимум на полгода. В одном отношении Сталин пошел дальше Уложения: он ввел суровое наказание (пять лет лишения свободы) для членов семей лиц, повинных в особо тяжких государственных преступлениях, таких как бегство за границу, даже если они не знали заранее о намерении злоумышленника.]. В XVII в. преступления против государства (то есть против царя) стали зваться «словом и делом государевым», иными словами, они представляли собою либо намерение совершить действия, наносящие ущерб государю, либо совершение таких действий. Произнести эти слова про другого человека значило навлечь на него арест и пытки; как правило, доноситель удостаивался той же участи, поскольку власти подозревали, что он не все сказал. «Слово и дело» нередко служили для сведения личных счетов. Здесь следует подчеркнуть два аспекта такой практики, поскольку они послужили предзнаменованием многих черт будущей российской юриспруденции в делах о политических преступлениях. Во-первых, там, где речь шла об интересах монарха, не проводили никакого различия между преступным намерением и собственно преступлением. Во-вторых, в ту эпоху, когда государство мало заботилось о преступлениях, совершаемых подданными друг против друга, оно предусматривало весьма жестокие наказания за преступления, направленные против своих собственных интересов.
Донос не был бы и вполовину столь действенен как средство контроля, не будь сопутствующей тяглу круговой поруки. Поскольку подати и отработки бежавшего из тягловой общины лица раскладывались между оставшимися ее членами (по крайней мере до следующей переписи), государство могло быть в какой-то степени уверенным, что тяглецы будут зорко следить друг за другом. Торговцы и ремесленники были особенно горазды замечать и доводить до сведения начальства попытки соседей сокрыть свои доходы.
Так что государство следило за своими подданными, а подданные следили друг за другом. Легко можно себе представить, какое действие имела эта взаимная слежка на сознание российского общества. Никто не мог позволить другому члену своей группы или общины улучшить свою долю, поскольку была большая вероятность, что это будет сделано за его счет. Личная выгода требовала уравниловки. [Вот что говорит Андрей Амальрик о современном русском человеке (Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам, Фонд им Герцена, 1970, стр 32, и сн. 30 и 31). «при всей кажущейся привлекательности [идеи справедливости] — она, если внимательно посмотреть, что за ней стоит, представляет наиболее деструктивную сторону русской психологии. Справедливость на практике оборачивается желанием, чтобы никому не было лучше, чем мне. Но это не пресловутая уравниловка, так как охотно мирятся с тем, чтобы многим было хуже. Как я мог видеть, многие крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу. Вообще, если средний русский человек видит, что он живет плохо, он не думает о том, чтобы самому постараться устроиться так же хорошо, как и сосед, а о том, чтобы как-то так устроить, чтобы и соседу пришлось так же плохо, как и ему самому. Кому-то, может быть, эти мои рассуждения могут показаться очень наивными, но я мог наблюдать примеры этому десятки раз как в деревне, так и в городе и вижу в этом одну из характерных черт русской психологии»]. От россиянина требовалось доносить, и он доносил с готовностью; если уж на то пошло, в начале XVIII в. у крепостного был один-единственный законный способ обрести свободу — донести на своего помещика, что тот скрывает крестьян от переписчика. При таких условиях в обществе не могло выработаться здорового коллективного чувства, и оно было неспособно на совместное сопротивление властям. Своеобразная полицейская психология настолько укоренилась в государственном аппарате и среди населения, что все позднейшие попытки просвещенных правителей вроде Екатерины II избавиться от нее оказались безуспешными.
Никому не было дано ускользнуть от этой системы. Государственные границы были наглухо запечатаны. На каждой ведущей за границу столбовой дороге стояли заставы, поворачивавшие назад путешественников, не имевших специальных проездных грамот, получить которые можно было, лишь обратившись с челобитной к царю. Купец, каким-то образом пробравшийся за границу без такой грамоты, наказывался конфискацией имущества, а родственники его подвергались пытке, чтобы вынудить у них причину его отъезда, и затем ссылались в Сибирь. Статьи 3-я и 4-я Главы V Уложения 1649 г. предусматривали, что россиян, уехавших за границу без позволения, а по возвращении разоблаченных в том по доносу, следовало допросить о причинах поездки; изобличенные в государственной измене подлежали казни, а уезжавшие заработать наказывались кнутом. Главной причиной этих драконовских мер было опасение потерять служилых людей и источник дохода. Опыт показывает, что, познакомившись с жизнью на чужбине, россияне теряли желание возвращаться на родину: «Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести,— высказывался в XVII в. князь Иван Голицын,— одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей, не только что боярских детей, останется кто стар или служить не захочет, а бедных людей не останется ни один человек». [Соловьев. История. М., 1961. V. стр 340]. Не забывали, что из примерно дюжины молодых дворян, посланных Борисом Годуновым на учение в Англию, Францию и Германию, домой не вернулся ни один.
Всякий иноземец, желавший въехать в Россию, также наталкивался на большие трудности. Пограничная стража имела строгий приказ заворачивать иностранцев, не имеющих разрешения на въезд. Приехать в Россию по своей собственной инициативе, чтобы заниматься там торговлей или каким-нибудь другим делом, было абсолютно невозможно. Даже для тех, у кого были все требуемые бумаги, место жительства и срок пребывания в России были строго ограничены. Местному населению чинили препятствия в контактах с иноземными гостями:
[Правительство] боялось, как бы русские не заразились безбожными обычаями иностранцев, и старалось выделить последних в особую группу по всему отличную от коренного населения, буквально запрещая общение подданных с иностранцами. С целью предупредить такое общение, иностранцев заставляли жить в особых частях города или даже и совсем за городом. Они должны были носить свою иноземную одежду, чтобы этим сразу отличаться от русских, которые под страхом наказания не должны были иметь внешнего вида, хотя бы напр. в прическе волос, похожего на иностранцев. Домашние помещения иностранцев, их яства и питья считались под запрещением для русских. Всякие разговоры между русскими и иностранцами навлекали на русских серьезные подозрения не только в измене русской вере и обычаям, но и политической. По рассказам современников, может быть и преувеличенным, иностранцу нельзя было остановиться на улице с целью посмотреть что-нибудь без того, чтобы его не приняли за шпиона. [А. С. Мулюкин. Проезд иностранцев в Московское государство. СПб., 1909, стр. 58].
Пожалуй, ничто так не отражает отношения Московского государства к своим подданным, как то, что до января 1703 г. все внутренние новости и все известия из-за границы считались государственной тайной. Новости содержались в сообщениях, именуемых «курантами» (от голландского krant, что значит «газета»), которые составлял на основании иностранных источников Посольский Приказ исключительно для пользования государя и высших сановников. Всем прочим доступа к этой информации не было.
ГЛАВА 5. ЧАСТИЧНОЕ СВЕРТЫВАНИЕ ВОТЧИННОГО ГОСУДАРСТВА
Обрисованная нами система была настолько застрахована от давления снизу, что, по крайней мере в теории, она должна была воспроизводить себя до бесконечности. Монополия короны на политическую власть, ее собственность практически на всю землю, торговлю и промышленность, плотный контроль над всеми классами общества и способность изолировать страну от нежелательных иноземных влияний — все эти обстоятельства в своей совокупности гарантировали, казалось, бесконечный застой. Не видно, каким образом московское население могло бы изменить установившийся порядок, если б оно того захотело; к тому же, как указывалось выше, у него были хорошие причины косо смотреть на перемены. Великие вотчинные государства эллинистического мира, с которыми у Московии было много общего, развалились не в силу причин внутреннего свойства, а вследствие завоевания. То же самое относится и к сходным по типу «восточным деспотиям» в Азии и Центральной Америке.
И тем не менее, вотчинный строй в России подвергся значительным изменениям, хотя изменения эти пришли в первую очередь сверху, со стороны самого правительства. Причина того, что русская монархия сочла необходимым несколько видоизменить закрытую и статическую систему, создать которую стоило таких трудов, кроется, главным образом, в отношениях между Россией и Западной Европой. Из режимов вотчинного типа и восточных деспотий Россия была географически ближе всего к Западной Европе. Далее, будучи страной и христианской и славянской одновременно, она была более податлива западному влиянию. Вследствие этого, столкнувшись — особенно на поле брани — с более гибкими и «научно» организованными западными институтами, она первой ощутила пороки своего жесткого, негибкого устройства. Россия первой из незападных стран пережила период неверия в свои силы (через который прошли впоследствии другие незападные народы), вызванный осознанием того, что, какой бы недостойной и негодной ни казалась западная цивилизация, ей удалось завладеть секретом могущества и богатства, который надобно перенять тем, кто хочет с ней успешно тягаться.
Все это российское правительство осознало во второй половине XVII в., за двести лет до того, как подобное потрясение постигло Японию — другую не подвергшуюся колонизации незападную державу. Преодолев первоначальное замешательство, Россия затеяла процесс внутренних реформ, который, то ослабевая, то усиливаясь, продолжается и по сей день. Первой подверглась реформе армия. Однако вскоре сделалось очевидно, что недостаточно просто копировать западные военные приемы, поскольку, более глубинные источники могущества Запада лежат в его общественных, экономических и культурных основаниях, которые тоже придется тогда заимствовать. Ширящиеся контакты с Западом заставили русских государей осознать, что мощь их была более видимой, чем реальной; строй, при котором корона всем владела или распоряжалась, резко ограничивал их возможности, ибо лишал их поддержки свободно действующего общества. В результате монархия начала осторожно вносить изменения в существующий порядок. Поначалу она надеялась просто пересадить западные новшества в организм вотчинного строя и так насладиться достоинствами обеих систем. «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом»,— как-то доверительно сообщил своим соратникам Петр Первый. [Цит в В. О. Ключевский» Kyрc русской истории, М., 1937 IV стр 225]. Однако, раз начавшись, процесс этот уже не мог быть остановлен, ибо, набирая силу и все менее завися от реформаторских мер правительства, элита общества сама принялась давить на монархию, добиваясь от нее прав, которые та ей предоставлять не намеревалась. Конечным результатом явилась ликвидация (отчасти добровольная, отчасти вынужденная) трех из четырех важнейших элементов вотчинного порядка. За девяносто девять лет, прошедших с 18 февраля 1762 г., когда дворян официально освободили от обязательной государственной службы, по 19 февраля 1861 г., когда получили свободу крепостные крестьяне, распалась иерархия сословий, зависимых от монархии. «Чинам» была дарована воля, их преобразовали в «сословия» и разрешили им нестесненно преследовать свои интересы. Одновременно корона отказалась от своих притязаний на владение всеми хозяйственными богатствами страны. Во второй половине XVIII в. она отказалась от монополии на землю, передав поместья дворянам в полную и безусловную собственность, и упразднила почти все монополии на торговлю и промышленность. Наконец, страна была распахнута практически неограниченному притоку иноземных идей.
Казалось, что все эти события предвещают и грядущую политическую европеизацию России, то есть приведут к такому положению, когда государство и общество будут существовать в некоем равновесии. Могло создаться впечатление, что вотчинный строй, из-под которого были вынуты социально-экономические и культурные подпорки, уже вполне обречен. Так, по крайней мере, казалось большинству россиян и иноземцев, задумывавшихся, путях императорской России. История, однако, показала, что к такой развязке события не привели. Проведенные царским правительством реформы не оправдали ожиданий. Хотя монархия была не прочь предоставить населению страны значительные экономические послабления и гражданские права и допустить известное вольнодумство, она не желала поступиться своей монополией политической власти. Вотчинному духу нанесли сильный удар, однако он продолжал витать за фасадом империи, что понимали наиболее прозорливые умы, которых не смогла ввести в заблуждение иллюзия «исторической тенденции»,— в том числе Сперанский, Чаадаев и Кюстин. Почему царское правительство не сделало последнего, решающего шага и не решилось дать стране конституцию «увенчать здание» — вопрос сложный; он будет разбираться отдельно. Достаточно отметить, что правительство наотрез отказалось делиться с обществом политической властью, и даже когда революционные события 1905 г. принудили его даровать конституцию, оно уступило больше формально, чем по существу.
Незавершенностью реформ в отношения между государством и обществом в России были внесены гибельные противоречия. В интересах национального могущества и престижа население побуждали образовываться, обогащаться и вырабатывать у себя государственное сознание, а также, когда его позовут, приходить на помощь «своему» правительству. В то же самое время ожидали, что оно будет терпеть излишне опекающий его режим, который не признает для себя ни ограничений, ни норм и не только не дает населению участвовать в разработке законов, но и запрещает ему под страхом сурового наказания открыто высказываться о возможности такого участия.
В этом-то и лежал источник трений, пронизывающий всю историю послепетровской России. Старый порядок, который при всех своих пороках был по крайней мере последователен, поломали и заменили строем, в котором были намешаны старые и новые элементы. Такое устройство постепенно урезало власть, которой некогда пользовались русские государи, не предоставляя им в то же время преимуществ либерального и демократического правления. Конечным результатом всего этого было размывание царской власти, а поскольку царская власть была единственной законной властью в стране, — и постепенная общая политическая дезорганизация. Дабы отвлечь внимание элиты от политики, монархия щедро удовлетворяла ее материальные запросы. Екатерина II по сути дела разделила страну на две половины, каждую из которых передала в кормление одному из составных элементов служилого сословия дворянам-землевладельцам и чиновникам. Обеим группам позволили эксплуатировать страну, как им вздумается, лишь бы они платили положенную сумму налогов, поставляли рекрутов и не совались в политику. Теперь Россия была практически отдана на откуп частным собственникам. В виде платы за сохранение своих самодержавных прав — в условиях, когда эти права были уже бессмысленны,— монархии пришлось в большой степени отказаться от своего права собственности на страну.
Вследствие этого сложилось в высшей степени любопытное положение. Формально власть российских правителей в XVIII и XIX вв. оставалась всеобъемлющей, и ничто не могло сдержать царя, вознамерившегося достичь какой-то конкретной цели; он мог издавать какие угодно законы, создавать, преобразовывать и упразднять учреждения, объявлять войну и заключать мир, распоряжаться государственными имуществами, возвышать или губить отдельных своих подданных. Однако контроль государей над страной в целом и их способность вмешиваться в ее каждодневные дела были уже далеко не безграничны и уменьшались все более. История русской политической жизни в эпоху империи изобилует примерами, показывающими, что правителям отнюдь не всегда удавалось поставить на своем в вопросах первостепенной политической важности. Как будто бы они были капитанами корабля, обладающими полной властью над его командой и пассажирами, но почти не имеющими права голоса в управлении им или в выборе курса. Тенденция развития, так часто отмечаемая в жизни русских монархов (Екатерины II, Александра I и Александра II), — от либерализма к консерватизму — объяснялась не отсутствием у них искреннего стремления к реформам, а приходившим к ним с опытом пониманием того, что они просто не в состоянии вести свою империю в желаемом направлении и в лучшем случае могут лишь удерживать ее от погрязания в хаосе. «Самодержавие» все больше и больше превращалось в отрицательное понятие, обозначавшее удержание общества от участия в выработке политических решений; оно перестало обозначать безраздельный контроль монархии над страной. Парадоксально, но факт, что требуя для себя монопольной политической власти, русские самодержцы оказались более безвластны, чем их конституционные собратья на Западе.
Такова общая картина изменений, происшедших в структуре русского государства и в его отношениях с обществом в XVIII-первой половине XIX в. Разберем теперь подробнее обстоятельства, в которых эти изменения имели место.
Организация Московского государства была нацелена на войну даже в большей степени, чем устройства западных монархий начала Нового времени. Ни у одной европейской страны не было таких длинных и уязвимых границ, такого подвижного населения, устремленного вовне в поисках земли и промыслов, и такой обширной территории, нуждающейся для охраны в многочисленных гарнизонах. Ресурсы империи шли, главным образом, на военные нужды. Когда мы говорим, что во второй половине XVII в. 67% тяглового населения сидело на землях светских владельцев (стр. #141), мы по сути дела сообщаем, что две трети рабочей силы страны расходовались на кормление армии. Эта цифра представится еще более значительной, если иметь в виду, что большая часть средств, извлекаемых монархией в виде налогов, а также из ее собственных имуществ и торговых предприятий, также шла на военные нужды.
Однако все эти расходы приносили весьма неудовлетворительные результаты. В XVII в. стало очевидно, что традиционный русский подход к ведению войны больше никуда не годится. В то время ядро русской армии все еще состояло из боярской и дворянской конницы. Это войско поддерживалось пешими простолюдинами. Хотя всадников было вдвое меньше, чем пехотинцев, они были главнейшим родом войск. Как и в средневековой Западной Европе, московская армия (за исключением дружины великого князя) распускалась по домам осенью и снова собиралась по весне. Воины являлись на службу с самым разномастным оружием: огнестрельным всех и всяческих видов, топорами, пиками и луками. Не было ни установленного боевого порядка, ни порядка подчиненности, ни тактики ведения боя. Конница, обыкновенно разбитая на пять полков, за которыми следовала нестройная толпа пехотинцев, по сигналу въезжала на поле брани, а там уж каждый воин бился во что горазд. Этого по сути дела весьма средневекового способа ведения войны, перенятого, когда русские сражались с монгольскими ордами, вполне хватало, если противниками были татары, воевавшие точно так же, но имевшие еще худшее вооружение. Русский воин был так же крепок и неприхотлив, как его азиатский противник. По словам путешественника XVI в. Герберштейна, во время кампаний русские обходились мешочком овса и несколькими фунтами засоленного мяса, которые носили с собою. Однако столкнувшись с армиями великих держав — Польши, Оттоманской Империи и Швеции — особенно в наступательных операциях, московские войска никак не могли с ними тягаться. В 1558 г. такой урок получил дорогой ценой. Иван IV, когда после своих побед над татарами затеял войну из-за Ливонии с Польшей и Швецией. За четверть века тяжелейших усилий, обескровивших страну, он не только не смог захватить Ливонию, но и вынужден был отдать несколько своих собственных городов. В период Смутного времени (1598-1613 гг.) русские войска показали себя в кампаниях против иноземцев ничуть не лучше.
Тяготы, с которыми столкнулись русские войска, воюя на Западе, объясняются в первую голову тем, что они не поспевали за развитием военной науки. В конце XVI — начале XVII в. западноевропейские государства разработали «научные» способы ведения войны, и традиционные наборы вооруженных дворян-землевладельцев с дружинниками отошли в прошлое. Война постепенно сделалась ремеслом профессионалов, и на первое место в сражениях вышли наемники. Особенно важное значение имело изобретение кремневого ружья и штыка; они устранили нужду в копейщиках, которые в прошлом должны были оказывать поддержку воинам, вооруженным негодными, для скорой стрельбы мушкетами. Пехота на Западе заняла место конницы как главного рода войск. Технические усовершенствования сочетались с глубокими изменениями в тактике. Чтобы извлечь из нового оружия максимальные преимущества, солдат обучали стойко надвигаться, наподобие автоматов, на неприятеля, на ходу стреляя и перезаряжая ружья, и, добравшись до его позиции, ввязываться с ним в штыковой бой. Был введен порядок подчиненности, при котором командир подразделения отвечал за поведение своих солдат на поле битвы и вне его; неповоротливые армии были разбиты на бригады, полки и батальоны; артиллерия была выделена в особый род войск, а для ведения осадных операций были сформированы саперные части. Введение в это время военной формы символизировало переход от средневековой войны к современной. Такие постоянные профессиональные армии приходилось содержать круглый год за счет казны. Соответствующие расходы достигали огромного размера и в конечном итоге немало способствовали ослаблению и падению абсолютных монархий по всей Европе.
Стрельцы Московского государства представляли собою род регулярной пехоты, использовавшейся в царской охране и в городских гарнизонах. Но стрельцы не имели понятия ни о боевом порядке, ни о военной тактике и не могли всерьез тягаться с современными армиями, тем более что в перерывах между кампаниями им приходилось вместо боевой подготовки кормить семью торговлей. Находясь под впечатлением успехов иноземных войск на своей территории, русское правительство стало после окончания Смутного времени брать на службу офицеров-иностранцев, которые должны были формировать «новые» полки западного типа и командовать ими. В 1632-1633 гг. большому русскому войску, включавшему в себя такие новые части (некоторые из них состояли из западных наемников), равно как и старомодную конницу, было поручено отобрать Смоленск у поляков. Кампания закончилась разгромом и сдачей в плен русского войска. Последующие кампании против поляков (1654-1667 гг.) также не принесли успеха, несмотря на то, что Польша в то же самое время отчаянно сражалась со Швецией. Между 1676 и 1681 гг. Москва предприняла несколько относительно безрезультатных кампаний против турок и крымских татар, чьи армии вряд ли можно было назвать современными. Несмотря на эти неудачи, формирование полков по западному образцу шло своим ходом, и к 1680-м гг. они перегнали по численности конницу. Тем не менее, победа продолжала ускользать от россиян. В 1681 г. была созвана боярская комиссия для установления причин неудачных действий русского войска. Основная ее рекомендация состояла в упразднении местничества, однако от этой меры было мало проку, ибо в 1687 и 1689 гг. русские армии снова потерпели неудачи в кампаниях против Крыма. Одна из причин этих неудач заключалась в том, что служилое сословие — опора русского войска — с презрением относилось к боевым действиям в пешем строю и под командой иноземных офицеров и требовало, чтобы ему дали по традиции служить в коннице. Новые полки, таким образом, составлялись либо из беднейших дворян, не имевших денег на коня, либо из тех крестьян, без которых, по мнению помещиков и правительства, можно было вполне обойтись, то есть, иными словами, настолько же негодных для меча, насколько и для орала. Более того, новые полки, точно так же, как старые, распускались каждой осенью, чтобы правительству не приходилось тратиться на них в бездельные зимние месяцы, и такой подход не давал иноземным офицерам никакой возможности сделать из них дисциплинированное, боеспособное войско. Естественно будет осведомиться, зачем России в конце XVII в. понадобилась большая и современная армия, принимая во внимание, что она уже тогда была самой большой страной в мире и в стратегическом отношении одной из наименее уязвимых (как было отмечено выше, наличных войск было вполне достаточно для обороны ее растянутых восточных и южных границ). В самом широком смысле это чисто философский вопрос, и его с равной справедливостью можно было бы задать про Францию Бурбонов или Швецию Вазов. XVII в. был эпохой ярого милитаризма, и дух времени не мог не наложить отпечатка на Россию, чьи контакты с Западом продолжали умножаться. Однако если мы возьмемся за поиски более конкретных ответов, то окажется, что стандартные ответы, даваемые на этот вопрос как дореволюционными, так и послереволюционными русскими историками, совсем неубедительны. В частности, трудно согласиться с объяснением, что Россия нуждалась в мощной современной армии для решения так называемых «национальных задач»: отобрания у поляков земель, некогда входивших в состав Киевского государства, и получения выхода к незамерзающим портам. История неопровержимо показала, что решение этих «задач» в течение XVIII в. отнюдь не насытило территориальных аппетитов России. Получив во время разделов Польши земли, которые она рассматривала как свою законную вотчину, Россия затем поглотила в 1815 г. Королевство Варшавское, которым сроду не владела, и даже заявила притязания на Саксонию. Стоило ей завладеть северным побережьем Черного моря и его незамерзающими портами, как она предъявила права на его южный берег с Константинополем и проливами. Получив выход к Балтийскому морю, она захватила Финляндию. Поскольку новые завоевания всегда можно оправдать необходимостью оборонять старые, классическое оправдание всякого империализма, — объяснения такого сорта вполне можно отбросить; логическим завершением такой философии является завоевание всего земного шара, ибо лишь в этом случае можно будет счесть, что данное государство вполне обезопасило свои владения от внешней угрозы.
Отложив в сторону философский вопрос о том, в чем состоит притягательная сила войны, можно предложить два объяснения одержимости России военной мощью и территориальной экспансией.
Одно объяснение связано с тем, каким образом шло создание национального государства в России. Поскольку в борьбе за абсолютную власть московским правителям надо было приобрести не только самодержавный, но и единодержавный статус (см. об этом выше, стр. #83), с тех пор они инстинктивно отождествляли державную власть с приобретением территории. Экспансия вширь, по земной поверхности, шла в их умах рука об руку с экспансией вглубь, в смысле установления над подданными политической власти, которая была для них неотъемлемой составной частью суверенитета.
Второе объяснение связано с извечной бедностью России и бесконечной погоней ее обитателей за новыми ресурсами, в особенности за пахотной землей. Каждое крупное завоевание русского государства немедленно сопровождалось массовыми раздачами земель служилому сословию и монастырям и открытием новоприобретенных территорий для крестьянской колонизации. Мы располагаем иллюстрирующими эту взаимосвязь статистическими данными в отношении Польши, подвергнутой разделу в XVIII в. Как известно, Екатерина II любила использовать земельные пожалования для упрочения своего шаткого положения внутри страны. В первое десятилетие своего правления (1762-1772) она раздала приблизительно 66 тысяч крепостных душ. После первого раздела Польши в 1772 г. Екатерина приобрела новые территории, которые раздавала своим фаворитам; большинство из 202 тысяч душ, розданных ею между 1773 и 1793 гг. Происходили из областей, захваченных во время первого и второго разделов. По свершении этого Екатерине нечего стало раздавать; в 1793 г. она даже оказалась не в состоянии одарить, как обещалась, генералов и дипломатов, отличившихся в недавно закончившейся турецкой войне. Эти обещания удалось выполнить лишь после третьего раздела Польши. В один-единственный день, 18 августа 1795 г., Екатерина раздала более 100 тысяч душ, большинство из которых снова происходили из отобранных у Польши областей. [В. Семевский, «Раздача населенных имений при Екатерине II», Отечественные записки, т CCXXXIII, Э 8, август 1877, разд. «Современное обозрение», стр. 204-27]. Из приблизительно 800 тысяч крепостных мужского и женского пола, пожалованных Екатериной дворянам в период своего царствования, много больше половины происходили из земель, отнятых силою оружия у Речи Посполитой. [Подавляющее большинство этих имений было конфисковано у польских помещиков, которые отказались присягнуть на верность русскому самодержавию и предпочли отдать свои владения и эмигрировать в Польшу; остаток составился из экспроприированных владений польской короны и католической церкви.]. Здесь у нас имеется явное доказательство того, что за высокими лозунгами «национальных задач» скрывалось на самом деле вполне тривиальное стремление к захвату чужих богатств для удовлетворения ненасытного аппетита России на землю и попутного упрочения позиций монархии внутри страны. Такое положение не изменилось и по сей день. Например, данные переписей показывают, что в Латвии и Эстонии, оккупированных в 1940 г. в результате договора между СССР и гитлеровской Германией, на протяжении последующих тридцати лет (1940-1970) отмечался весьма значительный приток русского населения. Вследствие этой миграции, сочетавшейся с массовыми депортациями латышей и эстонцев вглубь России, число русских в обеих завоеванных республиках выросло более чем втрое (с 326 до 1.040 тысяч), а их процент от общего населения — почти втрое (с 10.8% до 28%). [Statesman's Yearbook... for the Year 1939 (London 1939), pp. 847 и 1119; и Центральное Статистическое Управление, Итоги всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1973, IV, стр. 14-15].
Что до Петра I, создателя российской военной мощи в период Нового времени, то у него были дополнительные причины остро интересоваться военными делами. Хотя о нем вспоминают преимущественно как о реформаторе, сам Петр видел в себе прежде всего солдата. С ранней юности неисчерпаемая энергия влекла его к предприятиям, сопряженным с соперничеством и физической опасностью. Он стал ходить, когда ему было едва шесть месяцев от роду, а подростком больше всего на свете любил играть с настоящими солдатами. Выросши в настоящего гиганта, Петр любил делить тягости походной жизни с простыми солдатами. Когда у него родился сын, Петр с великой радостью объявил народу, что Господь благословил его «еще одним рекрутом». Он был твердо убежден, что военная мощь имеет первостепенное значение для благополучия всякой страны. В письмах к своему весьма невоинственному отроку он подчеркивал господствующую роль войны в истории. [Н. Устрялов, История царствования Петра Великого, СПб.. 1859. IV стр. 346-8]. Нет ничего странного в том, что за 36-лет петровского правления Россия знала всего один по-настоящему мирный год.
Петр сразу же обнаружил, что, располагая лишь пестрой мешаниной старых и новых полков, доставшейся ему от его предшественников, он не сумеет осуществить ни одной из своих военных амбиций. Проблема дала о себе знать с жестокой определенностью в 1700 г., когда восемь с половиной тысяч шведов под началом Карла XII разгромили 45 тысяч русских, осадивших Нарву, и потом (по выражению самого Карла) расстреливали их, «как диких гусей». Девять лет спустя Петр взял реванш под Полтавой. Однако на самом деле триумф его не был столь блистателен, сколь его обычно изображают, потому что шведы, заведенные своим сумасбродным королем вглубь неприятельской территории, в день решающей битвы были вконец истощены и имели дело с более многочисленным и лучше вооруженным противником. Через два года после Полтавы Петр перенес сильное унижение, когда турки окружили его армию на Пруте; лишь дипломатическое искусство П. П. Шафирова — сына крещеного еврея, состоявшего на службе у Петра, выручило царя из этого переплета. Предпринятое Петром создание большой постоянной армии являет собой одно из ключевых событий в истории русского государства. К моменту смерти Петра Россия располагала мощным войском, состоявшим из 210 тысяч регулярных и 110 тысяч вспомогательных солдат (казаков, иноземцев и т. д.), а также 24 тысяч моряков. В отношении к населению России того времени (12-13 миллионов) военная машина такого размера почти втрое превышала пропорцию, которая считалась в Европе XVIII в. нормой того, что способна содержать страна, а именно одного солдата на каждую сотню жителей. [G. N. Clark, The Seventeenth Century, 2nd ed. (Oxford 1947), p. 100]. Для такой бедной страны, как Россия, содержание подобной вооруженной силы было огромным бременем. Чтобы страна была в состоянии нести этот груз, Петру надобно было перестроить ее налоговую, административную и общественную структуру, а также преобразовать ее хозяйственную и культурную жизнь. Более всего Петру недоставало денег; его военные экспедиции постоянно поглощали 80-85% дохода России, а однажды (в 1705 г.) обошлись и в 96%. Перепробовав разные методы налогообложения, он решил в 1724 г. начисто поломать всю складывавшуюся веками сложную систему денежных, товарных и трудовых платежей и заменить ее единым подушным налогом на все мужское население. Тягло было формально отменено, хотя его продолжали спорадически взимать до конца века. До петровских реформ окладной единицей в деревне была либо площадь пашни, либо (после 1678 г.) двор. Старые методы налогообложения позволяли плательщику уклоняться от налога: чтобы уменьшить налог на площадь пашни, он занижал ее, а для уменьшения налога на двор он набивал дом до отказа родственниками. Подушный налог, которым облагался каждый взрослый мужчина, подлежащий обложению, исключал подобные уловки. Этот метод имел и то преимущество, что поощрял крестьян расширять посевную площадь, поскольку они теперь не расплачивались за это повышенными налогами. Петр также расширил ряды плательщиков, избавившись от всяких промежуточных групп между податными и служилыми сословиями, которым в прошлом удавалось избежать всех государственных повинностей, таких как холопы, обедневшие дворяне, трудившиеся как простые крестьяне, однако считавшиеся членами служилого класса, и священники, не получившие прихода. Все эти группы были теперь приравнены к крестьянам и низведены до положения крепостных. Одна эта переклассификация увеличила число налогоплательщиков на несколько сот тысяч человек. Весьма характерно, что размер подушного налога определялся не тем, сколько могли заплатить отдельные подданные, а тем, сколько требовалось собрать государству. Правительство исчисляло свои военные расходы в 4 миллиона рублей, каковая сумма раскладывалась между различными группами налогоплательщиков. Исходя из этого, подушный налог был первоначально установлен в размере 74 копеек в год с частновладельческих крепостных, 1 рубля 14 копеек с крестьян на государственных и царских землях (которые, в отличие от первых, ничего не были должны помещику) и 1 рубля 20 копеек с посадского люда. Деньги эти полагалось выплачивать порциями три раза в год, и вплоть до отмены налога для большинства категорий крестьян в 1887 г. он оставался главнейшим источником дохода для российской монархии.
Новые налоги привели к трехкратному увеличению государственного дохода. Если после 1724 г. правительство выжимало из крестьян и торговцев в три раза больше денег, чем раньше, то, очевидно, налоговое бремя податного населения утроилось. С тех пор расходы по содержанию созданной Петром регулярной армии несли главным образом податные группы, которые, следует помнить, вносили и косвенный вклад в военные усилия, поскольку содержали своей арендной платой и трудом служилое сословие.
Притом они расплачивались не только деньгами и работой. В 1699 г. Петр приказал, чтобы в армию набрали 32 тысячи простолюдинов. В этом шаге не было ничего нового, поскольку, как отмечалось выше, начиная с XV в. московское правительство считало себя вправе набирать (и набирало) рекрутов, называвшихся «даточными людьми» (см. выше, стр. #134). Однако раньше таким способом пополнялись лишь вспомогательные войска, теперь же он сделался главным методом комплектования вооруженных сил. В 1705 г. Петр ввел регулярную рекрутскую квоту, при которой от каждых двадцати сельских и городских дворов требовалось поставить одного солдата в год,— пропорция составила примерно три рекрута на каждую тысячу жителей. С тех пор большинство российской армии составляли рекруты, набранные среди податных классов. Эти меры явились новшеством огромного исторического значения. Европейские армии в XVII в. состояли исключительно из добровольцев, то есть из наемников; хотя то тут, то там мужчин загоняли в армию способами, которые недалеко лежали от насильственного набора, ни одна страна до России не практиковала систематической воинской повинности. Испания ввела принудительный рекрутский набор в 1637 г.; то же самое сделала и Швеция во время Тридцатилетней войны. Однако то были чрезвычайные меры, точно так же, как и воинская повинность, учрежденная во Франции во время войны за испанское наследство. Обязательная воинская повинность сделалась нормой в Западной Европе лишь после Французской революции. Россия предвосхитила это современное явление почти на целое столетие. Система ежегодного набора крестьян и посадников, введенная Петром в начале своего царствования, оставалась до военной реформы 1874 г. обычным способом пополнения русского войска. Таким образом, у России есть полное право признавать за собой приоритет в области обязательной воинской повинности. Хотя рекрут и его ближайшие родственники автоматически получали свободу от крепостной неволи, русский крестьянин смотрел на рекрутчину как на настоящий смертный приговор; его заставляла сбрить бороду и покинуть семью на всю жизнь, а в будущем его ждала либо могила в далеком краю, либо, в лучшем случае, возвращение стариком, а, может быть, и калекой, в деревню, где его давно забыли и где он не мог претендовать на долю общинной земли. В русском фольклоре существует целый жанр «рекрутских плачей», напоминающих погребальные песни. Проводы, которые семья устраивала идущему в солдаты рекруту, также напоминали погребальный обряд. Что касается общественной структуры России, то главным следствием введения подушного налога и рекрутской повинности было объединение традиционно аморфной и разношерстой массы простолюдинов, включавшей кого угодно — от разорившихся дворян до простых холопов в однородное податное сословие. Выплата подушного налога и (после освобождения дворян от государственной службы) обязательная военная служба сделались отличительными приметами низшего класса, контраст между ним и элитой обозначился еще резче.
При преемниках Петра на помещиков возложили полную ответственность за сбор подушного налога со своих крепостных и стали спрашивать с них за недоимки. Затем им поручили надзор за доставкой рекрутов из своих деревень (выбор рекрутов был возложен на общины, хотя и эти полномочия постепенно перешли в руки помещиков). Посредством этих мер государство превратило помещиков в своих налоговых агентов и вербовщиков, что не могло не упрочить их власти над населением, более половины которого проживало в ту пору в частных, светских владениях. С петровских реформ начался самый жестокий период крепостничества. Теперь правительство все больше отдает частновладельческих крепостных на произвол своих помещиков. К концу XVIII в. крестьянин делается совершенно бесправен, и постольку, поскольку речь идет о его юридическом положении (а не о его общественном или хозяйственном состоянии), он становится почти неотличим от холопа.
Служилое сословие также не избегло тяжелой руки реформатора. Петр вознамерился выжать из него все, на что оно было способно, и с этой целью ввел кое-какие новшества в области образования и продвижения по службе, которые, покуда он был жив и мог надзирать над их соблюдением, сделали долю и этого сословия более безотрадной.
В допетровской Руси не было школ, и подавляющее большинство служилого класса не знало грамоты. Не считая высших слоев чиновничества и дьяков, служилые люди, как правило, имели весьма расплывчатое представление об алфавите. Петр нашел такое положение дел совершенно невыносимым, поскольку его модернизированной армии требовались люди, годные для управления войсками и способные решать относительно сложные технические задачи (например, иметь понятие о кораблевождении и наводке артиллерийских орудий). Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как устроить учебные заведения для своих слуг и заставить их в них ходить. Серия указов обязала дворян приводить своих недорослей на государственную инспекцию, вслед за которой их отправляли либо на службу, либо в учение. С тех пор сонмы подростков вырывались из своих деревенских гнезд и посылались на периодические смотры в города, где их осматривали (это иногда делал и сам император) и регистрировали чиновники герольдмейстерского ведомства, к которому перешли обязанности старого Разряда. Указ 1714 г. запретил священнослужителям венчать дворян, покуда те не докажут, что разбираются в арифметике и началах геометрии. Обязательное обучение длилось пять лет. В пятнадцатилетнем возрасте юноши поступали на действительную службу, часто в том же гвардейском полку, в котором они прошли обучение. Проведенная Петром реформа образования привела к тому, что обязательную государственную службу начинали теперь чуть ли не в детские годы. Из всех его реформ эту дворяне ненавидели больше всего.
Другая петровская реформа, сильно затронувшая жизнь служилого сословия, касалась порядка продвижения по службе. По традиции продвижение по лестнице чинов зависело в России не столько от заслуг, сколько от происхождения. Хотя местничество упразднили еще до вступления Петра на царствование, аристократия пустила во всей служебной иерархии глубокие корни. Члены фамилий, вписанных в московское дворянство, имели заметное преимущество над провинциальными дворянами в назначениях на самые теплые места, тогда как у простолюдинов вообще не было к службе доступа. Будь даже такая дискриминация в его собственных интересах, Петр все равно отнесся бы к ней нетерпимо. Поскольку он считал, что московский правящий класс невежественен, нерационален, консервативен и настроен против всего иностранного, можно было заранее предсказать, что рано или поздно Петр попытается упразднить аристократические привилегии.
Внимательно изучив западную бюрократию, Петр издал в 1722 г. один из важнейших учредительных актов в истории императорской России — так называемую Табель о рангах. Соответствующий указ отменил всю традиционную московскую иерархию чинов и званий и заменил ее совершенно, новой системой, основанной на западных образцах. Табель имела вид таблицы, в которой в трех параллельных колонках выстроены должности в трех рядах государственной службы (воинском, статском, и придворном); каждый ряд имел 14 рангов, или классов, высшим из которых был первый, а низшим — четырнадцатый. Впервые было проведено различие между военной и гражданской службой, и обе из них получили свою собственную номенклатуру и порядок продвижения. Обладатель перечисленной в Табели должности имел соответствующий ей чин, точно так же, как, например, в современной армии командир роты обыкновенно носит ранг капитана. По замыслу Петра, каждый дворянин, вне зависимости от своего социального происхождения, должен был начинать службу с самого низа и постепенно пробиваться наверх, насколько позволяют его способности и заслуги, и никак не выше того. Более богатым и физически крепким дворянам разрешалось начать службу в одном из гвардейских полков (Преображенском или Семеновском), где после нескольких лет обучения они производились в офицеры и либо оставались служить в гвардии, либо назначались в обычный пехотный полк; другие начинали солдатами в обычных полках, однако очень быстро производились в офицеры. На гражданской службе дворяне начинали службу с самой низшей должности, обладавшей чином. Простые писцы, равно как и солдаты и унтер-офицеры, стояли вне лестницы чинов и таким образом не считались дворянами.
Петру мало было создать порядок, при котором помещики имели бы побуждение служить как можно лучше. Он хотел, кроме того, дать простолюдинам возможность поступать на службу и с этой целью постановил, что солдаты, матросы и писцы, отлично исполняющие свои обязанности и годные для занятия должностей, перечисленных в Табели о рангах, имеют право на получение соответствующего чина. Такие простолюдины сразу же зачислялись в ряды дворянства, поскольку в петровской России все лица, обладавшие чином (и только они), носили дворянское звание. Оказавшись в соответствующем списке, они уже могли соперничать с дворянами по рождению. В соответствии с Табелью, простолюдины, достигшие низшего офицерского ранга на военной службе, автоматически зачислялись в наследственные дворяне, то есть зарабатывали для своих сыновей право поступать на государственную службу в четырнадцатом чине и все прочие привилегии дворянского сословия. Простолюдинам, делавшим карьеру на гражданской или придворной службе, надо было достигнуть восьмого чина для получения звания наследственных дворян; до этого они считались «личными» дворянами (этот термин появился позднее, при Екатерине II) и в таком качестве не могли владеть крепостными или передать свое положение по наследству. [В 1845 г. наследственное дворянство было ограничено верхними пятью рангами, а в 1856 — верхними четырьмя. В первой половине XIX в. личные, ненаследственные дворяне составляли от одной трети до половины всего дворянства.]. Таким образом создавались условия для продвижения на основании служебной годности и заслуг; этот замысел наталкивался на противоположные тенденции, углублявшие социальное расслоение, и по этой причине, как будет показано ниже, был осуществлен лишь частично.
Вскоре Табель о рангах превратилась в настоящую хартию служилого сословия. Поскольку в то время власть и деньги в России можно было обрести главным образом на одной лишь государственной службе, обзаведение рангом ставило его обладателя в исключительно привилегированное положение. Ему (и чаще всего также его отпрыскам) гарантировалась должность, и он пользовался к тому же самой ценной из всех хозяйственных привилегий — правом владеть землей, обрабатываемой трудом крепостных. По словам декабриста Николая Тургенева, россияне, не имевшие чина, были «en dehors de la nation officielle ou legale» — вне нации в официальном и юридическом смысле слова. [N{icolas) Tourgueneff, La Russie et Les Russes (Paris 1847), II, стр. 17]. Поступление на службу и служебное продвижение сделались в России родом национальной одержимости, особенно в низших классах; священники, лавочники и писцы спали и видели, что сыновья их получат звание корнета в армии или комиссара или регистратора на гражданской службе, которым соответствовал четырнадцатый чин, и таким образом дотянутся до кормушки. Тот же импульс, который в странах коммерческих устремлялся в накопление капитала, в императорской России направлялся обыкновенно на обзаведение чином.
Рассуждая ретроспективно, попытки Петра видоизменить характер элиты путем вливания в нее свежей крови оказались, по-видимому, более успешными в низших слоях служилого сословия, нежели в высших. Анализ состава высших четырех чинов — так называемого генералитета — обнаруживает, что в 1730 г. (через пять лет после смерти Петра) 93% их членов принадлежали к фамилиям, которые занимали высшие посты, а иногда и аналогичные должности еще в Московской Руси. [Brenda Meehan-Waters, The Muscovite Noble Origins of the Russians in the Generalitet of 1730', Cahiers de monde russe et sovietique. т. XII, Э 1-2, (1971), стр. 34]. Наиболее глубокие перемены произошли вдали от этих головокружительных высот, между четырнадцатым и десятым чином. Табель о рангах привела к внушительному расширению социальной базы служилого сословия. Сам этот класс в целом вырос необыкновенно. Такой рост объясняется производством простолюдинов в офицеры для сильно раздавшегося войска, предоставлением чинов обладателям мелких административных должностей в провинции и пополнением рядов дворянства помещиками таких окраинных областей, как Украина, татарские районы Поволжья и завоеванные части Прибалтики.
Очерченные выше реформы предназначались для того, чтобы выжать из страны больше денег и работы. В этом смысле они являли собою всего лишь улучшенный вариант московских порядков и были куда менее революционны, чем это представлялось современникам, которые в благоговейном страхе перед петровской энергией и иноземным обличьем его преобразований не разглядели их истинных истоков. В общем и целом, Петр стремился сделать московские порядки более эффективными и поэтому придал им более рациональный характер.
Насколько традиционны были петровские методы видно хотя бы из того; каким манером он выстроил свою новую столицу, Санкт-Петербург. Решение возвести город в устье Невы было принято впервые в 1702 г., однако дело почти не сдвинулось до тех пор, пока Полтавская победа не обезопасила его от шведов. [Нижеследующее изложение основывается в значительной степени на книге С. П. Луппова, История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века, М.-Л., 1957]. В 1709 г. Петр взялся за дело всерьез. Поскольку дворянам и купцам не было охоты переселяться в новый город, отличавшийся сырым климатом и отсутствием удобств, Петр обратился к принуждению. В 1712 г. он повелел, чтобы в Санкт-Петербург перевезли тысячу дворян и такое же число купцов и ремесленников. Правительство предоставляло этим переселенцам необходимую рабочую силу и строительные материалы, однако оплачивать постройку им надо было из своего собственного кармана. Внешний вид и планировка зданий строго регламентировались. Владельцам более трех с половиной тысяч душ полагалось строить себе дома из камня, а менее зажиточные дворяне могли обходиться деревом или глиной. Размер и фасад каждого частного строения должны были находиться в соответствии с чертежами, утвержденными главным архитектором города. Владельцы могли следовать своей собственной фантазии лишь в отделке интерьеров, каковое обстоятельство имело невольное символическое значение для будущности европеизированных классов России. Составили списки семей, отобранных для переезда и включавших представителей виднейших боярских родов. Во всех этих мерах весьма выпукло проступала вотчинная подкладка. Как выразился А. Романович-Славатинский, переселение дворян по правительственному указу заключало в себе «много схожего с переселениями крепостных крестьян из одного имения в другое, по воле помещика». [Дворянство в России. 2-е изд., Киев, 1912, стр. 151].
Строительство нового города в крайне неблагоприятных климатических и геологических обстоятельствах требовало непрерывной доставки рабочей силы. Для этой цели обращались к принудительному труду. В Московской Руси принудительный труд на строительных работах обычно применялся вблизи от деревень и посадов, где жили рабочие. Поскольку в прилегавших к Санкт-Петербургу областях населения было мало, Петру понадобилось ввозить рабочую силу из других районов страны. Каждый год издавались указы, по которым 40 тысяч крестьян должны были отработать несколько месяцев в Санкт-Петербурге. Подобно новой русской армии, рабочая сила собиралась в согласии с разнарядкой, установленной властями: один работник от девяти-шестнадцати дворов. Насильно завербованные рабочие со своим инструментом и запасом еды увозились за сотни верст, обычно под охраной, а иногда и в цепях, чтоб не разбежались. Несмотря на такие предосторожности, беглецов было столько, что, согласно сделанным недавно подсчетам, Петру ни в один год не удалось собрать более 20 тысяч человек. Многие из этого числа умерли от голода и болезни.
Такими азиатскими приемами было прорублено русское «окно в Европу».
Истинно революционный аспект петровских реформ был сокрыт от современников, да и сам Петр едва ли понимал его. Он заключался в идее государства как организации, служащей высшему идеалу,— общественному благу и в сопутствующей ей идее общества как партнера государства.
До середины XVII в. у россиян не было концепции «государства» или «общества». «Государство», если они вообще о нем когда задумывались, обозначало государя, или dominus'a, то есть лично царя, его штат и вотчину. Что до «общества», то оно воспринималось не одним целым, а раздробленным на отдельные чины. На Западе оба эти понятия были хорошо разработаны еще с XIII в. под влиянием феодальных порядков и римского права, и даже самые авторитарные короли о них не забывали. [Знаменитое высказывание Людовика XIV «L'Etat, c'est moi» («Государство, это я»). настолько не укладывающееся во всю западную традицию, имеет сомнительное происхождение и скорее всего апокрифично. Куда более характерны (равно как и вполне достоверны) слова, сказанные им на смертном одре: «Я ухожу, но государство живет вечно», Fritz Hartung and Roland Mousnier in Relazioni del X Congresso Internazionate Л Scienze Storiche (Firenze, 1955), IV, стр 9]. Понятие государства как элемента, отличного от особы государя, вошло в русский лексикон в XVII в. однако получило распространение лишь в начале XVIII в., в петровское царствование. «Общество» пришло еще позднее; по всей видимости, слово это распространилось в царствование Екатерины II.
Как и можно было предположить, россияне почерпнули идею государственности главным образом из западных книг, однако заимствовали ее оттуда не непосредственно. Посредниками при переносе ее на русскую почву явились православные священнослужители с Украины, где православная церковь подвергалась со времен контрреформации сильному давлению со стороны католичества. Сопротивление этому давлению заставило православную украинскую иерархию познакомиться с западной теологией и другими областями знания, относительно которых их московские собратья по своей изоляции пребывали в блаженном неведении. В 1632 г. украинское духовенство основало в Киеве (тогда все еще находившемся под властью поляков) академию для подготовки православных священников, расписание которой было построено по образцу иезуитских школ в Польше и Италии, где занимались многие из преподавателей академии. После того, как Киев попал под власть России (1667 г.), эти украинцы начали оказывать мощное влияние на русские умы. Петр весьма предпочитал их московскому духовенству, поскольку они были много ученее и более благоприятно относились к его реформам. Из этой среды вышел Феофан Прокопович, ведущий политический теоретик петровского царствования, познакомивший Россию с концепцией «самодержавства». Труды Гротиуса, Пуфендорфа и Вольфа, которые Петр приказал перевести на русский язык, еще больше способствовали популяризации концепций западной политической мысли.
Как отмечалось выше, Петр пекся о могуществе, в особенности военном, а не о европеизации страны. В каком-то смысле это относится и к его предшественникам в XVII в. Но, в отличие от них, Петр бывал в Западной Европе, подружился там с рядом европейцев и поэтому знал кое-что о природе могущества современного государства. В отличие от них, он понимал, что безжалостное выжимание большей части национального богатства казной препятствовало накоплению более важных богатств, сокрытых за видимой поверхностью вещей, богатств как экономических, так и культурных. Ресурсам такого рода надо было дать вызреть. Заимствуя терминологию другой дисциплины, можно сказать, что до Петра российские правители смотрели на свое царство как люди на охотничьей стадии цивилизации; с Петра они обратились в земледельцев. Инстинктивные позывы к захвату всякого попавшегося на глаза соблазнительного объекта постепенно, не без периодических срывов, уступили место привычке к пестованию ресурсов. Петр лишь весьма смутно представлял себе последствия своих шагов в этом направлении, сделанных им не столько из философской прозорливости, сколько по инстинкту прирожденного государственного деятеля. Энергичная поддержка, оказывавшаяся им российским промышленникам, мотивировалась стремлением сделать свою армию независимой от иноземных поставщиков; однако поддержка эта имела куда более далеко идущие последствия, поскольку сильно расширяла базу русской промышленности. Петровские новшества в области образования были рассчитаны прежде всего на подготовку артиллеристов и штурманов. Сам Петр получил довольно поверхностное образование и ценил лишь технические, прикладные навыки. Но в конечном итоге его учебные заведения не ограничились производством технических кадров, а взрастили образованную элиту, которая со временем прониклась глубокой духовностью и яростно ополчилась против всей системы мировоззрения, сосредоточенной на государственной службе, коей эта элита была обязана своим существованием.
Именно при Петре в России возникло понятие о государстве как о чем-то отличном от монарха и стоящем выше его; узкие соображения податного характера теперь уступают место более широкому национальному кругозору. Вскоре после своего вступления на царствование, Петр начал говорить об «общем благе» и тому подобных материях. [Reinhard Wittram, Peter I, Сzаr und Kaiser (Cottingen 6 г), II, стр 121-2]. Он был первым российским монархом, высказавшим идею bien public и выразившим какой-то интерес к улучшению доли своих подданных. При Петре в России впервые ощутили взаимосвязь между общественным и личным благом; немалая часть внутриполитической деятельности Петра была нацелена на то, чтобы россияне осознали эту связь между частным и общественным благосостоянием. Такую цель преследовал, к примеру, его обычай присовокуплять объяснения к императорским указам, от самым тривиальных (например, указ, запрещающий выпас скота на петербургских проспектах) до имеющих первостепенную государственную важность (таких как указ 1722 г. об изменении порядка престолонаследия). Ни один монарх до Петра не видел необходимости в таких разъяснениях; Петр первым стал обращаться с народом доверительно. В 1703 г. он открыл первую русскую газету — «Ведомости». Это издание не только внесло большой вклад в русскую культурную жизнь, оно также ознаменовало важнейшее конституционное нововведение, ибо этим шагом Петр положил конец московской традиции обращаться с внутренними и иностранными новостями как с государственной тайной. Этими и другими подобными мерами постулировалось общество, действующее в содружестве с государством. Однако предпосылки эти не были доведены до своего логического завершения, и здесь-то заключена центральная трагедия русской политики Нового времени. У Петра и его преемников не было необходимости относиться к россиянам доверительно, обращаться с ними как с партнерами, а не просто как с подданными, и внушать им сознание общей судьбы. Многочисленные режимы вотчинного и деспотического типа прекрасно существовали столетиями, обходясь без подобного решительного поворота. Но раз было решено, что интересы страны требуют существования граждан, ощущающих себя частью коллективного целого и сознающих свою роль в развитии страны, из этого неизбежно должны были вытекать определенные последствия. Было явным противоречием взывать к гражданскому чувству русского народа и одновременно отказывать ему в каких-либо юридических и политических гарантиях для защиты от всесильного государства. Совместное предприятие, в котором одна сторона обладала всей полнотой власти и вела игру по своим собственным правилам, очевидно не могло действовать как следует. И тем не менее, именно так управляют Россией со времен Петра до наших дней. Отказ властей предержащих осознать очевидные последствия привлечения общественности к делам страны воспроизводил в России состояние перманентного политического напряжения, которое сменяющиеся правительства пытались уменьшить, когда ослабляя бразды правления, когда натягивая их еще туже, но ни разу не пригласив общество занять место рядом с собою на козлах.
С понятием государства пришло и понятие политическом преступления, а это в свою очередь привело к учреждению политической полиции. Уложение 1649 г., впервые давшее преступлениям против царя и монархии определение в категории «слово и дело», еще не создало никакого специального ведомства для розыска политических преступников. Для получения сведений о крамольной деятельности царское правительство полагалось в то время на доносы частных граждан. Разбор соответствующих дел был поручен отдельным приказам, и лишь самые серьезные из них рассматривались самим царем и Думой.
Петр также сильно полагался на донос; например, в 1711 г. он повелел, что каждый (в том числе и крепостной), кто укажет на уклоняющихся от службы дворян, получит в награду их деревни. Но он не мог уже больше относиться к политическим преступлениям как к эпизодической помехе, ибо имя его врагам был легион, и попадались они во всех слоях общества. Поэтому он учредил специальную полицейскую службу, Преображенский Приказ, поручив ему расследование политических преступлений на всей территории империи. Это ведомство было создано под покровом такой секретности, что ученые и по сей день не смогли обнаружить указа о его учреждении и даже не сумели установить хотя бы приблизительно, когда этот указ мог быть издан. [Н. Б. Голикова, Политические процессы при Петре I, M., 1957, стр. 9]. Первые достоверные сведения о нем датируются 1702 г., когда вышел указ, определяющий его функции и полномочия. Указ предусматривал, что начальник Преображенского Приказа имеет право расследовать по своему усмотрению деятельность любого учреждения или лица, независимо от его чина, и принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми, для получения интересующих его сведений и предотвращения крамольных деяний. В отличие от других созданных при Петре административных ведомств, функции этого приказа были очерчены весьма расплывчато, что лишь увеличивало его силу. Никто, даже Сенат, созданный Петром для управления страной, не имел права соваться в его дела. В его застенках были подвергнуты пыткам и умерщвлены тысячи людей, в том числе крестьяне, выступившие против подушной подати и солдатчины, религиозные диссиденты и пьяницы, неприязненно высказывавшиеся о государе и подслушанные доносчиком. Полиция, однако, использовалась не только там, где речь шла о политических преступлениях, как бы широко они ни толковались. Стоило правительству столкнуться с какими-либо затруднениями, как оно начинало подумывать о том, чтобы призвать себе на подмогу полицейские органы. Так, после провала нескольких попыток начать строительство Петербурга дело было в конце концов возложено на городского полицейского начальника.
По всей видимости, Преображенский Приказ был первым постоянным ведомством в истории, созданным специально и исключительно для борьбы с политическими преступлениями. Масштаб его деятельности и полная административная самостоятельность дают основание видеть в нем прототип одного из основных органов любого современного полицейского государства.
Один из немногих надежных законов истории заключается в том, что со временем частные интересы всегда возобладают над государственными,— просто потому, что их поборники могут потерять и приобрести больше, чем ревнители государственной собственности, и посему первым приходится быть бесконечно предприимчивей.
Дворяне, записанные ведомством петербургского герольдмейстера в Табель о рангах, даже при петровском режиме, когда служебное продвижение в немалой степени определялось личными заслугами, обладали исключительными привилегиями, ибо имели в своем владении большую часть пашни и работоспособного населения страны. Тем не менее, положение их как собственников оставалось весьма шатким, поскольку зависело от того, насколько успешно они справляются со своими служебными обязанностями, и стеснялось множеством юридических ограничений. У дворянства не было также защиты от государственного и чиновничьего произвола. Как и можно было ожидать, больше всего дворянам хотелось, чтобы условное владение землей и крепостными превратилось в прямое право собственности, и чтобы им гарантировали неприкосновенность личности. Им хотелось также более широкой свободы предпринимательства, не ограниченной столь жесткими государственными монополиями. И, наконец, поскольку они стали теперь образованней и смотрели на внешний мир с большим любопытством, дворянам хотелось приобрести право ездить за границу и доступ к информации. Большая часть этих желаний была выполнена в течение четырех десятилетий после смерти Петра (1725 г.), а остальные — до истечения столетия. Особенно судьбоносным явилось царствование Екатерины, ибо, хотя ее больше помнят за ее любовные похождения и пристрастие к роскоши, именно она, в гораздо большей степени, чем Петр, произвела революционные преобразования в российских порядках и повела страну по западному пути.
Разложение вотчинного строя происходила с замечательной скоростью. К сожалению, историки уделили гораздо меньше внимания его упадку, чем истокам, и поэтому в истории его разложения много неясного. Нам придется, ограничить изложение несколькими гипотезами, истинность которых могут подтвердить лишь дальнейшие исследования
1. В период империи численность дворянства весьма значительно возросла: с середины XVII до конца XVIII в. мужская его часть увеличилась втрое, а с конца XVIII в. до середины XIX в. — еще в четыре раза, то есть с примерно 39 тысяч человек в 1651 г. до 108 тысяч в 1782 г. и до 4464 тысяч в 1858 г.; [Данные по 1782 и 1858 гг взяты из работы В. М. Кабузана и С. М. Троицкого, «Изменения в численности, удельном весе и размещения дворянства в России в 1782-1858 гг.» История СССР, Э 4, 1971, стр. 158].
2. Ряд мер, проведенных Петром в отношении дворянства, привел к укреплению положения этого сословия:
а. Упорядочив процедуру продвижения по службе, Табель о рангах помогла освободить дворянство от полной зависимости от личной милости царя и его советников; она сделала служилое сословие более самостоятельным. Впоследствии короне уже не удалось повернуть этот процесс вспять.;
б. Введение обязательного обучения для молодых дворян имело на них объединяющее действие и усиливало у них чувство сословной солидарности; гвардейские полки, где обучалась и получала военную подготовку дворянская элита, приобрели чрезвычайное влияние;
в. Введение подушного налога и рекрутской повинности настолько усилило власть помещика, что он превратился в своем имении в настоящего сатрапа;
3. В 1722 г., после столкновения с царевичем Алексеем, Петр упразднил традиционный порядок престолонаследия, основывавшийся на первородстве, и предоставил каждому монарху выбирать себе преемника. В оставшуюся часть века русская монархия была выборной; со смерти Петра I и до вступления на престол Павла I в 1796 г. русских правителей избирали высшие сановники по соглашению с офицерами гвардейских полков. Эти две группы отдавали предпочтение женщинам, особенно тем, кто по слухам отличался фривольностью; считали, что женщины проявят к государственным делам лишь самый поверхностный интерес. В благодарность императрицы жаловали посадившим их на трон людям крепостных, поместья и всяческие привилегии.
4. Военные реформы Петра и его преемников дали России армию, равных которой не было в Восточной Европе. Польшу, Швецию и Турцию в расчет больше брать не приходилось, тем более что каждая из них раздиралась внутриполитическим кризисом; теперь пришла их очередь бояться России. В течение XVIII в. были, наконец, покорены и степные кочевники. С ростом могущества и безопасностью границ пришла постоянно увеличивающаяся склонность наслаждаться жизнью, и, соответственно, упало значение службы.
5. Те же самые реформы, переложив бремя военной службы на рекрутов, уменьшили государственную нужду в дворянах, основной, функцией которых сделалась теперь офицерская служба в войске.
6. Говорят, что при Петре Россия усвоила западную технику, при Елизавете — западные манеры, а при Екатерине — западную мораль. И действительно, в XVIII в. у Запада переняли чрезвычайно много. Началось с простого копирования всего западного, которым увлеклись царский двор и придворная элита, а кончилось перенятием самого духа западной культуры. По мере распространения западных веяний сохранение старой служебной структуры стало вызывать у государства и дворян известную неловкость. Дворянство возжелало походить во всем на западную аристократию, пользоваться ее статусом и правами, и российская монархия, жаждавшая оказаться в первых рядах европейского Просвещения, до какого-то предела пошла дворянству навстречу.
На протяжении XVIII в. самодержавие и дворянство Пришли к общему выводу, что старый порядок себя изжил. Именно в такой атмосфере и были удалены социальные, хозяйственные и идеологические подпорки вотчинного строя. Мы рассмотрим экономическую либерализацию в Главе 8-й и раскрепощение мысли в Главе 10-й, а пока обрисуем социальную сторону этого процесса, именно — распадение системы государственной службы. Первыми выгадали от общего ослабления монархии, произошедшего после смерти Петра, дворяне на военной службе. В 1730 г. провинциальное дворянство сорвало попытку нескольких старых боярских фамилий навязать конституционные ограничения только что избранной на престол императрице Анне. В благодарность она постепенно облегчила условия государственной службы, которыми Петр нагрузил дворянство. В 1730 г. Анна отменила петровский закон, по которому помещики обязаны были завещать свои имения лишь одному наследнику (см. ниже, стр. #232). На следующий год она учредила для дворян Благородный Кадетский Корпус, где их отпрыски могли начинать службу среди себе подобных и не мараться общением с простолюдинами. В 1736 г. Анна издала важный указ, по которому возраст начала государственной службы для дворян повышался с 15 до 20 лет, и в то же время служба перестала быть пожизненной и ограничивалась теперь 25 годами. Эти изменения позволяли уходить в отставку в возрасте 45 лет, если не ранее, поскольку некоторых дворян заносили в списки гвардейских полков в два-три года, и пенсионный стаж шел у них еще с той поры, когда их носила на руках няня. В 1736 г дворянским семьям, имевшим нескольких мужчин (сыновей или братьев), было позволено оставлять одного из них дома для ведения хозяйства. Начиная с 1725 г. вошло в обычай давать дворянам длительные отпуска для поездок в свои поместья. Отказались от обязательных смотров дворянских отпрысков, хотя правительство продолжало настаивать на их обучении и перед вступлением их на службу в двадцатилетнем возрасте устраивало им несколько экзаменов.
Кульминацией этих нововведений явился манифест о пожаловании «всему русскому благородному дворянству вольности и свободы», изданный в 1762 г. Петром III. Манифест «на вечные времена» освободил русское дворянство от обязательной государственной службы в какой-либо форме. Кроме того, Манифест дал им право на получение заграничного паспорта, даже если они имели целью поступить на службу к иностранному государю; так нежданно-негаданно было восстановлено древнее дворянское право свободного перехода, упраздненное Иваном III. При Екатерине II Сенат по меньшей мере трижды подтверждал положения Манифеста, жалуя притом дворянству новые права и привилегии (например, в 1783 г. дворяне получили право заводить собственные печатные станки). В 1785 г. Екатерина подписала грамоту дворянству, вновь подтвердившую все вольности, приобретенные этим сословием после смерти Петра, и добавившую новые. Находившаяся в их руках земля юридически признавалась теперь их полной собственностью. Дворян освободили от телесных наказаний. Эти права сделали их (по крайней мере, на бумаге) ровней высшим классам самых передовых стран Запада. [Представленная здесь схема, согласно которой русское самодержавие, уступив давлению со стороны дворянства, освободило его и сделало привилегированным и праздным классом, соответствует взглядам большинства историков России как до, так и после революции. Эта точка зрения была недавно поставлена под сомнение Марком Раевым (Marc Raeff, Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth Century Nobility. (New York 1966), особенно на стр. 10-12, и статья в American Historical Review, LXXV, 5 (1970), pp. 1291-4) и Робертом Джонсом (Robert E. Jones, The Emancipation of the Russian Nobility. 1762-1785, Princeton, N. J. 1973) Эти авторы доказывают, что не дворяне освободились от государства, а наоборот государство покончило со своей зависимостью от дворян У государства было больше служилых людей, чем нужно; оно обнаружило, что для провинциального управления дворянство не годится, и решило заменить его профессиональными бюрократами. Хотя этот аргумент не лишен достоинств, в целом он не представляется убедительным Если у самодержавия на самом деле был избыток служилых людей (что тоже не доказано), оно могло решить эту проблему, отказавшись от их услуг временно, вместо того, чтобы делать это «на вечные времена» Затем, поскольку жалованье выплачивалось редко, большой экономии таким массовым роспуском служилого люда достичь было нельзя. Неясно также, почему бюрократизация требовала освобождения дворян, поскольку бюрократы сами принадлежали к этому классу. Недостаток такой трактовки заключается в том, что она игнорирует весь процесс «раскрепощения» общества, в котором освобождение дворян было лишь одной из многих сторон и который нельзя удовлетворительно объяснить стремлением сэкономить или какими-либо другими узкими соображениями raison d'Etat.].
С точки зрения закона, эти меры затрагивали в равной мере как помещиков, находящихся в войске, так и сидящих на жалованьи чиновников, занимающих ответственные посты на гражданской службе, поскольку все лица, имеющие перечисленные в Табели о рангах должности, технически считались дворянами. На практике, однако, в XVIII в. между этими двумя категориями, имевшими столь различное социальное происхождение, стали проводить резкое разграничение. Вошло в привычку применять термин «дворянин» к помещикам, офицерам и потомственным дворянам и называть профессиональных государственных служащих «чиновниками», то есть обладателями чинов. Если зажиточный помещик, особенно имевший длинную родословную, назначался на высокую административную должность типа губернатора или главы петербургского министерства, его никогда не называли чиновником. С другой стороны, если сыну обедневшего помещика приходилось занять конторскую должность, он терял статус дворянина в глазах общества. Это разграничение было еще пуще усугублено тем, что Екатерина создала корпоративные организации, называвшиеся дворянскими собраниями, в которых право голоса предоставлялось лишь помещикам. Пропасть, ширящаяся между двумя категориями дворян, опровергала предвидения Петра. Опасаясь, что многие дворяне попытаются избежать военной службы, записавшись в чиновники, он ограничил число членов одной и той же семьи, могущих избрать административное поприще. На самом деле, дворяне избегали чиновничью стезю, особенно после своего освобождения от обязательной государственной службы, — и им не требовались больше уловки, чтобы от нее избавиться. У правительства вечно не хватало толковых чиновников, и оно вынуждено было пополнять ряды государственных служащих отпрысками священнослужителей и мещан, отчего престиж чиновной карьеры упал еще ниже. Порой, когда нехватка чиновников делалась особенно острой, как случилось в период екатерининских реформ губернского управления, правительство прибегало к принудительному набору на государственную службу учеников духовных семинарий.
Подобно дворянам-землевладельцам, чиновники середины XVIII в. начали требовать у государства уступок. Они тоже хотели отделаться от наиболее неудобных сторон государственной службы, в особенности от того положения Табели о рангах, согласно которому повышение в чине зависело от наличия соответствующей должности. Они куда больше предпочитали старый московский порядок (хоть он и ограничивался небольшим верхним слоем государственных служащих), при котором чин давал своему обладателю право на соответствующую казенную должность. Эта московская традиция была настолько сильна, что даже при жизни Петра основные положения Табели о рангах грубо нарушались; скорее всего это относилось к обладателям четырех высших чинов, генералитету, который, как уже отмечалось, в 1730 г. почти поголовно происходил из знатных московских служилых родов. При петровских преемниках требования к государственным служащим еще более понизились. Например, для поощрения образования Елизавета позволила выпускникам высших учебных заведений начинать службу не в самых низких чинах. Тем не менее, по крайней мере если речь идет о низших уровнях бюрократической машины, петровский принцип оставался в силе, и среднему чиновнику, чтобы быть повышенным до следующего чина, приходилось ждать, пока не освободится соответствующая должность. От этого принципа отказались в начале царствования Екатерины Второй, примерно в то же время, когда монархия упразднила принцип обязательной государственной службы, и в большой степени с той же целью — завоевать поддержку в стране. 19 апреля 1764 г. Екатерина постановила, чтобы всех высших государственных служащих, состоявших в каком-либо чине семь и более лет без перерыва, повысили в следующий по очереди чин. [Указ этот, имевший первостепенное значение в истории России, не приводится ни в Полном Собрании Законов, ни в соответствующем томе Сенатского Архива (XIV СПб., 1910) Никто из историков, кажется, его так и не видел, и известен он лишь из имеющихся на него ссылок]. Три года спустя Сенат спросил у императрицы, как она пожелает поступить с теми чиновниками, которым в 1764 г. не хватило до семи лет нескольких месяцев и которые застряли в своем чине, тогда как их более счастливые собратья передвинулись на ступеньку вверх. Недолго думая, Екатерина дала ответ, чреватый вескими последствиями: она повелела, чтобы всех государственных чиновников, прослуживших в своем чине минимум семь лет, автоматически продвигали на следующую ступеньку. Решение это было принято 13 сентября 1767 г. и послужило прецедентом, которому впоследствии следовали неукоснительно; с тех пор на Руси вошло в правило повышать чиновников по службе по старшинству, почти вне зависимости от их личных качеств, достижений или наличия свободных должностей. Позднее сын Екатерины Павел сократил этот срок для большинства чинов до четырех лет, и поскольку в любом случае давно уж повелось пропускать 13-й и 11-й чины, у чиновника теперь появилась вполне твердая уверенность, что раз уж он получил низший чин, остался на службе и не вступает в трения с начальниками, он в свое время доберется до желанного восьмого чина и заработает для своих наследников потомственное дворянство (опасение быть захлестнутыми морем чиновников-дворян отчасти и побудило Николая I и Александра II ограничить потомственное дворянство верхними пятью или четырьмя чинами. (См. выше, стр. #167). Екатерининская политика поставила Табель о рангах с ног на голову: вместо того; чтобы чин приходил с должностью, должность теперь приходила с чином.
Манифест 1762 г., подкрепленный грамотой 1785 г. , лишил монархию контроля над землевладельческим сословием; указ 1767 года лишил ее контроля над бюрократией. С тех пор короне ничего не оставалось, кроме как автоматически повышать и повышать чиновников, отсидевших в своем чине положенное число лет. Таким образом, бюрократии удалось вцепиться в государственный аппарат мертвой хваткой, а его посредством — и в обитателей государственных и царских земель, за управление которыми он нес ответственность. Уже в то время наблюдательные комментаторы отмечали пагубные последствия такого устройства. Среди них был политический эмигрант князь Петр Долгоруков, происходивший из одного из наиболее аристократических домов. Накануне Великих Реформ 1860-х гг, он писал, призывая к упразднению чина как к предпосылке сколько-нибудь серьезного улучшения российской действительности:
Император Всея Руси, претендующий быть Самодержцем, полностью лишен права, на которое могут притязать не только все конституционные монархи, но даже и президенты республик,— права выбирать себе чиновников. Чтобы занять в России некую должность, надобно обладать соответствующим чином. Если монарх отыскивает честного человека, способного выполнять известную функцию, но не состоящего в чине, потребном для занятия соответствующей должности, он не может его на нее назначить. Это учреждение являет собою крепчайшую гарантию ничтожества, низкопоклонства, продажности, посему изо всех реформ эта более всего ненавистна всесильной бюрократии. Изо всех пороков чин искоренить труднее всего, ибо у него столь много влиятельных заступников. В России достоинства человека есть великое препятствие в его служебном продвижении... Во всех цивилизованных странах человек, посвятивший десять-пятнадцать лет жизни учению, странствиям, земледелию, промышленности и торговле, человек, приобретший специальные знания и хорошо знакомый со своей страной, займет государственную должность, где сможет выполнять полезное дело. В России все совсем иначе. Человек, оставивший службу на несколько лет, может вновь поступить на нее лишь в том чине, какой был у него в момент отставки. Кто никогда не служил, может поступить на нее лишь в низшем чипе, вне зависимости от своего возраста и заслуг, тогда как негодяй «ли полукретин, который ни разу не покинет службы, в конце концов достигнет в ней чинов высочайших. Из этого следует та единственная в своем роде аномалия, что средь русски», наделенных таким умом и такими похвальными качествами, где дух, так сказать, витает по деревням, управление отличается никчемностью, которая неизменно увеличивается ближе к высшему чину и в известных высоких кругах управления вырождается поистине в полуидиотизм. [Pierre Dolgorukoff, La verite sur la Russie (Raris I860), стр 83-6. Порядок автоматического повышения по старшинству позднее был перенесен и в армию, вследствие чего, в числе прочего, понизилось качество офицерского состава. Солженицын возлагает на него вину за катастрофическое поражение русской армии в начале Первой мировой войны.].
Губило русскую армию СТАРШИНСТВО — верховный неоспоряемый счет службы и порядок возвышения по СТАРШИНСТВУ. Только бы ты ни в чем НЕ ПРОВИНИЛСЯ, только бы не рассердил начальство — и сам ход времени принесет тебе к сроку желанный следующий чин, а с чином и должность. И так уж приняли всю эту разумность, что полковник о полковнике, генерал о генерале первое спешат узнать — не в каких боях он был, а с какого года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в какой он фазе перехода на очередную должность (Август Четырнадцатого, гл 12).
Какой бы суровой ни казалась эта страстная оценка, содержащимся в ней основным обвинениям нельзя отказать в справедливости. Она указывает, между прочим, на немаловажную причину отчужденности русских образованных классов от государства. Были, разумеется, попытки изменить положение, поскольку каждому монарху XIX в. хотелось вернуть себе контроль над государственными служащими, столь легкомысленно утраченный Екатериной II. Самой известной из этих попыток был указ, изданный в 1809 г. Александром I по совету М. М. Сперанского и установивший, что для повышения в 8-й чин чиновникам полагается сдать экзамен; указом этим также разрешалось, опять же посредством экзамена, продвижение из 8-го чина сразу в пятый. Однако и эта и другие подобные попытки разбивались о плотное сопротивление чиновничества.
Начиная с 1760-х гг., в России, которою до того времени управляли строго иерархически из одного центра, возникает своего рода двоевластие. Самодержец продолжал распоряжаться неограниченной властью в сфере внешней политики и мог делать, что ему заблагорассудится с той частью собранных налогов, которая доходила до казны. В управлении страной, однако, он был сильно стеснен властью своих высших слуг — дворян и чиновников. Население России было, по сути дела, отдано в эксплуатацию этим двум группам. Полномочия их были достаточно четко разграничены. А. Романович-Славатинский делит послеекатерининскую Россию на две части, одну из которых он называет «дворянскими» землями, а другую — «чиновными», в зависимости от пропорции каждой группы в населении данной области. В первую категорию он включает 28 губерний, лежащих в центре страны, в цитадели, крепостничества. По мере удаления от центра в сторону пограничных губерний начинает преобладать чиновничество. [Дворянство а России, стр. 487-8]. Герцен, дважды побывавший в ссылке в провинции, отмечал подобное же явление: «Власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири». [А. И. Герцен, Собрание сочинений, М., 1956, VIII, стр. 236]. Отдав страну в прямую эксплуатацию примерно 100 тысячам помещиков и 50 тысячам чиновников с их семьями, помощниками и нахлебниками, самодержавие стало относиться к стране в целом скорее как чужеземный завоеватель, нежели как абсолютная монархия в западном смысле. Оно больше не заступалось за простолюдинов перед элитой, как оно делало, пусть и в весьма ограниченных пределах, в московские времена. Что уж там говорить: Петр в своем законодательстве называл крепостных «подданными» своих помещиков, используя термин из языка государственного права в приложении к отношениям, с первого взгляда вполне частным. В то же самое время, как будет отмечено ниже (стр. #238), дворяне этого времени в сношениях с короной имели обыкновение называть себя «рабами». «Если рабы назывались подданными, то и подданные именовались рабами»,— отмечает М. Богословский, обращая внимание на пережитки строго вотчинных отношений в эпоху кажущейся европеизации. [Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века, М., 1906, стр. 50]. Деньги, которые самодержавие выжимало из страны при посредстве своих агентов, тратились им не на нужды ее обитателей, а на содержание двора и войска. «Оно тратило на провинции не больше, чем ему надобно было потратить на их эксплуатацию». [Robert Е. Jones, The Emancipation of the Russian Nobility, 1762-1785 (Princeton, N J . 1973). p. 80].
После 1762 г. русская монархия сделалась в немалой степени пленницей тех групп, которые она сама создала когда-то. Фасад императорского могущества прикрывал всего-навсего бесконечную слабость самодержавия и в то же самое время скрывал настоящую силу, которой обладали дворяне и чиновники.
Казалось бы, в свете вышесказанного, положение вполне созрело для того, чтобы элита взялась за отобрание у короны политических прерогатив, которые та намеревалась оставить за собою. Чтобы понять, почему этого не случилось, нам придется разобраться в состоянии и политических взглядах основных общественных групп страны.
II. ОБЩЕСТВО
ГЛАВА 6. КРЕСТЬЯНСТВО
Вряд ли есть смысл подробно объяснять, почему наш обзор общественных классов старой России начинается с крестьянства. Еще в 1928 г. четыре пятых населения страны составляли лица, официально причисленные к крестьянскому званию (хотя и не все из них обязательно занимались земледелием). Даже сегодня, когда переписи показывают, что большинство жителей России относятся к горожанам, в стране сохраняются несомненные следы крестьянского прошлого из-за того, что жители советских городов в большинстве своем были раньше крестьянами или представляют собою ближайших потомков крестьян. Как будет показано ниже, на протяжении всей русской истории городское население сохраняло тесные связи с деревней и переносило свои деревенские привычки на городскую почву. Революция показала, насколько непрочной была урбанизация страны. Почти сразу же после ее начала городское население стало разбегаться по деревням; с 1917 по 1920 г. Москва потеряла половину своих жителей, а Петроград — две трети. Как ни парадоксально, хотя революция 1917 г. совершилась во имя создания городской цивилизации и была направлена против «идиотизма деревенской жизни», на самом деле она усилила влияние деревни на русскую жизнь. После свержения и разгона старой европеизированной элиты занявший ее место новый правящий класс в массе своей состоял из крестьян в разных обличьях — земледельцев, лавочников и фабрично-заводских рабочих. Поскольку настоящей буржуазии в качестве образца для подражания не было, новая элита инстинктивно строила себя по образу и подобию деревенского верховода — кулака. И по сей день ей не удалось избавиться от следов своего деревенского происхождения.
В середине XVI в., во время поземельного прикрепления крестьян, они начали переходить от подсечно-огневого земледелия к трехполью. При этой системе пашня делилась на три части, одну из которых засевали весной яровыми, другую в августе — озимыми, а третью держали под паром. На следующий год поле, бывшее под озимыми, засевалось яровыми, пар — озимыми, а яровое поле оставлялось под паром. Цикл этот завершался каждые три года. Такой метод использования земли не был особенно экономным, хотя бы потому, что треть земли при нем постоянно стояла без дела. Агрономы стали критически высказываться о нем еще в XVIII в., и на крестьян оказывали немалое давление, чтобы заставить их отказаться от трехполья. Однако, как показал на примере Франции Марк Блох, чьи выводы были подтверждены на русском материале Майклом Конфино (Michael Confino), сельскохозяйственные методы нельзя отделить от всего, комплекса крестьянских институтов в целом. Мужик отчаянно сопротивлялся попыткам заставить его отказаться от трехполья, которое господствовало в русском земледелии и добрую часть двадцатого века. [См. блестящее исследование Майкла Конфино (Michael Confine) по данному предмету, Systemes agraires et progres agricole (Paris — The Hague 1969)].
Исследователи русской деревни часто отмечают весьма резкий контраст между ее жизненным ритмом в летние месяцы и в остальную часть года. Краткость периода полевых работ вызывает необходимость предельного напряжения сил в течение нескольких месяцев, за которыми наступает длительная полоса безделья. В середине XIX в. в центральных губерниях страны 153 дня в году отводились под праздники, причем большая их часть приходилась на период с ноября по февраль. Зато примерно с апреля по сентябрь времени не оставалось ни на что, кроме работы. Историки позитивистского века, которым полагалось отыскивать физическое объяснение для любого культурного или психологического явления, усматривали причину несклонности россиян к систематическому, дисциплинированному труду в климатических обстоятельствах:
В одном уверен великоросс — что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии. [В. Ключевский, Курс русской истории, М., 1937, I, стр. 324-5].
Весна наступает в России внезапно. Разом ломается на реках лед, и вызволенные из зимнего заточения воды гонят льдины вниз по течению, сметая на своем пути все преграды и перехлестывая через берега. Белая пустыня обращается в зеленое поле. Земля пробуждается к жизни. Такова русская оттепель — природное явление настолько замечательное своей внезапностью, что слово это с давних времен используют, чтобы описать пробуждение духа, мысли или политической жизни. С началом оттепели для крестьянина наступает полоса напряженнейшего физического труда; до появления машин работали и по 18 часов в день. Проворство, с которым надо было завершить полевые работы, оборачивалось одной из самых скверных сторон крепостничества: крепостной не мог рассчитать время так, чтобы отработать положенное на хозяина, а потом спокойно трудиться на себя. Иногда помещики заставляли крепостных сперва возделать господскую землю и лишь потом позволяли им заняться своей. В таких случаях крестьяне трудились круглые сутки, днем обрабатывая помещичью землю, а ночью — свою собственную. Темп полевых работ достигал наивысшего напряжения в августе месяце, когда надо было сжать яровые и посеять озимые. Короткое время полевых работ оставляло так мало возможности для экспериментирования, что нечего удивляться косности русского крестьянина, когда речь заходила о каких-либо переменах в его привычной работе; один ложный шаг, потеря нескольких дней — и ему предстоит голодовка.
Как только земля, твердая зимой, как камень, размягчалась, крестьянская семья отправлялась в поле пахать и сеять яровые. В северных и центральных областях главной яровой культурой был овес, а озимой — рожь. В XIX в. крестьянин потреблял в среднем три фунта хлеба в день, а во время урожая и до пяти фунтов. Пшеницу там сеяли меньше, отчасти потому, что она хуже переносит местный климат, отчасти из-за того, что она требует больше заботы, чем рожь. Дальше к югу и на восток рожь уступала место овсу и пшенице, которую выращивали главным образом на вывоз в Западную Европу. Картофель появился в России довольно поздно и не вошел в XIX в. в число важнейших культур: под него отводилось лишь 1,5% посевной площади (1875 г.). Поскольку по случайному совпадению за появлением в России картофеля в 1830-х гг. последовала большая эпидемия холеры, вокруг него образовались всяческие суеверия. На своих собственных огородах крестьяне выращивали главным образом капусту и огурцы, которые были важнейшей частью их рациона после хлеба; огурцы солили, капусту квасили. Овощи занимали в крестьянском рационе первостепенное место, поскольку по предписаниям православной церкви по средам и пятницам, а также во время четырех больших постов, длившихся по несколько недель, верующим полагалось воздерживаться не только от мяса, но и ото всякой еды животного происхождения, включая молоко и молочные продукты. Национальным напитком был квас; к чаю приобрели вкус лишь в XIX в. Пища была острой и однообразной, но здоровой.
Жили крестьяне в бревенчатых избах, обставленных очень скудно: стол да лавки, вот и почти вся мебель. Спали на глиняных печах, занимавших до четверти избы. Труб, как правило, не делали и топили по-черному. В каждой избе был «красный угол», где висела по меньшей мере одна икона святого-покровителя, обыкновенно Николая Угодника. Приходивший гость прежде всего бил перед иконой поклоны и крестился. [Интересно, как коммунистический режим воспользовался этими крестьянскими символами в своих собственных целях. «Красный» — слово, значившее для крестьянина также и «красивый», сделалось эмблемой режима и любимейшим его прилагательным. Говорит сама за себя и аналогия между «большаком» в «большевиком» — в обоих случаях это символ власти.]. Санитария и гигиена были совсем незатейливы; в каждой деревне была баня, скопированная с финской сауны, где крестьяне мылись по субботам и переодевались в чистое. Будничная одежда была непритязательна: крестьяне победнее носили платье, представлявшее собою сочетание славянского и финского стилей — длинную полотняную рубаху, перевязанную у пояса, полотняные штаны, лапти или валенки,— все домашнего изготовления. Кто мог позволить себе покупную одежду, предпочитал восточный покрой. Зимой крестьяне носили тулупы из овчины. Женщины повязывали голову платком — вероятно, поздний отголосок чадры.
Великорусская деревня была выстроена в линейном плане: по бокам широкой немощеной дороги стояли избы с огородами. Деревню окружали поля. Стоявшие на отшибе среди полей отдельные хутора встречались в основном на юге страны.
Теперь мы переходим к крепостному праву, которое вкупе со сложной семьей и общиной являлось одним из трех важнейших крестьянских учреждений при старом режиме. Для начала приведем кое-какие статистические данные. Будет серьезной ошибкой полагать, что до 1861 г. крепостные составляли большинство российского населения. Последняя ревизия до освобождения крестьян (1858-1859 г.) показала, что в России было 60 миллионов жителей. Из этого числа 12 миллионов являлись вольными людьми: дворяне, духовенство, мещане, крестьяне-единоличники, казаки и т. д. Остальные 48 миллионов разделялись примерно поровну на две категории сельских жителей: государственных крестьян, хотя и прикрепленных к земле, но не считавшихся крепостными, и помещичьих крестьян, сидевших на частной земле и лично закрепощенных. Последние, крепостные в строгом смысле слова, составляли 37,7% населения империи (22.500 тысяч человек). [А. Тройницкий, Крепостное население в России по десятой народной переписи, СПб.. 1861]. Самые крупные скопления крепостных располагались в двух районах: в центральных губерниях, колыбели Московского государства, где зародилось крепостничество, и в западных губерниях, приобретенных с разделом Польши. В этих областях крепостные составляли больше половины населения. В иных губерниях процент крепостных достигал почти 70. По мере удаления от центральных и западных губерний их число убывало. В большинстве пограничных областей, включая Сибирь, крепостной неволи не знали. Государственные крестьяне разделялись на несколько неоднородных групп. Костяк их состоял из обитателей царских земель и остатков «черносошных» крестьян, большую часть которых монархия раздала служилому люду. Обе эти группы были поземельно прикреплены во второй половине XVI в.. В XVIII в. к ним были добавлены крестьяне из секуляризованных монастырских и церковных владений, инородцы, в том числе татары, финские народности, населявшие центральную Россию, и кочевники Сибири и Средней Азии, и самостоятельные землевладельцы, не входившие ни в какое сословие, включая деклассированных дворян. Поскольку они не платили аренды и не работали на помещику, с государственных крестьян взыскивалась более высокая подушная подать, чем с владельческих. Им не разрешалось бросать свою деревню без дозволения властей. В остальном они были вполне свободны. Заплатив положенный взнос, они могли записаться в ряды городского торгового люда, и из их числа вышла немалая часть русских купцов, равно как и промышленников и фабричных рабочих. Хотя у них не имелось юридического права на обрабатываемую ими землю, они могли распоряжаться ею, как хотели. Деятельность крестьян — земельных спекулянтов заставила правительство издать в середине XVIII в. указы, резко ограничившие куплю-продажу государственной земли. Сомнительно, однако, чтоб эти указы возымели действие. В то же время правительство также заставило государственных крестьян, доселе владевших землей, дворами, вступить в общины. Больше всего жизнь государственных крестьян отравляли вымогатели-чиновники, защиты от которых искать было негде. Чтобы навести в этом деле порядок, Николай I учредил в конце 1830-х гг. Министерство Государственных Имуществ, которому было вверено управление государственными крестьянами. Одновременно государственные крестьяне получили право собственности на свою землю и разрешение создавать органы самоуправления. С тех пор они сделались фактически свободными людьми.
В категории владельческих крестьян, то есть собственно крепостных, следует различать тех, кто рассчитывался с помещиком по большей части или исключительно оброком, и тех, кто отрабатывал барщину. Географическое расположение этих двух групп в основном совпадает с делением на лесную зону (на севере) и черноземный пояс (на юге и юго-востоке).
До начала XIX в., когда основная область русского земледелия решительно сдвинулась в черноземный пояс, она лежала в центральном районе тайги. Выше отмечалось, что качество почвы и климатические условия позволяли здесь населению не умереть с голоду, но не давали ему, как правило, возможности произвести значительный избыток продовольствия. Именно по этой причине множество крестьян в лесной зоне, особенно поблизости от Москвы, были земледельцами лишь по названию. Они сохраняли связь с родной общиной и продолжали платить подушную подать и свою долю оброка, однако уже больше не работали на земле. Такие крестьяне бродили по стране в поисках заработка, нанимались на фабрики и рудники, батрачили или делались коробейниками. Например, многие извозчики и проститутки в городах были крепостными и отдавали часть своего заработка помещику. Оброчные крестьяне часто соединялись в артели, работавшие по заказам частных клиентов и делившие прибыль между своими членами. Существовало множество артелей каменщиков и плотников. К числу наиболее знаменитых относилась артель банковских посыльных, гарантировавшая сохранность крупных денежных сумм, проходивших через руки ее членов; очевидно, они делали свое дело вполне добросовестно. В 1840-х гг. от 25 до 32% всех крестьян мужского пола в северо-восточных губерниях России жили вне своих деревень. [И. Д. Ковальченко, Руское Крепостное крестьянство в первой половине XIX в, М., 1967, стр. 86]. В некоторых местностях крепостные сдавали свою землю другим крепостным или бродячим батракам, а сами полностью переключались на ремесленное производство. Так, в первой половине XIX в. на Севере появилось множество деревень. Bсе крепостное население которых занималось изготовлением разнообразнейших товаров, среди которых на первом месте стояли хлопчатобумажные ткани,— эту отрасль крепостные практически монополизировали. Поскольку на Севере земледелие приносило скудную прибыль, тамошние помещики предпочитали сажать своих крепостных на оброк. Опыт показывал, что если крестьян предоставить самим себе, они прекрасно разберутся, где им лучше заработать, а с богатых крестьян получался и более высокий оброк. Хозяева зажиточных крепостных купцов и промышленников (типа тех, которых мы опишем в главе, посвященной среднему классу) облагали их под видом оброка неким частным подоходным налогом, который мог достигать многих тысяч рублей в год. Накануне освобождения 67,7% помещичьих крестьян в семи центральных губерниях сидели на оброке. Здесь барщина существовала обыкновенно в поместьях меньшего размера, где было сто или менее того крепостных душ мужского пола. На Севере у крепостного было больше земли: поскольку эта земля была не так плодородна, помещик меньше был в ней заинтересован. Помещики, за исключением самых богатейших, обычно передавали свои имения крепостным за твердый оброк, а сами перебирались в город или записывались на государственную службу. На Севере площадь земельного участка на душу мужского пола в среднем составляла 4,7 гектара по сравнению с 3,5 гектара в черноземной полосе.
На Юге и Юго-Востоке помещичьи крестьяне находились в ином положении. Здесь плодородие почвы давало помещикам побуждение жить в имениях и самолично вести хозяйство. Такая тенденция пошла со второй половины XVIII в., но проявилась полностью лишь в XIX в.. Чем больше северные помещики сворачивали сельскохозяйственное производство, тем больше был стимул развивать его на юге, поскольку рынок на продовольственные продукты на севере продолжал расширяться. Этот стимул сделался еще сильнее с открытием внешних рынков. После того, как Россия нанесла решительное поражение Оттоманской империи и установила свое господство над северными берегами Черного моря, были выстроены Одесса и другие незамерзающие порты, через которые зерно можно было вывозить в Западную Европу. Когда Англия отменила хлебные законы (1846 г.), резко вырос экспорт пшеницы, выращенной на юге России. В результате этих сдвигов образовалось областное разделение труда: черноземная полоса сделалась в 1850-х гг. житницей России, производящей 70% зерновых страны, а северные губернии поставляли три четверти всех промышленных товаров. [Ковальченко, цит. соч., стр. 68-9]. Теперь южные помещики стали модернизировать свои имения на английский и немецкий лад, начали выращивать клевер и турнепс и экспериментировать с научными методами скотоводства. Этим помещикам была больше нужна рабочая сила, чем оброк. В 1860 г. всего 23-32% крепостных на юге сидели на оброке; остальные, составлявшие примерно две трети крепостного населения, отрабатывали барщину. Теоретически, земля, на которой работали барщину, разделялась на две половины, первую из которых крестьянин пахал на помещика, а вторую — на себя. Однако законодательно эта норма установлена не была. Существовало множество других вариантов, в том числе всяческие сочетания оброка с барщиной. Наиболее тяжкой формой барщины была месячина (см. выше, стр. #34). [В свете относительной прибыльности земледелия на юге нет ничего удивительного в том, что процент больших поместий в южных областях был выше, чем на севере. В 1859 г. в четырех типичных северных губерниях (Владимирской, Тверской, Ярославской и Костромской) лишь 22% крепостных жили на землях помещиков, владевших более чем тысячью душ. В черноземной полосе (Воронежская. Курская, Саратовская Харьковская губернии) соответствующая цифра составляла 37%.].
Каково же было положение русских крепостных? Это один из тех предметов, о которых лучше не знать вовсе, чем знать мало. Мысль о том, что люди могут владеть себе подобными, кажется современному человеку настолько отвратительной, что он вряд ли может судить о таких вещах беспристрастно. Лучшее руководство к анализу таких проблем содержится в словах великого историка экономики Джона Клэпхема (John Clapham), подчеркивавшего важность развития у себя «того, что можно назвать статистическим чувством, привычки спрашивать о каждом учреждении, политической линии, группе или движении: насколько велики? как долго длились? как часто имели место? насколько репрезентативны?». [«Economic History as a Discipline» Encyclopedia of the Social Sciences (New York 1944), V, p. 328]. Применение этой мерки к социальным последствиям Промышленной революции показало, что, вопреки укоренившимся мифам, Промышленная революция в Англии с самого начала приводила к повышению жизненного уровня большинства рабочих. Подобных исследований жизненного уровня русских крестьян до сих пор приведено не было. Однако мы знаем достаточно, чтобы подвергнуть сомнению господствующие взгляды на крепостного и на его положение.
Прежде всего следует подчеркнуть, что крепостной не был рабом, а поместье — плантацией. Русское крепостничество стали ошибочно отождествлять с рабством, по меньшей мере еще лет двести тому назад. Занимаясь в 1770-х гг. в Лейпцигском университете, впечатлительный молодой дворянин из России Александр Радищев прочел «Философическую и политическую историю европейских поселений и коммерции в Индиях» Рейналя. В Книге Одиннадцатой этого сочинения содержится описание рабовладения в бассейне Карибского моря, которое Радищев связал с виденным им у себя на родине. Упоминания о крепостничестве в его «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790 г.) представляют собою одну из первых попыток провести косвенную аналогию между крепостничеством и рабовладением путем подчеркивания тех особенностей (например, отсутствия брачных прав), которые и в самом деле были свойственны им обоим. Антикрепостническая литература последующих десятилетий, принадлежавшая перу взращенных в западном духе авторов, сделала эту аналогию общим местом, а от них она была усвоена русской и западной мыслью. Но даже в эпоху расцвета крепостничества проницательные авторы нередко отвергали эту поверхностную аналогию. Прочитав книгу Радищева, Пушкин написал пародию под названием «Путешествие из Москвы в Петербург», в котором имеется следующий отрывок:
Фонвизин, [в конце XVIII в.] путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю...
Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений, какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джэксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника...
У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев). Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны. Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaut [бездельником]; никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. [А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, М.-Л, 1949, VII, Стр. 289-91. Пушкинские воззрения на оброк к барщину в России не совсем верны.].
Даже авторитетное суждение Пушкина не заменит статистических выкладок. Однако мнение его заслуживает вполне серьезного внимания, поскольку он все же знал русскую деревню из первых рук и к тому же был наделен незаурядным здравым смыслом.
Как отмечает Пушкин, в отличие от раба Северной и Центральной Америки, русский крепостной жил в своей собственной избе, а не в невольничьих бараках. Он работал в поле под началом отца или старшего брата, а не под надзором наемного надсмотрщика. Во многих русских имениях разрезанная на мелкие участки помещичья земля перемежалась крестьянскими наделами, чего отнюдь не было на типичной плантации. И, что наиболее важно, крепостному принадлежали плоды его труда. Хотя, говоря юридически, крепостной не имел права владеть собственностью, на самом деле он обладал ею на всем протяжении крепостничества — редкий пример того, когда господствующее в России неуважение к закону шло бедноте на пользу.
Отношения между помещиком и крепостными также отличались от отношений между рабовладельцем и невольником. Помещик обладал властью над крепостными прежде всего в силу того, что был ответственен перед государством как налоговый агент и вербовщик. В этом своем качестве он распоряжался большой и бесконтрольной властью над крепостным, которая в царствование Екатерины II действительно близко подходила к власти рабовладельца. Он, тем не менее, никогда не был юридическим собственником крепостного, а владел лишь землей, к которой был прикреплен крестьянин. При освобождении крепостных помещики не получили за своих крестьян возмещения. Торговля крепостными была строго запрещена законом. Некоторые крепостники все равно занимались таким торгом в обход законодательства, однако в общем и целом крестьянин мог быть уверен, что коли ему так захочется, он до конца дней своих проживет в кругу семьи в своей собственной избе. Введенная Петром рекрутская повинность именно потому явилась для крестьян великим бедствием, что ломала эту устоявшуюся традицию, год за годом отрывая от семьи тысячи молодых мужчин. Со временем стало возможным посылать на военную службу кого-либо вместо себя или покупать освобождение от воинской повинности, но это решение было доступно немногим. Крестьяне смотрели на призыв в войско, как на смертный приговор.
Как отмечалось выше, почти половина крепостных империи (примерно четверть их на юге и три четверти на севере) были съемщиками и платили оброк. Эти крестьяне могли идти на все четыре стороны или возвращаться, когда хотели, и вольны были выбирать себе занятие по душе. Помещик в их жизнь не вмешивался. Для них крепостное право сводилось к уплате налога (либо твердо установленного, либо в зависимости от заработка) дворянам, владевшим землей, к которой они были приписаны. Как бы ни относиться к нравственной стороне такого налога, он не имел ничего общего с рабовладением, а был скорее пережитком своего рода «феодализма».
Крепостничество в строгом смысле слова ограничивалось крестьянами, которые работали по большей части или исключительно на барщине, и особенно теми из них, кто принадлежал помещикам с небольшими или средними имениями, где жило менее тысячи душ. В последнюю категорию входило, по приблизительному подсчету, от семи до девяти миллионов сидящих на барщине крестьян обоего пола. Эта группа, составлявшая в 1858-1859 гг. от 12 до 15% населения империи, и представляла собою крепостных в классическом смысле слова: они были прикреплены к земле, находились под непосредственной властью своего помещика и принуждены были выполнять по его требованию любую работу.
Бессмысленно, разумеется, пытаться делать какие-либо обобщения относительно положения такой многочисленной группы людей, тем более что мы имеем тут дело примерно с 50 тысячами помещиков (таково было приблизительное число землевладельцев, использовавших крестьян на барщине). До появления научных исследований по этому вопросу мы можем исходить лишь из каких-то общих впечатлений, которые как-то не подтверждают картины всеобщих мучений и угнетения, почерпнутой в основном из литературных источников. Очевидная неправедность крепостничества не должна затуманивать истинного положения вещей. Несколько англичан, писавших о своих российских впечатлениях, нашли, что положение русского крестьянина выгодно отличалось от условий у них на родине, особенно в Ирландии; таким образом, пушкинская оценка получила независимое подтверждение.. Нижеследующие отрывки взяты из таких описаний. Первый принадлежит капитану английского флота, который предпринял в 1820 г. четырехлетнее пешее путешествие по России и Сибири, что дало ему редчайшую возможность своими глазами увидеть жизнь русской деревни:
Безо всяких колебаний... говорю я, что положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландия. В России изобилие продуктов, они хороши и дешевы, а в Ирландии их недостаток, они скверны и дороги, и лучшая их часть вывозится из второй страны, между тем как местные препятствия в первой приводят к тому, что они не стоят такого расхода. Здесь в каждой деревне можно найти хорошие, удобные бревенчатые дома, огромные стада разбросаны по необъятным пастбищам, и целый лес дров можно приобрести за гроши. Русский крестьянин может разбогатеть обыкновенным усердием и бережливостью, особенно в деревнях, расположенных между столицами. [Captain John Dundas Cochrane, Narrative of a Pedestrian Journey through Russia and Siberian Tartary (London 1824), p. 68. По-видимому, Пушкин в вышеприведенной цитате имел в виду именно Кокрейна.].
Второй написан английским путешественником, отправившимся в Россию специально для того, чтобы найти материал, который представил бы ее в более неприглядном свете, чем литература того времени:
В целом ... по крайней мере что касается просто [!] пищи и жилья, русскому крестьянину не так плохо, как беднейшим средь нас. Он может быть груб и темен, подвергаться дурному обращению со стороны вышестоящих, несдержан в своих привычках и грязен телом, однако он никогда не знает нищеты, в которой прозябает ирландский крестьянин. Быть может, пища его груба, но она изобильна. Быть может, хижина его бесхитростна, но она суха и тепла. Мы склонны воображать себе, что если уж наши крестьяне нищенствуют, то мы можем по крайней мере тешить себя уверенностью, что они живут во много большем довольстве, чем крестьяне в чужих землях. Но сие есть грубейшее заблуждение. Не только в одной Ирландии, но и в тех частях Великобритании, которые, считается, избавлены от ирландской нищеты, мы были свидетелями убогости, по сравнению с которой условия русского мужика есть роскошь, живет ли он средь городской скученности или в сквернейших деревушках захолустья. Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русский крестьянин сочтет негодными для своей скотины. [Robert Bremner, Excursions in the Interior of Russia (London 1839), I, pp. 154-5].
Оценки этих очевидцев тем более весомы, что они никак не симпатизировали ни крепостничеству, ни какому-либо иному ущемлению, которому подвергалось тогда большинство русского крестьянства.
Особенно важно избавиться от заблуждений, связанных с так называемой жестокостью помещиков по отношению к крепостным. Иностранные путешественники, побывавшие в России, почти никогда не упоминают о телесных наказаниях — в отличие от посетителей рабовладельческих плантаций Америки. [He следует забывать также, что русский крестьянин никак не относился к этим наказаниям с тем ужасом, с каким смотрит на них современный человек. Когда в 1860-х гг. волостные суды получили право подвергать крестьян либо штрафу, либо телесному наказанию, обнаружили, что большинство крестьян, если дать им выбор, предпочитало порку.]. Пропитывающее XX век насилие и одновременное «высвобождение» сексуальных фантазий способствуют тому, что современный человек, балуя свои садистические позывы, проецирует их на прошлое; но его жажда истязать других не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле происходило, когда такие вещи были возможны. Крепостничество было хозяйственным институтом, а не неким замкнутым мирком, созданным для удовлетворения сексуальных аппетитов. Отдельные проявления жестокости никак не опровергают нашего утверждения. Тут никак не обойтись одним одиозным примером Салтычихи, увековеченной историками помещицы-садистки, которая в свободное время пытала крепостных и замучила десятки дворовых насмерть. Она говорит нам о царской России примерно столько же, сколько Джек Потрошитель о викторианском Лондоне. Там, где имеются кое-какие статистические данные, они свидетельствуют об умеренности в применении дисциплинарных мер. Так, например, у помещика было право передавать непослушных крестьян властям для отправки в сибирскую ссылку. Между 1822 и 1833 гг. такому наказанию подверглись 1.283 крестьянина. В среднем 107 человек в год на 20 с лишним миллионов помещичьих крестьян — это не такая уж ошеломительная цифра. [И. И. Игнатович, Помещичьи крестьяне накануне освобождения, СПб., 1902, стр. 24].
Насколько можно понять, наиболее неприятным проявлением помещичьей власти для крестьянина было вмешательство хозяина в его семейную жизнь и его привычный труд. Помещикам надо было, чтобы крестьяне женились молодыми: они хотели, чтобы те размножались, и желали засадить за работу молодых женщин, которых обычай освобождал от барщины до замужества. Многие помещики заставляли своих крепостных жениться сразу же по достижении совершеннолетия, если не раньше, и иногда даже подбирали для них партнеров. Не составляла редкости половая распущенность; хватает достоверных историй о помещиках, державших гаремы из крепостных девушек. Все это приводило крестьян в сильное возмущение, и иногда они отплачивали крепостникам поджогами и убийствами. Вмешательство помещиков в привычную трудовую деятельность крепостных служило еще более сильным источником недовольства. Намерения тут роли не играли: Доброхота-помещика, желавшего за свой собственный счет улучшить крестьянскую долю, не выносили точно так же, как безжалостного эксплуататора: «Достаточно, чтоб помещик приказал пахать землю на дюйм глубже, — сообщает Гакстгаузен, — чтобы можно было услыхать, как крестьяне бормочут: «Он плохой хозяин, он нас мучает». И горе ему тогда, если он живет в этой деревне!». [A. von Haxthausen. Studien uber die innern Zuslande... Russiland (Hanover 1847), II. стр 511]. Более того, заботливого помещика, поскольку он обычно чаще вмешивался в привычный строй крестьянской работы, скорее всего ненавидели даже пуще, чем его бессердечного соседа, пекшегося лишь о том, как бы получить оброк повыше. Создается впечатление, что крепостной принимал свое состояние с тем же фатализмом, с каким он нес другие тяготы крестьянской жизни. Он готов был, скрепя сердце, отдавать часть своего труда и дохода помещику, потому что так неизменно делали его предки. Он также терпеливо сносил выходки помещика, покуда они не затрагивали самого для него важного — семьи и работы. Основная причина его недовольства была связана с землей. Он был глубоко убежден, что вся земля — пахота, выпасы и лес — по праву принадлежит ему. Крестьянин вынес из самой ранней поры колонизации убеждение, что целина — ничья и что пашня принадлежит тому, кто расчистил ее и возделал. Убеждение это еще более усилилось после 1762 г., когда дворян освободили от обязательной государственной службы. Крестьяне каким-то инстинктом чуяли связь между обязательной дворянской службой и своим собственным крепостным состоянием. По деревне поползли слухи, что одновременно с подписанием манифеста о дворянских вольностях в 1762 г. Петр III издал другой указ, передающий землю крестьянам, но дворяне утаили его и упрятали императора в темнице. С того года крестьяне жили ожиданием великого «черного передела» всех частных земельных владений страны, и разубедить их не было никакой возможности. Хуже того, русский крепостной забрал себе в голову, что хоть сам он принадлежит помещику, вся земля — крестьянская. На самом деле и то и другое было неверно. Это убеждение накаляло и без того напряженную обстановку в деревне. Из всего этого можно заключить, между прочим, что крестьянин не так уж сильно был настроен против крепостничества как такового.
Нежелание сгущать краски в изображении жестокостей и призыв различать между крепостным правом и рабовладением ни в коей мере не преследует цели обелить крепостную неволю, но предназначены просто для того, чтобы перевести внимание с ее воображаемых пороков на истинные. Она безусловно была отвратительным учреждением, и шрамы этого недуга. Россия носит по сей день. Один бывший узник нацистских лагерей сказал о них, что жизнь там была не так уж плоха, как обыкновенно полагают, но в то же время была и бесконечно хуже, под чем он, вероятно, имел в виду, что ужасы физического порядка были не так страшны, как накапливающееся действие каждодневного втаптывания узника в грязь. Mutatis mutandis и не проводя никаких параллелей между концлагерями и русской деревней при крепостном праве, мы можем сказать, что тот же принцип приложим и к ней. Нечто фатальное кроется во владении другим человеком, даже если оно принимает благополучные формы, нечто медленно отравляет и господина и его жертву и в конечном итоге разрушает общество, в котором они оба живут. Мы коснемся воздействия крепостничества на помещика в следующей главе, а здесь займемся его влиянием на крестьянина, и особенно на его отношение к власти.
Современные исследователи сходятся на том, что наиболее дурной чертой русского крепостничества были не злоупотребления помещичьей властью, а органически присущее ему беззаконие, то есть извечное подчинение крестьянина никак не стесненной чужой воле. Роберт Бремнер (Robert Bremner), который в вышеприведенном отрывке благоприятно отозвался о достатке русского крестьянина, сравнивая его с ирландскими и шотландскими земледельцами (стр. #200), далее пишет:
Пусть, однако, не думают, что раз мы признаем жизнь русского крестьянина во многих отношениях более сносной, чем у некоторых из наших собственных крестьян, мы посему считаем его долю в целом более завидной, чем удел крестьянина в свободной стране вроде нашей. Дистанция между ними огромна, неизмерима, однако выражена быть может двумя словами: у английского крестьянина есть права, а у русского нет никаких! [Bremner, Excursions, I, p. 156].
В этом отношении доля государственного крестьянина не так уж отличалась от положения крепостного, по крайней мере до 1837 г., когда его отдали под начало особого министерства (стр. #98). Обычай наделял русских крестьян множеством прав, которые, вообще говоря, почитались, но не имели юридической силы и посему могли быть нарушены безнаказанно. Крестьянам запрещалось жаловаться на помещиков и просто давать показания в суде, поэтому они не имели никакой защиты против любого лица, облеченного властью. Как мы знаем, помещики весьма редко пользовались своим правом высылать крепостных в Сибирь, однако сам факт, что они могли это сделать, служил хорошим орудием устрашения. Это — лишь один из примеров произвола, которому подвергался крепостной. Например, в 1840-х и 1850-х гг., ожидая отмены крепостного права и надеясь сократить число работающих в поле крестьян, чтобы делиться землей с меньшим их числом, помещики тихо перевели в дворовые более полумиллиона крепостных. Защиты от таких выходок искать было негде. Не было способа утихомирить и помещиков-доброхотов, заставлявших крестьян использовать ввезенную из-за границы непривычную сельскохозяйственную технику или менять традиционный севооборот. Когда правительство Николая I с самыми лучшими намерениями принудило некоторых государственных крестьян отвести часть земли под картофель, те взбунтовались. Крестьянину дела не было до того, какими мотивами руководствовался хозяин, и в плохих, и в добрых намерениях он усматривал лишь попытку навязать ему чужую волю. Не умея различать между ними, он нередко отплачивал своим неудачным благодетелям весьма жестоко.
Не имея абсолютно никаких личных прав, признаваемых законом, крестьянин полагал, что любая власть по самой своей природе чужда ему и враждебна. Сталкиваясь с превосходящей силой, особенно когда ее применяли решительно, он повиновался. Однако в душе он сроду не признавал, что кто-либо за пределами его деревенской общины имеет право им командовать.
В царской России было гораздо меньше крестьянских волнений, чем принято думать. По сравнению с большинством стран в XX в., русская деревня эпохи империи была оазисом закона и порядка. Легко, конечно, высчитать число крестьянских «волнений» и исходя из него доказывать, что количество беспорядков неуклонно росло. Проблема, однако, состоит в дефинициях. В царской России любая официальная жалоба помещика на своих крестьян квалифицировалась властями как «волнение», вне зависимости от того, имело ли такое место на самом деле, и вне всякой связи с характером проступка: бездельничанье, пьянство, кража, поджог, предумышленное или непредумышленное убийство, — все это валилось в одну кучу. Каталог таких происшествий напоминает полицейскую хронику и имеет примерно такую же ценность для выведения уголовной статистики. На самом деле большинство так называемых крестьянских «волнений» не были сопряжены с насилием и представляли собою просто неповиновение. [Daniel Field в журнале Kritika (Cambridge, Mass.), Vol. 1. No. 2 (Winter 1964-65), P. 20]. Они выполняли такую же функцию, как забастовки в современных демократических обществах, и точно так же не могут служить надежным барометром социального разлада или политического недовольства. Примерно раз в столетие русские крестьяне выходили из себя и принимались убивать помещиков и чиновников, грабить и жечь имения. Первое большое крестьянское восстание под предводительством Стеньки Разина произошло в 1670-х гг., а второе, под началом Емельяна Пугачева, — столетие спустя (1773-1775). Оба начались на окраинах государства в казацких землях и благодаря слабости губернской администрации распространились, как лесной пожар. В XIX в. в России не было крупных крестьянских возмущений, однако в XX одно за другим произошли два, первое в 1905-1906 гг. и второе — в 1917 г. Общей чертой этих больших бунтов, равно как и более локальных восстаний, было отсутствие политических целей. Русские крестьяне почти никогда не бунтовали против царской власти; если уж на то пошло, их вожди утверждали, что являются подлинными царями, пришедшими отобрать трон у узурпаторов. Ненависть их направлялась против агентов самодержавия — тех двух классов, которые в условиях существовавшего тогда двоевластия эксплуатировали страну для своей личной выгоды. Лев Толстой, отлично знавший крестьянина, предсказывал, что мужик не поддержит попыток расшатать самодержавный строй. «Русская революция, — говорит он в записной книжке в 1865 г., — не будет против царя и деспотизма а против поземельной собственности».
Крепостной, способный иногда на отчаянное насилие, в обыденной жизни скорее добивался своего ненасильственными средствами. Он поднял искусство лжи на большую высоту. Когда ему не хотелось чего-то делать, он разыгрывал дурачка, а будучи разоблаченным, изображал неподдельное раскаяние. «Крестьяне почти во всех обстоятельствах жизни обращаются к своему помещику темными сторонами своего характера»,— писал знаток русской деревни славянофил Юрий Самарин.— «Умный крестьянин, в присутствии своего господина, притворяется дураком, правдивый бессовестно лжет ему прямо в глаза, честный обкрадывает его и все трое называют его своим отцом». [Цит в Б. Е. Нольде, Юрий Самарин и его время. Париж, 1926, стр. 69]. Такое поведение в отношениях с вышестоящими составляло резкий контраст с честностью и порядочностью, которые выказывал крестьянин в отношениях с себе равными. Это раздвоение было не столько особенностью крестьянского характера, сколько оружием против тех, от кого у него не имелось иной защиты.
Какой бы тягостной ни была чужая власть над крестьянином, она являлась не единственной силой, сковывавшей его и расстраивавшей его планы. Существовала также и тирания природы, от которой он так зависел, — то, что Глеб Успенский нарек «властью земли». Земля цепко держала крестьянина в руках, когда рожала, когда нет, неизбывно непостижимая и капризная. Он бежал ее с той же готовностью, с какой бежал помещика и чиновника, делаясь коробейником, ремесленником, чернорабочим в городах, кем угодно, лишь бы отделаться от изнуряющей полевой работы. Не существует свидетельств того, что русский крестьянин любил землю; чувство это можно отыскать главным образом в воображении романтических дворян, наезжавших летом в свои имения.
Если подумать о том, в каких клещах держали крестьянина капризная воля хозяина и чуть менее капризная воля природы (силы, которые он плохо понимал и которые никак не мог контролировать), то нечего удивляться, что излюбленной его мечтой было сделаться абсолютно, безответственно свободным. Он звал это идеальное состояние волей. Воля означала полную необузданность, право на буйство, гулянку, поджог. Она была абсолютно разрушительным понятием, актом мести по отношению к силам, которые извека терзают крестьянина. Разночинец Белинский, знавший мужика лучше, чем его друзья из дворян, высказался на эту тему достаточно прямо, когда усомнился в осуществимости их мечты о демократической России:
В понятии нашего народа свобода есть вопя, а воля — озорничество. Не в парламент пошел, бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах... [Письмо к Д. И. Иванову от 7 августа 1837 г в [В. Г.] Белинский, Письма, СПб., 1914, 1, стр. 92].
И в самом деле, самым доступным средством уйти от действительности было пьянство. Повесть Временных Лет, повествуя об обращении Руси в христианство, сообщает, что киевские князья не остановили своего выбора на исламе из-за его запрета на спиртные напитки. «Руси есть веселие пити, не может без него быти»,— заявил, говорят, князь киевский Владимир мусульманским посланникам, приехавшим склонить его на свою сторону. История эта, разумеется, апокрифична, однако она, так сказать, канонизирует пьянство как национальное увлечение. До XVI в. россияне пили медовуху и фруктовое вино. Затем они научились у татар искусству выгонки спирта. К середине XVII в. пьянство сделалось настолько серьезной проблемой, что патриарх Никон и окружавшие его церковные реформаторы попытались ввести сухой закон. Россияне пили водку не регулярно, небольшими дозами, а чередовали периоды полного воздержания с дикими запоями. Попав в кабак или в трактир, русский крестьянин быстро опрокидывал несколько стаканов водки, чтобы как можно скорее впасть в пьяное забытье. Как гласила поговорка, настоящий запой должен длиться три дня: в первый выпивают, во второй напиваются, а в третий похмеляются. Венцом всему была Пасха. Тогда русские крестьяне, провожавшие долгую зиму и готовившиеся к изнурительной череде полевых работ, лежали ничком в тумане алкогольных паров. Попытки бороться с пьянством вечно натыкались на неодолимые препятствия, поскольку государство извлекало из продажи спиртных напитков значительную часть своих доходов и посему было кровно заинтересовано в их потреблении. В конце XIX в. этот источник был самой доходной статьей государственного бюджета.
Сознание русского крестьянина было, если использовать терминологию старого поколения антропологов вроде Леви-Брюля (Levy-Bruhl), «первобытным». Наиболее выпуклой чертой сознания такого типа, является неумение мыслить абстрактно. Крестьянин мыслил конкретно и в личностных понятиях. Например, ему стоило больших трудов понять, что такое «расстояние», если не выразить оное в верстах, длину которых он мог себе представить. То же самое относится и ко времени, которое он воспринимал лишь в соотнесении с какой-то конкретной деятельностью. Чтобы разобраться в понятиях вроде «государства», «общества», «нации», «экономики», «сельского хозяйства», их надо было связать с известными крестьянам людьми, либо с выполняемыми ими функциями.
Эта особенность объясняет очарование мужика в лучшие его минуты. Он подходил к людям без национальных, религиозных и каких-либо иных предрассудков. Несть числа свидетельствам его неподдельной доброты по отношению к незнакомым людям. Крестьяне щедро одаривали едущих в сибирскую ссылку, и не из-за какой-то симпатии к их делу, а потому что они смотрели на них как на «несчастненьких». Во время Второй Мировой войны гитлеровские солдаты, пришедшие в Россию завоевателями и сеявшие там смерть, сталкивались в плену с подобными же проявлениями сострадания. В этой неабстрактной, инстинктивной человеческой порядочности лежала причина того, что радикальные агитаторы, пытавшиеся поднять крестьян на «классовую борьбу», столкнулись с таким сильным сопротивлением. Даже во время революций 1905 и 1917 г. крестьянские бунты были направлены на конкретные объекты — месть тому или иному помещику, захват лакомого участка земли, порубку леса. Они не были нацелены на «строй» в целом, ибо крестьяне не имели ни малейшего подозрения о его существовании.
Но эта черта крестьянского сознания имела и свою скверную сторону. К числу недоступных крестьянскому пониманию абстракций относилось и право, которое они были склонны смешивать с обычаем или со здравым смыслом. Они не понимали законоправия. Русское обычное право, которым руководствовались сельские общины, считало признание обвиняемого самым убедительным доказательством его вины. В созданных в 1860-х гг. волостных судах, предназначенных для разбора гражданских дел и управляемых самими крестьянами, единственным доказательством в большинстве случаев было признание подсудимого. [С.В. Пахман. Обычное гражданское право в России, СПб., 1877. I, стр. 410-12]. Крестьянину точно так же трудно было понять, что такое «собственность», которую он путал с пользованием или владением. По его представлениям не живший в своем имении помещик не имел права ни на землю, ни на ее плоды. Крестьянин мог легко позаимствовать вещь, в которой, по его мнению, законный владелец не нуждался (например, дрова из господского леса), однако в то же самое время выказывал весьма острое чувство собственности, если речь шла о земле, скотине или орудиях других крестьян, поскольку эти вещи были надобны для заработка на хлеб. Крестьяне смотрели на адвокатуру, созданную судебной реформой 1864 г., просто как на новую породу тех же самых лихоимствующих чиновников: иначе зачем же адвокаты берут деньги за вызволение попавших в судебную переделку? Крестьянин терпеть не мог формальностей и официальных процедур и был не в состоянии разобраться в абстрактных принципах права и государственного управления, вследствие чего он мало подходил для какого-либо политического строя, кроме авторитарного.
Подобно другим «первобытным» существам, русский крестьянин обладал слабо развитым понятием собственной личности. Личные симпатии и антипатии, личное честолюбие и самосознание обыкновенно растворялись в семье или в общине, по крайней мере до той поры, как крестьянин получил возможность сколачивать большие капиталы, и тогда приобретательские инстинкты полезли наружу в самой уродливой форме. Деревенская община, мир, сдерживала антисоциальные инстинкты мужика — коллектив был выше своих индивидуальных членов. Хомяков как-то сказал, что «русский человек, порознь взятый, не попадет в рай, а целой деревни нельзя не пустить». [Цит Н. Л. Бродский, ред., Ранние славянофилы. М. 1910, стр LIII]. Но между тем связи, соединяющие и социализирующие деревенских обитателей, носили ярко выраженный личный характер. Внешний мир воспринимался сквозь сильно запотевшее стекло как нечто далекое, чужое и в общем-то совсем маловажное. Он составлялся из двух частей — необъятного святого сообщества православных и царства иноземцев, делившихся на басурманов и немцев. Если верить словам живших в России иностранцев, еще в XIX в. многие русские крестьяне не знали и не поверили бы, скажи им об этом, что в мире существуют другие народы и монархи помимо их собственных.
Крестьянин чутко осознавал разницу между себе равными и вышестоящими. Всякого человека, не облеченного властью, он звал братом, а имеющего власть величал отцом или, чуть более фамильярно, батюшкой. С себе равными он обращался на удивление церемонно. Приезжавшие в Россию путешественники изумлялись, насколько учтиво здоровались друг с другом крестьяне, вежливо кланяясь и приподнимая шапку. Один путешественник отмечает, что в отношении политеса они ничем не уступали парижанам, прогуливающимся по Boulevard des Italiens. Перед вышестоящими они либо били челом (привычка, приобретенная при монголах), либо отвешивали поясной поклон. Иностранцы отмечают также веселость крестьянина, любовь к игре и песне, его добродушный нрав: даже будучи сильно пьяным, он редко лез в драку.
Однако стоит ознакомиться после этих описаний с крестьянскими пословицами, как неприятно поражаешься отсутствию в них мудрости или сострадания. В них проступает грубый цинизм и полное отсутствие общественного чувства. Этика этих пословиц безжалостна и проста: заботься о себе и не тревожься о ближнем. «Чужие слезы — вода». Когда революционные социалисты отправились в 1870-х гг. «в народ», дабы пробудить в нем негодование против несправедливости, они обнаружили к полному своему смятению; что крестьянин не видел ничего дурного в эксплуатации как таковой. Он просто-напросто хотел превратиться из объекта эксплуатации в эксплуататора. А. Н. Энгельгардт, много лет живший среди крестьян, грустно заключает, что в каждом русском крестьянине сидит кулак:
Кулаческие идеалы царят в [крестьянской среде], каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому поблагоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать всякого другого, все равно, крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду. [Из деревни: 12 писем.(1872-1887). М., 1960, стр. 415].
А вот что имеет сказать поэтому поводу Максим Горький:
В юности моей [ в 1880-е — 1890-е гг.] я усиленно искал по деревням России [того добродушного, вдумчивого русского крестьянина, неутомимого искателя правды и справедливости, о котором так убедительно и красиво, рассказывала миру русская литература XIX века] и — не нашел его. Я встретил там сурового реалиста и хитреца, который — когда это выгодно ему — прекрасно умеет показать себя простаком... Он знает, что «мужик не глуп, да — мир дурак» и что «мир силен, как вода, да глуп, как свинья». Он говорит: «не бойся чертей, бойся людей». «Бей своих — чужие бояться будут». О правде он не очень высокого мнения: «Правдой сыт не будешь». «Что в том, что ложь, коли сыто живешь». «Правдивый, как дурак, тоже вреден». [Максим Горький, О русском крестьянстве, Берлин, 1922, стр. 23].
Делая скидку на то, что к концу XIX в., когда Горький пустился в свои поиски, крестьянин был подавлен и озлоблен экономическими затруднениями, остается фактом, что еще до усугубившего его тяготы освобождения он уже проявлял многие из тех качеств, которыми наделяет его Горький. Крестьянские романы Григоровича, вышедшие в свет в 1840-х гг., и далевский сборник крестьянских пословиц, напечатанный в 1862 г., рисуют с любой точки зрения неприглядную картину.
Чтобы разрешить противоречие между этими двумя обличьями, следует, видимо, предположить, что крестьянин совсем по-разному относился к людям, с которыми у него были личные отношения, и к тем, с кем он состоял в отношениях, так сказать, «функциональных». «Чужие», чьи слезы ничего не стоили, дураки, которым предназначались ложь и битье, находились вне его семьи, деревни и личных связей. Но поскольку именно «чужие» и составляли «общество» и «государство», разрушение стены, отделявшей маленький крестьянский «мир» от большого внешнего мира, произошедшее в XIX и XX вв., оставило крестьянина в полном замешательстве и душевной расколотости. Он был плохо подготовлен к вступлению в добрые неличные отношения, а когда его понуждали к этому обстоятельства, он тут же выказывал свои самые худшие, корыстные черты. В своей религиозной жизни крестьянин проявлял много внешней набожности. Он постоянно крестился, регулярно посещал длинные церковные службы и соблюдал посты. Все это он делал из убеждения, что скрупулезное соблюдение церковных обрядов (постов, таинств) и беспрерывное осенение себя крестом спасут его душу. Однако, он, кажется, плохо понимал — если понимал вообще — Духовный смысл веры и религию как образ жизни. Он не знал Библию и даже «Отче наш». К попу он относился с полным презрением. Связь его с христианством была в общем поверхностной и проистекала прежде всего из потребности в формулах и обрядах, с помощью которых можно было бы попасть на небеса. Трудно не согласиться с оценкой, высказанной Белинским в его знаменитом письме к Гоголю:
По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. А он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франции, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, явности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судьб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно. [В. Г. Белинский, Эстетика и литературная критика, М., 1959, II, стр 636].
О том, насколько поверхностной была приверженность христианству в массах, свидетельствует относительная легкость, с которой коммунистическому режиму удалось выкорчевать православие в сердце России и заменить его своим собственным эрзац-культом. С католиками, евреями, мусульманами и сектантами сделать это оказалось куда сложнее.
Подлинной религией русского крестьянства был фатализм. Крестьянин редко относил какое-то событие, особенно несчастье, за счет своих собственных поступков. Он видел везде «Божью волю» — даже в тех случаях, когда вина явно лежала на нем, самом, например, когда по его неосторожности случался пожар или гибла скотина. Русские пословицы пронизаны фаталистическими настроениями. Когда к концу XIX в. мужик начал знакомиться с Библией, он перво-наперво заучивал куски; в которых подчеркивалось смирение и покорное принятие судьбы.
Наконец, о политике. До революции 1905 г. русский крестьянин несомненно был «монархистом» в том смысле, что не мог представить себе иного средоточения земной власти, кроме царя. Он смотрел на царя как на наместника Божьего на земле, созданного Господом, чтобы повелевать крестьянином и печься о нем. Все хорошее он приписывал царю, а во всем дурном винил либо Божью волю, либо помещиков с чиновниками. Он верил, что царь знает его лично, и постучись он в двери Зимнего дворца, его тепло примут и не только выслушают, но и вникнут в его жалобы до самой мелкой детали .Именно в силу этого патриархального мировосприятия мужик проявлял по отношению к своему государю такую фамильярность, которой, категорически не было места в Западной Европе. Во время своих поездок по России с Екатериной Великой граф де Сегур (de Segur) с удивлением отметил, насколько непринужденно простые селяне беседовали со своей императрицей.
Одним из важнейших факторов, обусловивших монархические настроения крестьян, была их вера, что царь хочет сделать их собственниками всей земли, что помещики препятствуют этому желанию, но в один прекрасный день он преодолеет их сопротивление. Отмена крепостного права в 1861 г. превратила эту веру в твердое убеждение. В 1870-х гг агитаторы из революционных социалистов приходили в полное отчаяние от непоколебимой крестьянской веры в то, что «царь даст» им землю. [О. В. Аптекман Общество «3емля и воля» 70-х гг Петроград. 1924 стр 144-5].
Отсюда и хаос, охвативший Россию после внезапного отречения Николая Второго; отсюда и та поспешность, с которой Ленин приказал умертвить царя с семьей, когда коммунистическая власть оказалась в опасности и Николай или Великие князья могли сделаться знаменем ее противников, отсюда и непрестанные попытки коммунистического режима заполнить вакуум, созданный свержением императорской династии в сознании масс, при помощи государственного насаждения грандиозного культа партийных вождей.
Императорское правительство придавало монархическим настроениям крестьянства большое значение, и политика его (например, нежелание проводить индустриализацию и железные дороги и равнодушное отношение к народному образованию) часто обуславливалась желанием сохранить мужика точно таким же, как он есть — простоватым и верноподданным. Вера в крестьянскую приверженность монархии являлась одним из краеугольных камней царской политики в XIX в. Правительство лишь отчасти верно оценивало настроения крестьянина. Крестьянская преданность была личной преданностью идеализированному образу далекого властителя, в котором мужик видел своего земного отца и защитника. То была не преданность институту монархии как таковому и уж точно не его агентам, будь то дворяне или чиновники. У крестьянина не было никакого резона испытывать привязанность к правительству, которое гребло от него обеими руками, ничего не давая взамен. Власть была для крестьянина в лучшем случае данностью, которую приходилось переносить, как болезнь, старость и смерть, но которая ни при каких обстоятельствах не могла быть «хорошей» и из чьих лап человек имел полное право вырваться при первой возможности. Преданность царю не означала взятие на себя какой-либо гражданской ответственности; более того, за нею было сокрыто глубочайшее отвращение к политическим институтам и политике вообще. Персонализация всяких человеческих отношений, столь характерная для русского крестьянина, порождала поверхностный монархизм, казавшийся консервативным, но на деле бывший глубоко анархическим.
Начиная с конца XVIII в., для все возрастающего числа россиян сделалась очевидной несовместимость крепостничества с притязаниями России на положение цивилизованной страны или великой державы. И у Александра I, и у Николая I имелись по поводу этого учреждения серьезные сомнения, разделявшиеся их ведущими советниками. И националистически-консервативное, и либерально-радикальное общественное мнение сделались враждебны крепостному праву. И что там говорить, в пользу крепостничества не было настоящих аргументов; в лучшем случае в его защиту можно было сказать, что после столетий крепостной неволи мужик не был еще подготовлен к ответственности, сопряженной со свободным состоянием, и поэтому лучше освободить его позже, чем раньше. Основную причину того, что, несмотря на растущие антикрепостнические настроения, с крепостным правом было покончено лишь в 1861 г., следует искать в опасениях монархии восстановить против себя почти 100 тысяч дворян-крепостников, служивших в разных ведомствах, командовавших войсками и поддерживавших порядок в деревне. В пределах имевшейся у него свободы действий правительство, однако, делало что могло для уменьшения числа крепостных и улучшения их положения. Александр зарекся жаловать государственных крестьян частным лицам. Он ввел также порядок, по которому помещики могли давать вольные своим крепостным, и разрешил освобождение (без земли) крепостных, принадлежавших немецким баронам Ливонии. Совокупным результатом этих мер явилось постепенное снижение процента крепостных в населении империи с 45-50 в самом конце XVIII в. до 37,7 в 1858 г. Крепостничество явно клонилось к закату.
Решение освободить крепостных, и будь что будет, было принято вскоре после воцарения Александра II. Оно было проведено наперекор сильному сопротивлению землевладельческого класса и невзирая на внушительные административные препятствия. Было время, когда ученые полагали, что шаг этот был сделан в основном по экономическим причинам, а именно в результате кризиса крепостного хозяйства. Но мнение это не имеет под собою достаточных оснований. Нет никаких свидетельств того, что в своем решении отменить крепостное право правительство в первую очередь руководствовалось экономическими соображениями. Однако даже если принять эту точку зрения, все равно сомнительно, чтобы повышение производительности сельского хозяйства требовало освобождения крепостных и замены подъяремной рабочей силы наемной. В десятилетия, непосредственно предшествовавшие освобождению крестьян, крепостной труд использовался наиболее эффективно, поскольку избавленные от обязательной государственной повинности помещики уделяли больше внимания модернизации своих хозяйств для обслуживания растущего русского и иностранного рынка. Как продемонстрировал в своих новаторских исторических исследованиях П. Б. Струве, накануне своей отмены крепостничество достигло высшей точки экономической эффективности. [Эта точка зрения, впервые выдвинутая П. Б. Струве в 1898 г., была с тех пор подтверждена историками экономики; см., например, Н. Л. Рубинштейн. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в.. М., 1957, стр. 127-30, и Michael Confino. Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVIII siecle (Paris 1963), стр. 194-201]
Куда более правдоподобно, что решающими факторами, обусловившими правительственное решение, были факторы политического свойства. До унизительного поражения России в Крымской войне даже люди, недружелюбно настроенные по отношению к самодержавию, полагали, что оно по крайней мере обеспечивает империи внутреннюю стабильность и внешнее могущество. Сомнений во внутренней стабильности пока еще не возникало, хотя император не мог не понимать, что сохранение крепостного права по всей вероятности приведет рано или поздно к новой пугачевщине. Однако когда империя оказалась неспособной отстоять свою территорию от войск «развращенных» либеральных государств, миф о военном могуществе самодержавной России был развеян навсегда. За поражением последовала полоса болезненной неуверенности в себе, вызвавшая критический пересмотр всех институтов и больше всего крепостничества. «Во главе современных домашних вопросов, которыми мы должны заняться, стоит, как угроза для будущего и как препятствие в настоящем для всякого существенного улучшения в чем было то ни было, — вопрос о крепостном состоянии»,— писал Самарин во время Крымской войны. — «С какого бы конца ни началось наше внутреннее обновление, мы встретимся с ним неизбежно». [Ю. Ф. Самарин, «О крепостном состоянии», в его Сочинениях, М. 1878, II, стр. 19]. Крепостная неволя казалась теперь жерновом на шее России, тянущим ее в пропасть балластом. В этом были согласны все, кроме людей, не умевших видеть дальше своего ближайшего личного интереса.
В процессе исторического развития русского крепостничества в нем выделились два самостоятельных элемента: власть помещика над крепостным и поземельное прикрепление крепостного. Положение об освобождении крестьян, изданное после длительного обсуждения 19 февраля 1861 г., немедленно упразднило помещичью власть. Вчерашний крепостной сделался теперь юридическим лицом, могущим владеть собственностью, затевать судебные иски и участвовать в выборах в местное самоуправление. Однако сохранялись еще кое-какие следы его прежнего приниженного состояния. Многие гражданские правонарушения находились в юрисдикции волостных судов, которые исходили из обычного права и могли приговаривать к телесным наказаниям. Крестьянин продолжал платить подушную подать, от которой были избавлены прочие сословия. Каждый раз, когда он собирался уйти из деревни на продолжительное время, ему полагалось испросить разрешения у сельского общества.
Ко второму составному элементу крепостничества — поземельному прикреплению крестьян — правительство подошло более осторожно. В этом смысле крестьяне обрели полную свободу лишь полвека спустя. Причины, по которым имело смысл сохранять их поземельную прикрепленность, были отчасти политического, отчасти налогового характера. Власти знали, что русский крестьянин всегда готов был бросить землю и отправиться бродить по стране в поисках более легкой и доходной работы. Они опасались, что бесконтрольное массовое движение крестьянства вызовет общественные потрясения и сделает невозможным сбор налогов. Вследствие этого при окончательном решении вопроса оно прикрепило крестьянина к общине, которая вдобавок к своим традиционным полномочиям (например, праву перекраивать земельные наделы) приобрела часть власти, прежде принадлежавшей помещику. Община была сохранена там, где имелась раньше, и сформирована в тех местах, где ее не знали.
Власти решили в самом начале, что после освобождения бывший крепостной получит достаточный земельный надел для прокормления своего семейства. После жаркого торга с представителями земледельческого сословия были установлены минимальные и максимальные нормы для разных районов страны: помещики, чьи крестьяне обрабатывали для себя участки, превышавшие высший размер подушного надела, могли просить, чтоб их урезали, а где площадь этих наделов была меньше минимальной нормы, должны были их увеличить. В конечном итоге за помещиками осталось около двух третей земли, включая большую часть выпасов и леса; остаток был поделен между бывшими владельческими крестьянами. Поскольку в глазах закона обе части земли были собственностью помещиков, крестьяне должны были платить за свою долю. Правительство сразу заплатило помещикам за крестьян 80% стоимости земли, определенной податными чиновниками, каковую сумму крестьяне должны были погасить в течение сорока девяти лет в форме «выкупных платежей». Остальные 20% выкупной цены крестьянин должен был уплатить (деньгами, если они у него имелись, или барщинной работой) непосредственно помещику. Чтобы обеспечить аккуратную выплату выкупных платежей, правительство отдало крестьянскую землю в собственность не отдельных дворов, а сельских обществ. [Положение об освобождении крестьян предоставляло самому бывшему крепостному решать, выкупать ему свою долю земля или нет. Только в 1883 г. выкуп ее был сделан обязательным.].
Провозглашенное 19 февраля 1861 г. освобождение крестьян поставило их в двусмысленное положение. Они были избавлены от ненавистной помещичьей власти, и таким образом было покончено с худшей стороной крепостничества. Однако они в то же самое время остались во многих отношениях отрезаны от остального населения и продолжали быть прикрепленными к земле.
В момент своего провозглашения Положение казалось вполне удачным. Против него возражала лишь небольшая группа радикальных критиков на том основании, что крестьянам следовало передать всю землю безо всякого выкупа. Русский император одним росчерком пера отменил кабальное состояние, для чего президенту Соединенных Штатов понадобилась четырехлетняя гражданская война. Задним числом успех Положения кажется менее безусловным. И действительно, после 1861 г. экономическое состояние русского крестьянина сильно ухудшилось, и в 1900 г. он в целом был беднее, чем в 1800 г. Вторая половина XIX в. обернулась для сельского населения, особенно в черноземной зоне, полосой все большего упадка и уныния. У этого кризиса было несколько причин, часть из которых объясняется человеческими погрешностями, а другие обстоятельствами, над которыми человек был не властен.
Прежде всего, добавление выкупных платежей к обычным податям легло на бывших крепостных совершенно невыносимым бременем. Крестьянам было безумно трудно справиться с новой налоговой повинностью, особенно в тех районах, где барщина традиционно была главным способом расчета и где существовало мало возможностей заработать. Чтобы снять или прикупить еще земли, они брали в долг, сперва у деревенского ростовщика под огромный процент, а затем, уже на лучших условиях, у Крестьянского Банка. Эта задолженность накладывалась на текущие платежи и увеличивала крестьянские недоимки. В 1881 г. правительство уменьшило на четверть сумму, причитавшуюся ему по условиям Положения от 19 февраля, но этой меры оказалось недостаточно. В 1907 г., склоняясь перед неизбежным, оно вообще отменило выкупные платежи и аннулировало недоимки. Но нанесенного ущерба было уже не поправить. Радикальные критики Положения, утверждавшие, что землю надо было передать крестьянам без выкупа, задним числом оказались правы не только в нравственном, но и в практическом смысле.
Сохранение общины также, видимо, было ошибкой, хотя трудно представить, как этого можно было избежать, поскольку в нее сильно тянулись сами крестьяне. Община препятствовала появлению в России энергичного фермерского класса, потому что трудолюбивые и предприимчивые ее члены были в ответе за налоги состоявших в ней лодырей, разгильдяев и пьяниц. Весь этот порядок поощрял косность и не давал хода новому. Крестьяне были мало заинтересованы в улучшении земли, которую они в любом случае теряли при следующем переделе, поэтому у них были все основания не думать о будущем и выжимать из нее все соки. Положение об освобождении крестьян разрешало крестьянским дворам сводить воедино свои наделы и выходить из общины, однако соответствующие пункты его были нагружены таким числом формальностей, что мало кто ими воспользовался, да и в любом случае в 1893 г. правительство их отменило. Сохраняя и укрепляя общину, оно вне всякого сомнения обеспечивало в известной степени социальную стабильность и налоговый контроль, но делало это за счет хозяйственного прогресса. Нежелание властей предоставить крестьянину полные гражданские права также было ошибкой. Вполне понятно, что благоразумнее всего казалось подводить крестьянина к обязанностям полновесного гражданства постепенно. Однако реальным результатом пореформенной системы, подчинившей крестьянина великому множеству особых законов и ведомств, было увековечение его особого положения в обществе, что еще больше задерживало развитие у него гражданского чувства, которым он, увы, пока не обладал. Этот изъян еще пуще усугубился назначением в 1889 г. земских начальников, которых бюрократия подбирала среди наиболее консервативных помещиков каждой волости. Земские начальники наделялись широким кругом полномочий, и их бесконтрольная власть над крестьянином немало смахивала на былую помещичью власть над крепостным.
И, наконец, несправедливость поземельного устройства обернулась в конечном итоге весьма пагубными хозяйственными последствиями. Положение 1861 г. оставило в руках помещиков большую часть выпасов и леса, которыми крестьяне могли свободно пользоваться при крепостном праве. Для устойчивого функционирования русского сельского хозяйства требовалось, чтобы на каждые две десятины пашни приходилась одна десятина выпасов, однако к 1900 г. это отношение составляло три к одному, а кое-где и четыре к одному. Между крестьянами и помещиками вечно возникали раздоры из-за выпасов и дров.
Общей чертой всех человеческих погрешностей пореформенного устройства была чрезмерная осторожность. Устройство это было слишком хорошо продумано и оттого слишком негибко; оно оставляло слишком мало простора для самокоррекции. Более либеральное, более гибкое устройство могло создать поначалу больше проблем, однако в конечном итоге оно лучше смогло бы смягчать потрясения, над которыми человеческая воля была невластна и которые в конце концов полностью расшатали его устои; маленькие революции могли бы предотвратить большую.
Наиболее сокрушительным из этих объективных потрясений явился демографический взрыв, отразившийся не только на бывших крепостных, но и на всех, кто кормился с земли. В 1858 г. население Российской Империи составляло 68 миллионов человек, а в 1897 г. — 125 миллионов. Во второй половине XIX в. прирост населения составлял 1,8% в год. Соответствующая цифра в юго-восточной Европе равнялась 0,4-0,5%, а в северо-западной Европе — 0,7-1,1%. Подавляющее большинство рождений приходилось на сельские районы Европейской России, где между 1858 и 1897 гг. население выросло на 50%. Этот рост не сопровождался пропорциональным увеличением ресурсов, поскольку урожаи оставались на том же жалком уровне. На рубеже этого века чистый доход с десятины земли (пашни и выпаса) в России составлял в среднем 3 рубля 77 копеек, то есть меньше двух долларов в американских деньгах. В последнее десятилетие XIX в. в Московской губернии, где средний чистый доход с десятины составлял около 5 рублей 29 копеек и где крестьянин владел в среднем семью с половиной десятинами, чистый доход составлял чуть меньше 40 рублей в год, или 4 английских фунта, или 20 долларов. Если пересчитать труд крестьянина на заработную плату и добавить к этому его побочные заработки, то по самой оптимистической оценке чистый доход крестьянской семьи в Московской губернии составлял в 1890-х гг. 130-190 рублей (13-20 фунтов в английской валюте того времени), чего было явно недостаточно. [George Pavlovsky, Agricultural Russia on the Еvе of the Revolution (London 1930), pp. 92, 94]. Царское правительство, которое одно располагало капиталом для укрепления сельского хозяйства России, предпочитало вкладывать его в железные дороги и в тяжелую промышленность, хотя получало главную часть своего дохода за счет деревни. Совокупное бремя чрезмерной налоговой повинности, социальных и экономических ущемлений и безудержного роста населения привели к такому положению, при котором русскому крестьянину было все труднее кормиться одним сельским хозяйством. Подсчитано, что в 1900 г. он покрывал за счет хлебопашества лишь от четверти до половины своих потребностей; остальное ему надо было зарабатывать каким-то иным способом. Самым простым выходом было пойти в батраки, либо взять землю в аренду и работать исполу или расплачиваться за нее отработками. В последнем случае он возвращался в полукрепостное состояние. В 1905 г. крестьяне Европейской части России владели (главным образом, общинно) 160 миллионами десятин и брали в аренду еще 20-25 миллионов, оставляя в частных некрестьянских руках лишь 40-50 миллионов десятин пашни (в дополнение к этому государство и корона владели 153 миллионами десятин, однако почти вся эта земля была покрыта лесами и не годилась для вспашки; пашня в основном находилась в аренде у крестьян). Но земли им все равно недоставало. Русские крестьяне знали лишь один способ увеличить производство продуктов питания — расширить посевную площадь, но незанятой земли уже просто не хватало на население, растущее с такой стремительностью. Крестьянская вера в неминуемый «черный передел» лишь ухудшала их злоключения, поскольку они часто отказывались покупать землю, предлагавшуюся им на выгодных условиях. Некоторые из них предпочитали пахать землю до полного ее оскудения, нежели платить за то, что все равно скоро достанется им бесплатно.
На севере крестьянин испытывал добавочные трудности. По традиции он зарабатывал большую часть своего побочного дохода кустарным производством. По мере развития современного механизированного производству источник этот стал иссякать. Грубые ткани, обувь, утварь и скобяные товары, изготовлявшиеся в крестьянских избах в долгие зимние месяцы, ни по качеству, ни по цене не могли конкурировать с товарами машинной выделки. Таким образом, в тот самый момент, когда крестьянин больше всего нуждался в побочном доходе, он лишился его из-за соперничества промышленности.
Наконец, кризис в деревне усугублялся стихийным социальным процессом — разложением сложной семьи. Как только помещик и чиновник утратили власть над личностью крестьян, те стремились поделить свое общее имущество и жить отдельными дворами. С точки зрения производительности сельского хозяйства, этот шаг следует безусловно счесть регрессивным. Крестьяне, очевидно, знали, что это так, но тем не менее не только не желали жить под одной крышей с родителями и родней, но и предпочитали с ними вместе не работать. Власть большака сходила на нет, и вместе с нею ослабевал один из важнейших стабилизирующих факторов деревенской жизни.
Легко увидеть, что нараставший в России к концу XIX в. аграрный кризис разрешить было непросто. Проблема тут заключалась не просто в нехватке земли, как часто думают. Не было выхода и в том, чтобы взять землю у помещика и у государства и отдать ее крестьянам. Все сельское хозяйство представляло собою клубок переплетенных проблем. Экономический кризис усиливал анархические наклонности крестьянина. Мужик, которого в конце XVIII в. иноземцы изображали веселым и добродушным, около 1900 г. предстает в рассказах путешественников угрюмым и недружелюбным.
Это скверное расположение духа усугубляло инстинктивную враждебность крестьян к внешнему миру и породило в начале XX в. ситуацию, чреватую взрывом. Надобен был лишь какой-то признак ослабления государственной власти, чтобы деревня взбунтовалась. Соответствующий сигнал был подан ей зимой 1904-1905 года либеральной интеллигенцией, которая развернула через Союз Освобождения открытую кампанию собраний и митингов с требованием конституции. Правительству, силы которого были связаны на дальневосточном театре войной с Японией, пришлось тянуть время, создавая тем впечатление, что оно не прочь было бы согласиться на какие-то конституционные послабления. В последовавшем засим замешательстве бюрократия чередовала уступки с демонстрацией грубой силы. В январе 1905 г., вслед за расстрелом мирного шествия рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу, в городах вспыхнули беспорядки. Деревне, скованной зимой, пришлось дожидаться оттепели. Как только стаял снег и пошел лед, крестьянство взбунтовалось и пошло грабить и жечь имения и захватывать помещичью землю, на которую так долго смотрело с вожделением. Взяв контроль над положением в свои руки (1906-1907 гг.), правительство провело запоздалую аграрную реформу. Выкупные платежи были отменены. Разочаровавшись в способности общины сыграть роль стабилизирующего фактора, правительство издало 9 ноября 1906 г. указ, позволивший крестьянам сливать свои разрозненные наделы, выходить из общины без ее разрешения и селиться отдельными хозяйствами. У общины отобрали контроль над передвижением крестьян, осуществлявшийся ею посредством паспортов. Теперь правительство ассигновало большие средства, чтобы финансировать перемещение крестьян из перенаселенных черноземных губерний на восток. Выделяли также деньги, чтобы помочь им выкупить землю у помещиков. Эти меры и в самом деле возымели благотворное действие. В 1916 г. хозяйства, «крестьянского типа» владели в пределах Европейской России 89,3% пахотной земли и приблизительно 94% скота. [Предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года: Вып. I — Европейская Россия (Петроград, 1916), стр. XIII-XIV]. Это означает, что накануне революции Россия была страной, в которой преобладали мелкие сельские хозяйства.
События 1905 г. зародили в крестьянстве небывалое сознание собственной силы. Когда Николай II неожиданно отрекся от престола в марте 1917 г., сдержать их не было никакой возможности. Весной 1917 г. мужики снова пустились во все тяжкие, чтобы на этот раз довершить недоделанное первой революцией. Теперь они целились не на пашню; на сей раз они взялись рубить казенные и частные леса, собирать чужой урожай, захватывать хранящиеся на продажу сельскохозяйственные продукты и, разумеется, снова разорять и жечь барские дома. Крестьянские восстания 1917 г. были направлены прежде всего против крупных, высокопроизводительных поместий и хуторов созданных столыпинской реформой. Именно на гребне этой крестьянской революции (одной из сторон которой было разложение армии, составленной преимущественно из крестьян) и вознесся к власти Ленин со своей партией. Российская монархия была уничтожена, в конечном итоге, тем самым крестьянином, в котором она видела своего самого верного союзника. Обстоятельства не дали развиться в России консервативному земледельческому сословию. Сперва подспудный крестьянский анархизм привел к оттяжке реформ, затем под его воздействием они были проведены чересчур осторожно, и, наконец, выйдя на поверхность, он произвел хаос, приведший к падению недостаточно реформированное государство. Ни в один период русской истории крестьянин не выступал тем оплотом стабильности, каким он был в Германии или во Франции.
ГЛАВА 7. ДВОРЯНСТВО
[В Европе] верят в аристократию,— одни чтоб ее презирать, другие чтоб ненавидеть, третьи — чтоб разжиться с нее, из тщеславия, и т д. В России ничего этого нет. Здесь в нее просто не верят.
А. С. Пушкин [А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, М.-Л., 1949, VII, стр. 539-40].На Западе общество пользовалось для обуздания государства (там, где это вообще было возможно) двумя орудиями — дворянством и буржуазией, то есть группами, державшими в своих руках, соответственно, землю и деньги. В одних западных странах они действовали в согласии, в других — по отдельности и наперекор друг другу; иногда одно сословие вело, а второе шло следом. Следующая глава, посвященная среднему классу, попытается объяснить, почему в России он не имел практически никакого влияния на политику. Но даже без детального анализа должно быть вполне очевидно, что в такой аграрной стране, какой до 1860-х гг. являлась Россия, где в обращении было мало денег, а коммерческий кредит вообще отсутствовал, средний класс в силу самой природы вещей не мог иметь большого влияния. Ограничить русскую монархию могло лишь землевладельческое сословие — дворяне, которые к концу XVIII в. владели подавляющим большинством производительного богатства страны и без которых самодержавие не могло ни управлять своим царством, ни защищать его. Они представляли из себя во всех отношениях сильнейшую и богатейшую группу, лучше всего защищенную законом, равно как и наиболее образованную и политически сознательную.
И тем не менее, несмотря на всю потенциальную силу дворянства, его реальные политические достижения производили весьма жалкое впечатление. Редкие акты неповиновения с его стороны отличались либо нерешительностью, либо скверной организацией, либо и тем и другим сразу. В любом случае, в них неизменно участвовал лишь тонкий слой богатейшей космополитической элиты, за которым никогда не шло не испытывавшее к ней доверия провинциальное дворянство. Большую часть времени русское дворянство делало, что ему велели. Оно использовало завоеванные у Петра III и Екатерины II вольности не для приобретения политических прав, а для упрочения своих экономических и социальных привилегий. Вместо того, чтобы накапливать пожалования, которыми его осыпали в XVIII в., оно склонно было дробить и разбазаривать их. Если дворяне внесли в конечном итоге какой-то вклад в политическую жизнь, то сделали они это не как общественно-экономическая группа, выступающая за свои конкретные интересы, а как некое внеклассовое образование, борющееся за всеобщее благо, каким оно его себе представляло, — то есть не как дворянство, а как интеллигенция.
Ученый прошлого века Н. Хлебников одним из первых задумался над причинами политического бессилия русского высшего класса по сравнению с западным. В своем анализе он исходил из предпосылки, что власть высшего класса на Западе зиждилась на двух основаниях — контроле над местным самоуправлением и крупном землевладении. Там, где знать добивалась особенно больших успехов, как, например, в Англии, в ее руках находились оба эти элемента власти, и аристократы главенствовали в деревне в двояком качестве управителей и земельных собственников. Хлебников отмечал, что у дворянства в России было слишком мало административной и экономической власти, чтоб оно могло тягаться с самодержавием.[Н. Хлебников, О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории, СПб., 1869, стр. 13]. Эта схема дает удобную отправную точку для разбора политических воззрений и политической деятельности дворянства.
Рассматривая историческую эволюцию дворянства, следует иметь в виду то важнейшее обстоятельство, что в России отсутствовала традиция собственности на землю. Как уже отмечалось выше, отношение землевладения к росту государственности в России было прямо противоположно этому отношению в истории Западной Европы. На Западе условное землевладение предшествовало появлению абсолютизма; с ростом национальной монархии и централизованного государства условное землевладение превратилось в прямую собственность на землю. В России аллодиальная собственность существовала лишь покуда там не было монархии. Сразу же после своего появления монархия принялась за ликвидацию аллодиальной собственности, заменяя ее условным землевладением, зависящим от государственной службы. На протяжении трех столетий, отделявших царствование Ивана III от правления Екатерины II, русская знать владела землей по царской милости. В процессе роста и становления русского государства ему не приходилось соперничать с крепким землевладельческим сословием, что является фактором первостепенного значения в его исторической эволюции.
Но даже без обладания четко обозначенным правом собственности на свои земельные поместья и на крепостных дворянство все равно могло бы обеспечить себе прочную экономическую базу: в конце концов, грань, отделяющая собственность от владения, в жизни никогда не прочерчена так резко, как в учебниках права. Однако для этого надобны были известные условия, которых не оказалось в наличии. Все сходилось так, чтобы сделать дворянство зависимым от монархии и перевести его внимание с борьбы за свои долгосрочные интересы на удовлетворение своих сиюминутных нужд.
Из сказанного выше, о раннем периоде русской государственности должно быть ясно, почему монархия никогда не позволяла своему служилому классу пускать корни в деревне. Она хотела, чтобы дворяне вечно перемещались и в любой момент были готовы перебраться на новую должность и место жительства. Державная власть в России была выстроена на развалинах частной собственности, путем безжалостного уничтожения уделов и прочих вотчин. Подчинив себе князей-соперников, московские правители позаботились о том, чтобы ни они, ни потомки их, ни бояре, ни вновь созданное дворянство не смогли приобрести такую власть над отдельными областями страны, которая существовала при удельном строе. Мы уже отмечали, какие старания прилагала Москва к тому, чтобы не дать провинциальным управителям укорениться в своих губерниях, как она запрещала служилым людям занимать должности там, где у них были имения, и как она каждые один-два года перемещала их на новые посты. Прусский Indigenatsrecht, требовавший, чтобы управители проживали и, соответственно, владели землей в тех провинциях, где они несли службу, был бы немыслим в России. Не было здесь и наследственных должностей. Западные монархии тоже предпочли бы, чтоб тамошняя знать не укоренялась в провинции, однако помешать этому они не могли и посему боролись за ослабление ее политической власти в центре и мало-помалу замещали ее бюрократией. В России на этот вопрос смотрели куда более серьезно. Наличие у дворянства местных корней было бы прямым вызовом единодержавию, которое исторически являлось одним из основополагающих элементов царской власти, и поэтому завести эти корни дворянам позволить никак не могли. Проведенные Иваном III, Василием III и Иваном IV массовые депортации настолько хорошо сделали свое дело, что после этого даже могущественнейшие аристократы, владевшие миллионами десятин земли и сотнями тысяч крепостных, не могли заявить права собственности ни на единую часть России.
Московское правительство позаботилось о том, чтобы рассредоточить земельные владения служилых людей. Ведавшие земельным фондом Разряд и Поместный Приказ при раздаче поместий слугам государевым не принимали во внимание ни их места рождения, ни местонахождения других их владений. Помещик, изыскивавший добавочной земли для себя или для сына, должен был брать имение, где его ему давали, — иногда за сотни верст от своего фамильного гнезда. По мере открытия новых пограничных областей для русской колонизации дворян побуждали, а подчас и вынуждали, перебираться на новое место со всем своим двором и крепостными. Поместья в России переходили из рук в руки с замечательной частотой. Известно, что в XVI в. более трех четвертей поместий вокруг Москвы переменили владельцев в течение одного двадцатипятилетнего периода. В том же веке половина имений в Коломне перешла в новые руки в течение 16 лет. В XVII в. по истечении 50-60 лет лишь треть поместий в центральных областях России оставалась в собственности прежних владельцев. [Alexandre Eck, Le Moyen Age Russe (Paris 1933), стр. 232, и Ю. В. Готе, Замосковный край а XVIII веке, М., 1937, стр. 287].
Рассредоточение поместий и их быстрый переход в новые руки продолжались на протяжении всего периода империи. Получателям щедрых пожалований Екатерины II и Павла I поместья давались не в одном месте, а то там, то сям, точно так же, как в XVI и XVII вв. Вследствие этого даже крупнейшие состояния представляли собою в России не латифундии, а совокупность рассеянных имений. У Морозовых, которые, благодаря своим семейным связям с царствующим домом, сделались в середине XVII в. богатейшими помещиками страны, было 9 тысяч крестьянских дворов, разбросанных по 19 губерниям. Обширные поместья, которыми обзавелись на протяжении XVIII в. благодаря императорским пожалованиям Воронцовы (они владели 5.711 дворами с 25 тысячами крепостных мужеского пола, живших на 283 тысячах гектарах), были рассеяны по 16 губерниям. То же самое относится и к состоянию П. Шереметева, которое было в екатерининское царствование крупнейшим в России: принадлежавшие ему 186 тысяч душ и 1,1 миллиона гектаров располагались в 17 губерниях. [Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia (Princeton. N. J. 1961), p. 215; E. И. Индова. Крепостное хозяйство в начале XIX века по материалам вотчинного архива Воронцовых. М.,1955, стр. 27-8; и К. Н. Щепетов, Крепостное право в вотчинах Шереметевых, 1708-1885. М., 1947, стр. 22]. Иными словами, в России не было слитых вместе владений, достаточно обширных, чтобы обеспечить своим хозяевам побочный продукт собственности — решающий голос в местной политической жизни. Российский магнат был подобен современному инвеститору, владеющему акциями многих компаний, но не имеющему ни в одной из них контрольного пакета. Еще больше это относилось к средним и мелким землевладельцам. У беднейших помещиков были наделы пахотной земли в одной или нескольких деревнях, которыми они владели совместно с другими помещиками. Человеку, взращенному на западной истории, трудно себе представить, насколько крайние формы принимало в России дробление имений. Нередко село с 400 — 500 жителей принадлежало тридцати-сорока помещикам. Сообщают, что в конце XVIII в. большинство русских деревень принадлежали двум и более помещикам. Индивидуальное землевладение было тут скорее исключением. [А. Т Болотов, цит в Michael Confino, Systemes agraires et progres agricote (Paris The Hague 1969). стр. 104-5]. Гакстгаузену показали деревню с 260 крестьянами, принадлежавшую 83 владельцам. Такое положение вещей, между прочим, исключало огораживание и прочие меры, направленные на модернизацию сельского хозяйства.
Земля продолжала быстро переходить от одних дворян к другим на всем протяжении периода империи, даже после того, как она была объявлена их собственностью и они уже больше не зависели от капризов правительственных ведомств. Многовековая практика вошла в привычку. По подсчетам ведущего историка дворянства А. Романовича-Славатинского, в период империи поместья в России редко оставались в одной семье дольше трех-четырех поколений. Иностранцы были ошеломлены той небрежностью, с которой россияне распоряжались своей наследной землей, а Гакстгаузен прямо заявляет, что нигде в Европе поместья не переходят из рук в руки с такой скоростью, как в России.
Чтобы осознать последствия такой ситуации, достаточно сравнить ее с положением в Англии, Испании, Австрии или Пруссии. Крайняя разбросанность поместий и быстрая смена владельцев лишали дворянство прочной территориальной базы и резко ограничивали политическую власть, которая потенциально содержалась в его коллективном достоянии.
С точки зрения абсолютного богатства положение тоже выглядело отнюдь не блестяще. Морозовы, Воронцовы и Шереметевы составляли редкое исключение. В России всегда существовала большая дистанция между несколькими богатейшими фамилиями и основной дворянской массой. Достаточно сказать, что в 1858-1859 гг. 1.400 богатейших помещиков империи, составлявшие 1,4% всех крепостников, владели тремя миллионами крестьян, тогда как 79 тысяч беднейших помещиков, или 78% крепостников, владели всего двумя миллионами душ. На всем протяжении русской истории подавляющее большинство дворян вело весьма скудное существование или ничем не отличалось от крестьянства по своему достатку.
Точных данных о доходах в средневековой России нет, однако мы знаем достаточно, чтобы сделать вывод об их жалких размерах. Выше уже отмечалось (стр. #111), что в XV в. более трех четвертей новгородских помещиков не могли купить себе военную экипировку. По подсчетам Александра Эка, во второй половине XVI в. лошадь стоила от одного до двух рублей, оружие конника рубль, а одежда его — два рубля. И это в то время, когда поместье в среднем приносило от пяти до восьми рублей денежного дохода. [Eck, Le Moyen Age, стр. 233. Хлебников (О влиянии, стр. 31-2) производят сходные расчеты]. Иными словами, деньги, которые служилый человек должен был отложить на покупку снаряжения, более или менее равнялись всему его доходу. Лишних денег не оставалось. Ничего странного, что Гакстгаузен видел, как московская «знать» подбирает брошенные им и его посольскими коллегами арбузные корки и лимонную кожуру. У многих московских дворян вообще не было крепостных или было их слишком мало, чтобы пахать их руками землю; таким дворянам приходилось работать в поле самим. Они составляли класс так называемых однодворцев; Петр впоследствии обложил их подушной податью и слил их с казенными крестьянами. Несмотря на экспансию в плодородные области, положение не улучшилось и в период империи. И в ту эпоху большинство дворян бедствовало. Доход их был так мал, что они не могли дать детям образование или приобрести какие-либо атрибуты аристократического образа жизни, к которому они стали теперь стремиться. Англичанин, побывавший в России около 1799 г., с явным, отвращением изображает типичного провинциального помещика:
Вы найдете, что весь день напролет он ходит с голой шеей, с неухоженной бородой, одетый в овчину, ест сырую редьку и пьет квас, полдня спит, а другую половину рычит на жену и семейство. Знатный человек и крестьянин ... отличаются одними и теми же чувствами, желаниями, стремлениями и наслаждениями... [Е. D. Clarke. Travels in Russia, Tartary and Turkey (Edinburgh 1839), p. 15, цит. в M. Confino, «A proros de la noblesse russe au XVIII siecle», Annales, Э 6 (1967). стр. 1196. Очерк Конфино (стр. 1163-1205) рисует убедительную картину нищеты, в которой пребывало большинство дворян.].
И в самом деле, в 1858 г. сообщалось, что целая четверть дворян в Рязанской губернии, около 1700 семейств, «со своими крестьянами составляют одно семейство, едят за одним столом и живут в одной избе.» [«Записки Сенатора Я. А. Соловьева», Русская старина, т. XXX, апрель 1881, стр. 746-7].
Как уже отмечалось, проблема частично состояла в том, что дворяне плодились быстрее, чем любая другая общественная группа императорской России; в демографическом отношении они представляли собою наиболее динамическое сословие. Между 1782 и 1858 гг. численность дворянства выросла в 4,3 раза, тогда как все население страны увеличилось всего в два раза, а крестьянство и менее того. [В. М. Кабузан и С. М. Троицкий, «Изменення в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782-1858 гг.». История СССР, Э 4, 1971, стр. 158. См. также статистические данные, приведенные выше на стр. #176 и взятые из того же сборника.]. Этот рост лег тяжким бременем на земельный фонд страны и способствовал общему обнищанию элиты.
Однако в конечном итоге вину за дворянскую бедность следует возложить на примитивность русской экономики и отсутствие альтернативных источников дохода, вследствие чего элита слишком сильно зависела от земледелия и от крепостного труда. Русский землевладельческий класс так и не создал майората и права первородства, тогда как эти два института имеют первостепенное, значение для благоденствия всякой знати, ибо молодым людям, лишенным своей доли земли, практически не с чего было получать доход. Обделенному наследством дворянскому сыну некуда было податься. Он был беднее выгнанного из общины крестьянина. Надеясь укрепить служилое сословие и побудить его к вступлению на многочисленные новые поприща, созданные своими реформами, Петр I издал в 1714 г. указ, по которому помещикам полагалось завещать свое недвижимое имущество одному из наследников (не обязательно старшему). Однако закон этот настолько противоречил традиции и экономической реальности, что его постоянно нарушали, а в 1730 г. принуждены были отменить вообще. Русские помещики всегда стояли за раздел своих имений между сыновьями более или менее равными долями. Это беспрерывное дробление столь же способствовало упадку русской элиты, сколь и правительственная политика. Веселовский показал на примере пяти московских боярских фамилий (которые в другой стране могли бы положить начало влиятельным аристократическим домам), по очереди расколовшихся на части и пресекшихся, что произошло это главным образом из-за привычки дробить состояние по завещанию. Вместо того, чтобы делаться все влиятельней, некоторые их отпрыски в третьем и четвертом поколении самым настоящим образом доходили до уровня холопов. [С. Б. Веселовский, Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. М.-Л., 1947, I, стр. 165-202].
Политические последствия этих обстоятельств станут вполне очевидны, если взглянуть на английскую знать, являвшуюся во всех отношениях антиподом русского дворянства. Знать в Англии неустанно пеклась о том, чтобы земли оставались в руках семьи. Как показало недавно появившееся исследование, она заботилась об этом уже в XIV в. [О. A. Holmes. The Estates .of the Higher nobility in Fourteenth-Century England (Cambridge 1957).]. Введение в XVII в. так называемого strict settlement (правового порядка, при котором собственник, земельного владения рассматривался лишь как его пожизненный владелец) сильно укрепило контроль английской знати над землей. При этом порядке владелец мог отчуждать свое имение лишь при жизни. Подсчитано, что к XVIII в. эта система распространялась на половину Англии, вследствие чего соответствующая часть территории страны сохранялась в руках одних и тех-же знатных семейств и не попадала в руки к нуворишам. Разумеется, такая практика была возможна и из-за того, что было много способов заработать на жизнь помимо земледелия. Богатейшая английская знать веками постепенно расширяла свои имения, следствием чего явилась сильная концентрация землевладения. Подсчитано, что в 1790 г. от 14 до 25 тысяч семейств владели в Англии и Уэльсе 70-85% пахотной земли. [О. Е. Mingay, English Landed Society in the Eighteenth Century (London — Toronto 1963), p. 26]. Даже наименее зажиточные члены этой группы извлекали из своих владений достаточно дохода, чтобы жить подобно джентльменам.
В других странах Западной Европы экономическое положение знати было, возможно, менее блестящим, но тем не менее на всем Западе майорат и наследование по первородству обеспечивали хотя бы более богатым землевладельческим фамилиям прочную экономическую базу. Переплетение этого поземельного богатства с административными функциями позволяло западной знати успешно сопротивляться наиболее крайним формам абсолютизма.
Как показывают нижеследующие статистические данные, в России положение было диаметрально противоположным. Землю не собирали, а бесконечно дробили на все более мелкие участки, вследствие чего подавляющее большинство дворян не обладало экономической независимостью и не могло жить как подобает землевладельческому сословию.
В 1858-1859 гг. в России был приблизительно один миллион дворян обоего пола. Чуть более трети из этого числа принадлежали к личному дворянству, которому закон запрещал владеть крепостными (см. выше, стр. #167). Число потомственных дворян обоего пола определяется в 610 тысяч. [А. Романавич-Славатинский, Дворянство в России, 2-е изд., Киев, 1912, стр 535]. Более половины из них — 323 тысячи — составляли польские шляхтичи, попавшие под русскую власть после разделов Польши. В данной работе их можно игнорировать, поскольку их политические устремления были направлены на восстановление польской независимости, а не на преобразование внутреннего российского управления. Можно также вынести за скобки дворян тюрко-татарского, грузинского, немецкого и иного нерусского происхождения. Эти исключения оставляют нам примерно 274 тысячи потомственных дворян обоего пола, проживавших в 37 губерниях, которые составляли собственно Россию. [Губернии были следующие: Архангельская. Астраханская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Область Войска Донского, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Костромская. Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Петербургская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская. Харьковская, Херсонская, Черниговская и Ярославская]. Исходя из данных переписи 1897 г., по которым число мужчин в этой группе относилось к числу женщин как 48 к 52, получаем цифру в 131 тысячу мужчин.
По переписи 1858-1859 гг. в этих губерниях проживало приблизительно 90 тысяч крепостников обоего пола. К сожалению, установить отношение числа женщин к числу мужчин в этой группе не представляется возможным. Однако если предположить, что отношение это составляло два к одному в пользу мужчин, мы получим цифру в 60 тысяч потомственных дворян мужского пола, владеющих поместьями; предположив же, что отношение это составляло один к одному (реальное соотношение между дворянами и дворянками в то время), число крепостников-мужчин падает до 45 тысяч. В первом случае каждый второй дворянин (60 тысяч из 131 тысячи) владел имением, обрабатывавшимся трудом крепостных; во втором случае — лишь каждый третий (45 тысяч из 131 тысячи).
Отставив в сторону две трети потомственных дворян обоего пола, не владевших крепостными (184 тысячи из 274 тысяч), рассмотрим положение тех, у кого крепостные имелись. В период империи дворянину надо было владеть минимум сотней душ, чтобы претендовать на положение джентльмена, если воспользоваться английской терминологией. Критерий этот, применявшийся уже в XVIII в., получил официальную санкцию Николая I в указе 1831 г., по которому полное право голоса в дворянских собраниях имели лишь обладатели ста и более крепостных душ. Исходя из такой мерки, владельцев менее ста крепостных мужского пола можно считать в той или иной степени обедневшими. Тех помещиков, у кого крепостных было больше сотни, можно подразделить на зажиточных землевладельцев (от 100 до 1.000 душ) и на «сеньоров» (более 1.000 душ). Исходя из этих критериев, посмотрим, как распределялось крепостничество в собственно России в период империи:
ТАБЛИЦА I. Крепостники обоего пола в Европейской части России [Цифры на 1777 г взяты из В. И. Семевский, Крестьяне в царствование Императрицы Екатерины II, СПб.. 1903, 1, стр. 32, а на 1858-9 основаны на данных, сообщаемых А Тройницким Крепостное население в России по 10-ой народной переписи, СПб 1861 таб Д, стр 45. В дополнение к 87269 крепостникам указанным в таб. 1. в 37 рассматриваемых губерниях было еще около 3 тысяч дворян, имевших крепостных (по три души в среднем) но не владевших землей.]
Категория 1777 г. 1858-1859 гг.
(исходя из числа душ мужского пола) Процент Численность Процент
«Сеньоры» (более 1000 душ) 1032 1,1
Зажиточные крепостники 16
501-1000 душ 1754 2,0
101-500 душ 15717 18,0
Обедневшие дворяне
21-100 душ 25 30593 35,1
Менее 20 душ 59 38173 43,8
Итого 100 87269 100,0
Как явствует из данной статистической таблицы накануне отмены крепостного права почти четыре пятых русских дворян и дворянок, которым посчастливилось владеть крепостными (68 766 из 87 269), имели их слишком мало, чтобы жить с земли в таком достатке, которого, по мнению властей, требовало их общественное положение. Или, если выразить это по другому, в 1858-1859 гг. лишь 18 503 дворянина в 37 великорусских губерниях получали со своих имений достаточно дохода, чтобы пользоваться финансовой независимостью. Число дворян, которые могли жить за счет барщины и оброка, всегда было совсем невелико. Николаевский указ 1831 г., оставивший право голоса в дворянских собраниях только за владельцами ста и более крепостных душ, привел к тому, что число обладателей этого права во всей империи в целом сократилось до 21.916, то есть до цифры, близкой к 18.503, приведенным в Таблице I для 37 великорусских губерний тридцатью годами позже. [Романович-Славатинсккй, Дворянство, стр. 572]. Эти цифры делаются еще красноречивей в свете того обстоятельства, что 38.173 дворянина, у которых насчитывалось менее 20 душ, в среднем владели 7 крепостными мужского пола каждый. Как явствует из данных за 1777 г., в царствование Екатерины II — в «Золотой век» дворянства — дела обстояли еще хуже. Все это должно предостеречь от мысли, что русская «знать» была расточительным классом, купающимся в роскоши среди всеобщей нищеты и отсталости. Ростовы, Безуховы и Болконские «Войны и мира» не типичны ни в каком отношении они состояли в членах закрытого клуба, насчитывавшего около 1.400 «сеньоров», и это в империи, где один миллион человек так или иначе претендовал на «знатность».
Таким образом, хотя дворянство и в самом деле было землевладельческим сословием в том смысле, что до освобождения крестьян оно владело почти всей частной пахотной землей империи и получало с нее большую часть своего дохода, оно не было землевладельческой аристократией в западном значении этого слова. 98% дворян или вообще не имели крепостных, или имели их так мало, что их труд и оброк не обеспечивали хозяевам приличного жизненного уровня. Этим людям — если их только не содержали родственники или покровители — приходилось надеяться лишь на щедрость короны. Вследствие этого даже после получения вольностей в 1762 и 1785 гг. дворянство не могло обойтись без монарших милостей, ибо лишь у монархии были должности, поместья и крепостные, надобные им для прокормления. Члены этого многочисленного класса были землевладельческой аристократией не в большей степени, чем современный служащий, вложивший часть своих, сбережений в акции какой-либо компании, является капиталистическим предпринимателем. Но даже те два процента дворян, у которых хватало земли для прокорма, не походили на настоящую землевладельческую аристократию. Отмеченные выше разбросанность поместий и быстрый переход их из рук в руки препятствовали складыванию плотных местных связей, без которых не бывает аристократического духа земля была для русских дворян способом заработать на жизнь, а не образом жизни.
Если бедные, безземельные дворяне ждали от монархии должностей, то зажиточные обладатели поместий ждали от нее сохранения крепостного права.
Одна из аномалий истории общественных отношений в России состоит в том, что хотя крепостное право играло первостепенную роль в эволюции страны, юридическая его сторона всегда оставалась весьма смутной. Не было издано никакого указа о закрепощении крестьян, и монархия никогда официально не давала помещику права собственности на его крепостных. Крепостничество выросло на практике из скопления множества указов и обычаев и существовало с общего согласия, но без недвусмысленного официального благословения. Всегда подразумевалось (хотя, опять же, не говорилось вслух), что помещики на самом деле не являются собственниками своих крепостных, а скорее, так сказать, руководят ими от имени монархии, каковое предположение стало особенно правдоподобным после того, как Петр и его преемники сделали помещиков государственными агентами по сбору подушной подати и набору рекрутов. Хотя благоденствие помещиков в большой степени зависело от крепостных, право собственности на их личность и труд было очерчено весьма смутно и осталось таковым даже после 1785 г., когда помещики получили землю в свою собственность. Вследствие этого все, кто жил за счет крепостного труда, не мог обходиться без монарших милостей. Корона могла в любой момент отобрать то, что пожаловала. Опасение что у них могут отобрать крепостных правительственным указом, отбивало у дворян склонность к политике, особенно после того, как их освободили от обязательной государственной службы. Сохранение статус-кво обеспечивало им бесплатную рабочую силу, и любая перемена могла изменить положение вещей не в их пользу. Одно из негласных условий царившего в России двоевластия заключалось в том, что если дворяне желали и дальше эксплуатировать труд крепостных, им полагалось держаться в стороне от политики.
Кроме того, крепостники нуждались в монархии, чтобы держать своих крестьян в узде. Пугачевский бунт 1773-1775 гг. их достаточно сильно напугал. Помещики были убеждены (как показали последующие события, с полным на то основанием), что при малейших признаках ослабления государственной власти мужик возьмет закон в свои собственные руки и снова пойдет убивать и грабить, как он сделал это в пугачевщину. Лучшим оружием для удержания крепостных в повиновении было помещичье право вызывать войска и передавать строптивых крестьян властям для отправки в армию или высылки в Сибирь. И с этой точки зрения влиятельная крепостническая часть дворянства была заинтересована в сохранении сильного самодержавного режима.
Важным фактором, имевшим отрицательное действие на политическое положение дворянства, было отсутствие в России корпоративных институтов и корпоративного духа.
Здесь уже достаточно говорилось о московской монархии и ее воззрениях на служилое сословие, так что излишне будет объяснять, почему она никогда не жаловала корпоративных хартий. Однако цари шли дальше в утверждении вотчинной власти самодержавия и использовали все имевшиеся у них средства для того, чтобы унизить каждого, кто в силу своего происхождения, должностей или состояния склонен был слишком много возомнить о себе. Они обыкновенно величали служилых людей холопами. Московский протокол требовал, чтобы каждый боярин и дворянин, даже отпрыск родословной фамилии, обращался к своему государю по следующему образцу: «Я, такой-то (уменьшительная форма имени, например, «Ивашка»), холоп твой». Обычай этот был прекращен лишь Петром, но и после него, на протяжении всего XVIII в., знатные и не столь знатные дворяне, обращаясь к монарху, весьма часто именовали себя его «рабами».
И дворян и простолюдинов без разбору подвергали телесным наказаниям. Боярина и генерала лупили кнутом так же нещадно, как последнего крепостного. Петр в особенности любил, выказывая неудовольствие, пороть своих приближенных. Высший класс был избавлен от телесных наказаний лишь грамотой дворянству в 1785 г.
Положение дворянина вечно было достаточно шатким. Даже в XVIII в., когда дворянство находилось в зените своего могущества, служилого человека могли без предупреждения и без права обжалования лишить дворянского звания. При Петре дворянин, не получивший образования или скрывший крепостных от переписчика, изгонялся из своего сословия. Дворянина на гражданской службе, показавшего себя за пятилетний испытательный срок негодным к канцелярской работе, отправляли в армию простым солдатом. В XIX в. в связи с бурным ростом дворянства за счет притока низших сословий и иностранцев правительство устраивало периодические «чистки». Например, Николай I приказал в 1840-х гг., чтобы 64 тысячи шляхтичей, принятые до этого в ряды русского дворянства, были лишены дворянского звания. При этом государе лишение дворянского звания было обычным наказанием за политические и иные прегрешения.
Введение местничества являлось, на первый взгляд, отражением корпоративного духа, однако в конечном итоге оно сильно способствовало подрыву корпоративного положения высшего класса по отношению к самодержавию. Местнические счеты понуждали монархию при назначении в должность принимать во внимание пожелания бояр. Однако в конце концов сложнейшие межродовые и внутрисемейные местнические счеты лишь усилили склоки среди боярства. Бесконечные челобитные и затевавшиеся между боярами тяжбы помешали им объединить свои силы в борьбе с монархией. Местничество лишь с виду было орудием боярского контроля над государством. На самом деле оно делало невозможным складывание какого-либо единства в рядах высшего московского класса.
Самодержавие не давало боярам и дворянам никакой возможности образовать закрытую корпорацию. Оно требовало, чтобы ряды служилого сословия были, всегда открыты для новых членов из низших классов и из-за границы.
Мы отмечали последствия того, что в поздний период существования Московского государства простым дворянам были предоставлены привилегии боярского сословия. Табель о рангах попросту увековечила эту традицию, еще более подчеркнув первенство заслуг над знатностью. Наплыв простолюдинов, попадавших в дворянские ряды через служебное повышение, пришелся сильно не по нраву тем, кто обладал дворянским званием по наследству. В середине XVIII в. дворянские публицисты, возглавляемые князем Михаилом Щербатовым, вознамерились убедить правительство не возводить простолюдинов в дворянское звание, однако успеха не добились. Хотя Екатерина симпатизировала интересам дворянства, она отказалась превратить его в закрытое сословие, и приток со стороны продолжался.
Помимо низших классов, важным источником размыва дворянских рядов была иноземная знать. Российское самодержавие охотно принимало иностранцев, желавших поступить к нему на службу. В XVI и XVII вв., большое число татарской знати было обращено в православную веру и записано в ряды русского дворянства. В следующее столетие та же привилегия была пожалована старшинам украинского казачества, балтийским баронам, польским шляхтичам и кавказским князьям. Немцы, шотландцы, французы и другие западные европейцы, приезжавшие в Россию с позволения или по приглашению правительства, постоянно вносились в дворянские списки. Вследствие этого процент русских в рядах дворянства оставался сравнительно небольшим. Историк, проанализировавший (в основном путем изучения списков Разряда конца XVII в.) происхождение 915 служилых родов, приводит следующие данные по их национальному составу: 18,3% были потомками Рюриковичей, то есть имели варяжскую кровь; 24,3% были польского или литовского происхождения; 25% происходили из других стран Западной Европы; 17% — от татар и других восточных народов; национальность 10,5% не установлена, и лишь 4,6% были великороссами. [Н. Загоскин, Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровеской Руси. Казань, 1875, ст. 177-9]. Если даже посчитать потомков Рюриковичей и лиц неизвестного происхождения за великороссов, из этих выкладок все равно следует, что в последние десятилетия Московской эпохи более двух третей царских слуг были иностранного происхождения. В XVIII в., благодаря территориальной экспансии и созданию стандартной процедуры возведения в дворянское звание, пропорция иностранцев в служилом сословии возросла еще больше. Хотя и верно, что в период империй соображения моды требовали вести свое происхождение от иноземцев и имеющиеся статистические данные поэтому несомненно показывают завышенный процент лиц нерусской национальности, тем не менее, их пропорция в рядах служилого сословия была с любой точки зрения весьма велика. Современные подсчеты показывают, что из 2.867 государственных служащих, состоявших в период империи (1700-1917 гг.) в высших чинах, 1.079, или 37,6% были иностранного происхождения, по большей части западноевропейского и в первую очередь немецкого. В середине XIX в. одни лютеране занимали 15% высших должностей в центральном управлении. [Eric Amburger. Geschichte der Behordenorganisalion Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 (Leiden 1966), стр. 517, Walter M. Pintner в Slavic Review. Vol. 29, No. 3 (September 1970), p 438]. Ни в какой другой стране ряды знати не пополнялись таким числом иноземцев; и нигде больше корни ее в туземной почве не лежали так мелко.
Последним, но не наименее значительным из факторов, препятствовавших превращению дворянства в корпоративную общность, была легковесность дворянских титулов. Точно так же, как сыновья боярина или дворянина наследовали равные доли принадлежавшей ему земли, они наследовали, если отец их был князем, его княжеский титул. Результатом сего явилось изобилие в России княжеских фамилий. А поскольку большинство князей были бедны, звание это давало мало престижа и еще меньше власти. Ездившие в императорскую Россию англичане с великим изумлением отмечали среди множества несуразностей этой экзотической страны и то обстоятельство, что князья, к которым они обращались к подобающей вежливостью, не считались автоматически «аристократами», а то и вообще были просто нищими. Каким-то весом обладал единственно титул, приобретенный по службе, — то есть чин — а он зависел не от происхождения, а от благосклонности правительства. Таким образом, классификация элиты не по социальному происхождению, а по социальной функции, бывшая важным элементом вотчинного строя, не только пережила Московское государство, но и приобрела при императорах еще большую роль. В таких условиях самые благонамеренные попытки пересадки западных аристократических институтов на русскую почву были обречены на провал. Екатерина II попробовала предпринять кое-какие шаги в этом направлении. В 1785 г. она предусмотрела в своей грамоте дворянству учреждение дворянских собраний, бывших, наряду с созданными одновременно городскими корпорациями, первыми корпоративными организациями, когда-либо пожалованными в России какой-либо социальной группе. Екатерина ставила себе целью дать своим только что освобожденным дворянам какое-то занятие, а заодно, определить их в помощь местной администрации. Однако правила деятельности дворянских собраний были уставлены таким количеством ограничений, а члены их в любом случае были настолько .нерасположены к общественной деятельности, что собрания так и остались безобидными светскими сборищами. Их административные функции полностью взяла на себя бюрократия, чьи губернские представители позаботились о том, чтобы дворянские собрания не выходили за пределы узко очерненных им рамок. Сперанский, бывший одно время главным советником Александра I, мечтал превратить верхушку русского дворянства в некое подобие английской высшей знати, однако был приведен в отчаяние их полным равнодушием к тем возможностям, которые предоставляли дворянские собрания. «...От самых дворянских выборов дворяне бегают,— сетовал он в 1818 г.,— и скоро надобно будет собирать их жандармами, чтобы принудить пользоваться правами, им данными». [М. М. Сперанский, «Письма Сперанского к А. А. Столыпину», Русский архив. 1869, VII, Э 9, стр. 1977].
Вышеизложенные факты помогут объяснить тот очевидный парадокс, что общественный класс, который сумел к 1800 г. забрать в свои руки подавляющую часть производительного богатства страны (и не только землю, но, как будет показано в следующей главе, и немалую долю промышленности) и приобрести вдобавок личные права и имущественные привилегии, сроду не предоставлявшиеся никакой иной группе, тем не менее не использовал своих преимуществ для приобретения политической власти. Пусть дворянство было зажиточным коллективно, но по отдельности более девяти десятых его членов нищенствовали и в экономическом отношении крепко зависели от правительства. Богатое меньшинство же не могло упрочить своего влияния по той причине, что владения его были рассредоточены, вечно дробились и не получали возможности слиться с местной административной властью, отчего у него не было прочной опоры на местах. Боязнь потерять крепостных еще пуще отбивала у него охоту мешаться в политику. Отсутствие до 1785 г. корпоративных институтов и порождаемого ими духа помешало сплочению рядов дворянства. Таким образом, достигнутое в XVIII в. освобождение от государственной службы, получение вольностей и полного права собственности на землю не имело политических результатов и улучшило положение высшего класса, не приблизив его к источникам власти. На всем протяжении русской истории служилая элита сделала всего три серьезных попытки, отстоявших на столетие друг от друга, пойти против самодержавия и стеснить его неограниченную власть. Первая имела место в Смутное время, когда группа бояр вступила в соглашение с польской короной, предложив сыну короля польского российский трон, если он обещает править на определенных условиях. Поляки согласились, но вскоре их выгнали из России, и договор был аннулирован. Династию Романовых, пришедшую к власти в 1613 г., не просили соглашаться на какие-либо условия. Затем, в 1730 г., в междуцарствие, группа сановников из Верховного Тайного Совета, среди которых выделялись члены древних княжеских родов Голицыных и Долгоруких, потребовали, чтобы императрица Анна подписала ряд «кондиций», резко ограничивших ее власть распоряжаться государственными доходами, повышать в должности служилых людей и проводить внешнюю политику. Императрица условия подписала, однако после вступления на царствование отклонила их по наущению рядового дворянства и вернулась к неограниченному самодержавному правлению. Наконец, в декабре 1825 г. группа офицеров из виднейших фамилий попыталась совершить дворцовый переворот. Они ставили себе целью упразднить самодержавие и заменить его конституционной монархией или республикой. Восстание было мгновенно подавлено.
Все эти три попытки имели известные общие черты. В каждом случае предприятие возглавлялось высшей элитой — потомками «родословных» семейств или богатыми нуворишами, отождествлявшими себя с западной аристократией. Действовали они на свой страх и риск, поскольку были не в состоянии заручиться поддержкой массы провинциального дворянства. Последнее с большим подозрением относилось ко всяким конституционным предприятиям, в которых видело не тщение об общем благе, а хитро замаскированные интриги, нацеленные на установление олигархической формы правления. Надежды рядового дворянина на должности и земельные пожалования связывались с государством, и он ужасно боялся, что оно попадет в руки знатных землевладельческих фамилий, которые (как он думал) употребят власть на то, чтобы обогатиться за его счет. В 1730 г., в судьбоносный момент конституционного развития России, представитель провинциальных дворян, выступавших против ограничения монархии какими-либо «условиями», так выразил их опасения: «...кто же нам поручится, что со временем вместо одного государя не явится столько тиранов, сколько членов в [Верховном Тайном] Совете, и что они со своими притеснениями не увеличат нашего рабства». [Д. А. Корсаков, Воцарение Императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880, стр. 93]. Политическая философия дворянской массы не так уж сильно отличалась от философии крестьянства, также предпочитавшего самодержавие конституционному строю, в котором оно видело лишь махинации частных групп, ищущих личной выгоды. А без поддержки рядового дворянина и крестьянина политические амбиции высшей знати не имели никаких шансов на успех.
Второй фактор, характерный для всех трех попыток добиться конституции, заключался в том, что каждая из них строилась по принципу «все или ничего» и опиралась на дворцовый переворот. Не было терпеливого, неуклонного накопления политической власти. Судьба конституционных перемен в России всегда зависела от рискованной авантюры. Однако обществу, если судить по историческому опыту, чаще всего удавалось отвоевать политическую власть у государства не таким способом.
Правительству никогда не думалось, что ему стоит всерьез опасаться политических амбиций дворянства. Возможно, оно было разочаровано тем, что это сословие не помогает ему управлять страной, и волей-неволей продолжало увеличивать бюрократию, чтобы сделать ее опорой своего правления вместо служилого землевладельческого класса. Николай I не доверял высшему классу из-за его участия в восстании декабристов. Но он тоже его не опасался. Граф Павел Строганов, член так называемого Негласного Комитета (личного кабинета Александра I), правильно выразил точку зрения верховной власти. Он был во Франции во время революции и наблюдал, каким образом западная аристократия реагирует на угрозу своим привилегиям. На одном из заседаний Комитета в 1801 г., когда высказали тревогу, что дворяне могут отвергнуть некое предложение правительства, он сказал следующее:
Дворянство наше состоит из множества людей, получивших дворянское звание исключительно по службе, не имеющих никакого образования и пекущихся токмо о том, чтобы не было ничего превыше императорской власти. Ни закон, ни справедливость — ничто не в силах пробудить в них мысли о малейшем противодействии Это самое невежественное сословие, самое продажное, а что до его esprit, — самое тупое. Таково, приблизительно, обличье большинства наших сельских дворян. Те же, кто чуть лучше образован, во-первых, невелики числом, а кроме того в большинстве случаев пропитаны духом, который совершенно лишает их способности идти наперекор каким бы то ни было мерам правительства. Большая часть служилого дворянства движима иными соображениями; к несчастью, она расположена искать в исполнении распоряжений правительства лишь собственную выгоду, которая часто заключается в мошеннических проделках, но никогда — в сопротивлении. Таково, приблизительно, обличье нашего дворянства, одна часть его живет в деревне, погрязнув в глубочайшем невежестве, тогда как другая, которая служит, пропитана духом, ни в коей мере опасности не представляющим Крупных помещиков опасаться нечего. Что же тогда остается и где же элементы опасного недовольства? Чего только ни делали в предыдущее царствование [Павла I] против справедливости, против прав этих людей, против их личной безопасности. Если было когда чего опасаться, это было в то время. Но молвили ли они хоть словечко? Отнюдь. Напротив, все репрессивные меры выполнялись с удивительной тщательностью, и именно дворянин [gentilhomme] проводил оные меры, направленные против своих собратьев дворян, меры, наносившие ущерб интересам и чести этого сословия. А ведь желают, чтобы группа, полностью лишенная общественного духа, совершала вещи, которые требуют esprit de corps, умного и не сколько настойчивого поведения и мужества! [Великий Князь Николай Михайлович, Граф Павел Александрович Строганов, 1774-1817 СПб., 1903, II, стр 111-2].
Через двадцать четыре года после того, как были сделаны эти презрительные замечания, произошло восстание декабристов, в котором вполне доставало и духу и мужества. И тем не менее, мнение Строганова было справедливым в отношении дворянства в целом. Весь остаток императорского правления оно уже не причиняло ему больших хлопот. [Верно, конечно, что подавляющее большинство противников царского режима в XIX и XX вв вышли из дворян. Однако как либеральные, так и революционные инакомыслы боролись не за интересы своего класса, который нас здесь единственно занимает. Они боролись за национальные и социальные идеалы всего общества в целом, и борьба эта подчас вынуждала их идти против интересов своего собственного класса. Хотя Бакунин, Герцен, Кропоткин, Плеханов, Ленин, Струве и Шипов вышли из дворян, нельзя, разумеется, сказать, что они были в каком-то смысле выразителями дворянских интересов].
Разбирая политические взгляды и деятельность такого разнородного класса, как русское дворянство, следует различать между его тремя составными элементами — богатыми, средними и бедными дворянами.
Бедными дворянами для наших целей можно пренебречь, ибо, хотя они составляли более девяти десятых всего сословия, у них явно не было политических устремлений. Они пеклись больше о сиюминутном и материальном. Как и крестьяне, подобно которым жили многие из них, они искали помощи у самодержавия и рассматривали всякую попытку либерализировать порядок правления как происки магнатов, заботящихся лишь о своих собственных интересах. По удачному выражению Строганова, дворяне этого разряда особенно получившие дворянское звание за службу — заботились лишь о том, «чтобы не было ничего превыше императорской власти.» Этот слой, столь блистательно изображенный в романах Гоголям и Салтыкова-Щедрина, представлял из себя глубоко консервативную силу.
К богатейшим дворянам относились члены примерно тысячи семейств, каждое из которых владело тысячью или более душ (в среднем у них было по 4 тысячи взрослых крепостных обоего пола). Здесь картина была совершенно иная. Они жили обыкновенно среди восточной роскоши, в окружении сонма знакомых, приближенных и прислуги. Мало кто из них имел представление о своих доходах и расходах. Они обычно проматывали весь получаемый ими оброк и залезали в долги, которые наследники потом распутывали, как могли. В минуту жизни трудную они всегда могли продать одно из своих разбросанных имений, из которых обыкновенно складывались такие большие состояния, и продолжать жить в привычном стиле. Ростовы «Войны и мира» представляют из себя достоверное изображение такого семейства.
Русские помещики обычно жили хлебосольно, и самых шапочных знакомых щедро потчевали едой и питьем, в избытке производимыми в поместьях и не имевшими рынка. Много денег тратилось на иноземные предметы роскоши, такие как тропические фрукты и вина: говорили, что царская Россия потребляла в год больше шампанского, чем производили все виноградники Франции. По всей видимости, хлебосольство богатого русского дома не имел себе равных в Европе. Оно было возможно лишь там, где толком не заглядывали в конторские книги.
Непременной принадлежностью жизни богатейшего дворянства было присутствие несметных толп прислуги, выполнявшей любой хозяйский каприз. У одного генерала было 800 слуг, 12 из которых были приставлены к его незаконным чадам. У некоего расточительного графа имелось 400 человек прислуги, в том числе 17 лакеев, каждый из которых имел свое особое назначение: один подавал хозяину воду, другой зажигал ему трубку, и так далее. У другого был специальный охотничий оркестр из крепостных, каждый из которых производил только одну ноту. Чтобы развлечься долгими зимними вечерами, богатые помещики держали также толпы скоморохов, арапов, юродивых и рассказчиков всякого сорта. У большинства слуг работы было немного, но престиж требовал иметь великое их множество. Даже дворяне победнее любили иметь при себе пару слуг.
Когда такой двор отправлялся в дорогу, он напоминал кочевое племя. В 1830 г. Пушкин встретил отпрыска богатого помещика, и тот рассказал ему, как отец его, бывало, путешествовал в екатерининское царствование. Вот что записал Пушкин:
Собираясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем домом. Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовский с валторною — прозван он был Куликовским по причине длинного своего носа; должность его в доме состояла в том, что в базарные дни обязан он был выезжать на верблюде и показывать мужикам lanterne-magique. В дороге же подавал он валторною сигнал привалу и походу. За ним ехала одноколка отца моего; за одноколкою двуместная карета про случай дождя; под козлами находилось место любимого его шута Ивана Степаныча. Вслед тянулись кареты, наполненные нами, нашими мадамами, учителями, няньками и проч. За ними ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за нею точно такая же фура с больными борзыми собаками. Потом следовал огромный ящик с роговою музыкою, буфет на 16-ти лошадях, наконец повозки с калмыцкими кибитками и разной мебелью (ибо отец мой останавливался всегда в поле). Посудите же, сколько при всем этом находилось народу, музыкантов, поваров, псарей и разной челяди. [А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, VII, стр. 229-30].
Некоторые из богатейших дворян переселялись за границу, где поражали европейцев своею расточительностью. Один русский аристократ жил какое-то время в маленьком немецком городке и забавлялся тем, что посылал с утра свою прислугу на рынок скупить все продукты и потом смотрел из окна, как местные хозяйки мечутся в поисках еды. В игорных домах и на курортах Западной Европы хорошо знали сорящих деньгами русских вельмож. Говорят, что Монте-Карло так и не оправилось от русской революции.
Такие господа настолько были поглощены погоней за наслаждениями, что почти не интересовались политикой. В 1813-1815 гг. многие молодые отпрыски этих богатых семейств побывали в Западной Европе с оккупационной армией и вернулись домой, зараженные идеями либерализма и национализма. Именно они основали в России общества, подобные немецкому Tugendbunde, и, вдохновившись восстаниями либерально настроенных офицеров в Испании, Португалии и Неаполе, попытались в 1825 г. покончить с абсолютизмом в России. Однако у восстания декабристов не было исторических предпосылок и настоящей программы, оно являлось изолированным инцидентом, отзвуком далеких событий. Оно было большим потрясением для знатных семейств, которые не догадывались о его приближении и ума не могли приложить, что за безумие обуяло их молодую поросль. В общем, богатейшие дворяне предпочитали наслаждаться жизнью и не задумывались о своем собственном завтрашнем дне, не говоря уж об общественном благе.
Потенциально наиболее политически активной группой в стране было среднее дворянство, имевшее от 100 до 1.000 крепостных душ. В 1858 г. эти дворяне владели в 37 губерниях собственно России в среднем 470 крепостными обоего пола, которых хватало, чтобы ни от кого не зависеть и давать себе и своим детям современное образование. Они, как правило, хорошо знали французский, но и русским владели в совершенстве. Богатейшие из них наезжали в Европу и иногда проводили там год и более того в долгих странствиях, либо обучаясь в тамошних университетах. Многие поступали на несколько лет на военную службу, не столько для того, чтобы сделать карьеру или заработать, сколько с целью посмотреть страну и завести связи. Они владели библиотеками и держались в курсе заграничных новостей. Хотя они предпочитали жить в городе, лето они проводили в своих поместьях, и этот обычай укреплял их связи с деревней и ее обитателями. Эта группа служила своеобразным мостом между культурой деревенской России и современного Запада, и из рядов ее вышло большинство видных политических, и интеллектуальных деятелей царской России. Прелестное изображение такой провинциальной дворянской семьи (скорее скромного достатка) можно найти в автобиографической повести С. Аксакова «Семейная хроника».
Однако в целом группа эта не интересовалась политической деятельностью. В дополнение к вышеуказанным причинам, вину за ее аполитичность можно возложить на то, что в памяти ее была еще жива государственная служба. После увольнения с нее дворяне весьма подозрительно относились к гражданским обязанностям любого сорта. В попытках самодержавия привлечь их к местному самоуправлению они усматривали замысел снова запрячь их в ярмо государственной повинности. Поэтому они уклонялись даже от тех ограниченных возможностей, которые были предоставлены им для участия в губернской жизни, тем более что над душой у них вечно стояла бюрократия; слишком часто случалось в России, что выборный представитель уездного дворянства втягивался в орбиту государственной службы и в конце концов оказывался ответственным перед Петербургом, а не перед своими избирателями. Печальное наследие московской традиции пожизненной службы проявилось в том, что даже те дворяне, у которых были средства и возможности участвовать в общественной жизни на местах, держались от нее в стороне, настолько велика была их неприязнь ко всякой государственной работе. Точно так же, как крестьяне, не умевшие разглядеть разницу между вмешательством в свою жизнь со стороны доброхотов-помещиков и безоглядной эксплуатацией, большинство дворян не проводило различия между обязательной государственной службой и добровольным общественным служением. В обоих случаях решающим обстоятельством была инстинктивная отрицательная реакция на давление чужой воли и (вне всякой связи с сутью дела) стремление во всех случаях поступать своевольно.
Долгоруков (стр. #182) отмечал другой стесняющий фактор — негибкость системы чинов на русской гражданской службе. Прилично образованный дворянин не мог начать службу в чине, соответствующем его квалификации: ему приходилось начинать с самого низа и пробиваться наверх, соперничая с профессиональными бюрократами, которые пеклись единственно о собственной карьере. Более образованные и государственно мыслящие дворяне находили такое положение невыносимым и избегали казенную службу. Так была утрачена хорошая возможность привлечь к делам управления наиболее просвещенный общественный слой.
Дворяне среднего достатка, как правило, больше всего интересовались культурой — литературой, театром, живописью, музыкой, историей, политическими и общественными теориями. Именно они составляли аудиторию для русского романа и поэзии, подписывались на периодическую печать, заполняли театры и поступали в университеты. Русская культура в большой степени есть произведение этого класса — примерно 18.500 семей, из чьих рядов вышли дарования и аудитория, наконец-то давшие России то, что остальной мир мог признать и принять как часть своего собственного культурного наследия. Когда некоторые члены этой группы сколько-нибудь серьезно заинтересовались политикой в 1830-х гг., они ударились в прожектерство, имевшее мало общего с политической действительностью. Ниже мы встретим их в качестве основателей русской интеллигенции. Если, когда-нибудь можно было вообще надеяться на то, что дворянство вырастет в политически активный класс, такая надежда полностью исчезла в 1861 г.. Освобождение крестьян было для помещиков великим бедствием. Дело не в том, что положению об освобождении не доставало щедрости; за отдаваемую крестьянам землю помещики получили хорошие деньги, и высказывалось даже подозрение, что на эту землю установили искусственно высокие цены, дабы хотя бы отчасти компенсировать утрату крепостных. Беда была в том, что теперь помещики оказались предоставлены самим себе. При крепостном праве им не было нужды тщательно вести бухгалтерские книги, поскольку в трудную минуту они всегда могли выжать чуть больше из крепостного. В новых условиях так уже не выходило. Чтобы прожить, надобно было научиться подсчитывать размер оброка и стоимость работы и учитывать расходы. Исторический опыт дворянства не подготовил его к новым обязанностям. Большинство дворян не умело считать рубли и копейки, а то и просто смотрело на такие подсчеты с презрением. Получилось так, будто дворян с их долгой традицией беззаботного житья вдруг посадили на скудное довольствие.
В этом состояла самая болезненная расплата за крепостничество. Дворяне так долго жили за счет оброка и барщины, размер которых они устанавливали, как им заблагорассудится, что оказались абсолютно неспособны положиться на свои собственные силы. Несмотря на необыкновенный рост цен на землю и ренты после 1861 г., дворяне все глубже залезали в долги и вынуждены были закладывать землю, либо продавать ее крестьянам и купцам. К 1905 г. они утеряли треть земли, доставшейся им при освобождении крестьян, а после случившихся в тот год крестьянских волнений стали избавляться от нее еще скорее. Примерно половина находившейся в частных руках земли была к этому времени заложена. В северных областях дворянское землевладение к концу XIX в. практически исчезло. Не умел хозяйствовать, дворяне продали большую часть пашни и оставили себе главным образом лес и выпасы, которые могли сдавать в аренду по хорошей цене и без больших забот для себя. На юге дворянское землевладение сохранилось, однако и там оно отступало под совокупным напором изголодавшихся по земле крестьян и работавшего на экспорт капиталистического земледелия. Попытки самодержавия укрепить хиреющее экономическое положение дворянства льготным кредитом не смогли повернуть этот процесс вспять. Как отмечалось выше (стр. #223), к 1916 г. крестьяне владели почти 90% пашни, равно как и 94% всего скота. Итак, в последние десятилетия царского правления дворянство как класс утратило экономическую базу и больше не представляло собою вообще никакой политической силы.
ГЛАВА 8. БУРЖУАЗИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Представление о том, что русский средний класс был малочисленен и имел немного веса, относится к числу общих мест исторической литературы. В неспособности России произвести большую и энергичную буржуазию обычно видят основную причину того, что она пошла по иному политическому пути, чем Западная Европа, как и того, что либеральные идеи не оказали значительного влияния на ее политические институты и политическую практику. Уделяемое этому факту внимание делается более понятным в свете той исторической функции, которую выполняла буржуазия на Западе. Западная буржуазия была не всегда последовательна в своих приемах. Во Франции, к примеру, она поначалу вошла в союз с монархией, чтобы способствовать подрыву власти землевладельческой аристократии, затем круто изменила курс и возглавила борьбу против монархии, закончившуюся уничтожением последней. В Англии она выступила против короны на стороне аристократии и вместе с нею добилась ограничения королевской власти. В Нидерландах она изгнала правивших страной иноземцев и сама стала к кормилу власти. В Испании, Италии и Священной Римской Империи ей не удалось изменить системы управления по своему вкусу, однако там она по крайней мере сумела вырвать у монархии и феодальной знати корпоративные права, которые использовала для создания в отдельных местах очагов капитализма в виде суверенных городов-государств. Но какую бы тактику ни применял средний класс Запада, дух и цели его были везде одинаковы. Он стоял за свои деловые интересы, а поскольку интересы эти требовали законоправия и защиты прав личности, он боролся за общественное устройство, соответствующее идеалам, которые впоследствии стали называться либеральными. Коли дело обстояло так, есть смысл полагать, что между ставшей притчей во языцах неразвитостью законности и свободы личности в России и бессилием или апатией ее среднего класса существует отнюдь не поверхностная взаимосвязь.
Чем же объясняется незначительность русского среднего класса? Сразу же напрашивается ответ, связанный с состоянием экономики страны. Буржуазия по определению есть класс, имеющий деньги, а, как известно, в России в обращении денег никогда много не было. Страна была расположена слишком далеко от главнейших путей мировой торговли, чтобы зарабатывать драгоценные металлы коммерцией, а своего золота и серебра у нее не было, поскольку добывать их стали только в XVIII в. Нехватка денег была достаточной причиной для задержки появления в России богатого класса, сравнимого с западной буржуазией эпохи классического капитализма. Однако это объяснение отнюдь не исчерпывает вопроса, ибо жители России всегда отличались незаурядной склонностью к торговле и промышленной деятельности, да и природная скудость почвы понуждала их к предпринимательству. Не следует идти на поводу у статистических данных, показывающих, что при старом режиме почти все население Европейской России состояло из дворян и крестьян. Социальные категории старой России носили чисто юридический характер и предназначались для разграничения тех, кто платил подати, от тех, кто находился на постоянной службе, и обеих этих групп от духовенства, которое не «делало ни того, ни другого; эти категории использовались совсем не для обозначения хозяйственной функции данного лица. В действительности гораздо большая часть населения России всегда занималась торговлей и промышленностью, чем можно было заключить из данных официальных переписей. По всей видимости, не будет ошибкой сказать, что в период становления русского государства (XVI-XVIII вв.) пропорция населения страны, постоянно или часть времени занимавшегося не сельскохозяйственной деятельностью, была выше, чем в любой из европейских стран. Посещавшие Московию западноевропейские путешественники неизменно приходили в изумление от деловой хватки ее обитателей. Шведский торговый агент Йохан де Родес отмечал в 1653 г., что в России «всякий, даже от самого высшего до самого низшего, занимается [торговлей]... и вполне несомненно, что эта нация в этом деле почти усерднее, чем все другие нации...». [Б. Г. Курц, Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Podeca, M., 1914, стр. 148]. Побывавший там двадцать лет спустя немец Йохан Кильбургер наблюдал сходную картину: никто не был лучше русских приспособлен к коммерции в силу их к ней страсти, удобного географического нахождения и весьма скромных личных потребностей. Он полагал, что со временем россияне сделаются великим торговым народом. [Б. Г. Курц. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915, стр. 87-8]. На иноземцев производило особенно глубокое впечатление то, что, в отличие от Запада, где занятие торговлей считалось ниже дворянского достоинства, в России никто не смотрел на него с презрением: «Все Бояре без исключения, даже и сами Великокняжеские Послы у иностранных Государей, везде открыто занимаются торговлей. Продают, покупают, променивают без личины и прикрытия...». [«Путешествие в Московню Барона Августина Майерсберга», Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских, кн. 3, 1873, ч. 4. стр. 92].
Промышленное развитие России было менее бурным, чем бившая в ней ключом торговая деятельность. Однако и оно было куда значительней, чем принято полагать. В XVIII в. литейные предприятия Урала, обслуживавшие главным образом английский рынок, по выплавке железа занимали первое место в Европе. Хлопкопрядильная промышленность, которую механизировали в России раньше других отраслей, в 1850-х гг. производила больше пряжи, чем германская. На всем протяжении XVIII и XIX вв. в России процветала надомная промышленность, чьи застрельщики по своей энергичности мало чем отличались от американских предпринимателей-самородков. Начавшийся в 1890 г. подъем всех отраслей тяжелой промышленности достиг таких темпов, каких России с тех пор добиться не удавалось. Благодаря ему накануне Первой мировой войны Россия заняла пятое место в мире по объему промышленного производства.
Во всем этом нет цели навести на мысль, что при старом режиме Россия была когда-нибудь по преимуществу торговой или промышленной страной. Несомненно, что до середины XX в. основу народного хозяйства и главный источник богатства России составляло земледелие. Доход от несельскохозяйственной деятельности на душу населения оставался низким даже после того как значительно выросли общие показатели промышленного производства. Однако с первого взгляда может явно сложиться впечатление, что страна, которая в 1913 г. по объему промышленного производства уступала лишь Америке, Германии, Англии и Франции, обладала достаточной экономической базой для кое-какого среднего класса, — быть может, не слишком процветающего; но все же вполне весомого для того, чтоб с ним считались. С XVII до начала XX в. в России и в самом деле создавались огромные торговые и промышленные состояния. В связи с этим возникает ряд любопытных вопросов: почему эти состояния имели тенденцию к распылению, а не к росту? почему богатым купцам и промышленникам очень редко удавалось создать буржуазные династии? и, самое важное, почему у русских богачей так и не появилось политических амбиций? Ответа на эти вопросы лучше всего искать в том политическом климате, в котором приходилось действовать деловым людям России.
Как отмечалось выше, со времени самых ранних лесных поселений скудные и ненадежные доходы от земледелия понуждали россиян искать добавочных заработков. Они дополняли получаемый с земли доход всевозможнейшими промыслами: рыболовством, охотой, звероловством, бортничеством, солеварением, дублением кож и ткачеством. Необходимость сочетать сельскохозяйственные и несельскохозяйственные занятия, навязанная населению экономическими обстоятельствами, привела, среди прочего, к отсутствию четко очерченного разделения труда и высоко квалифицированных (то есть профессиональных) торговцев и ремесленников. Она также долго тормозила развитие торговой и промышленной культуры, ибо там, где на коммерцию и промышленность смотрели всего-навсего как на естественный источник побочного заработка для всего населения, они не могли выделиться в самостоятельные поприща. Иноземные описания Московии не упоминают о купцах как об особом сословии и смешивают их с мужицкой массой. Уже в удельный период князья, бояре, монастыри и крестьяне хватаются в погоне за побочным доходом за любой доступный им промысел. В духовных грамотах великих князей промыслы рассматриваются как неотъемлемая часть княжеской вотчины и заботливо делятся между наследниками наряду с городами, деревнями и ценностями.
С ростом могущества и амбиций московской династии она принялась прибирать к рукам главные отрасли торговли и почти все производство. Этот процесс шел параллельно с централизацией политической власти и захватом монархией земельных владений. Исходя из лежащей в корне вотчинного строя посылки о том, что царь является собственником своего государства московские государи стремились наряду со всей властью и всей землей завладеть и всеми промыслами. Достаточно хорошо известно, каким образом политическая власть и земельные владения перешли в полную собственность царя в XV и XVI вв. Этого нельзя сказать о приобретении контроля над торговлей и промышленностью, поскольку историки не уделили данному предмету почти никакого внимания. Здесь процесс экспроприации, по всей видимости, имел место в XVI и тем более в XVII в. и немало походил на процесс присвоения земельных владений в предшествующий период. Издав серию указов по конкретным промыслам, монархия ввела на них царскую монополию и таким образом устранила угрозу конкуренции со стороны частных лиц. В конце концов, точно так же, как он ранее сделался крупнейшим землевладельцем страны и, де-юре, собственником всех поместий, царь стал теперь единоличным собственником всех отраслей промышленности и шахт и (как де-юре, так и де-факто) монополистом во всех областях коммерции, не считая самых мелких. В своей предпринимательской деятельности он пользовался услугами специалистов; набранных из рядов служилого сословия, богатейших купцов и иноземцев. Торговый и ремесленный класс в строгом смысле этого слова, то есть члены посадских общин, был от соответствующей деятельности в большой степени отстранен.
Это обстоятельство имеет первостепенное значение для понимания судьбы среднего класса в России. Как и всем прочим, торговлей и промышленностью в Московии надо было заниматься в рамках вотчинного государства, чьи правители считали монополию на производительное богатство страны естественным дополнением самодержавия. В цитируемом выше (стр. #107) письме к королеве Елизавете Иван IV язвительно отмечал, что английские купцы — очевидно, в отличие от его собственных — «ищут своих торговых прибытков», как доказательство того, что ее нельзя считать настоящей государыней. Поскольку Московское государство имело такой взгляд на назначение торгового класса, трудно было бы ожидать, что оно станет печься о его благополучии. Богатейшие купцы были запряжены в казенную службу, а к прочим государство относилось как к разновидности крестьян и скручивало их податями. И бедным и богатым купцам оно предоставляло самим заботиться о себе.
В своей коммерческой ипостаси царь распоряжался богатым ассортиментом товаров, которые получал из трех источников: 1. излишков, произведенных в его личных владениях; 2. дани от управителей и подданных; 3. закупок, сделанных для перепродажи. Как правило, любой товар, которым всерьез начинала заниматься монархия, объявлялся царской монополией и исключался из частного коммерческого оборота.
В категории излишков царского хозяйства важнейшим товаром являлись зерновые, монополией на торговлю которыми монархия обладала до 1762 г. На водку также существовала царская монополия, продержавшаяся до XVIII в., когда ее передали дворянам. Водкой торговали в специальных магазинах, имевших на то особую лицензию.
Среди товаров, получаемых в виде дани, почетное место занимали дорогие меха. Они поступали к царю из ясака, наложенного на жителей Сибири, из податей сибирских купцов, обязанных отдавать в казну лучшую из каждых десяти заготовленных ими шкурок, и от воевод, которым полагалось продавать казне по твердым ценам меха, полученные ими от населения в виде кормлений. Эти горы пушнины либо продавались живущим в России западным купцам, либо отправлялись на Ближний Восток и в Китай. Едущие за границу русские купцы брали с собою полные сундуки мехов, которые преподносили в дар и продавали для покрытия своих расходов. Частным лицам разрешалось торговать лишь малоценными мехами, негодными для экспорта.
Многие из товаров, использовавшихся в царской коммерции, ввозились из-за границы. Царь имел право первого выбора в отношении всех привозимых в страну товаров, которые полагалось сначала представить на инспекцию Царским агентам, закупавшим все, что им приглянется, по твердой цене. Лишь после этого товар предлагался частным купцам. Иноземец, отклонивший предложенную царем цену, не мог продать соответствующий товар больше никому в России. Приобретенные таким образом товары Использовались в личном царском хозяйстве или перепродавались на внутреннем рынке. Такой подход позволил монархии прибрать к рукам торговлю предметами роскоши. Она также обладала монополией на экспорт ряда товаров, пользовавшихся большим спросом за границей, таких как икра, льняные ткани, смола, поташ и кожи.
И, наконец, монархия широко использовала свои привилегии, предъявляя исключительные права на торговлю всяким товаром, пришедшимся ей по вкусу. Редко случалось, чтобы правительство не поспешило ввести царскую монополию, как только частная инициатива выявляла существование рынка на какой-нибудь прежде неизвестный или неходовой товар. Так, например, в 1650 г. оно обнаружило, что астраханцы вовсю торгуют с Персией мареной — растением, используемым для приготовления красителей. Оно незамедлительно объявило марену государственной монополией и приказало, чтобы отныне ее продавали только казне, и по твердым ценам. Казна, в свою очередь, перепродавала ее персам по рыночной цене. Двенадцать лет спустя, стоило царским агентам обнаружить, что частные торговцы с большой прибылью продают на Запад некоторые товары (юфть, лен, пеньку и говяжье сало), как на них были наложены такие же ограничения. Предметом государственной монополии делался практически любой товар, попадавший в коммерческий оборот. Трудно представить себе практику, более губительную для предпринимательского духа.
Итак, монархия прочно контролировала торговлю, а о промышленности же можно сказать, что она находилась в исключительной собственности самодержавия. Помимо производства железа, соли и грубых тканей, изготовлявшихся примитивными домашними способами, в Московской Руси не было своей промышленности. Первые промышленные предприятия в России были основаны в XVII в. чужеземцами, которые приехали туда с царского разрешения и получили лицензии от правительства. Так, литейные цеха Тулы и Каширы, с которых пошла русская железоплавильная промышленность, были созданием голландца Андреаса Виниуса (Andreas Winius, или Vinius) и немца Петера Марселиса (Peter Marselis), специалистов по горному делу, взявшихся в 1632 г. обеспечить русское правительство оружием. Марселис также заложил основы русской медеплавильной промышленности. Производство бумаги и стекла было основано шведами. Голландцы построили в Москве первый суконный двор. Эти и другие предприятия, которым русская промышленность была обязана своим подъемом, находились под попечительством монархии, финансировались совместно царским и иностранным капиталом и управлялись иноземными специалистами. Они работали исключительно на монархию, которой продавали по себестоимости ту часть своей продукции, в которой она испытывала нужду, а прибыль получали от продажи излишков на свободном рынке. Хотя московское правительство требовало, чтобы иноземные держатели лицензий обучали россиян своему ремеслу, администраторы и квалифицированные рабочие, занятые на этих ранних предприятиях, набирались почти исключительно из-за границы. Отсутствие местного капитала и административного персонала било в глаза точно так же, как в любой из западных колоний.
У монархии не хватало управителей для руководства ее торговой деятельностью и разбросанными по всей империи промыслами, такими как солеварение и рыболовство. Поэтому она часто отдавала свои монопольные предприятия в пользование частным лицам на условии, что те будут ежегодно выплачивать казне определенную сумму из полученной прибыли. В Московской Руси самым надежным способом разбогатеть было заручиться подобной концессией. Строгановы, крестьяне, сделавшиеся богатейшей купеческой семьей Московского государства, вели свое состояние от лицензии, полученной ими на производство соли в покоренном Новгороде. Начав с соли, они постепенно распространили свою деятельность и на другие прибыльные предприятия, но все время либо держали государственную лицензию, либо состояли с государством в партнерстве.
Для руководства деловыми предприятиями, в которых монархия принимала прямое участие, она полагалась на специалистов, набранных из рядов местного и иноземного купечества. Высший слой состоявших в Московии на государственной службе деловых людей назывался «гостями»; в середине XVII в. он насчитывал около тридцати человек. Древнее слово «гость» первоначально обозначало всех иноземных купцов, однако, как и термин «боярин», с конца XVI в. оно сделалось почетным титулом, который жаловался государем. Чтобы заслужить его, купец должен был обладать изрядным капиталом, поскольку царь часто брал у «гостей» залог, чтобы в случае чего покрыть их недоимки. По своему богатству московские «гости» стояли близко к городской знати Запада, и в исторической литературе их часто сравнивают с нею, однако аналогия эта не слишком убедительна. «Гости» не были самостоятельными предпринимателями, а лишь доверенными лицами царя, им назначенными и на него работающими. Мало кто из них искал, такой чести, и чаще всего купцов загоняли в «гости» силком. Стоило правительству узнать, что кто-то из провинциальных купцов сколотил себе состояние, как его вызывали в Москву и назначали «гостем». Звание это было скорее тяжким бременем, нежели честью, поскольку, замораживание части купеческого капитала в виде обеспечения было не лишено известных неудобств. Далее, «гости» конкурировали друг с другом не из-за товаров и покупателей, а из-за монарших милостей, и получаемый ими доход был вознаграждением за предоставленные царю услуги. С точки зрения общественного положения и богатства, чуть ниже «гостей» стояли члены торговых организаций, называвшихся «гостиной» и «суконной сотнями».
«Гости» и члены этих двух сотен выполняли самые разнообразные функции: собирали таможенную пошлину и налоги с продажи спиртных напитков, оценивали товары, которые собирался купить царь, продавали их за него, руководили некоторыми производствами и чеканили монету. Они представляли собою что-то вроде резерва деловых людей, членам которого монархия, в своем обычном духе, не давала специализироваться, поскольку не желала попасть от них в слишком большую зависимость. Они зарабатывали на купле-продаже казенных товаров, а также на своих частных деловых предприятиях. С точки зрения правовой теории, они принадлежали к тягловому населению, но благодаря записанным в их личных грамотах привилегиям были ровней знатнейшим служилым людям. Среди этих привилегий ценнее всего были освобождение от пошлин и податей и иммунитет от ненавистных воеводских судов; иноземных «гостей» судил Посольский Приказ, а местных — специально назначенный царем боярин. Они имели право приобретать вотчины, а на определенных условиях — и ездить за границу. Члены гостиной и суконной сотен вознаграждались несколько менее щедро.
Несмотря на все свое богатство и привилегии, «гость» сильно отличался от западного буржуа. Он раболепствовал перед начальством и был кровно заинтересован в сохранении его абсолютной власти. Государство требовало от него очень многого. Он был врагом свободной торговли. Его связи с монархией и поддержка, которую он оказывал ее монополиям, вызывали к нему ненависть со стороны массы простых торговых людей. Богатейшие дельцы Московского государства так и не сделались выразителями интересов торгового класса в целом. Звание «гостя» не было наследственным, и текучесть среди них была весьма велика. Подсчитано, что «лишь одна семья из четырех смогла удержать свое положение дольше одного поколения и лишь одна из пятнадцати — дольше двух поколений». [Samuel H. Baron в Cahiers du Monde Russe et Sovetique, т. XIV, Э 4 (1973), стр. 494]. Естественно, что в таких условиях в России никак не могло возникнуть торгово-промышленного патрициата. Помимо гостей и членов двух сотен, монархия жаловала из купцов единственно иноземцев. В 1553 г. английский корабль, вышедший на поиск северного пути в Китай, пристал к русскому берегу неподалеку от того места, где впоследствии вырос Архангельск. Команда его была препровождена в Москву, где тепло встретивший англичан Иван IV пообещал им ряд привилегий, если они откроют постоянный торговый путь между двумя странами. Два года спустя в Лондоне была основана для этой цели Московская Компания, первая из созданных предприимчивыми английскими купцами великих торговых компаний, получившая королевскую хартию. Иван IV предоставил ей исключительные права на проложенный ее членами северный путь, освобождение от пошлин и податей и право держать в нескольких городах собственные склады. Хотя Компании запрещалось заниматься розничной торговлей, она все равно вела ее, нанимая для этой цели подставных лиц из числа россиян. Позднее несколько менее щедрые привилегии были пожалованы голландцам, шведам, немцам и прочим западноевропейцам. Московская верхушка была резко настроена против царской политики, отдававшей предпочтение иноземцам, но поделать тут ничего не могла, ибо монархия извлекала из торговли западными товарами изрядную прибыль.
Московское государство настолько подмяло под себя торговлю и промышленность, что даже и без дополнительных доказательств должно быть очевидно, в каких тяжелых условиях приходилось действовать простому русскому Купцу. Монархия практически навсегда запретила ему торговать наиболее прибыльными товарами. Стоило ему самостоятельно наткнуться на какое-то новое дело, как корона тут же отбирала его у него, объявляя это дело государственной монополией. Торгующие беспошлинно «гости», члены купеческих сотен и иноземцы конкурировали с ним совсем не на равных. Промышленность и горное дело, для которых у него не было ни капитала, ни уменья, контролировались монархией и ее управителями из иностранцев. Вследствие этого торговому и ремесленному классу перепадали лишь крошки с обеденного cтола государя и служилого сословия, но даже этой малостью, как мы увидим, ему не давали насладиться спокойно.
Когда в разговоре о средневековье упоминаются «торговля» и «промышленность», западному читателю автоматически приходит на ум образ города: крепостные стены, под защитой которых коммерческий и промышленный классы занимаются своим делом свободно, в безопасности от капризов власти. Имея дело с Россией, следует сразу же отбросить подобные ассоциации. Здесь центр промышленности и торговли лежал не в городе, а в сельской местности, коммерческий и промышленный классы не составляли большинства городского населения, и проживание в городе не гарантировало ни свободы, ни безопасности даже в том узком смысле, в каком эти термины были применимы к Московской Руси.
Макс Вебер отмечал, что в своей зрелой форме город представляет собою пять вещей: 1. крепость с гарнизоном, 2. рыночную площадь, 3. резиденцию автономного суда, 4. корпорацию с юридическим статусом и 5. центр самоуправления. [Max Weber, Wirtschajt und Gesellschaft, 3-е изд. (Tubingen 1947), II, стр 523]. Населенные центры, представлявшие первые два элемента этой формулы, можно обнаружить в любом районе земного шара, начиная с самых отдаленных исторических времен; везде, где существует какая-то организованная человеческая жизнь, имеются рынки, и везде, где есть политическая власть, имеются укрепленные сооружения. Однако только в Западной Европе и в областях, колонизированных ее эмигрантами, можно встретить города, которые еще и обслуживают своих обитателей юридически и административно. Город как общность людей, обладающих правами, которых нет у сельского населения, есть явление, характерное лишь для западноевропейской цивилизации. Как и многое другое, он появился в средние века как побочный продукт феодализма. Первоначально город сложился в самостоятельную общность благодаря пожалованию феодального властелина, выделившего специальное место для торговли и ремесел. Затем, в результате того, что жители его вступали в совместные деловые предприятия, у бюргеров появился корпоративный статус. По мере увеличения своего богатства и могущества они выступали против своих феодальных властителей и превращали свой корпоративный статус в самоуправление, добиваясь особых городских судов и законов, отдельной системы налогообложения и учреждений, делавших их город государством. По сути дела, городское население континентальной Западной Европы завоевало себе права и превратилось в буржуазию в процессе конфликта с феодальной знатью и за ее счет.
В XII-XV вв. город западноевропейского типа появился и в северо-западной России; наиболее значительными примерами были Новгород и Псков; которые поддерживали тесные связи с немецкими городами и воссоздали у себя тамошние институты. Такие же города можно было встретить и на землях Речи Посполитой, чье городское население пользовалось автономией, основанной на законах ганзейского Магдебурга. Однако все они составляли исключение и просуществовали недолго. Москва не могла смириться с существованием таких привилегированных очагов автономии, из которых могла бы вырасти настоящая городская цивилизация, ибо они шли вразрез с вотчинными порядками царства. После покорения Новгорода и Пскова она сразу же отобрала у них вольностей, а как только под русское господство попали территории Польши-Литвы, она быстро урезала права тамошних бюргеров. Задолго до разрушений, нанесенных Второй мировой войной, такие некогда горделивые города как Новгород, Псков и Смоленск выродились в заштатные деревушки, а Москва всем своим величием обязана не умелой торговой деятельности, потому, что была средоточением самодержавия и аристократии.
Хотя русский город мало походил на своих западных собратьев, он все же представлял собою достаточно сложный организм, в истории которого самым головокружительным образом переплетаются административное, налоговое и хозяйственное начала.
С точки зрения монархии, городом считался любой населенный пункт, вне зависимости от его размера и хозяйственной функции, в котором сидел воевода. Исходя из этого, город был par excellence военно-административной единицей. В Московской Руси, а тем более при императорах, было много центров, которые по своему размеру, населению и даже по своему хозяйственному значению превосходили населенные пункты, официально признанные городами, однако сами городами не считались, поскольку в них не было воеводы или равнозначного управителя, и посему они не могли нести функций, которые государство назначило городам страны.
По своей внутренней структуре города Московской Руси ничем не отличались от сельских населенных пунктов. И те и другие были собственностью монархии, поскольку частная собственность на города была ликвидирована вместе с аллодиальным землевладением. В городах не было частной земли; вся земля находилась в условном владении, и поэтому в городах не было торговли недвижимостью. В каждом городе большие участки отдавались в пользование составлявшим его гарнизон служилым людям; эти участки держались на тех же условиях, что, и поместья в деревне. Рядом с ними лежали владения царя и земля, населенная черносошными крестьянами. Точно так же, как и в деревне, податное население объединялось в общины, связанные круговой порукой и посему ответственные за подати каждого своего члена.
Города Московской Руси были немногочисленны, редко населены и отстояли далеко друг от друга. Если воспользоваться весьма формальным критерием и посчитать за города лишь те населенные пункты, где сидели воеводы, то при Иване III их было 63, при Иване IV — 68, и в 1610 г.— 138. Если расширить дефиницию города и посчитать за таковой любой укрепленный пункт, содержащийся за правительственный счет, то в середине XVII в. в России было 226 городов. Подсчитано, что в них было 107.400 дворов, или около 537 тысяч жителей. Население Москвы в то время составляло от 100 до 200 тысяч человек, Новгорода и Пскова — по 30 тысяч, а прочих городов — не более десяти тысяч. Многие так называемые города, особенно по границам, являли собою мелкие укрепленные пункты, охраняемые несколькими сотнями солдат. Типичный русский город середины XVII в. насчитывал 430 дворов, каждый из которых состоял в среднем из 5 человек. [Павел Смирнов, Города московского государства в первой половине XVII веха. т I, ч. 2, Киев, 1919, стр. 351-2, и А. М. Сахаров, Образование и развитие российского государства в XIV-XVII в., М., 1969, стр. 77]. Он был беспорядочным скопищем приземистых деревянных домиков, церквей, монастырей и рынков, окруженных огородами и выпасами. Улицы были широки и немощены. Набережных не было. На расстоянии города всегда имели более внушительный вид, чем вблизи, ибо в силу низкой плотности населения были непропорционально велики. Олеарий (Olearius) писал, что со стороны русский город выглядит Иерусалимом, но изнутри больше походит на Вифлеем.
Ремесленники и торговцы составляли меньшинство крошечного городского населения Московской Руси. Термины «городской» и «торгово-ремесленный» на Руси были отнюдь не однозначны. Поскольку города имели прежде всего административное и военное назначение, основная часть их жителей состояла из служилых людей с семьями, родней, приживалами и крепостными, а также из духовенства. Подсчитано, что в середине XVII в. тяглые люди составляли всего 31,7% населения русских городов, тогда как 60,1% были служилыми людьми и 8,2% — помещичьими крепостными. В центральных губерниях тяглое население было в большинстве, однако в пограничных городах на западе, востоке и юге их доля в городском населении равнялась 8,5-23,5%. [Смирнов, Города. 1/2, таб. XXVIII, стр. 346-7, 352].
Торговцы и ремесленники объединялись в общины наподобие тех, в которых тогда состояло большинство земледельцев. Эти общины назывались посадскими, в отличие от сельских, или крестьянских. В ранний период посад часто представлял собою отдельный городской квартал, прилегающий к кремлю, или «городу». Но правительство раздавало людям, освобожденным от податей и поэтому не входящим в посадскую общину, владения на территории торговых кварталов и таким образом запутывало картину. В конце московского и начале императорского периода посад был скорее юридической, нежели территориальной единицей. У него не было с городом органической связи. Почти каждый третий город в России не имел посада, и, напротив, они существовали в сельской местности, особенно поблизости от монастырей. В конце XVI в. лишь в шестнадцати городах было пятьсот и более посадских дворов.
В глазах закона посадская община была юридической единицей по той причине, что члены ее, подобно членам сельской общины, несли коллективную ответственность за свои тягловые повинности. Однако, в отличие от городских общин на Западе, она ни в коей мере не представляла собою привилегированной корпорации. На посадах лежали тяжелейшие повинности, и доля посадника была определенно горше доли крепостного крестьянина. Эти повинности включали в себя обычные и чрезвычайные подати, работу на строительстве укреплений и (для более зажиточных посадников) помощь правительству в сборе податей и таможенных пошлин. А. А. Кизеветтер, изучавший посад XVIII в., перечисляет его всевозможные повинности на трех страницах и предупреждает, что список его еще неполон. [А. А. Кизеветтер, Посадская община в России XVIII ст., М., 1903, стр. 171-4]. Состояние посадника было наследственным, и потомкам его запрещалось уходить из посадской общины. Как уже отмечалось, земля, на которой сидели горожане, принадлежала царю и поэтому не подлежала продаже. Горожане и черносошные крестьяне были едва отличимы друг от друга, не считая того, что если для первых торговля и ремесло были основным занятием, а земледелие — побочным, то у вторых дело обстояло наоборот.
С 1649 г. посадники (наряду с «гостями» и членами гостиной и суконной сотен) пользовались исключительным правом производить товары на продажу и держать лавки, однако толку от этого права было немного, поскольку все сословия, которые им обладали, не несли своей доли тягла. Некоторым группам населения, например стрельцам и казакам, это право предоставлялось законом. Но посад также сталкивался с конкуренцией со стороны крепостных, принадлежавших служилым людям и духовенству. Крестьяне, сидевшие на белых землях светских и церковных владельцев, устраивали в большинстве городов и во многих сельских населенных пунктах постоянные рынки, называвшиеся слободами (искаженное «свобода»), где торговали, но не несли своей доли тягла. В иных местах посад был всего-навсего островком, окруженным слободами, и зажиточная слобода подчас превращалась в большой торговый город. О том, каких размеров достигала такая конкуренция, можно судить по положению в Туле, где в конце XV в. посадники владели лишь одной пятой всех лотков и прилавков, а остальные принадлежали солдатам и крестьянам. [И. М. Кулишер, Очерки истории русской торговли, Петроград, 1923, стр. 154-5]. Соперничество с этой стороны вызывало острое недовольство и приводило к постоянным столкновениям в городах Московии. Время от времени правительство принимало меры к утешению посадского населения, но успеха не имело. Посаду так и не удалось избавиться от губительной конкуренции со стороны освобожденных от тягла общественных групп.
При таких условиях членство в посаде приносило мало выгоды, и посадники, несмотря на запреты, массами бежали из своих общин. Лучшим выходом для беглеца было найти помещика или монастырь, которые взяли бы его под крылышко и позволили ему торговать, не неся тягла. Насколько отчаянным было положение посадской общины, можно понять из того, что члены ее нередко сами шли в холопы. Очевидно, участь холопа (который по своему состоянию освобождался от всех государственных повинностей) была предпочтительней доли лавочника или ремесленника, что является красноречивым комментарием к положению среднего класса в Московской Руси. Правительству приходилось принимать решительные меры к остановке массового бегства посадников, и оно ввело тяжелые наказания за самовольный уход из посада. Чтобы помочь посадским общинам нести податную повинность, оно вталкивало в их скудеющие ряды бродяг, обедневших дворян и вообще всех, кого ему удавалось выловить за пределами служебно-тягловой структуры. Однако эффект получался минимальный, и бегство продолжалось по-прежнему. Кое-какое увеличение числа городов в XVII в. объяснялось экспансией России и постройкой военно-административных форпостов вдоль восточной и южной границы.
Русский город являлся точным отражением тройственного состава русского общества: в нем были служилые люди, тяглое население и духовенство; он был микрокосмом, а не самостоятельным миром. Корни служилого сословия, крестьян и духовенства, составлявших более двух третей населения городов Московской Руси, лежали вне города, а торгово-ремесленный класс был закрепощен. Разнородные социальные группы, из которых складывалось городское население, не только не пользовались какой-либо административной или юридической автономией, но не имели и никакого юридического статуса, который бы объединил их друг с другом. Город в Московии никогда не принадлежал сам себе, он вечно был чужой собственностью (поначалу нередко собственностью частных владельцев, а позднее — государства), и всего население зависело от того, на чьей земле он стоял.
Столетие тому назад знаток истории русского города сделал замечание, которое не было опровергнуто последующими исследованиями: «В сущности история нашего города есть ничто иное, как история регламентации, преобразований торгово-промышленного городского населения со стороны верховной власти. Ход этих преобразований определяется воззрениями, какие верховная власть имела на государственные интересы». [И. Дитятин, Устройство и управление городов России, СПб., 1875, I, стр. 109]. Эти интересы сосредоточивались на внутренней и внешней безопасности и сборе податей. Поскольку русский город не был самостоятелен, история его не могла сильно отличаться от истории остального общества. Попытки позднейших русских историков возвеличить его историческую роль есть попытки с негодными средствами. Мало доказать (как они это сделали), что в Московской Руси было больше населенных пунктов городского типа, чем показывают официальные списки городов, и что там существовало множество разбросанных по всей стране оживленных торговых центров. С исторической точки зрения, значение города заключается не в числе жителей и не в интенсивности хозяйственной деятельности (которые, в любом случае, были в Московии до абсурдного невелики), а в том, что его граждане приобретают юридическую, финансовую и административную автономию. А в русском городе этого не было и следа.
Московским купцам приходилось приспосабливаться к нелегким жизненным обстоятельствам, поэтому их деловые операции обычно были невелики по объему, рассчитаны на быструю прибыль и производились чаще всего на основе товарообмена.
Центральная область России (междуречье Волги-Оки, где зародилось Московское государство) впервые втянулась в международную торговлю, по всей видимости, в начале XIV в., когда страна находилась под монгольским владычеством. Золотая Орда требовала, чтоб дань ей платили серебром. Поскольку россияне тогда не добывали ценных металлов, им пришлось изыскивать их за границей. Около 1300 г. русские купцы основали в ордынской столице Сарае торговую колонию, из которой вели под монгольской защитой торг с Крымом и севером Ирана. Таким образом, в отличие от новгородской и псковской торговли, связанной с Германией, московская коммерция была больше ориентирована на Азию. Наиболее ярким свидетельством того, насколько русская торговля обязана монголам и их тюркско-татарским союзникам, является большое число слов русского языка, относящихся к финансам, товару, хранению и транспортировке и почерпнутых из языков этих народов. Выше уже отмечалось монгольское происхождение русских слов, обозначающих деньги, таможню и казну (стр. #104). Русское слово «товар» происходит от тюркско-татарского термина, обозначающего скот или имущество вообще; от этого же корня происходят «товарищ», что первоначально значило «деловой партнер», и «товарищество» (в смысле компании предпринимателей). «Пай» тоже имеет татарское происхождение, равно как и «чемодан», «сундук», «торба»; то же самое можно сказать о терминах, относящихся к одежде («карман», «штаны», «шапка»), к связи и транспорту (например «ямщик», «телега», тарантас»). «Книга пришла от китайского kuen («свиток») через тюркскотатарское kuinig. [Этимология здесь основывается на Max Vasmer Russisches etymotogisckes Worterbuch. в 3 т (Heidelberg 1950-8)]. Такая этимология приобретает особое значение, если принять во внимание, что в словаре русского земледелия практически нет и следа монгольского или тюркско-татарского влияния.
Ориентация русской торговли на Восток сохранялась и после распада Золотой Орды и входа Москвы в постоянные коммерческие отношения с Западной Европой. Захват в 1550-х гг. Казани и Астрахани, бывших важнейшими пунктами ввоза восточных и ближневосточных товаров, еще больше расширил связи России с соответствующими рынками. До XVIII в. внешняя торговля России ориентировалась в основном на Средний Восток, в особенности Иран; во второй половине XVII в. один из трех московских базаров торговал исключительно персидскими товарами. Через армянских, татарских, бухарских, китайских и индийских посредников коммерческие связи поддерживались также и с другими районами Азии. Россияне продавали за границу сырье и полуфабрикаты (например меха и кожи) и ввозили оружие и предметы роскоши.
Долгая традиция левантийской торговли наложила на русское купечество глубокий отпечаток, который не могли стереть завязавшиеся впоследствии отношения с Западом. Дело в том, что в Азии россияне торговали более или менее напрямую и на равных, тогда как на Западе, где они имели дело с высокоразвитым, изощренным рынком, им пришлось полагаться на посредников. Русские купцы почти никогда не ездили торговать в Западную Европу; это с Запада приезжали в Россию покупать и продавать. Из-за своих связей с Востоком купечество сделалось главным проводником левантийского влияния в России, примерно так же, как служилое сословие (после Петра Великого) распространяло западные веяния, духовенство — греко-византийские, а крестьянство сохраняло верность родной славянской культуре.
Восточная ориентация русского купечества ярче всего проступала в его обличье и бытовых привычках. [Поскольку бояре тоже активно занимались торговлей, эти замечания в какой-то степени относятся и к ним ]. Облаченные в роскошные кафтаны из заморской парчи, высокие отороченные мехом шапки и остроносые сапожки, «гости» напоминали богатых персов. Купчихи облюбовали румяна экзотических красных тонов. Как правило, знатных московских дам держали в отдельных теремах (от греческого teremnon). Еще в середине XIX в. купчихи никогда не работали в лавках своих супругов. В XVIII в. бояре и дворяне пошли на поводу у западных веяний и к началу XIX в. утратили все следы восточного наследия, кроме, быть может, известной слабости к бахвальству. Купечество оказалось в этом смысле более косным и до начала нашего столетия сохраняло типично восточный внешний вид: борода (теперь обычно подстриженная), сюртук, являвший собою видоизмененный кафтан и застегиваемый обыкновенно на левую сторону, высокая шапка, мешковатые штаны и сапоги.
Особенно отчетливо проявилось восточное влияние в организации русской торговли. Повторяя монгольский обычай, правительство собирало торговую пошлину («тамгу») со всех находящихся в коммерческом обращении товаров. Для удобства сборщика этой пошлины требовалось, чтоб лавки находились в одном месте, поэтому правительство дозволяло вести торговлю лишь на особо отведенных базарных площадях, где за ней могли надзирать чиновники или частные лица, взявшие на откуп взыскание торговой пошлины. Местные купцы расставляли торговые ряды в соответствии с предлагаемыми товарами, а иногородние и иноземные торговцы выставляли свое добро в гостином дворе (типично восточном сочетании постоялого двора для людей и животных и базара), которых в каждом городе было по меньшей мере по одному. Общая стоимость товаров в каждой лавке была весьма незначительна. Многие лавочники (а в крупнейших городах и в посадах и большинство из них) сами изготовляли товары, выставленные на продажу. Русские торговцы, в отличие от западных, не жили в своих лавках. Рынки Московской Руси, состоявшие из множества торговых рядов, представляли собою нечто вроде базара — «сука», который можно увидеть в любом ближневосточном городе и по сей день. Гостиный двор, обслуживавший приезжих купцов, был разновидностью караван-сарая; он тоже располагался посреди рыночной площади и предоставлял кров, но не еду и постельные принадлежности. Еще в середине XIX в., путешествуя по русской провинции, надобно было возить с собою провизию и постельное белье, поскольку, за исключением нескольких гостиниц в Москве и Петербурге, которые иностранцы держали для иностранцев, местные постоялые дворы не предоставляли ни того, ни другого.
Деловая психология русского купца сохраняла глубокий левантийский отпечаток. Здесь мы находим мало капиталистической этики с ее упором на честность, предприимчивость и бережливость. На покупателя и на продавца смотрят как на соперников, озабоченных тем, как бы перехитрить другого; всякая сделка — это отдельное состязание, в котором каждая сторона рвется взять верх и забрать себе все призы. Нечестность московского купца была притчей во языцах, и ее постоянно подчеркивают не только иноземные путешественники, которых можно было бы заподозрить в предвзятости, но и местные авторы, включая первого русского экономиста и рьяного патриота Ивана Посошкова. Caveat emptor («Покупатель, будь бдителен») в Московской Руси выражалось пословицей: «На то щука в, море, чтоб карась не дремал». Очевидно, пословица эта была в большом ходу, поскольку ее могли цитировать даже иноземцы. В конце XIX в. Макензи Уолес (Mackenzie Wallace) справедливо уподобил русских купцов, как крупных, так и самых мелких, лошадиным барышникам. Насколько высоко ценилась меж ними хитрость, можно заключить из истории, поведанной иностранцем, посетившим Россию в XVII в. Речь шла об одном голландце, который так поразил местных купцов своим умением надувать покупателей, что они попросили его обучить их своему искусству. Нет оснований полагать, что жажда коммерческих знаний побудила их полюбопытствовать также и насчет действительно творческих сторон Голландской торговли.
За исключением двадцати-тридцати «гостей» и их собратьев в обеих сотнях русские купцы вечно пребывали в большой тревоге, поскольку не видели защиты от служилого сословия, которое командовало ими, судило их и собирало с них подати, а заодно безжалостно ими помыкало. Джайлз Флетчер был потрясен забитостью встреченных им в России торговцев:
Если же у кого и есть какая собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятельском... Я нередко видал, как они, разложа товар свой (как то: меха и т. п.), все оглядывались и смотрели на двери, как люди, которые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей кого-нибудь из царских дворян, или какого сына боярского, и чтоб они не пришли с своими сообщниками и не взяли у них насильно весь товар. [Giles Fletcher,— Of the Russe Commonwealth (London, 1591), pp. 46v-47].
В таких условиях капитализм вряд ли мог пустить корни. И действительно, русская коммерция тяготела к натуральному товарообмену. С точки зрения денег и кредита она оставалась до середины XIX в. на том уровне, который Западная Европа преодолела еще в позднее средневековье. В Московской Руси и в немалой степени при императорах преобладала меновая торговля; наличные использовались главным образом в мелочной торговле. Товар был основной формой капитала. Россияне нередко покупали у иностранцев в кредит какой-нибудь товар, а потом предлагали им купить его обратно со скидкой. Такая практика приводила иноземцев в полное изумление, однако в ней был свой смысл, если принять во внимание острую нехватку наличности. Беря у монастырей или у богатых сограждан ссуду для совершения быстролетных спекулятивных сделок, россияне выставляли в качестве обеспечения товары. Положив прибыль в карман, они не нуждались больше в этих товарах и при необходимости сбывали их с убытком. Сообщают, что еще в XIX в. купцы-евреи в Одессе продавали зерно дешевле, чем сами заплатили поставщикам, — и все равно оставались с прибылью.
Примитивный, докапиталистический характер русской коммерции отразился хотя бы в том, что важнейшее место в ней занимали ярмарки. Они имели широкое распространение в средневековой Европе, однако исчезли там вслед за появлением векселей, акционерных обществ, фондовых бирж и всех прочих чудес современной коммерции. В России же ярмарки были в ходу вплоть до конца XIX в. Крупнейшая из них летняя Нижегородская ярмарка ежегодно собирала четверть миллиона купцов. В числе прочего, на продажу выставлялись колониальные товары, прежде всего чай, на который здесь устанавливались международные цены, ткани, металлы и изделия русского ремесленного производства. Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире, но помимо ее в середине XIX в. существовали тысячи средних и мелких ярмарок, разбросанных по всему пространству России. В упадок они стали приходить лишь в 1880-х гг. в связи с развитием железных дорог. В виду острой нехватки денег в обращении не удивительно, что до новейшего времени в России практически не было коммерческого кредита и банковского дела. Ничто так не разрушает обманчивой картины процветающего русского капитализма, рисуемой коммунистическими историками (отчасти из патриотизма, достойного лучшего применения, отчасти из стремления обосновать торжество «социализма» в отсталой стране), как тот факт, что первые успешные коммерческие банки были основаны в России лишь в 1860-х гг., а до этого страна вынуждена была обходиться двумя банками, принадлежащими государству. Капитализм без кредита есть логическая несообразность, и коммерция, не знающая кредита, является капиталистической не больше, чем горожане без самоуправления являются буржуазией.
Русский купец понятия не имел о всей той изощренной коммерческой системе, на базе которой создавалось богатство Западной Европы. Он, как правило, не знал грамоты, даже если и ворочал миллионами. И даже умея читать и писать, он все равно не знал, как вести бухгалтерские книги, и предпочитал полагаться на память. Невежество по части бухгалтерии служило главной причиной провала деловых предприятий и сильно сдерживало рост русских компаний. Многие успешные предприятия разваливались после смерти своего основателя, поскольку наследники не могли продолжать их из-за отсутствия бухгалтерских книг. Страхового капитала, являющегося основой капиталистического развития, почти не было, и лишь незначительное количество его поступало из казны или от иностранных инвеститоров. Еще в начале XX в. русское купечество считало вкладчика капитала дельцом самого низшего разряда, сильно уступающим в престиже промышленнику и купцу. [В. П. Рябушинский, цит в книге П А. Бурышкина, Москва купеческая, Нью-Йорк. 1954, стр 110].
Русское правительство впервые начало заботиться о благосостоянии своего делового класса в середине XVII в. и с тех пор неустанно поощряло частное предпринимательство и пестовало местную буржуазию. В свете огромного могущества русского государства такая политика могла бы со временем привести к созданию некоего подобия среднего класса, если бы ее не ослабляли меры, отдающие предпочтение дворянству. Монархия по сути дела жаловала земледельческому сословию все экономические привилегии, включая монополию на крепостную рабочую силу, одновременно открыв широкий доступ к торговле и промышленности всем другим сословиям. В результате она подрезала крылья более стесненному среднему классу В 1648 г. посадники в нескольких городах взбунтовались. По восстановлении порядка правительство приняло меры к устранению худших из причиненных им ущемлений. Уложение 1649 г. официально даровало посадским общинам исключительное право на занятие торговлей и промышленностью, которого они давно добивались. Оно также отняло у слобод налоговые иммунитеты и отменило в городах «белые» (то есть избавленные от тягла) районы. Однако провести эти меры в жизнь не оказалось возможности, о чем свидетельствует долгая череда подтверждающих их указов. Экономическая необходимость заставляла русских крестьян продавать на рынках и ярмарках излишки сельскохозяйственного производства и товары ремесленного изготовления, что они делали с молчаливого согласия помещиков. Меры против иностранцев провести было легче. В том же 1649 г., используя тот предлог, что английский народ, казнив своего короля, утратил право на особое к себе отношение, Москва упразднила привилегии, столетием раньше пожалованные Московской компании. Изданный в 1667 г. «Новоторговый Устав» сильно урезал вольности всех иноземных купцов и вновь запретил им под страхом конфискации товаров заниматься розничной торговлей. На сей раз эти меры проводили в жизнь с большой строгостью, и от иностранной коммерческой конкуренции постепенно избавились.
С вступлением на царствование Петра I правительство стало относиться к деловым людям еще более благосклонно. На Петра произвел глубокое впечатление уровень благосостояния, увиденный им в поездках на Запад. Быстро усвоив принципы меркантилизма, на котором, как тогда считали, основывается национальное богатство, он вознамерился сделать Россию страной, самостоятельной в хозяйственном отношении. Петр изрядно потрудился над тем, чтобы оградить интересы русской торговли и промышленности, и учредил в 1724 г. первый всеобъемлющий покровительственный тариф. Заставляя всех купцов и промышленников обзавестись лицензиями, он старался превратить соответствующие занятия в исключительный удел городских сословий. Хотя его попытка создать буржуазию успехом не увенчалась, от усилий в этом направлении теперь уже полностью не отказывались. С тех пор правительство уже не смотрело на торговцев и ремесленников как на дойных коров и сделалось их покровителем.
Чтобы стимулировать частное предпринимательство, Петр отменил в 1711 г. царскую коммерческую монополию на все товары, за исключением зерна, водки, соли и табака. Какое-то время в России существовала почти полная свобода внутренней торговли. Однако наученные опытом купцы не спешили воспользоваться предоставленными им возможностями, опасаясь, повидимому, что петровские меры носят временный характер и что по восстановлении монополии им придется понести убытки. И в самом деле, вскоре после смерти Петра монархия снова ввела прежние коммерческие монополии, и все пошло по-старому.
Петр добился большего успеха в своих промышленных предприятиях, поскольку тут речь шла о жизненно важных военных соображениях. Созданной им регулярной армии форма и оружие требовались в количествах, которые были никак не по плечу производительным силам страны. Из-за границы ввозить их не получалось по нехватке денег, да и будь у него средства, Петр вряд ли согласился бы попасть в руки иностранных поставщиков в деле, касающемся государственной безопасности. Единственный выход лежал в постройке собственной оборонной промышленности. По расчетам современных историков, во время его правления число промышленных и горнодобывающих предприятий выросло в четыре раза. Почти все новые отрасли промышленности работали на армию. Правительство, как правило, основывало отрасли промышленности за свой счет, а потом управляло ими через Мануфактур-Коллегию и Берг-Коллегию, либо перепоручало их частным предпринимателям из рядов дворянства и купечества. В последнем случае правительство оставляло за собой право собственности на предприятия точно так же, как оно поступало с поместьями. Частные предприниматели пользовались лишь правом владения, которое предоставлялось им и их наследникам, покуда они управляли предприятиями к удовлетворению правительства, в противном же случае монархия снова забирала их себе. [По этой причине утверждения многих историков, в том числе, например, Е. И. Заозерской (Вопросы истории, Э 12, 1947 стр 68), о том, что немалая часть основанных при Петре мануфактур «принадлежала» купцам и дворянам, далеки от истины. Даже предприятия, созданные частично или полностью частным капиталом, не были частной собственностью в строгом смысле слова, ибо правительство могло в любой момент отобрать их у «собственников» Понятно, что советским историкам сложно разобраться в том чем владение отличается от собственности.]. Как и в XVII в., при Петре промышленность и шахты работали исключительно на государство. На свободном рынке можно было продавать лишь ту часть их продукции, которая была не нужна государству. Правительство покупало продукцию частных промышленных и горнодобывающих предприятий по твердой цене, обычно по себестоимости. Прибыль можно было получить лишь с продажи излишков. Государство давало указания о качестве и количестве изготовляемой продукции; невыполнение их грозило наказанием, а в повторном случае и штрафом. В награду за работу управляющие предприятиями и шахтами освобождались от государственной службы и податей. Так иногда сколачивались огромные частные состояния, например, богатство семьи Демидовых, которые по низкой цене снабжали государство оружием, сделанным в их тульских литейных цехах.
Энергия, с которой Петр взялся за развитие промышленности, и успехи, достигнутые им в подъеме производительности труда, не должны затемнять того факта, что он действовал в традиционном московском духе. Он обходился с предпринимателями точно так же, как с простыми дворянами, то есть безо всякого внимания к их личным интересам и желаниям. Это обстоятельство можно проиллюстрировать историей Московского Суконного двора. Предприятие это было создано голландцами в 1684 г и служило крупнейшим поставщиком материи для армии. Петр был недоволен высокой себестоимостью и низким качеством его продукции и решил, по совету своего друга-шотландца Я. В. Брюса, передать его управление в частные руки. Для этой цели он создал «Купеческую компанию», первую мануфактуру в России, организованную на основании правительственной концессии. Зная, насколько тяжелы на подъем русские торговые люди, он выбрал ряд имен из списков ведущих купцов империи и назначил этих лиц членами компании. По совершении этого он послал солдат отыскать своих жертв и привезти их в Москву «на срочную высылку». Им выдан был из казны капитал без процентов и было приказано доставлять государству по себестоимости необходимое ему количество сукна, остаток которого они могли продавать себе в прибыль без налога с оборота. Пока они управляли предприятием как следует, оно считалось их наследственной собственностью (!), но если бы дело пошло плохо, государство забрало бы Суконный Двор себе да еще и наказало бы их впридачу. [Московский суконный двор, Л., 1934, стр XXVI — XXVII и passim]. Таким образом, в первую русскую компанию государство буквально тащило предпринимателей за уши. Образцом для такого подхода явно служил не западный капитализм, а государственная служба Московской Руси. Стоит ли удивляться, что при Петре частные лица крайне редко просили разрешения открыть завод или шахту: риск был велик, а прибыль не очевидна. И лишь когда ближайшие его преемницы, Анна и Елизавета, создали более благоприятные условия для купцов и промышленников, те стали проявлять больше инициативы. Во время этих двух царствований (1730-1761 гг.) наивысшее распространение нашел обычай устанавливать правительственную монополию на товары и промышленные изделия, а затем отдавать их на откуп частным лицам. Поначалу Петр силком набирал рабочую силу для предприятий и шахт из числа подданных, не принадлежавших ни к какому сословию, таких как заключенные, бродяги, военнопленные, солдатские жены и проститутки. Когда этого источника оказалось недостаточно, он переселил целые деревни государственных крестьян из центральной России на Урал. Под конец ему ничего не оставалось, как нарушить обычай, по которому крепостными могли владеть лишь государство, служилое сословие и духовенство, и издать в 1721 г. указ, жалующий купцам право покупать деревни, чтобы обзавестись крепостными для своих промышленных, и горнодобывающих предприятий. Указом 1736 г. «посессионные крепостные», как стали называть подъяремную рабочую силу в промышленности, вместе со своими семьями и потомством были «навечно» прикреплены к фабрикам и шахтам, на которых работали. Эти промышленные собратья деревенских крепостных сделались ядром русского рабочего класса.
Хотя затеянное Петром развитие промышленности было новшеством по своему духу, по воплощению оно было совершенно традиционно. Государство было собственником всех средств производства, диктовало цены и потребляло почти всю промышленную продукцию, предприниматели могли быть уволены за проступок, а рабочая сила была закрепощена. У назначаемых государством или лицензируемых им предпринимателей, которым был гарантирован рынок сбыта и подневольная рабочая сила, не было стимулов для модернизации производства. Короче говоря, хотя при Петре существовала промышленность, промышленного капитализма при нем не было.
Наиболее значительный перелом в экономической политике России до промышленного подъема 1880-1890-х гг. произошел в 1762 г. в недолгое царствование Петра III и в первые месяцы после воцарения Екатерины. Новое правительство, находившееся под влиянием физиократических идей, избавилось от сложной старой системы государственной промышленности и торговли с сопутствующим ей сплетением концессий и лицензий и широко открыло двери для проникновения общественности в эти области. Первый шаг в этом направлении был сделан десятилетием раньше, в 1753 г., когда отменили все внутренние пошлины и тарифы в России. 23 марта 1762 г. Петр III упразднил многие царские монополии и пустил товары, за малым исключением, в широкий коммерческий оборот; к числу товаров, которыми было разрешено свободно торговать, относилось зерно, по традиции бывшее монополией монархии. Екатерина, которая как-то назвала коммерцию своим «дитем», по вступлении на престол подтвердила этот указ. Благодаря всему этому законодательству, за купцами осталось исключительное право на торговлю и промышленность, пожалованное им Уложением 1649 г.; дворянам и крестьянству было позволено торговать лишь тем, что они сами произвели в своих деревнях.
Однако, в связи с тем, что сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия всегда составляли большинство обращавшихся в России товаров, практическое значение такого разграничения было невелико. По сути своей оно означало введение в России свободной торговли. В конечном итоге еще большую важность имели выпущенные в том же году два указа, касавшиеся промышленности. 29 марта 1762 г. Петр III отменил указ своего деда Петра Великого, предоставлявший купцам право покупки крепостных для использования в качестве рабочих. С тех пор они могли лишь нанимать работников за заработную плату. Теперь крепостными могли владеть одни дворяне. [В 1798 г. Павел I временно вернул купцам право на покупку крепостных, но сын его Александр I отменил его навсегда.]. 23 октября 1762 г. Екатерина разрешила всем сословиям создавать мануфактуры повсеместно, кроме Москвы и Петербурга. Манифест от 17 марта 1775 г. предоставил всем россиянам право устраивать любые промышленные предприятия.
Совокупным результатом этого законодательства, рассчитанного на стимулирование экономики, было нанесение coup de grace чахлому среднему классу России. Одной рукой правительство лишило купечество права владеть крепостными, бывшими главным (и определенно самым дешевым) источником рабочей силы в России, а другой оно предоставило прочим сословиям возможность открыто и законно делать то, что они до сей поры делали тайно, а именно конкурировать с купечеством в торговле и промышленности. Это законодательство было рассчитано так, чтобы наибольшую пользу из него извлекли дворяне и крестьянство. Торговля и промышленность были снова соединены с сельским хозяйством, и центр экономической деятельности переместился в деревню. Уход монархии, от прямого участия в хозяйственной деятельности (она сохраняла контроль лишь над главными отраслями военной промышленности) не только не помог ничем среднему классу, но и поставил его перед лицом конкуренции со стороны крестьян и дворянства, которая была еще неотвязней, чем царские монополии, и потому представляла собою еще худшую опасность.
Последствия всего этого дали себя знать достаточно скоро. Крестьяне по всей России повели теперь невиданно активную торговлю и забрали в свои руки большую часть рынка на продовольственные товары (зерно, фрукты, овощи и скот), домашнюю утварь и сельскохозяйственные орудия. Уже в екатерининской комиссии по разработке нового уложения (1767-1768 гг.) купцы громко сетовали на конкуренцию со стороны крестьянства. К началу XIX в. основная часть русской торговли контролировалась крестьянами, которые могли заниматься коммерцией открыто, не платя обременительной гильдейской пошлины, налагаемой правительством на купцов, принадлежащих к городским гильдиям, и не неся всяческих государственных повинностей, лежащих на купеческих плечах. Новые законы также коренным образом изменили положение в промышленности. Теперь дворяне принялись отбирать у купечества некоторые из наиболее доходных отраслей промышленности и горного дела, в которых последнее укрепилось было между 1730 и 1762 гг. В XVIII в. перегонка спирта сделалась дворянской монополией: эта привилегия позволяла дворянству с прибылью использовать излишки зерна. После 1762 г. многие уральских шахты и металлургические предприятия попали в руки богатых землевладельческих семей вроде Строгановых (купцов по происхождению, возведенных в дворянское звание в начале XVIII в.) и Воронцовых, имевших в своем распоряжении неограниченный резерв крепостной рабочей силы. В XVIII в. эти промышленники-дворяне выжили купцов из целого ряда промышленных отраслей. Уже в 1773 г. одна пятая часть всех заводов принадлежала дворянам, а оборот их составлял почти треть оборота всех русских предприятий. [М. Туган-Барановский, Русская фабрика в прошлом и настоящем. 7 изд., М., 1938. I, стр. 29]. В последующие десятилетия дворяне все больше забирали промышленность в свои руки. Собранные в 1813-1814 гг статистические данные показывают, что, помимо спиртоводочных заводов, они владели 64% всех шахт, 78% суконных дворов, 60% бумагоделательных предприятий, 66% стекольных и хрустальных производств и 80% поташных производств. [М. Ф Злотников, «К вопросу об изучении истории рабочего класса и промышленности» Каторга и ссылка, Э 1/116, 1935, стр 59]. Теперь купцам оставалось беспомощно смотреть, как сословия, живущие в деревне и традиционно занимавшиеся земледелием, забирают себе наиболее доходные отрасли промышленности. Число посадских людей на протяжении XVIII в. оставалось более или менее неизменным и едва превышало 3-4% населения. Почти половина их проживала в Москве и в соседних с нею областях к северу и северо-востоку.
Соперничество со стороны крестьянства носило не менее серьезный характер. Интересным побочным продуктом екатерининского хозяйственного законодательства было появление крупной крепостной промышленности. Хотя она существовала не только в России, — подобное же явление имело место в Силезии в XVIII в., — ни в какой другой стране не обрела она такого экономического значения. Капиталистический дух впервые проявился в России среди оброчных крестьян центральных губерний, особенно в прилегающих к Москве областях. После того, как Екатерина, стремясь стимулировать промышленность в деревне, издала между 1767 и 1777 г. ряд законов, позволявших создавать текстильные производства без регистрации, государственные и помещичьи крестьяне начали превращать свои домашние ткацкие станки в большие фабрики с сотнями рабочих. Значительное место среди таких предпринимателей занимали староверы, которые компенсировали причиненные им ущемления (такие как двойная подушная подать) большой предприимчивостью и чувством социальной дисциплины. Особенно кипучую деятельность развили государственные крестьяне и крепостные, принадлежавшие богатейшим помещикам, то есть группы деревенского населения, по традиции пользовавшиеся наибольшей свободой. В поместьях самого богатого русского землевладельца гр. Шереметева некоторые деревни превратились в крупные промышленные центры, все взрослое население которых участвовало в производстве.
С самого начала предприниматели из крестьян сосредоточили свое внимание на массовом рынке потребительских товаров, который по большей части игнорировался государством и промышленниками из дворян. Первое место среди изготовляемых ими товаров занимали хлопчатобумажные ткани, однако они также играли ведущую роль в производстве гончарных, скобяных и кожевенных изделий, льняных тканей и мебели. Целые деревни специализировались на изготовлении какого-то одного предмета, например, икон. Предприниматели из крестьян, жившие в частных поместьях, оставались крепостными даже после того, как сколачивали огромные состояния. Такие подневольные воротилы платили оброк, достигавший многих тысяч рублей в год. Если помещик давал им вольную (что, по вполне понятным причинам, он делал без чрезмерной охоты), им приходилось уплачивать за нее огромные денежные суммы. Шереметевские крестьяне платили за вольную по 17-20 тысяч рублей, а иногда цена доходила и до 160 тысяч. [Серебряный рубль начала XIX в. приблизительно равнялся 75 центам в тогдашних американских деньгах.]. Некоторые из них обзаводились своими собственными крепостными и образом жизни поистине напоминали феодальных сеньоров.
Крестьянин-предприниматель в России действовал в невообразимо тяжелых условиях. Единственным его преимуществом была близость к земле: расходы на рабочую силу были невелики, и в тяжелый момент она всегда могла вновь заняться хлебопашеством. Однако его собственному положению завидовать не приходилось. Будучи крепостным, он не имел элементарных гражданских прав. Хозяин в любую минуту мог обобрать его и отправить обратно в поле. В отличие от предпринимателя-дворянина или служащего государству купца, он не мог получить беспроцентной ссуды и не имел гарантированных покупателей на свои товары. Лишь благодаря твердости своего характера и целеустремленности столь многим из них удалось преодолеть все препоны своего стесненного состояния. История Н. Н. Шипова, быть может, необычна, ибо мало кому привелось встретить и преодолеть столько препятствий, как этому незаурядному выходцу из крестьян, однако она хорошо характеризует натуру подобных самородков. Шипов был сыном крепостного купца, который в начале XIX в. сколотил себе изрядное состояние на торговле скотом и мехами. После его смерти помощники его прибрали к рукам большую часть имущества и сговорились с чиновниками засадить наследника в тюрьму. В 1832 г. шиповский отрок бежал от своего помещика и в течение последующих пяти лет бродил по стране и под вымышленными именами занимался коммерцией. Кто-то выдал его властям, он отсидел четыре года в тюрьме и был потом возвращен своему законному хозяину. Тогда он раздобыл паспорт, годный на полгода, с которым добрался до Бессарабии, где купил фабрику по производству клея. Когда срок действия паспорта истек, власти отказались его продлить, и Шилову пришлось продать дело и снова возвратиться домой. К тому времени он разузнал о законе, по которому крепостной, попавший к горцам Северного Кавказа, воевавшим тогда с правительством, и бежавший от них, получал вольную. Доведенный уже до отчаяния Шипов добрался до Кавказа, вступил в армию, сдался в плен, бежал и получил вольную, а вместе с нею наконец и право вести дела без придирок со стороны частных лиц и правительства. [История его жизни рассказывается в Русской старине за май-сентябрь 1881 г и суммируется в И. И. Игнатович, Помещичьи крестьяне накануне освобождения. СПб., 1902, стр. 76-8].
Именно благодаря железной целеустремленности людей типа Шилова промышленность в деревне развивалась весьма быстрыми темпами. Ухудшение юридического положения крестьянства при Екатерине не должно затенять того факта, что в экономическом отношении жизнь их в ту эпоху улучшилась. По всей видимости, русское крестьянство никогда не знало такого достатка, как в ее царствование, когда либерализация хозяйственной политики открыла им практически неограниченный доступ к торговле и промышленности.
До 1839 г., когда в России поселился предприимчивый немец Людвиг Кноп (Ludwig Knoop), ткацкая промышленность в русской деревне основывалась на ручном труде. Она была разновидностью ремесленного производства и, соответственно, использовала примитивную технику. Кноп, представлявший в России крупную английскую текстильную фирму, умел обойти английский запрет на вывоз ткацких машин. Он вошел в доверие к нескольким богатым промышленникам из крестьян, большинство из которых недавно освободились от крепостной зависимости, и убедил их вложить деньги в ткацкое оборудование. Клиенты его добились такого успеха, что скоро он был завален заказами. Кноп устраивал кредиты для своих клиентов-крестьян, нанимал управляющих и мастеров, проектировал фабрики, добывал сырье и, будучи активным пайщиком, часто самолично надзирал за производством. Всего он основал 122 ткацких фабрики и сделался ко времени своей смерти в 1894 г. богатейшим промышленником России.
Немаловажно, что эти предприятия, заложившие основы первой механизированной отрасли русской промышленности, находились в руках крестьян, а не купечества. Купцам, не имевшим права покупать крепостных, приходилось довольствоваться поставкой сырья предпринимателям из крестьян и продажей изделий, изготовленных на их фабриках. А сам процесс производства находился не в их руках. Механическое изготовление хлопчатобумажной пряжи произвело в Англии экономическую и социальную революцию, а в России оно прекрасно уложилось в рамки крепостничества, да и вообще просто созрело в его чреве. Результатом технических нововведений явилось странное сочетание ввезенной с Запада современной техники и унаследованной от Московской Руси подневольной рабочей силы; такая комбинация противоречила распространенному в XIX в. убеждению, что индустриализм и крепостничество несовместимы друг с другом.
В свете этих экономических фактов попытки государей XIX в. создать в России города западного типа, населенные буржуазией западного типа, представляются совершенно безнадежными.
Скучно было бы пересказывать в подробностях городское законодательство той эпохи, не только из-за крайней сложности его положений, но и потому, что они имели мало общего с реальностью и редко приносили какой-либо результат. Достаточно будет сказать, что все правители, а в особенности Екатерина, пытались преодолеть традиционную бесформенность русских городов путем сведения всех их обитателей в цельный и юридически признанный класс, пользующийся самоуправлением. Жалованная грамота городам, данная Екатериной одновременно с грамотой дворянству, была особенно широко задуманным шагом в этом направлении, поскольку впервые в истории предоставляла городскому населению России право на создание корпораций и избрание собственных чиновников. Но проку от всего этого было немного. Горожане продолжали печься прежде всего об интересах сословий, к которым принадлежали; хотя живший в городе и имевший в нем собственность дворянин и отвечал формально екатерининской дефиниции горожанина, на самом деле он не желал иметь ничего общего с прочими городскими обитателями, и то же самое можно сказать о проживавших в городе крестьянах и духовенстве. На деле городское население осталось разобщенным, и купцы с ремесленниками продолжали жить в стороне от остального общества. С виду права на самоуправление отпускались грамотой 1785 г. с великой щедростью, однако они тут же были сведены на нет другими законоположениями, обеспечивающими бюрократии плотный контроль над городскими корпорациями.
Вопреки своим обещаниям, правительства XVIII в. относились к городам примерно так же, как их предшественники в эпоху Московской Руси, то есть рассматривали их как форпосты царской власти в деревне. Екатерина гордилась тем, что всего за десятилетие (1775-1785гг.) сумела удвоить число городов в империи. Если, однако, взглянуть на эти ее новые города поближе, то окажется, что прирост этот был достигнут простым переписанием деревень в города. Потрясенная тем, насколько легко бунтовщики под предводительством Пугачева захватили обширные районы страны, Екатерина решила в 1775 г. укрепить свой контроль в сельской местности. Губернии были урезаны до более разумного размера и поделены на уезды, в каждом из которых была своя столица. О том, каким образом проводилась эта реформа, можно судить по деятельности гр. Р. Л. Воронцова, назначенного в 1778 г. Руководить реорганизацией Владимирской области. По выполнении этого поручения Воронцов докладывал императрице, что назначил тринадцать городов столицами тринадцати уездов. Из этого числа семь уже считались городами, а остальные шесть он подобрал среди деревень, выгодно отличавшихся удобным расположением и близостью к путям сообщения. [Исторические записки, Э 32, 1950, стр. 133. Иногда деревня повышалась в звании путем смены имени. Так, в Полном Своде Законов (Э 14, 359) содержится указ 1775 г., переименовывающий деревню Черная Грязь в г. Царицын]. По удачному выражению Гакстгаузена, Екатерина «назначала» города точно так же, как повышала в звании офицеров. Она также и понижала их в чине, ибо впоследствии несколько десятков городов были в наказание лишены городского звания.
Следует отметить, что, производя деревни в города, Екатерина одновременно позволяла многим крупным торговым и промышленным центрам остаться на положении сельских населенных пунктов. Это делалось как одолжение дворянам и приводило к освобождению их. крепостных, занятых в торговле и производстве, ото всех податей, кроме подушной. Замечательным примером этого служит Иваново, принадлежавшее Шереметевым; в 1840-х гг. оно находилось в высшей точке своего экономического развития и имело тысячи промышленных рабочих, но все равно формально оставалось «деревней». Административный перевод населения из одного звания в другое ни в малейшей степени не отразился на уровне жизни в городах и на психологии горожан, остававшихся, за исключением Москвы и Петербурга, совершенно неотличимыми от деревенских жителей. Трехкратное увеличение городского населения, якобы имевшее место между 1769 и 1796 гг., было продуктом бюрократического воображения.
Нет оснований полагать, что в XVIII в. хозяйственное значение русских городов хоть сколько-нибудь возросло. Ведущие специалисты по истории города считают, что медленное течение городской жизни, характерное для Московской Руси, в XVIII в. быстрее не пошло, в основном из-за неуклонного перемещения торговли и промышленности из города в деревню. [Дитятин, Устройство, стр. 374-5, и А. А. Кизеветтер, Исторические очерки, М., 19)2. стр. 243]. Не изменился и состав городского населения. В 1805 г. в Москве все еще было втрое больше крепостных, чем купцов.
Несмотря на серьезные попытки монархии стабилизировать состав купечества, оно пребывало в состоянии беспрестанных перемен. Купцы первой и второй гильдии любили сочетать своих детей браком с дворянами, поскольку это приносило им более высокое общественное положение, доступ к государственной службе и право на покупку крепостных. С получением дворянства они вместе со своим капиталом были потеряны для среднего класса, хотя не обязательно прекращали конкуренцию со своими менее удачливыми собратьями, поскольку, если хотели, могли торговать и дальше, обзаведясь временной лицензией. Купцы, которым не удавалось набрать денег на ежегодную гильдейскую пошлину, низводились до уровня мещан, до 1863 г. обязанных платить подушную подать. Предприниматели из крестьян, сколотив минимальный капитал, необходимый для перехода в ряды купечества, немедленно вступали в третью гильдию, а оттуда могли уже пробиваться и дальше; внуки их часто попадали в дворяне. Таким образом, средний класс сделался своего рода перевалочным пунктом для всех, кто двигался вверх и вниз по общественной лестнице. В конце XIX в. большинство из примерно двадцати ведущих деловых семей Москвы происходили из деревни; половина вышла из крестьян на протяжении последних трех поколений, а другая половина представляла собою потомков мелких ремесленников и купцов, перебравшихся в Москву в конце XVIII — начале XIX в.. [Valentine T. Bill, The Forgotten Class (New York 1959), p. 153]. «Гости» Московской Руси исчезли так же бесследно, как и большинство древних боярских фамилий.
Иногда в исторической и художественной литературе встречается русский купец, отвечающий идеальному представлению о буржуазии. Однако это редкое исключение. Куда чаще русского купца XVIII в. изображают самодовольным невежей, интересующимся только деньгами, совершенно лишенным понятия о своем человеческом назначении и общественного чувства, неучем, презирающим науку. В XVI-XVII вв. ему приходилось скрывать свое богатство, но стоило монархии издать законодательство, направленное на охрану частной собственности, как он стал выставлять напоказ свои вульгарные повадки, ел и пил без меры и забивал дом мебелью. Нуждаясь в благосклонности чиновников, он всеми силами добивался их дружбы. Как правило, одного сына он оставлял дома помогать ему в делах, а прочих отправлял на казенную службу. Мысль о том, что сын может быть ученей отца, была нестерпима для патриархальной натуры русского купечества, поэтому детям не давали образования. П. А. Бурышкин, автор важного исследования о московском купечестве, сам выходец из виднейшей купеческой семьи, говорит, что во всей русской литературе, написанной интеллигенцией, ему известно лишь одно место, где частный предприниматель рисуется в выгодном свете. [Бурышкин. Москва купеческая, стр. 31]. Господствующее мнение о купцах было, безусловно, несправедливо. В конце XIX в. некоторые из ведущих купеческих и промышленных семейств достигли весьма высокого культурного уровня. Однако даже это культурное меньшинство проявляло небольшой интерес к общественным делам и уклонялось от политики и сопутствующего ей публичного внимания. За пределами коммерческой сферы энергия эта направлялась главным образом на меценатство, в котором дельцы к концу XIX в. заняли место обедневшего землевладельческого сословия. Вдова пробившегося из низов железнодорожного воротилы тайно субсидировала Чайковского, другой строитель железных дорог, Савва Мамонтов, основал первую в России оперную труппу и поддерживал Мусоргского и Римского-Корсакова. Чеховский МХАТ финансировался на купеческие деньги. Лучшее собрание русской художественной школы было создано московским купцом Третьяковым. Великолепная русская коллекция французских импрессионистов и постимпрессионистов была составлена двумя потомками крепостных дельцов, Морозовым и Щукиным. То был находившийся на виду высший слой, а рядовые купцы продолжали жить в своем собственном мирке, запертом на все засовы и самодовлеющем; Добролюбов называл его «царством тьмы». Наиболее выпуклыми его чертами были рьяный национализм, сопровождаемый боязнью западных веяний, и глубокая преданность монархии, чей покровительственный тариф помогал этому сословию устоять против иноземной конкуренции.
Когда Министерство Финансов взялось в 1880-х гг. за поощрение широкого подъема промышленности, русские предприниматели снова выказали мало желания участвовать в этом деле. Сложилось положение, памятное еще по XVII в.: государственная инициатива вкупе с иностранными деньгами и управляющими. Русский средний класс был не готов и не склонен к участию во второй фазе промышленного подъема России, заключавшейся в развитии сталелитейной, угольной, нефтехимической и электротехнической индустрии. Россия пропустила случай создать буржуазию, когда это было еще возможно, то есть на основе мануфактуры и частного капитализма; поздно было делать это в век механизированной промышленности, в которой господствовали акционерные общества и банки. Не имея опыта в более простых формах капиталистических финансов и производства, русский средний класс был не в состоянии участвовать в экономической деятельности, связанной с куда более сложными их формами.
Достаточно будет взглянуть на основные отрасли тяжелой промышленности, созданные в России в конце XIX в., чтобы увидеть, какую решающую роль сыграли в их развитии иностранцы. Современную угольную и сталелитейную промышленность Донецка и Кривого Рога основали англичане, а финансировалась она совместным английским, французским и бельгийским капиталом. Нефтяные промыслы Кавказа были пущены в ход английскими и шведскими предпринимателями. Немцы положили начало русской электротехнической и химической промышленности. Вообще говоря, основанные крепостными предпринимателями в центральных районах страны ткацкие фабрики представляли собою единственную отрасль промышленности, действительно созданную русскими людьми. [Железнодорожный бум, в котором русский капитал принимал важнейшее участие, когда им не руководили высшие сановники или генералы, создавался в основном евреями и обрусевшими немцами.]. Бурный подъем русского промышленного производства в 1890-х гг., по темпам не имевший себе равных ни до, ни после того, был не столько естественным продолжением внутреннего хозяйственного развития России, сколько следствием пересадки в нее западных капиталов, техники и, главное, западных организаторов индустрии. [Следует отметить, что на всем протяжении эволюции русской промышленности местные ресурсы неизменно оказывались не в состоянии обеспечить переход к более передовым производственным методам. Освоив в XVII в., основы мануфактурного производства и горного дела с использованием дисциплинированной рабочей силы, россияне жили этим багажом два столетия. Начало следующей фазе (тяжелая промышленность на паровой и электрической тяге) опять было положено иностранцами в 1880-1890-х гг. Она послужила базой советской экономики, которая до самого недавнего времени продолжала развивать основы первого поколения механизированной индустрии, но оказалась неспособной сделать рывок к методам автоматизированного производства, характеризовавшим послевоенную экономику Запада. И снова русское правительство было вынуждено в 1960-1970-х гг. положиться на западный капитал и западную технику, за которые, как и на протяжении всей своей истории, оно расплачивается сырьем. Этим объясняется нелепая ситуация, когда через полвека после революции, одной из целей которой было освобождение России от «колониальной> экономической зависимости, советское правительство снова приглашает иностранный капитал и дает концессии иностранным предприятиям.]. Русские капиталисты (как богатые землевладельцы, так и купцы) слишком мало смыслили в механике современных капиталовложений, чтобы затевать необходимые для такого дела финансовые операции. Да и в любом случае они предпочитали вкладывать деньги в облигации императорского правительства, в надежность которых они свято верили, нежели рисковать в коммерческих предприятиях. Лишь после того, как главный риск взяли на себя иностранцы, в тяжелую промышленность устремился русский капитал. Вследствие этого накануне революции треть, промышленных капиталовложений в России и половина банковского капитала в ее крупнейших банках были иноземного происхождения. [Bertrand Gille, Histoire economique et sociale de la Russia (Paris 1949), стр. 187 и П. А. Хромов, Экономическое развитие России в XIX-XX веках (1800-1917), [М], 1950, стр. 386].
На политическое мировоззрение этих доморощенных предпринимателей большое влияние оказывало одно простое экономическое обстоятельство, а именно высокие тарифы. Хилая русская промышленность не смогла бы устоять перед соперничеством со стороны англичан и немцев без помощи тарифных мер, которые к концу XIX в. все больше ужесточались.
В связи с этим робость и косность состоятельного класса страны в экономической сфере вполне проявлялись и в его политическом поведении. Сам он был настроен безусловно монархически и националистически, однако предпочитал оставаться в тени. Он остался в стороне от судьбоносного конфликта между интеллигенцией и правительством, завязавшегося в середине XIX в. В 1905 г. группа виднейших предпринимателей попыталась создать свою политическую партию, которая, однако, так и осталась в проекте, и в конце концов большинство из них оказалось в рядах консервативных октябристов. Среди депутатов первой Думы (1906 г.) было два промышленника и 24 купца. 5,8% от общего числа ее членов: воистину жалкий процент «буржуазии» в органе, который, как считается, был воплощением «буржуазного» господства в России. Это политическое бессилие вытекало, прежде всего, из выработанного многовековым опытом убеждения, что путь к богатству в России лежит не через борьбу с властями, но через сотрудничество с ними, и сопутствующего ему мнения, что когда претенденты на политическую власть воюют друг с другом, умнее всего будет отойти в сторонку.
Лишь в 1908-1909 гг. немногочисленная, но богатая и влиятельная группа прогрессивных московских предпринимателей, возглавлявшаяся П. П. Рябушинским и А. И. Коноваловым, всерьез попыталась пойти наперекор бюрократии и повернуть государственную политику в более либеральном, «буржуазном» направлении. Члены ее сыграли видную роль в подрыве царского режима, однако после отречения царя и наступления анархии заметного участия в событиях не принимали. Временному Правительству они оказали весьма прохладную поддержку, а белое движение помощи от них почти не видело. У кого были деньги, тихо собрали чемоданы и бежали за границу, а у кого их не было, сидели в сторонке, наблюдая, как революционная интеллигенция сводит счеты с националистически настроенными офицерством, и ждали лучших времен, которые так и не наступили.
ГЛАВА 9. ЦЕРКОВЬ КАК СЛУЖАНКА ГОСУДАРСТВА
С внешней стороны, наиболее яркой чертой Православия является красота его искусства и обряда. Даже после столетий разрушения сохранившиеся в России церкви и монастыри выделяются как самое привлекательное произведение рук человеческих посреди в остальных отношениях однообразного пейзажа. Это касается величественных соборов Новгорода, Владимира и московского Кремля, но не в меньшей степени и более скромных каменных церквей, возведенных на средства князей, бояр и купцов, и деревянных церквушек, выстроенных самими крестьянами. Мало что осталось от их первоначального убранства, однако сохранившиеся в музеях лучшие из средневековых икон (частью безусловно греческого происхождения) выполнены в манере, изобличающей самый изысканный вкус. Русская литургическая музыка в XVIII в., к несчастью, подверглась сильному итальянскому влиянию. И тем не менее, даже в своей искаженной форме, она почти всегда производит глубочайшее впечатление, особенно на Пасху, когда православная служба достигает вершин великолепия. Если такое сочетание зрительных и звуковых эффектов способно ослепить современного человека, нетрудно себе представить, какое ошеломительное действие оно оказывало на русского крестьянина. Для понимания той роли, которую Православная церковь отводит чувственным восприятиям, важно иметь в виду, что, как сообщает Повесть Временных лет, решающим соображением в крещении Руси было впечатление, произведенное на киевских посланцев константинопольской Святой Софией.
Основным элементом православной догматики является отрешение. Православие смотрит на земное существование с отвращением и предпочитает уход от жизни активному участию в ней. Оно всегда жадно воспринимало приходящие с Востока течения, проповедующие уход от мира, в том числе и доктрины затворников и исихастов, стремящихся к полному отрешению от суетной действительности. В XVIII и XIX вв., когда религиозные вожаки Запада, не обуреваемые больше страстью и энтузиазмом, пеклись о том, как бы совместить веру с наукой и общественными потребностями, россияне испытывали личные религиозные превращения, идущие в совершенно противоположную сторону, к самоотречению, мистицизму, гипнозу и экстазу. В этот рационалистический век среди русских крестьян распространялись сектантские движения такой крайней иррациональности, каковой Западная Европа не видывала со времен Реформации.
Одной стороной этого отрешения является смирение и боязнь гордыни. По утверждениям православных богословов, их церковь сохранила больше верности учению Христа и раннехристианским обычаям, чем католическая и протестантская, попавшие под пагубное влияние классической цивилизации и начавшие придавать слишком большое значение аналитическому мышлению. Такая уступка неумолимо повлекла их к греховному высокомерию. Православие проповедует покорность судьбе и молчаливое страстотерпие. Первые канонизированные святые русской церкви, средневековые князья Борис и Глеб, были признаны святыми по той причине, что безропотно дали убить себя.
Если бы мы занимались исследованием восточного христианства как религии, естественно было бы разобрать его этику и эстетику. Однако нас интересует здесь политическое поведение русской церкви и особенно ее роль во взаимоотношениях между государством и обществом, а не проповеди и деятельность лучших религиозных умов; нас интересует деятельность церкви как социального института. А как только исследование переносится на эту почву, быстро обнаруживается, что, несмотря на всю свою крайнюю потусторонность, православие в России было необычайно озабочено вполне посюсторонним делом борьбы за выживание. В действительной жизни оно оказалось куда бездуховнее, чем религии типа иудаизма и протестантизма, которые учат, что участие в мирских делах является неотъемлемым атрибутом религиозного служения. Когда размышляешь о судьбе православия, на память приходит высказывание Монтеня, который находил связь между сверхнабожными помыслами и весьма приземленным поведением. Вряд ли может быть по-иному, поскольку у человека, отвергшего участие в мирской жизни, нет принципов, которые освещали бы ему путь, если жизнь понудит его заняться мирскими делами. Русская церковь не выработала правил практического поведения и не умела поэтому приноравливаться к обстоятельствам и хранить, пусть и в ущемленной, несовершенной форме, свои основополагающие духовные ценности. Вследствие этого она послушней, чем любая другая церковь, отдала себя в распоряжение государства и помогала ему эксплуатировать и подавлять. В конце концов она перестала быть полнокровным самостоятельным учреждением и позволила превратить себя в обыкновенный отросток государственной бюрократии. Все это сделало ее необыкновенно уязвимой перед лицом перемен в расстановке политических сил и — направлениях общественного мнения. В отличие от других церквей, она не смогла отгородить для себя автономной сферы деятельности. У нее не было ничего своего, и она до такой степени отождествила себя с монархией, что, когда последняя рухнула, церковь пала вместе с нею. Относительная легкость, с которой коммунистам удалось исключить церковь из русской общественной жизни, выглядит красноречивым контрастом рядом с тем сопротивлением, на которое они натолкнулись в католической Восточной Европе, где попытались сделать то же самое, успеха не добились и в конце концов вынуждены были смириться с существованием церкви как независимого учреждения.
Если не считать венгров, россияне были обращены в христианство последними в Европе. Официальное обращение произошло в 987 г. (а не в 988-989 гг., как сообщают летописи), когда князь Владимир со своим двором, а за ними и вся дружина, получили крещение от греческих священнослужителей. Славянское население в целом обращалось медленно и нередко из-под палки. Много столетий спустя оно все еще сохраняло языческие обычаи. Выбор православия в качестве религии Киевской Руси был вполне естественен, если принять во внимание богатство Византии в X в., превосходство ее культуры над римской, а также важность торговых отношений с нею для Киева.
Тот факт, что Россия переняла христианство у Византии, а не у Запада, имел далеко идущие последствия для всего хода исторического развития страны. Наряду с обсуждаемыми в первой главе книги географическими обстоятельствами, он, пожалуй, явился наиболее судьбоносным фактором российской истории. Приняв восточный вариант христианства, Россия отгородилась от столбовой дороги христианской цивилизации, которая вела на Запад. После обращения Руси Византия пришла в упадок, а Рим пошел в гору. Вскоре Византийскую империю осадили турки, которые отрезали от нее кусок за куском, пока, наконец, не захватили ее столицу. В XVI в. Московия была единственным крупным царством в мире, все еще исповедующим восточный вариант христианства. Чем больше она подвергалась нападкам со стороны католичества и ислама, тем больше замыкалась в себе и делалась все нетерпимее. Таким образом, принятие христианства, вместо того, чтобы сблизить Россию с христианским миром, привело к изоляции ее от соседей.
Православная церковь, состоящая из самостоятельных национальных единиц, по самой природе своей сильно децентрализована. У нее нет папства, чтобы придать ей единство, и составные ее части автокефальны. Важнейшие догматические и административные вопросы решаются соборами, которые в особо значительных случаях приобретают характер международных церковных съездов. Такая практика также более верно отражает дух раннего христианства, однако ослабляет способность православия идти наперекор светской власти. Структурная децентрализация его усугубляется тем, что составляющие его национальные церкви имеют право пользоваться местным языком в литургии и богословских сочинениях. Такой обычай по замыслу должен был приблизить церковь к народу, однако он еще пуще разобщил православный мир. У православия не было языка наподобие латыни, который бы вселил в его последователей сознание единства, переходящего государственные границы. Например, русское духовенство было не сильно в греческом и вынуждено было привозить монахов с Балкан всякий раз, когда возникала нужда справиться с византийскими книгами.
Всю тенденцию православия можно охарактеризовать как центробежную от экуменизма к регионализму. Эта тенденция, в свою очередь, вела к смазыванию разделительной черты между церковью, государством и народом. У православной церкви никогда не доставало силы и единства, чтобы отстоять свои интересы от покушений светской власти. Она дробилась на многочисленные национальные ответвления, каждое из которых было отгорожено от остальных границами и языковым барьером и возглавлялось своей собственной иерархией, и поэтому ей ничего не оставалось, кроме как приспосабливаться к существующей светской власти. Еще в 1889 г., задолго до того, как революция продемонстрировала крайнюю зависимость русской церкви от изменчивых ветров политики, проницательный французский автор писал об этом:
В восточном православии церковное устройство имеет склонность брать себе за образец устройство политическое, а границы церквей, как правило, совпадают с границами государства. Эти два взаимосвязанные обстоятельства присущи национальной форме православных церквей. Заключенные в государственные границы, лишенные единого главы и центра за границей, независимые, друг от друга, эти церкви более подвержены влиянию светской власти, более уязвимы перед лицом ударов со стороны революций в мирском обществе. Православные церкви со своей идентичной иерархией идентичных священников и епископов, в зависимости от места и времени, приспосабливаются к самым разнородным режимам: в конечном итоге структура их внутреннего управления приходит в гармоническое соответствие со структурой политической организации. [Anatole Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tsars et les Russes (Paris 1889) III, стр. 167].
Характерное для восточного христианства тесное, почти симбиотическое отождествление церкви и государства прочно коренится в исторических и догматических обстоятельствах.
Начнем с исторических. Восточной церкви повезло в том, что она с самого своего зарождения пользовалась покровительством римских императоров, которые после обращения перенесли свою столицу в Константинополь. В Византии главой церкви был император, а церковь находилась «внутри государства и... являлась частью государственной организации». По выражению императора Юстиниана, между светскими и духовными властями существовали «гармонические» отношения, а на практике это означало, что император принимал участие в важнейших церковных делах, в том числе в формулировании канонического права, созыве общецерковных соборов и назначении епископов. В обмен на это государство использовало свою власть для поддержки решений соборов и соблюдения религиозной ортодоксии на своей территории. [Wilhelm Ensslin в Norman H. Baynes and H. St. L. B. Moss. Byzantium (Oxford 1949), p. 274]. Для византийских мыслителей представлялось аксиомой, что церковь не может существовать без государственной защиты. Такой взгляд был ясно высказан в письме патриарха Константинопольского, направленном московскому князю Василию I около 1393 г. Патриарх выразил несогласие с Василием, по слухам утверждавшим, что на Руси есть церковь, но нет царя, и напомнил ему, что созыв соборов, поддержка церковных правил и борьба с ересями являются царской обязанностью. Отсюда «невозможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь. Царство и Церковь имеют между собою тесное единение и общение, и невозможно отделять одно от другого» [Митрополит Московский Maкарий, История русской церкви, СПб., 1886, V, кн. II, стр. 480-81].
На Западе не было условий, делавших такое тесное сотрудничество необходимым. После переноса императорской столицы в Константинополь Рим оказался в политическом вакууме, который немедленно заполнили его епископы. Западной церкви долгое время не приходилось соперничать с монархией, и у нее сложились сильные светские интересы. Вследствие этого, когда на Западе появилась независимая светская власть, дело пошло к столкновению. Западная церковь взялась за утверждение своего превосходства без всякой робости. Уже папа Григорий Великий (590-604 гг.) смело провозгласил главенство церкви над государством. Восточная церковь выдвигала куда более скромные притязания именно потому, что развилась в более благоприятных политических обстоятельствах. Затем с падением Византии она сделалась еще более зависима от физической защиты и финансовой поддержки светской власти, тогда как папство все богатело, набирало силу и имело еще меньше оснований, чем когда-либо, признавать светскую власть себе ровней.
Догматические обстоятельства, толкавшие православную церковь в объятия государства, связаны с присущим ей консерватизмом. Она считает себя хранительницей Богооткровенных вечных истин; миссия ее состоит в охранении этих истин от искажения и выхолащивания. Она придает огромное значение чистоте вероучения и обряда. Реформаторские движения в православии, как правило, стремились изгнать из него элементы, которые представлялись им новшествами, а не возвратиться к христианству Св. Писания или приспособить свою веру к современным условиям. В глазах православия конечным верховным авторитетом пользуются не Евангелия, а церковная традиция (Св. Писание было впервые полностью переведено и напечатано в России только в 1860-1870-х гг.). Поскольку православная церковь придавала большое значение внешним сторонам веры, ее магическим элементам, она всегда живо противилась изменениям в обрядности, иконографии и любых других традициях. В Византии все еще случались конфликты по вопросам догматики, однако к X в., когда Русь была обращена в христианство, они уже были в большей степени разрешены, так что она получила веру в ее законченной и, как считалось, совершенной форме. Это обстоятельство сделало церковную иерархию даже консервативнее породившей ее церкви.
Присущий православию консерватизм вызывал у него желание иметь на своей стороне сильную светскую власть. Страну должно было держать чистой и «святой», незапятнанной ложными вероучениями. Нельзя относиться терпимо к отклонениям от традиции. Как говорил византийский патриарх Фотий, «даже самомалейшее небрежение традицией влечет за собою полное неуважение к догмату»; иными словами, любое отклонение есть первый шаг к вероотступничеству. Это и прочие обстоятельства, связанные с жестким толкованием Богооткровенной истины, толкали православие в сторону теократии, которая, в силу сопутствующих ее развитию исторических условий, на практике означала опору на светскую власть.
Золотой Век православия в России совпал с монгольским владычеством. Монголы освободили все находившееся под их властью духовенство от повинностей, которыми облагали порабощенное население. «Яса Чингисхана» предоставляла православной церкви защиту и освобождение от дани и податей в обмен на обещание молиться за хана и его семейство. Такая привилегия явилась огромным благодеянием для церкви, и в то время, как остальная Русь страдала от поборов и насилий, церковное богатство росло с головокружительной скоростью. Больше всегo выиграли от монгольских милостей монастыри. В XIV в. русские монахи рьяно взялись за колонизацию и выстроили до истечения этого столетия столько же новых монастырей, сколько было создано в стране за четыре века, прошедших со времени ее обращения в христианство. Около 1550 г. на Руси было примерно двести монастырей, причем некоторые из них достигали огромного размера. Среди последних был Троице-Сергиевский, Кирилло-Белозерский и Соловецкий монастыри. Большая часть монастырской земли давалась московскими князьями в благодарность за оказываемые им церковью услуги, в особенности за поддержку их притязаний на единодержавную и самодержавную власть. Дарили землю и бояре, которые по обычаю часто упоминали монастыри в своих духовных грамотах. Получаемое церковью оставалось в ее руках навсегда, поскольку, в отличие от светских землевладельцев, у нее была организационная преемственность, и, разумеется, она не занималась дроблением своей земли.
По мере роста монастырских владений монахи не могли больше пахать свою землю сами и принуждены были использовать труд арендаторов. Монастыри были в числе первых землевладельцев, попросивших монархию о грамотах, прикрепляющих крестьян к земле. Крупнейшие монастыри превратились в огромные хозяйства, почти неотличимые от боярских вотчин. На вершине своего расцвета Троице-Сергиевский монастырь имел 100 тысяч крестьянских душ, обрабатывавших землю в принадлежавших ему поместьях, которые были разбросаны по пятнадцати губерниям. В середине XVII в. во владениях одной патриархии было около 35 тысяч крепостных. Иноземные путешественники XVI в. согласны в том, что в собственности русского духовенства находилась треть всей земли, и хотя такое единодушие ставит эту оценку под некоторое сомнение, она в общем и целом принимается современными историками. Следует подчеркнуть, однако, что термин «собственность» можно употребить здесь лишь с большими оговорками. Церковь и монастыри были «собственниками» эксплуатируемой ими земли не больше, чем служилое сословие, а держали ее на правах условного владения. Московское правительство неизменно контролировало церковные земли весьма плотно и не собиралось уступать права собственности на них; как выразился Ключевский, «в Москве церковная земля была специализированным видом казенной собственности.» [В. Ключевский. «Чья земля под городскими рядами на Красной Площади?» Русские ведомости. Э 125, 9 мая 1887]. Далее, в связи с децентрализованной структурой православия, земли эти не принадлежали «церкви» в целом. Как и боярская земля, церковное имущество было расчленено на рассеянные крупные, средние и мелкие вотчины. Землевладельцами были в действительности патриархи, епископы, церкви, монастыри и приходы (хотя и верно, что патриархия собирала подати со всех этих владений). Во многих случаях имуществом, номинально принадлежавшим монастырю, владели отдельные монахи, которые вели хозяйство точно так же, как любой помещик или купец. Большой разрыв между доходами немногочисленных богачей и основной массы, отмечавшийся, когда речь шла о светских землевладельцах и купечестве, существовал и в церковном мире. На одном конце спектра стояли крупные лавры, владения которых не уступали состоянию богатейших бояр, а на другом приходские церкви, чьи священники кормились обработкой своих участков наподобие составлявших их паству крестьян. Право на церковные владения должно было вновь подтверждаться каждым новым ханом или, позднее, великим князем точно так же, как и на светские поместья. Собранное русской церковью богатство ставило ее в двусмысленное положение по отношению к светской власти, поскольку если монахи и священники в своей церковной ипостаси были ответственны перед архиепископом, то в своей роли землевладельцев они подпадали под юрисдикцию местного князя. Короче говоря, церковная земля в России была абсолютно так же раздроблена и зависима от светской власти, как и владения мирян, а посему порождала такое же политическое бессилие.
У монастырского, или «черного», духовенства большая часть времени уходила на заботу о своих имуществах. Оно тяготело к мирскому даже больше, чем монашество Запад ной Европы позднего средневековья. В XIV XV вв русские монахи жили, как правило, не за монастырскими стенами, а в принадлежащих им. городах и деревнях, где надзирали за земледелием, торговлей и промыслами своего братства. Большинство русских монахов в то время не были даже рукоположены в сан.
Русское духовенство погрязало в мирском, и положение тут только усугублялось его невежеством. Церковь в России пользовалась старославянским. Не будучи тождественен русскому, он все же был достаточно ему близок, чтобы ему можно было выучиться при элементарной образованности. В русских монастырях не преподавали ни греческого, ни латыни, и, не считая кое-какого летописания и составления житий святых, там производилось немного литературной работы. Русское духовенство отличалось невероятным невежеством. Если не исходить из предположения, что все посещавшие Московию иноземцы разом сговорились лгать, то из данных ими изображений религиозной жизни вырисовывается неприглядная картина:
Иностранцы утверждают, что простые миряне не знали ни евангельской истории, ни символа веры, ни главнейших молитв, в том числе даже «Отче наш» и «Богородице дево», и наивно объясняли свое невежество тем, что «это очень высокая наука, пригодная только царям да патриарху и вообще господам и духовным лицам, у которых нет работы». Но те же иностранцы выдают самое уничтожающее свидетельство и тем, у кого был досуг, и даже специальный досуг, для приобретения таких познаний. Олеарий ... пишет, что в его время едва один [русский] монах из десяти знал «Отче наш»; в конце XVII в. Вармунд упоминает о монахе, просившем милостыню именем четвертого лица св. Троицы, каковым оказался св. Николай; после этого неудивительно уже читать у Флетчера, ...что вологодский епископ не сумел ему объяснить, из какой книги священного писания он по просьбе Флетчера только что читал вслух, и сколько евангелистов, а у Олеария и Викгардта (XVII в.), — что современные им патриархи в делах веры были крайне несведущи и не могли вести богословских споров с иностранцами. [H. M. Никольский, История русской церкви, М., 1931, стр. 62. Дабы Никольского, чья книга вышла под эгидой «Общества воинствующих безбожников СССР», не заподозрили в перебарщивании, можно добавить, что авторитетные дореволюционные историки, симпатизировавшие церкви, приходили к сходным выводам: Л. П, Рущинский, Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI — XVII веков, М., 1871, и С. Трегубое, Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев, Киев, 1884]..
В XIV-XV вв. русская церковь настолько глубоко ушла в светские дела, что продолжала следовать христианству лишь в самом примитивном магико-обрядовом смысле. Но даже и здесь ей было нелегко удержаться от соблазна пойти путем наименьшего сопротивления. Так, например, чтобы укоротить бесконечную службу, русские церкви и монастыри ввели обычай «многогласия», при котором несколько священников или монахов разом пели и читали следующие один за другим куски литургии, создавая этим настоящий бедлам.
Такая суетность вызвала в свое время неизбежную реакцию, которая имела поверхностное сходство с западной Реформацией, но была явлением sui generis и привела к совершенно иным последствиям.
Русские границы никогда не были запечатаны настолько герметически, насколько хотелось правительству, и в позднее средневековье иноземным реформаторским движениям удалось проникнуть в Московию. Одно, ересь стригольников, в середине XIV в. распространилось в Новгороде, который из всех русских городов имел теснейшие контакты с Западом. Об этом движении мало достоверных свидетельств, поскольку последователей его в конечном итоге истребили, а писания их сожгли, но оно представляется типичной протореформаторской ересью, сходной с учением альбигойцев. В своих уличных проповедях стригольники клеймили рукоположенных священнослужителей и монахов за их развращенность и суетность, отрицали большинство Таинств и требовали возврата к «апостольской» церкви. В 1470-х гг. в Новгороде появилась родственная ересь жидовствующих. Ее последователи также поносили церковь за пристрастие к мамоне, особенно за владение огромными земельными богатствами, и звали к опрощенной, более духовной вере. Ересь жидовствующих стала представлять для господствующей церкви немалую опасность, поскольку привлекла сторонников среди священников, близких к царю, и даже среди его близких родственников.
Однако самая серьезная угроза для правящей церкви зародилась в ее собственных рядах, среди людей, чья догматическая и обрядовая ортодоксия была вне всяких подозрений. В конце XV в. среди монахов, живших на горе Афон, центре православного иночества, пошли разговоры о неминуемом конце света. Некоторые монахи ушли из монастырей и приняли схиму. Они жили в большой простоте, молились, читали и предавались созерцанию. Это движение исихастов было ввезено в России монахом Нилом Сорским, побывавшим на Афонской горе. Около 1480 г. Нил ушел из своего монастыря и выкопал себе келейку в болотистой лесной чаще в верхнем течении Волги, где стал жить в одиночестве, молитвах и изучении Св. Писания и святоотеческих книг. Его примеру последовали другие монахи и стали селиться поблизости от его обители или дальше к северу. Поначалу «заволжские старцы», казалось, не представляли угрозы для правящей церкви, поскольку проповедуемая ими жизнь была слишком сурова, чтобы привлечь многочисленных приверженцев. Однако со временем Нил Сорский ввязался в полемику о принципе монастырского землевладения, и церковь после этого поразил кризис.
К концу XV в. притязания московской монархии на самодержавное владычество были вполне удовлетворены, и она уже не так остро нуждалась в мирских услугах церкви. Она даже стала плотоядно поглядывать на церковные владения, — умножению которых сама немало способствовала, — поскольку они не приносили ни податей, ни службы и могли бы быть использованы куда лучше, если б их можно было поделить на части и раздать в поместья. Иван III достаточно ясно выразил свое отношение к церковным имуществам, забрав большую их часть в покоренном Новгороде себе. Теплый прием, оказанный при его дворе жидовствующим, возможно, объяснялся отчасти активными нападками ереси на монастырские богатства. Сын Ивана Василий III стал придирчиво надзирать за монастырскими доходами и, бывало, запускал в них руку. Он, по всей видимости, издал какой-то указ, запрещающий монастырям прикупать землю без царского разрешения, поскольку данное в начале царствования Ивана IV (1535 г.) распоряжение на этот счет ссылалось на некий предыдущий закон. Многие бояре также симпатизировали идее церкви-бессеребренницы, отчасти чтоб отвлечь внимание монархии от своих собственных владений, отчасти чтоб помочь ей обзавестись новой землей для раздачи служилым людям. Есть подозрение, что либо царь, либо близкие ко двору бояре убедили пр. Нила покинуть свою лесную обитель и выступить с резким осуждением монастырского землевладения. Это случилось в 1503 г., когда пр. Нил неожиданно появился на соборе и призвал церковь отказаться от своих богатств и жить подаянием. Призыв его привел собравшихся в панику; синод единогласно отверг его предложение и в своем решении вновь подтвердил неделимость и святость церковных имуществ. Однако так легко от этого вопроса избавиться не удалось. Речь пр. Нила была лишь первым выстрелом в протянувшейся до середины XVI в. войне между двумя церковными партиями, окрещенными позднее нестяжателями и любостяжателями.
Тяжба эта развернулась в первую очередь не из-за политики; вопрос стоял о различных взглядах на церковь. Пр. Нил и другие заволжские старцы искали идеальной церкви, необремененной мирскими заботами и служащей духовным и нравственным путеводным огнем для темного и греховного мира. Одной из ведущих фигур в партии Нила Сорского был уроженец Корфу Михаил Триволис, известный на Руси под именем Максима Грека, учившийся в Италии, где он попал под влияние Савонаролы. Он приехал в Россию, чтобы помочь в переводе греческих книг, и пришел в ужас от падения нравов среди русского духовенства. Почему нет на Руси Самуилов, чтобы выступить против Саула, и Нафанов, чтобы высказать правду заблудшему Давиду, вопрошал он. И ответ, данный Курбским (а если не им, то тем, кто был автором посланий, приписываемых Курбскому Иваном IV), гласил: потому, что русское духовенство настолько поглощено своим мирским богатством, что «лежит неподвижно, ласкаясь всячески ко властям и угождая им, чтобы сохранить свое и приобрести еще большее». [Цит. в А. Павлов, Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Одесса, 1871, ч. I, стр. 84 сн.-85 сн]. В этом доводе слышалось недвусмысленное политическое заявление, а именно что только бедная церковь способна не склонить головы перед государем и послужить совестью народной. Консервативная партия любостяжателей, напротив, желала, чтобы церковь тесно сотрудничала с монархией и вместе с нею пеклась о сохранении в царстве истинно христианского духа. Для этого церкви нужны источники дохода, ибо лишь финансовая независимость даст духовенству простор для занятий мирскими делами. Каждая партия могла сослаться на исторический прецедент; первая указывала на обычаи раннего христианства, а вторая кивала на византийскую традицию. Монархия занимала в этом споре двусмысленную позицию. Она безусловно желала вновь заполучить церковные земли и с этой целью поначалу поощряла первую группу — нестяжателей. Однако она предпочитала политическую философию второй партии, согласно которой церковь является сотрудницей государства. Ссылки на Нафана и Самуила никак не могли прийтись по вкусу государям-вотчинникам, которые не хотели в своем царстве никаких независимых учреждений, а тем паче церкви, возомнившей себя совестью народной. В конечном итоге монархия умудрилась путем искусных маневров использовать обе партии: поначалу она поддерживала любостяжателей, а затем, избавившись с их помощью от сторонников независимой, духовной церкви, переменила курс и, приняв рекомендации поверженной партии нестяжателей, принялась секвестрировать церковные земли.
Вожаком и главным идеологом консерваторов был настоятель Волоколамского монастыря Иосиф. Монастырь его был весьма необычен и сильно отличался от всех подобных учреждений, существовавших тогда на Руси. Жизнь в нем строилась на принципе коммуны, в которой монахам не позволялось иметь частной собственности. Всем имуществом владел монастырь в целом. Братьям полагалось жить в монастыре и подчиняться строгому уставу, составленному настоятелем. Монастырь в Волоколамске владел собственностью и тем не менее не погряз в суете. Нововведения Иосифа показали, что можно совместить землевладение с предписываемыми церковью аскетическими привычками, и, что богатство не обязательно ведет к забвению нравственного долга, как утверждали заволжские старцы. Именно поэтому покоробленное ниловской речью духовенство обратилось к Иосифу в надежде, что он возглавит ответное наступление на Нила Сорского. В своей защите принципа монастырского землевладения Иосиф располагал одним мощным доводом. Согласно православному каноническому праву, приходским священникам полагается жениться, но епископу следует оставаться безбрачным, и это правило заставляет церковь назначать епископов из монашеской среды. Ссылаясь на это правило, Иосиф доказывал, что неразумно было бы требовать от монахов проводить все свое время в заработке хлеба насущного, ибо тогда у них не осталось бы времени на приобретение знаний и опыта, которые понадобятся им, если их призовут возглавить епархию. Такая практика была бы вредна еще и потому, что лучшие люди, а именно бояре, которых церковь широко использовала для управления монастырями и епархиями, стали бы обходить монастыри, если бы их заставили заниматься физическим трудом. Довод этот носил практический, почти бюрократический характер. Однако Иосиф не остановился на этом и поставил под сомнение движущие мотивы заволжских старцев. Он был ярым врагом жидовствующих ив своих проповедях призывал искоренить их огнем и мечом, даже не дав им покаяться. Нил Сорский со своими приверженцами ни в коей мере не симпатизировали этой ереси, но предпочитали отлучение от церкви смертному приговору. Иосиф использовал это более терпимое отношение нестяжателей, чтобы усомниться в их правоверности. В главном своем сочинении (сборнике произведений, составленном его учениками и неудачно озаглавленном «Просветитель») он громоздил друг на друга цитаты из Св. Писания и свято-отеческих книг в доказательство своих положений, перемежая аргументы фйлиппиками против жидовствующих и всех, кто относился к ним хоть с долей терпимости. По его мнению, русская церковь в своем тогдашнем виде была чистейшей и совершеннейшей на свете («русская земля ныне благочестием всех одоле»). [Цит. в Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, Сергиев посад, 1909, I, стр. 34]. Из этого взгляда следовало, что любая реформа нанесет ущерб религиозному облику страны и уменьшит шансы ее жителей на вечное спасение.
Иосиф подкреплял свои доводы безжалостными интригами при дворе, рассчитанными на то, чтоб восстановить царя против реформаторов и их сторонников среди придворных и бояр. Он был проповедником «воинствующей церкви» и в начале своего пути иногда ссорился с монархией, однако теперь, когда церковные владения оказались под угрозой, он сделался безудержным апологетом царского абсолютизма. Иосиф первым в России высказал идею о божественном происхождении царской власти и в своих доказательствах этого ссылался на авторитет Агапета, византийского писателя VI в., у которого позаимствовал центральный тезис своей политической теории: «Хотя Император в своем физическом бытии подобен другим людям, во власти [или должности] своей он подобен Богу». [Ihor Sevcenko, «A Neglected Byzantine Source of Muscovite Political Ideology», Harvard Slavic Studies (1954), II, pp. 141-79]. Чтобы заслужить царскую милость, он сделал в 1505 или 1506 г. шаг, которому не было прецедента в русской истории, — отказался со своим монастырем от покровительства местного удельного князя (который, между прочим, был его щедрым благодетелем), младшего брата Ивана III, и стал под личное попечительство Великого Князя. Так, искусно сочетая нападки на ересь с панегириками абсолютизму и постоянно напоминая монархии, насколько полезна для нее церковь, Иосиф сумел взять верх над заволжскими старцами. Небольшая группа пустынножителей, ратовавшая за духовную церковь, не могла тягаться с хитроумным настоятелем. После смерти Иосифа Волоцкого (1515 г.) главнейшие церковные должности были заняты членами его партии, и множество русских монастырей было реорганизовано по образцу обители в Волоколамске. Решающее событие в этом конфликте произошло в 1525 г., когда один из учеников Иосифа митрополит Даниил в нарушение канонического права позволил Василию III разойтись с бесплодной женой и снова вступить в брак и предложил взять царский грех, коли то вообще был грех, на свою совесть. С тех пор благодарный царь безоговорочно поддерживал иосифлян — до такой степени, что давал им сажать в темницу своих противников, в том числе и Максима Грека. Апогея своего влияния иосифлянская партия достигла при митрополите Макарии. Именно этот церковный деятель подал Ивану IV мысль венчаться на царство.
Опасения за свои имущества были, разумеется, не единственным мотивом, по которому русская церковь усиливалась создать мощную, неограниченную монархию. Были и другие сооображения: нужда в государственной поддержке для искоренения ересей, защиты православных, находившихся под мусульманским и католическим владычеством, и отобрания польско-литовских земель, некогда входивших в состав «Святой Руси». Угроза секуляризации была лишь наиболее насущным фактором, делавшим сотрудничество со светской властью особенно необходимым. Русская православная церковь традиционно склонялась в пользу сильной царской власти и в первой половине XVI в. поставила весь свой авторитет на сторону московской монархии, внушая ей амбиции, до которых та не могла додуматься сама. Вся идеология русского самодержавия была выработана священниками, по мнению которых интересам религии и церкви лучше всего смогла бы послужить монархия с неограниченной властью. Эта идеология складывалась из следующих главных компонентов:
1. Идея Третьего Рима. Рим Петра и Константина пал в наказание за ересь; Москва сделалась Третьим Римом и как таковая будет стоять вечно, ибо четвертому не бывать. Идея эта была сформулирована где-то в первой половине XVI в. псковским монахом Филофеем и стала неотъемлемой частью официальной политической теории Московской Руси. С нею было связано убеждение, что Русь есть безупречнейшее и благочестивейшее христианское царство на свете;
2. Идея империи. Московские государи являются наследниками императорской линии, ведущей в глубину веков к императору Августу. Их династия является древнейшей и потому досточтимейшей на свете. Укладывающаяся в эту схему генеалогия была разработана духовными лицами, трудившимися под началом митрополита Макария, и получила официальную санкцию в царской «Степенной Книге»;
3. Русские властители являются вселенскими христианскими государями, императорами всех православных мира, то есть обладают правом править ими и защищать их, а также, надо разуметь, правом ставить их под русскую власть. Об этом заявлялось не раз, в том числе на церковном соборе 1561 г. (см. выше, стр. #102). В иных сочинениях утверждали, что русский царь является государем всех христиан, а не только тех, кто исповедует православную веру;
4. Божественное происхождение царской власти. Вся власть от Бога, и царь, когда он стоит у кормила правления, подобен Богу. Церковь подвластна ему во всех вопросах, кроме догматических. Он является светским владыкой церкви, и духовенство обязано ему подчиняться. Эта теория была впервые высказана в России Иосифом Волоцким и подтверждалась потом несколькими церковными соборами, в том числе собором 1666 г.
Столь безоговорочно поставив свой авторитет на сторону самодержавия, церковь Достигла своих ближайших целей: она искоренила опасные ереси и сохранила (по крайней мере, на какое-то время) свои имущества. Однако победы эти дались ей ужасной ценой. Отказ провести проповедовавшиеся нестяжателями реформы имел отрицательные последствия двоякого рода: он все больше усиливал косность церковной жизни и приводил церковь во все возрастающую зависимость от государства. В первой половине XVI в. русская церковь по сути дела добровольно поставила себя под опеку светской власти. В этот судьбоносный момент церковной истории возглавители русской церкви избрали чрезвычайно близорукую политику. Результаты ее не заставили себя долго ждать, и церковное управление быстро попало в руки государственных органов. В XVI в. цари взяли в обычай назначать епископов и митрополитов, решать, кому участвовать в соборах, и вмешиваться в церковное судопроизводство: В 1521 г. Василий III сместил не угодившего ему митрополита — такое на Руси случилось впервые. Он также присваивал церковные деньги. К концу XVI в. от византийского идеала «симфонии» не осталось почти ни следа. Насколько раболепной сделалась церковь, видно из того, что она сама поддерживала правительственные меры, ограничивающие ее право на приобретение новой земли. Созванный в 1551 г. собор одобрил царские указы, запрещающие монастырям делать новые приобретения без царского дозволения (см. выше, стр. #302), а собор 1584 г. вновь их подтвердил. То были первые шаги к экспроприации церковных земель. В конечном итоге, русская церковь добровольно отказалась от автономии, однако эта уступка не спасла ее богатств.
Раскол, в 1660-х гг. разделивший русскую церковь надвое, представлял собою религиозный кризис, лишь стороною затронувшей вопрос об отношениях между церковью и государством. И все равно он оказал непреходящее влияние на политическое положение русской церкви. Приведшие к расколу реформы патриарха Никона оттолкнули от правящей церкви наиболее ревностные ее элементы и лишили ее большей части энтузиазма, который с тех пор устремлялся в движения религиозного иноверчества. Конечный результат был тот, что церковь попала в полную зависимость от государства. После раскола она нуждалась в мощной государственной поддержке для предотвращения массового бегства из своих рядов; сама по себе устоять на ногах она уже не могла. Даже консервативный историк эпохи Николая I M. П. Погодин признал, что не будь государственного запрета на выход из православия (в XIX в. переход в другую веру считался в России уголовным преступлением), половина крестьян перешла бы к раскольникам, а половина образованного общества обратилась бы в католичество. [Vladimir Soloviev L'idee russe (Paris 1888). стр 25].
Раскол произошел из-за реформ, которым подвергли русскую религиозную жизнь для приближения ее к греческой. Сравнивать русскую религиозную жизнь с ее греческим образцом начали в XVI в. и с особым рвением продолжили это занятие в первой половине XVII в. Эта сверка не оставила никакого сомнения в том, что в русской религиозной практике с годами обозначились серьезные отступления от этого образца; менее очевиден был вопрос о том, хороши или плохи эти несоответствия. Пуристы, возглавляемые Никоном, утверждали, что все отклонения от греческих прототипов представляют собою порчу, и посему от них должно избавиться. Под его руководством поправляли богослужебные книги и изменяли обряд. Консерваторы и националисты, к числу которых принадлежало большинство русского духовенства, доказывали, что русская церковь в своем тогдашнем виде была еще непорочнее и святее греческой, впавшей у них в немилость из-за своего согласия на соединение с Римом на Флорентийском соборе в 1439 г. После этого акта вероотступничества центр православия переместился в отвергшую унию Москву. Как сказал столетием ранее Волоцкий, Русь благочестием всех одолела, и всякая порча ее религиозной жизни навлекла бы на голову ее небесный гнев. Разделявший стороны вопрос был весьма серьезен для каждого в эпоху, когда все верили в бессмертие души и связывали спасение с неукоснительным выполнением религиозных обрядов. Посетивший Россию в 1699 г. австриец Корб (Korb) был несомненно прав, поместив во главе списка вещей, которых россияне «больше всего боятся», «изменение веры своих предков». [J. G. Korb, Diary of an Austrian Secretary of Legation at the Court of Czar Peter the Great (London 1863). II, p. 161].
Никон пользовался полным доверием царя Алексея Михайловича, человека крайне набожного, чья природная склонность поступать как положено усугублялась греческими прелатами, рисовавшими ему лестные картины возрождения под его началом Византийской империи. При его поддержке Никон внес немало изменений в обряды, ввел новое престолосложение, новую форму символа и иконописи. Он отменил многогласие, то есть обычай одновременного читания и пения разных частей литургии. Однако он пошел и дальше того, вознамерившись создать на Руси подлинное христианское общество путем подробного регламентирования повседневной жизни простого народа. Никон со своими сторонниками следили за соблюдением строгих правил поведения, запрещавших карточную игру, пьянство, сквернословие и распутство, и требовали, чтобы каждый россиянин проводил в церкви четыре-пять часов в день. Никон был настолько близок к царю Алексею, что, уезжая на войну, тот возлагал на патриарха ведение государственных дел. Благодаря дружбе с царем Никон смог восстановить на время равновесие между церковью и государством.
Никон был, однако, весьма тяжелым человеком, своевластным, бестактным и подчас очень жестоким. Сперва он своими реформами восстановил против себя широкие массы духовенства, а затем вызвал злобу виднейших царедворцев, раздраженных его повелительными манерами и тем, что он присвоил себе часть державной власти. При дворе против него строили козни, надеясь рассорить его с царем. Мало-помалу Алексея убедили, что патриарх и в самом деле переступил границы своих полномочий, как утверждали его недруги, и царь заметно охладел к Никону. В надежде повлиять на царя Никон ушел с патриаршества и отправился в монастырь. Но тут он не рассчитал, ибо царь обманул его ожидания и не явился молить о прощении; вместо этого он выжидал, ничего не предпринимал, а патриарший престол оставался незанятым.
В конце концов, Алексей созвал в 1666 г. церковный собор, на который пригласил видных церковных деятелей из Греции, чтобы разрешить его разногласия с Никоном и высказать свое мнение о его реформах. Защищаясь от выдвинутых против себя обвинений, Никон высказал новую (для православия) идею о главенстве церкви над государством:
Хочеши ли навыкнути, яко священство и самого царства честнейший и больший есть начальство ... царие помазуются от священническую руку, а не священники от царские руки... Царь здешним вверен есть, а аз небесным ... священство боле есть царства: священство от Бога есть, от священства же царства помазание.. Священство всюду пречестнейше есть царства... [Н. Ф. Каптерев, Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, Сергиев Посад, 1912, т II, стр. 181-3].
Никону не удалось убедить собор, который подтвердил традиционную идею «симфонии»; царь имеет право управлять всеми своими подданными, включая и духовенство, и церковной иерархии, вплоть до патриарха, следует подчиняться ему во всех вопросах, исключая догматические. В то же самое время собор поддержал никоновские реформы, приведшие русскую церковную жизнь в большую сообразность с греческой.
Решения синода по вопросам веры были отвергнуты немалой частью мирян (духовенство же быстро повиновалось). Почти сразу же от официальной церкви начали отпадать приходы, отказавшиеся принять требуемые изменения и предпочитавшие жить по-старому. В 1670-х гг. пошли слухи о приближающемся конце света, и верующие целыми общинами бежали в леса, ложились в гробы или сжигали себя живьем. Считают, что во время этого религиозного психоза самосожжение совершили по меньшей мере 20 тысяч человек. Иные фанатики-староверы даже поговаривали о том, чтобы спалить всю Россию.
Интенсивная религиозная жизнь в России начинается в массовом масштабе именно с раскола. Диссидентство, из-за своих анархических обертонов содержавшее большую привлекательность для крестьянства, заставляло каждого православного сделать выбор между официальной церковью и раскольниками и самим фактом такого выбора твердо занять определенную религиозную позицию. Те, кто решал присоединиться к расколу, должны были принять и множество других решений, касавшихся не только обряда, но и всего их жизненного поведения, и так шаг за шагом втягивались в религию более личного и духовного порядка. По мнению иностранцев, раскольники были единственными из русских православных, знакомыми со Св. Писанием и способными рассуждать на религиозные темы. Приверженность расколу обходилась недешево в смысле и денег и правительственных притеснений, которые иногда обращались в прямые преследования. Русских религиозных диссидентов обычно делят на две основные группы — староверов, называющих себя старообрядцами и зовущихся раскольниками официальной церковью, и сектантов. Первых особенно много в таежных районах; они отвергают никоновские реформы и придерживаются старых обрядов, но во всех прочих отношениях остаются вполне верны православию. Вторые более или менее сознательно отходят от догматики и обряда православной церкви и создают новые религиозные формы, которые иногда стоят ближе к раннему протестантизму, чем к православию. Они традиционно более многочисленны на Украине.
Для староверов реформы Никона отождествлялись с пришествием Антихриста. Путем каббалистических вычислений они заключили, что Антихрист придет в 1699 — 1700 гг., а конец света наступит тремя годами позже. Когда Петр в 1698 г. вернулся из заграничного путешествия и, вместо того, чтобы идти в церковь, принялся резать бороды и казнить взбунтовавшихся стрельцов, многие из которых были приверженцами раскола, могло показаться, что пророчество это сбывается. В это время множились самосожжения и прочие проявления mania religiosa. Когда конец света не наступил, перед староверами встал мучительный вопрос: как оставаться правоверными христианами в мире, которым правит антихрист? Наиболее острой виделась проблема священников и таинств. Староверы признавали, только священников, рукоположенных до никоновских реформ. Такие священники с самого начала составляли меньшинство, а теперь вымирали. Столкнувшись с этой сложностью, движение раскололось на две партии — поповцев и беспоповцев. Когда подходящих духовных лиц больше не осталось, приверженцы первой партии согласились принимать священников, рукоположенных официальной церковью, и в конце концов помирились с нею. Более радикально настроенные беспоповцы решили дело по-иному. Некоторые заключили, что раз воцарился антихрист, в посредниках между человеком и Богом нужды больше нет, и пусть теперь каждый христианин верит сам по себе. Другие совершали лишь те таинства, которые были открыты для мирян. У последних самая большая сложность касалась свадебного обряда, бесспорно таинства, требующего услуг лица, посвященного в духовный сан. Они выходили из этого затруднения либо вообще отрицая, что свадьба относится к таинствам, и совершая ее без священника, либо оставаясь безбрачными. Сторонники крайностей доказывали, что в мире, которым правит Антихрист, на христианах лежит обязанность грешить, поскольку это уменьшает общее количество разлитой в мире греховности. Они предавались свальному греху, часто в форме дохристианских обрядов, все еще сохранявшихся в деревне. Раскольники-беспоповцы, как и многие другие религиозные диссиденты, имели склонность метаться между аскезой и дионисийскими излишествами. Некоторые из них думали, что Наполеон есть мессия, пришедший избавить Россию от Антихриста, и поклонялись ему, в связи с чем в крестьянских избах XIX века можно было увидеть портрет французского императора , приколотый к стене рядом с иконами. Со временем беспоповцы выросли в числе за счет поповцев, которые постепенно слились с господствующей церковью. Царство их лежало в далеких северных лесах, на территории бывшей новгородской республики, в Карелии, по берегам Белого моря и в Сибири. Они объединялись в дисциплинированные общины со своим управлением и оказались отличными колонистами. После того, как Петр обложил их двойной подушной податью, многие староверы занялись торговлей и промышленностью и выказали на этих поприщах блестящие способности. Они пользовались репутацией самых честных дельцов в России.
Сектанты желали не столько отстоять старинные обычаи, сколько сформулировать новые ответы на религиозные вопросы. Сектантство было логическим порождением старообрядчества, особенно его более радикального беспоповского крыла. Из этого источника вышло большинство сект, хотя создается впечатление, что некоторые из них существовали прежде раскола и представляли собою возрождение ересей (наподобие учения жидовствующих), которые существовали подспудно со Средних веков и, как полагали, были давно искоренены. Общей чертой всех сект был отход от церковной традиции, книг и обрядов в поисках «духовного христианства», основанного на внутренней вере. За разрывом с официальной церковью должно было неизбежно последовать появление множества стихийных религиозных течений. Процесс этот отнюдь не завершен, поскольку современная русская печать то и дело сообщает об открытии каких-то новых сект. Большинство сект имеет эфемерный характер, вращается вокруг одного вожака, на которого было ниспослано наитие, и распадается после того, как он попадает в тюрьму или умирает. Некоторые секты, однако, достаточно прочно стоят на ногах. В число наиболее известных сект входят следующие.
Хлысты. По-видимому, слово это представляет собою искаженное «христы», ибо члены секты самобичеванием не занимались. Секта возникла, очевидно, в конце XVII в. в центральной черноземной полосе. Основная ее идея состоит в том, что Христос перевоплотился, вселившись в людей, которые сделались после этого «христами». Когда они умирают, дух этот переходит к другим. Многие подобные группы сложились под воздействием обуянных духами крестьян, бродивших по деревням и собиравших последователей. Сборища их сопровождались танцами и пением и часто вырождались в припадки массовой истерии. Хлысты иногда устраивали половые оргии. Они выступали против брака и предавались беспорядочным сношениям, которые называли «христовой любовью». Деятельность их подвергалась преследованиям, и хлысты исповедовали свою веру в большой тайне.
Крошечная секта скопцов представляла собою боковую ветвь хлыстовства, возникшую в конце XVIII в. Скопцы утверждали, что женщина, соблазнительная своею красотой, является главнейшей препоной на пути к спасению, и кастрировали себя, чтоб устоять против этого искушения.
Духоборы появились во второй половине XVIII в. и тоже, видимо, произошли от хлыстов. Богословские взгляды их были расплывчаты. Они учили, что душа была сотворена прежде тела. Иные согрешили до сотворения мира и были в наказание заброшены в материальный мир, не помня о том, что произошло до этого. Все обряды и учреждения суть продукты первородного греха. Духоборы также верили что Христос «вселяется» в людские души. С помощью Льва Толстого они эмигрировали в начале XX в. в Канаду, где отличились драматическими актами гражданского неповиновения.
Молокане составляли умеренную секту, отличавшуюся своим обычаем в постные дни употреблять в пищу молоко и молочные продукты.
Штундисты появились в XIX в. и умножились после освобождения крестьян. Они создавали кружки для изучения Библии. Баптизм, являющийся, по всей видимости, наиболее динамичным сектантским движением современной России, есть порождение штундизма. Во второй половине XIX в. штундизм и баптизм приобрели некоторое число приверженцев в образованных слоях Москвы и Петербурга.
Все эти движения и многие из мелких связанных с ними сект объединяются своей оппозицией государству и господствующей церкви. Политические взгляды их членов можно лучше всего определить как анархо-христианские. По этой причине, а также в связи с тем, что они отказываются подчиняться официальной церкви, сектанты в течение последовавшего за расколом столетия подвергались жестоким гонениям. В более веротерпимое царствование Екатерины II государство оставило их в покое, однако при Николае I притеснения возобновились, и на разрушение сектантских прибежищ (особенно обителей более радикальных сект) посылались военные экспедиции. И тем не менее диссидентство продолжало обрастать сторонниками. Статистика по русским религиозным диссидентам пользуется дурной славой из-за своей недостоверности, поскольку царское правительство, стараясь приуменьшить число беглецов из официальной церкви, искажало относящиеся к сектанству данные переписей в 5-30 раз. Согласно переписи 1897 г., число староверов и сектантов составляло 2 миллиона человек, тогда как есть основания полагать, что на самом деле оно было ближе к 20 миллионам. Ученые подсчитали, что число диссидентов составляло 9-10 миллионов в 1860-х гг., от 12 до 15 миллионов в 1880-х гг., и около 25 миллионов (среди них 19 млн. староверов и 6 млн. сектантов) — в 1917 г. [Подсчеты взяты из: П. И. Мельников [Печерский]. Полное собрание сочинений, СПб., М.. 1898, XIV, стр. 379— 94; F С. Conybeare, Russian Dissenters (Cambridge, Mass. 1921), pp. 245-9; и П..Н. Милюков, Очерки по истории русской культуры. II. ч. I, Париж, 1931, стр. 153-5]. Эти данные показывают, что неофициальные церкви более чем успешно поспевали за приростом населения.
Раскол явился бедствием для русской православной церкви, ибо увел за собою ее наиболее крепких в вере приверженцев и еще более, чем когда-либо, отдал ее на милость государства. «После Никона в России больше не было церкви, там была религия государства. Отсюда оставался один лишь шаг до государственной религии. Государственная религия была введена властью, которая в 1917 г заменила власть императоров». [Pierre Pascal, Avvakum et les debuts du raskol (Paris 1938), стр. 574].
Хотя русская церковь была в большой степени слита с государственным аппаратом и находилась в подчинении у монархии, до Петра Великого она все еще сохраняла кое-какие черты отдельного института и подобие автономии. Византийский принцип «симфонии», вновь утвержденный на соборе 1666 г., все еще теоретически оставался в силе. Церковь стояла отдельно от государства, имела патриарха, свои административные, судебные и налоговые органы и свои владения, обитателей которых она облагала податями и судила. Петр покончил с этим полуавтономным статусом, упразднив патриархию, превратив ее ведомства в филиалы органов светской администрации, отменив ее судебные иммунитеты и, быть может, самое важное, конфисковав ее доходы. После петровского царствования русская церковь оказалась всего-навсего одним из подразделений гражданской администрации. Coup de grace был нанесен жертве, которая и так дышала на ладан, и поэтому почти не дернулась: протестов не было — было одно лишь безмолвное повиновение. Ни одна церковь христианского мира не дала себя секуляризовать с таким равнодушием, с каким это сделала церковь русская. Петр сильно недолюбливал православную церковь, а в особенности ее великорусское ответвление; он больше предпочитал украинское и тем паче протестантское духовенство. Он был недоволен тем, что в силу привилегий, пожалованных духовным лицам в Средние века, десятки тысяч их избегают податей и государственной службы и в то же время прибирают к рукам добрую часть богатства страны в форме барщины и оброка. Он смотрел на них как на тунеядцев. Его враждебность по отношении к церкви усугублялась тем, что она оказала поддержку его сыну царевичу Алексею. Поэтому он в любом случае был настроен урезать ее привилегии. Но его еще подтолкнули к тому соображения налогового характера, игравшие столь решающую роль во всех его реформах. При вступлении Петра на престол церковь все еще была богата, несмотря на неоднократные запрещения приобретать новые земли. В служилом сословии крепко укоренился обычай не забывать церковь в своих завещаниях, да и сами цари продолжали делать щедрые подарки своим излюбленным монастырям уже после того, как запретили это помещикам. Из-за стремительной русской экспансии процент национального богатства во владении духовенства уменьшился, однако в абсолютных цифрах оно оставалось весьма значительным: подсчитано, что при воцарении Петра оно имело 750 тысяч крестьян из общего числа в 12-13 миллионов.
Уже в 1696 г. Петр принялся ущемлять право приходского и монастырского духовенства нестесненно распоряжаться доходами от церковных имуществ. Четыре года спустя, после смерти патриарха Адриана, он воспользовался образовавшейся вакансией, чтобы упразднить всю отдельную церковную администрацию. Вместо того, чтобы назначить преемника Адриану, он подобрал местоблюстителя, ученого, но бесхребетного украинского священника Стефана Яворского. Петр передал реальное управление церковными имуществами и прочими мирскими делами Монастырскому Приказу, поручив ему администрацию, судопроизводство и налогообложение в церковных вотчинах. Церковное имущество секуляризовано не было, однако было до такой степени вписано в общую административную структуру государства, что когда полвека спустя произошла настоящая секуляризация, она выглядела уже простой формальностью. Начиная с 1701 г. утвердился принцип, что монастырям положено отдавать в казну все свои доходы в обмен на установленное жалованье (хотя принцип этот, как и любая иная линия правительственной политики, проводился в жизнь не слишком регулярно).
Кульминационной точкой церковной политики Петра явился «Духовный регламент», подготовленный под личным надзором императора и изданный в 1721 г.. Он в мельчайших подробностях регламентировал деятельность приходского и монастырского духовенства, указывая, что ему можно делать, чего нельзя, и даже — что оно обязано делать. «Регламент» явился воистину бюрократической конституцией русской церкви. К числу важнейших его положений относилось упразднение патриаршего поста, пустовавшего с 1700 г., и замена его бюрократическим органом, сперва называвшимся «Духовной Коллегией», а позднее «Святейшим Правительствующим Синодом». Святейший Синод был ничем иным, как министерством по делам религии. Глава его, именовавшийся Обер-Прокурором, не обязательно должен был являться лицом духовного звания и в XVIII в. обыкновенно был из военных. До 1917 г. на Синоде лежала вся ответственность за управление русской церковью. С его учреждением церковь перестала существовать как самостоятельный институт и официально слилась с государственным аппаратом.
Из некоторых обязанностей, наложенных «Регламентом» на духовенство, видно, насколько политизирована была церковь при Петре. Рукоположенным священникам полагалось давать присягу, в которой они обещали «все к высокому Его Царского Величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права, и прерогативы (или преимущества), узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе возможности предостерегать, и оборонять, и в том живота своего в потребном случае не щадить». В присяге, дававшейся членами Духовной Коллегии (потом Св. Синода), содержались следующие слова: «Клянуся же Богом живым ... Ея Величеству, Государыне Царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть». [Полное Собрание Законов Российской Империи с 1649 г.. СПб., 1830, т. VI, стр. 315].
Помимо этого общего обязательства, приходские священники должны были поклясться, что сразу же сообщат властям любые сведения о покусительстве на интересы императора или его государства, даже если оные сведения получены на исповеди:
Если на исповеди кто-либо откроет священнику пусть и не совершенное, но уже задуманное преступное деяние, особенно измену или бунт против Самодержца или Государства, или злой умысел против чести или здравия Государя и семейства его Величества ... исповеднику должно не только отпустить ему грехи, в которых он открыто исповедался ... но и незамедлительно донести о нем в специально обозначенное для сего место в согласии с личным указом Его Императорского Величества ... в силу чего, за слова, затрагивающие высокую честь Его Императорского Величества и наносящие ущерб Государству, сии злоумышленники должны быть незамедлительно схвачены и препровождены в назначенные места. [Полное Собрание Законов Российской Империи с 1649 г., СПб., 1830, т VI, стр. 701].
После издания «Регламента» русские священники регулярно сотрудничали с полицией. К примеру, в конце петровского царствования, когда правительство готовилось ввести подушную подать и пыталось провести для этого перепись населения, сельским священникам было поручено под страхом беспощадной порки и ссылки в Сибирь содействовать отысканию уклоняющихся от переписи. В XIX в. считалось, что доносы на политических инакомыслов входят в число стандартных обязанностей священника.
Поразителен не только сам факт издания «Духовного регламента», но и то, что он не встретил никакого сопротивления. Петр просто разослал своим прелатам копни этого документа и приказал, чтоб они его подписали; те в должное время повиновались, хотя ведь для них должно было быть очевидно, что этим они решали судьбу своей церкви. Данных об активном сопротивлении (подобно тому, какое часто имело место во время раскола, когда речь шла о судьбе обряда) «Регламенту» нет. Из всего этого напрашивается вывод, что самой важной стороной для русской церкви был ее магический элемент, и, поскольку Петру не было дела до литургии, таинств и прочих ее обрядов, во всех иных вопросах церковь готова была ему повиноваться.
В свете этого не удивительно, что экспроприация церковных имуществ также не столкнулась с каким-либо сопротивлением. Проведена она была в 1762 г. Петром III, повелевшим слить все церковные и монастырские земли с государственными владениями. Два года спустя Екатерина II подтвердила этот указ. Примерно миллион сидевших на церковных землях крестьян перешел тогда (в 1767 г.) в руки государства, а приходское и монастырское духовенство было переведено на казенное жалованье. Из нескольких миллионов рублей годового дохода, получаемого с тех пор монархией с секуляризованных церковных имуществ, она возвращала духовенству около 400 тысяч, а разницу оставляла себе. Было приказано закрыть безземельные монастыри, не приносящие государству дохода, вследствие чего общее их число в России уменьшилось вдвое — из 954 действующих монастырей в 1764 г. были закрыты 569. Но правительственные средства ассигновались отнюдь не всем оставшимся монастырям: из 385 переживших секуляризацию монастырей лишь 161 получал деньги от государства, а остальным 224 приходилось кормиться самим по себе. Эти меры тоже не встретили сопротивления. В Западной Европе секуляризация церковных земель явилась, возможно, наиболее мощным двигателем Реформации, а в России она была проведена так же спокойно, как простая бухгалтерская операция.
Приняв на себя оплату духовенства, государство должно было позаботиться о том, чтобы число состоящих у него на жалованьи лиц не разбухало за счет самозванцев или священников, рукоположенных в сан, но сидящих без дела за отсутствием прихода. Теперь правительство взялось составлять штаты для церковных назначений наподобие списков, заведенных для гражданской службы. По приказу Петра I «излишние» (то есть не имеющие приходов) священники должны были призываться в армию, либо переводиться в податное сословие. Однако в XVIII в. этот принцип нестрого проводился в жизнь за нехваткой необходимого персонала. Лишь в 1860-х гг. были составлены штаты духовных лиц, и государство добилось, чтобы число получающих жалованье священников соответствовало числу действующих приходов. Екатерина II сделала еще один шаг к полному включению духовенства в государственную бюрократию, повелев в 1790-х гг. совместить границы епархий с границами губернской администрации, чтобы облегчить губернаторам контроль над церковью. В результате всех этих мер в XVIII в. русское духовенство было превращено в близкое подобие чиновничества.
Быть может, православной церкви удалось бы поправить свое положение, имей она на своей стороне массы населения. Но это, однако, было совсем не так. Крестьяне, по-настоящему, не поверхностно, увлеченные верой, тянулись больше к староверам и сектантам. Образованные классы либо вообще не проявляли к церкви интереса, либо склонялись к иноземным религиям, особенно светского (идеологического) сорта, где суррогатом Бога выступала история. Православная церковь никогда не находила общего языка с образованными людьми, поскольку ее консервативное мировоззрение придавало ей ярко выраженную антиинтеллектуальность. Исходя из средневековой русской посылки, что «всем страстей мати — мнение», и что «мнение — матерь падения», она проявляла небольшой интерес даже к своей собственной идеологии, обращаясь к ней в основном лишь тогда, когда приходилось отбиваться от еретиков или иностранцев. Она встречала все попытки вдохнуть в нее новую жизнь с инстинктивной подозрительностью, переходившей во враждебность и сопровождавшейся подчас доносами властям и отлучением. Так происходило всегда, когда ей мнилось, что о ее догматах и обрядности высказывают независимые суждения. Она оттолкнула от себя одного за другим лучших религиозных мыслителей страны — славянофилов, Владимира Соловьева, Льва Толстого и мирян, объединившихся в начале 1890-х гг. вокруг «Религиозно-философического общества». Она также мало заботилась о просвещении своей паствы. Православная церковь впервые сколько-нибудь серьезно занялась начальным образованием лишь в 1860-х гг., да и то по приказу правительства, встревоженного влиянием интеллигенции на массы.
Абсурдно было бы отрицать, что в эпоху империи многие россияне, от самых образованных до неграмотных, искали и обретали утешение в церкви и что даже среди раболепствующего перед государством духовенства встречались люди высочайшего нравственного и интеллектуального калибра. Даже в своей испорченной форме русская церковь предоставляла освобождение от жизненных невзгод. Однако в целом церковь императорского периода великой популярностью не пользовалась и утрачивала остатки той популярности, которая у нее некогда была. Во времена Котошихина, в середине XVII в., дворяне и бояре обыкновенно держали за свой счет домашние часовни и одного или нескольких священников. Но уже столетие спустя, в царствование Екатерины II, английский путешественник с удивлением отмечал, что за пять месяцев своего пребывания в Петербурге он ни разу не видел священника ни при ком из дворян. [О России в царствование Алексея Михайловича, сочинение Григорья Котошихина, 4-е изд., СПб., 1906, стр. 147; William Soxe, Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark (Dublin 1784), II, p. 330]. Другие иноземные путешественники императорской эпохи оставили подобные же свидетельства. Растущая изоляция духовенства от элиты объясняется несколькими причинами. Одна из них связана с . петровским законом, воспрещающим строительство семейных церквей и содержание домашних священников. Другая заключалась в ширящемся разрыве между даваемом высшему классу европеизированным, светским образованием и тем обучением, которое можно было получить даже в самых лучших семинариях. Свою роль сыграли и классовые различия. Строгий запрет на вступление дворян в духовное сословие, наложенный московским правительством и усугубленный петровским законодательством, не дал образоваться в России такому кровному родству между знатью и высшими слоями духовенства, какое обычно существовало в Западной Европе. Русское духовенство в подавляющем большинстве своем происходило из простолюдинов, часто из самых низших классов, и в культурном и социальном отношении стояло близко к городской мелкой буржуазии. Кажется, что персонажи, населяющие романы Лескова — бытописателя русского духовенства, живут в каком-то своем мирке, еще больше отрезанном от внешнего мира, чем обитающие в «темном царстве» купцы. До самого конца императорского режима они оставались обособленной кастой, ходили в свои школы, женились на дочерях лиц духовного звания и отдавали своих отпрысков в священники. Даже в начале XX в., когда русские миряне могли принимать духовный сан, они делали это крайне редко. Обедневшее, изолированное и отождествлявшееся с самодержавием духовенство не пользовалось ни любовью, ни уважением; его в лучшем случае терпели.
Чего можно было реалистически ожидать от русской церкви? Из-за своей консервативной философии и традиционной зависимости от государственной власти она никак не могла выступать в качестве либерализующей силы. Но она могла сделать два важных дела. Прежде всего, она могла отстоять принцип сосуществования светской и духовной власти, выдвинутый в Евангелии от Матфея (22:16-22) и подробно разработанный в теории Византийской церкви. Сделав это, она добилась бы верховной власти над духовным миром страны и одним этим несколько ограничила бы светскую власть. Не совершив этого, она позволила государству претендовать на власть как над телом человека, так и над его умом, и таким образом сильно способствовала уродливому разбуханию светской власти в России в то время и даже более того в последующую эпоху.
Во-вторых, она могла бы с гордо поднятой головой завязать борьбу за самые элементарные христианские ценности. Ей следовало бы протестовать против введения и распространения крепостного права, находившегося в таком противоречии с христианской этикой. Ей следовало бы заклеймить преследования граждан светскими властями. Однако она не сделала ни того, ни другого (за исключением изолированных случаев) и вела себя так, как будто ей не было дела до восстановления попранной справедливости. Ни одна ветвь христианства не относилась с таким равнодушием к проявлениям социальной и политической несправедливости. Можно вполне солидаризироваться со словами Александра Солженицына о том, что русская история была бы в последние несколько столетий несравнимо человечней и гармоничней, если бы русская церковь не поступилась бы своей независимостью и продолжала бы взывать к народу, как она делает, например, в Польше. [New York Times, 23 March 1972, p. 6]. В конечном итоге политика русской православной церкви не только дискредитировала ее в глазах всех, кто дорожил социальной и политической справедливостью, но и произвела духовный вакуум, заполненный светскими идеологами, стремящимися создать в этом мире рай, который христианство обещало в мире ином.
III ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА
ГЛАВА 10. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров.
Виссарион Белинский, «Письмо к Гоголю» (1847 г.)Из представленного выше анализа отношений между государством и обществом в России до 1900 г. следует вывод, что ни одна из экономических и общественных групп, составлявших старый режим, не могла или не хотела выступить против монархии и поставить под сомнение ее монополию на политическую власть. Они не были в состоянии сделать это по той причине, что, проводя в жизнь вотчинный принцип, то есть поступая с территорией империи как со своей собственностью, а с ее населением — как со своими слугами, монархия предотвращала складывание независимых очагов богатства и власти. И они не хотели этого делать, поскольку при таком строе монархия была важнейшим источником материальных благ, и каждая из этих групп была посему весьма склонна пресмыкаться перед нею. Дворяне рассчитывали, что самодержавие будет держать крестьян в ежовых рукавицах, завоюет новые земли для раздачи им в поместья и оградит их разнообразные привилегии; купцы ожидали от монархии лицензий, монополий и высоких тарифов для защиты своих малопроизводительных предприятий; духовенство же могло уповать лишь на монархию для ограждения своих земельных владений, а после их отобрания — для получение субсидий и удержания своей паствы от перехода на чужую сторону. В преобладающих в России неблагоприятных хозяйственных условиях группы населения, стремившиеся подняться над уровнем экономического прозябания, располагали для этого единственным средством — сотрудничеством с государствам, что подразумевало отказ от всяких политических амбиций. На всем протяжении русской истории «частное богатство появлялось и рассматривалось как следствие милости правительства, как правительственная награда за благонравие политического поведения. Смирением, а не в борьбе приобретались частные крупные богатства и дворян, и буржуазии. Ценою полного политического обезличивания поднимались и дворяне, и промышленники к вершине богатства». [П. А. Берлин, Русская буржуазия в старое и новое время, М., 1922, стр. 169]. Нищая мужицкая масса также предпочитала абсолютизм любой другой форме правления. Она желала превыше всего добраться до земли, еще не находящейся в крестьянских руках, и возлагала свои надежды на того самого царя, который в 1762 г. пожаловал личные вольности ее господам, а спустя 99 лет и ей самой. Разорившиеся дворяне, масса мелких торговцев и подавляющее большинство крестьян видели в конституции и парламенте мошенническую проделку, с помощью которой богатые и влиятельные слои стремятся завладеть государственным аппаратом в своих собственных интересах. Таким образом, все располагало к консерватизму и оцепенению.
Помимо хозяйственных и социальных «групп интересов» (interest groups), был еще один потенциальный источник сопротивления абсолютизму, а именно региональные группировки. Явление это безусловно существовало в России и даже пользовалось кое-каким конституционным признанием. Правительства Московии и Российской Империи обычно не торопились ломать административный аппарат, имевшийся на завоеванных территориях. Как правило, они предпочитали оставлять все более или менее по-старому, по крайней мере на какое-то время, и удовольствовались перенесением в Москву или Петербург лишь центрального управления. В разные периоды в России существовали районы с самоуправлением, над которыми бюрократия осуществляла только номинальный контроль. В царствование Александра I, когда территориальная децентрализация достигла наивысшей точки, обширные области империи обладали хартиями, которые давали их обитателям гораздо большую свободу политического самовыражения, чем в любой части собственной России. При этом государе Финляндия и Польша имели конституцию и национальные парламенты, обладавшие законодательной властью в своих внутренних делах. Курляндия и Ливония управлялись в соответствии с грамотами, первоначально данными шведами, затем подтвержденными Петром I и практически обеспечивавшими этим провинциям самоуправление. К кочевникам Сибири и Средней Азии относились весьма либерально, и постороннего вмешательства в их жизнь почти не было. Евреи также пользовались в черте оседлости автономией через посредство своих религиозных общинных организаций, называвшихся кагалами. Однако если разобраться в том, какие обстоятельства вызвали эти исключения из господствующего в стране централизма, то окажется, что, как правило, решающей причиной их было не признание за нерусскими национальностями некоего «права» на самоуправление, а административное благоразумие и нехватка персонала. На протяжении всей своей истории русская империя развивалась в направлении, диаметрально противоположном ходу эволюции Англии и Америки, неуклонно тяготея к централизму и бюрократизации. По мере роста правительственных органов автономия меньшинств и их территория под тем или иным предлогом урезались, так что к началу XX в. от этой автономии почти ничего не осталось. Польская конституция была отменена в 1831 г., а действие финской было практически приостановлено в 1899 г.; хартии Курляндии и Ливонии были основательно выхолощены, а азиатских кочевников и евреев полностью подчинили русским губернаторам. Накануне революции 1917 г. лишь среднеазиатские протектораты Хива и Бухара все еще сохраняли автономный статус, но их ликвидировали и включили в состав России сразу же после того, как в этом районе пришло к власти новое, коммунистическое правительство.
Коли дело обстояло так, то политическая оппозиция, если ей вообще было суждено появиться на свет, должна была зародиться не среди тех, кого социологи называют «группами интересов». Ни одна из социальных групп в России не была заинтересована в либерализации: она означала бы утрату привилегий для элиты и разбила бы надежды крестьянской массы на всероссийский «черный предел». На всем протяжении русской истории «группы интересов» боролись с другими «группами интересов», и никогда — с государством. Стремление к переменам должно было вдохновляться не личным интересом какой-то группы, а более просвещенными, дальновидными и великодушными мотивами, такими как чувство патриотизма, справедливости и самоуважения. Действительно, именно поскольку погоня за материальными благами столь сильно отождествлялась со старым режимом и раболепием перед государством, любой нарождающейся оппозиции следовало начисто отмести своекорыстие, ей надлежало быть — или хотя бы выглядеть — абсолютно бескорыстной. Поэтому вышло так, что борьба за политические вольности с самого начала велась в России точно в том духе, в каком, по мнению Берка (Burke), вести ее никогда не следует,— во имя абстрактных идеалов.
Хотя обычно считают, — что слово «интеллигенщия» — русского происхождения, на самом деле его этимологические корни лежат в Западной Европе. Это неуклюжая латинизированная адаптация французского intelligence и немецкого Intelligenz, которыми стали пользоваться на Западе в первой половине XIX в. для обозначения образованных, просвещенных, «прогрессивных» элементов общества. Например, в дебатах австрийского и немецкого революционного парламента в феврале 1849 г. консервативные депутаты называли термином die Intelligenz ту социальную группу (в основном городские и образованные слои), которая в силу своей выдающейся гражданственности заслуживала непропорционально высокого парламентского представительства. [Otto Mueiler, Intelligentcija: Untersuchungen zur Geschichle eienes politischen Schlagwortes (Frankfurt 1971); Richard Pipes, «'Intelligentsia' from the German 'Intelligenz'»? a Note», Slavic Review, Vol. XXX, No. 3 (September 1971), pp. 615-18]. Это слово появилось в русском словаре в 1860-х гг. и к 1870-м гг. уже не сходило с языка, сделавшись центром немалой части политических дискуссий своего времени.
К сожалению, термин «интеллигенция» не поддается точному и повсеместно признаваемому определению. Как и у многих других терминов русской истории (например, «боярин», «дворянин», «мужик», «тягло»), у него по крайней мере два значения, одно широкое и другое — узкое. В широком — и более старом — своем смысле он относится к той части образованного класса, которая занимает видное общественное положение и немало напоминает тех, кого французы зовут les notables. Ранний пример такого словоупотребления встречается в тургеневской «Странной истории», написанной в 1869 г.: приехавшего в провинциальный городок героя приглашают на прием, где, как ему объясняют, будут городской врач, учитель и «вся интеллигенция». Такая широкая дефиниция постепенно вышла из употребления, но была воскрешена после 1917 г. коммунистическим режимом. Он не в состоянии принять понятие интеллигенции как особой социальной категории, ибо оно не укладывается в марксистскую классовую схему, однако не может и выкинуть его из русской речи и рассматривает «интеллигенцию» как профессиональную категорию, обозначающую тех, кого на Западе назвали бы «белыми воротничками». В силу такого определения председатель КГБ и академик Сахаров оба являются представителями «советской интеллигенции».
Узкое значение термина имеет более сложную историю. Почти так же, как произошло со словом «либерализм» в английском языке, термин «интеллигенция» со временем утратил свои описательные, объективные свойства и приобрел нормативный и субъективный характер. В 1870-х гг. молодые люди, обладавшие радикальными философскими, политическими и общественными взглядами, стали утверждать, что право носить титул интеллигентов принадлежит им, и им одним. Поначалу те, кого настолько узкая дефиниция оставила бы за дверями прогрессивного общества, не согласились с таким подходом. Однако к 1890-м гг. русскому человеку уже мало было иметь образование и участвовать в общественной жизни, чтобы удостоиться этого звания. Теперь он должен был стойко выступать против всего политического и экономического склада старого режима и быть готовым принять активное участие в борьбе за его свержение. Иными словами, принадлежать к интеллигенции значило быть революционером.
Одновременное использование одного и того же слова для выражения двух весьма разных понятий привело к великой сумятице. В 1909 г. группа либеральных интеллигентов, часть которых в прошлом принадлежала к социал-демократам, опубликовала сборник «Вехи», в котором подвергла русскую интеллигенцию резкой критике за отсутствие чувства политической реальности, безрелигиозность, дурные нравы, верхоглядство и прочие прегрешения. Читатели, без сомнения, знали, о ком идет речь. И тем не менее, в глазах правительства и его сторонников авторы сборника сами определенно были интеллигентами.
Столкнувшись с таким положением, историк должен занять определенную позицию; безусловно, будет ошибкой принять узкое определение интеллигенции, на котором настаивало ее радикальное крыло. К борьбе против самодержавия присоединилось множество людей, исходивших из либеральных и даже консервативных принципов и целиком отвергавших революционную идеологию. Исключить их значило бы исказить историю. От широкого определения, охватывающего всю группу работников умственного труда, толку и того меньше, потому что оно ничего не говорит о тех политических и общественных воззрениях, которые именно и отделяли тех, кто осознавал себя интеллигенцией, от остальной массы населения. Мы воспользуемся дефиницией, лежащей где-то между двумя вышеозначенными определениями. Мерилом здесь является приверженность общественному благу: интеллигент — это тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучием, а хотя бы в равной, но предпочтительно и в большей степени печется о процветании всего общества и готов в меру своих сил потрудиться на его благо. По условиям такого определения, образовательный уровень и классовое положение играют подчиненную роль. Хотя образованный и обеспеченный человек, естественно, лучше может разобраться в том, что же не так в его стране, и поступать сообразно с этим, совсем не обязательно, что ему придет охота это сделать. В то же самое время простой, полуграмотный рабочий человек, пытающийся разобраться в том, как действует его общество, и трудящийся на его благо, вполне отвечает определению интеллигента. Именно в этом смысле в конце XIX в. в России говорили о «рабочей интеллигенции» и даже о «крестьянской интеллигенции». [«Рабочая интеллигенция» описывается в моей книге Social Democracy and the St Petersburg Labor Movement, 1885-1897 (Cambridge, Mass. 1963); а «крестьянская интеллигенция» (в основном бывшие крепостные, занявшиеся свободными профессиями) — в Е С. Коц. Крепостная интеллигенция. Л.. 1926].
Интеллигенция в таком определении появляется везде, где существует значительное несоответствие между теми, в чьих руках находится политическая и экономическая власть, и теми, кто представляет (или считает, что представляет) общественное мнение. Она сильнее и настойчивее в тех странах, где авторитарное правительство сталкивается с восприимчивой к новым идеям образованной элитой. Здесь возможность и желание действия вступают между собой в острый конфликт, и интеллигенция кристаллизуется в государство в государстве. В деспотиях традиционного типа, где отсутствует многочисленная образованная публика, и в правильно функционирующих демократиях, где идеи могут быстро воплощаться в политике, интеллигенция скорее всего не складывается. [Если, конечно, какая-нибудь часть образованного меньшинства не вообразит, что она лучше всех знает, в чем состоит народное благо. Тогда она может игнорировать результаты выборов по тем соображениям, что а) они не дают народу «настоящей» свободы выбора, 6) избирательный процесс подвергся манипуляции, или, когда не помогают другие доводы, в) массам устроили промывание мозгов, и они голосуют против своих собственных интересов.].
Неизбежно было, что в России эпохи империи рано или поздно появится интеллигенция. А принимая во внимание неизменное вотчинное отношение монархии ко всем вопросам политической власти, было столь же очевидно, (что борьба между интеллигенцией и режимом выльется в войну на взаимное уничтожение.
Наверное, на Руси испокон веку были недовольные, однако самым ранним политическим вольномыслом, о котором имеются документальные свидетельства, был князь И. А. Хворостинин, живший в начале XVII в. На этого аристократа донесли властям, что он не соблюдает православного обряда, держит у себя в библиотеке латинские книги, зовет царя деспотом и сетует, что «на Москве людей нет, все люд глупый, жить тебе не с кем». Он бил челом, чтоб ему позволили уехать в Литву, в чем ему отказали, и кончил высылкой в далекий северный монастырь. [С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, т. V, М., 1961, стр. 331-2]. Хворостинин был типичным инакомыслом доинтеллигентской эры, пребывал в полной изоляции и обречен был умереть, не наложив ни малейшего отпечатка на ход событий. Думающие люди в ту раннюю пору не составляли ни силы, ни движения. В служебном режиме XVII — начала XVIII вв. недовольство было prima facie доказательством бунта и посему вынуждено было ограничиваться частными разговорами.
Чтобы в России могло существовать общественное мнение, правительству надо было прежде всего признать правомочность общественной деятельности, независимой от его поощрения или дозволения. Это случилось лишь с облегчением условий государственной службы, произошедшим после смерти Петра. В 1730-х и пуще того в 1740-х и 1750-х гг. дворянам делалось все легче заниматься своими частными делами, одновременно находясь номинально на государственной службе. Теперь вполне нетрудно было добиться длительного отпуска и даже выйти в отставку, едва достигнув зрелого возраста. Так, безо всякого формального законодательства, стал складываться «праздный класс» (leisure class). Даже дворяне, служившие в войсках, стали находить время для невоенных занятий. Например, курс подготовки в Благородном Кадетском Корпусе, основанном в 1731 г. (см. стр. #178), был настолько ненапряженен, что учившиеся в нем молодые дворяне располагали большим количеством свободного времени, дабы развлекать себя театральными постановками и поэзией. Основоположники русского театра А. П. Сумароков и М. М. Херасков принялись за литературное творчество, будучи кадетами, и написали некоторые из своих наиболее значительных сочинении в стенах этого на первый взгляд чисто военного заведения. Литература сделалась в середине XVIII в. первым видом свободной деятельности, который стало терпеть русское правительство. Уровень этого сочинительства был невысок, и большая часть публикуемых произведений представляла собою подражание западным образцам. Однако значение этой литературы было не эстетическим, а политическим: «Важно то, что литература оторвалась от правительства, что высказывание художественного слова перестало быть официальным. Носители литературы стали отличать себя, свое сознание и цели своей деятельности от сознания, деятельности и целей власти». [Г. Гуковский, Очерки по истории русской литературы XVIII века, М.-Л., 1936, стр 18]. Так в некогда монолитной, вотчинной структуре образовалась первая трещинка. Литература сделалась первым занятием, никак не обслуживающим интересы государя, но тем не менее разрешенным членам царского служилого сословия. Она так и не уронила этого своего неповторимого положения. С тех самых пор литература остается в России частным миром, подчиненным иным властителям и иным законам.
Судьба этой тенденции зависела от дальнейшего ослабления служебных повинностей. Освободив дворян от обязательной службы, манифест 1762 г. распахнул шлюзы умственной деятельности. Он одновременно позволил профессиональное занятие литературой и создал читательский круг для профессионального литератора. Малая часть отставных дворян читала книги, а кто читал, довольствовался французскими романами, обыкновенно покупаемыми на вес. Однако стала складываться привычка хотя бы к развлекательному чтению. Расцвет русской литературы в XIX в. был бы невозможен без закона 1762 г. и чувства личной безопасности, обретенного высшим дворянским слоем в благодатное царствование Екатерины. Наиболее мыслящие члены этой группы стали теперь приобретать вкус к политическим идеям. Особый интерес вызывали западные сочинения, касающиеся роли и прав благородного сословия, с которым дворяне этого царствования были склонны себя отождествлять. «Дух законов» Монтескье, переведенный на русский через несколько лет после выхода в свет, сделался для целого поколения русских дворян руководством по государственной деятельности, потому что в нем особо подчеркивалась необходимость тесного сотрудничества между короной и знатью. Екатерина живо поощряла этот интерес к политическим идеям. Она приходила в ужас от господствовавшего среди высших классов страны невежества и апатии и вознамерилась создать слой граждан, проникнутых общественным духом, как бы пытаясь опровергнуть мнение Монтескье о том, что в России есть лишь господа да рабы и нет ничего похожего на tiers etat. Она сделала для этого гораздо больше, чем за ней признают. Верно, что ее «Наказ», чьи положения были списаны у Монтескье и Беккариа, не имел практических последствий, а комиссия, созванная ею в 1767 г., чтобы дать России новый свод законов заместо Уложения 1649 г., никакого свода не произвела. Но опыт этот не пропал даром. Напечатанный большим тиражом и широко распространенный «Наказ» ознакомил русскую элиту с элементарными политическими и социальными идеями Запада. Можно сказать, что он ознаменовал начало в России разговора о правительстве как об учреждении, подчиненном нравственным нормам. Неудачная Комиссия для сочинения проекта нового уложения впервые в русской истории предоставила представителям разных сословий возможность откровенно, публично и безбоязненно высказаться о заботах своих избирателей. Это было уже не «совещание правительства со своими собственными агентами», каким являлись соборы Московской Руси, это был общенациональный форум такого типа, который в следующий раз соберется лишь 138 лет спустя в качестве Первой Государственной Думы. То была и школа политики, и некоторые питомцы ее сыграли важную роль в формировании общественного мнения в позднейший период екатерининского правления. Умственный стимул, который «Наказ» и Комиссия уложения дали русской общественной жизни, имел куда более значительные последствия для дальнейшего хода русской истории, чем какой угодно свод законов.
Екатерина продолжала поощрять вызванное ею брожение и после роспуска Комиссии. На следующий, (1769) год она начала первое русское периодическое издание — «Всякую всячину», сатирический журнал, в который и сама пописывала под псевдонимом. У нее объявились подражатели, и вскоре немногочисленную читающую публику завалили сатирическими изданиями. Большая часть материалов в этих журналах представляла собою беззаботную развлекательную чепуху, однако иногда сатира обретала более серьезные формы и делалась орудием социальной критики. В екатерининское царствование появились также всяческие информационные издания, в том числе специализированные публикации для помещиков и детей. За первое десятилетие после воцарения Екатерины число печатаемых в России книжных названий выросло в пять раз. К концу ее царствования отношение императрицы к выпущенным ею на свободу силам сделалось более двойственным, и в 1790-х гг., напуганная Французской революцией, она взялась за подавление независимой мысли. Однако этот поздний поворот не должен затенять сделанного ею. Деятельность Екатерины имела далеко идущие последствия, затеяв в России широкое общественное движение, сочетавшее открытое высказывание мнений с общественной деятельностью, посредством чего русское общество наконец-то принялось отстаивать свое право на независимое существование. Всемогущее русское государство сумело создать даже свою противодействующую силу.
С самого своего зарождения русское общественное мнение разделилось на два отчетливых течения, от которых со временем отпочковалось множество направлений. Оба относились к тогдашней России критически, но по совершенно разным причинам. Одно можно охарактеризовать как консервативно-националистическое, а другое — как либеральнорадикальное.
Основоположником консервативно-националистического движения в России (и, кстати, ее первым бесспорным интеллигентом) явился Николай Иванович Новиков. В молодости он служил в гвардейском полку, посадившем Екатерину на трон, в чем ему изрядно повезло, ибо благодаря этому ему были обеспечены защита и фавор императрицы. Он участвовал в Комиссии уложения, работая со «средним сословием», каковое обстоятельство приобретает особое значение в свете нескрываемо «буржуазного» мировоззрения Новикова. В 1769 г. он откликнулся на журналистический вызов Екатерины и выпустил первый из трех сатирических журналов, «Трутень», за которым последовала череда серьезных изданий дидактического свойства.
В самом первом номере «Трутня» Новиков поставил вопрос, которому суждено было сделаться центром внимания всего интеллигентского движения в России. Признавшись, что быть на военной, приказной или придворной службе совсем не по его склонности, он спрашивал: «Что делать мне?», — и в пояснение прибавлял: «Без пользы в свете жить, тягчить лишь только землю». [Цит. в В. Боголюбов, И. И. Новиков и его время, М., 1916, стр. 38]. Для него вопрос решился обращением к публицистической и филантропической деятельности. Мировоззрение Новикова вполне укладывается в культурную традицию западноевропейской буржуазии, что тем более удивительно, поскольку он ни разу не был на Западе и, по собственному признанию, не владел иностранными языками. Во всех его писаниях главным объектом нападок является «порок», который он отождествлял с такими «аристократическими» свойствами, как праздность, страсть к показному, равнодушие к страданиям бедноты, безнравственность, карьеризм, льстивость, невежество и презрение к науке. «Добродетель» для него состояла в том же, в чем ее видели идеологи среднего класса от Леона Альберти до Бенджамина Франклина: в предприимчивости, скромности, правдивости, сострадании, неподкупности, прилежании. В своих сатирических изданиях Новиков бичевал во имя этих ценностей жизнь при дворе и в богатейших поместьях. Поначалу Екатерина игнорировала его критические стрелы, однако его бесконечные разговоры о темных сторонах русской жизни стали мало-помалу приводить ее в раздражение, и она завязала литературную полемику, с ним на страницах своего журнала. То, что Новиков клеймил как «порок», она предпочитала рассматривать как человеческую «слабость». В одной из их словесных баталий Екатерина заявила, что Новиков страдает от «горячки», и употребила выражения, предвосхитившие некоторые из наиболее яростных выпадов против интеллигенции следующего столетия:
Человек сначала зачинает чувствовать скуку и грусть, иногда от праздности, а иногда и от читания книг: зачнет жаловаться на все, что его окружает, а наконец и на всю вселенную. Как дойдет до сей степени, то уже болезнь возьмет все свою силу и верх над рассудком. Больной вздумает строить замки на воздухе, все люди не так делают, а само правительство, как бы радетельно ни старалось, ничем не угождает. Они одни по их мысли в состоянии подавать совет и все учреждать к лучшему. [Н. И Новиков, Избранные сочинения, М.-Л., 1951, стр. 59].
Новиков ответствовал в более осторожных выражениях, однако не отступил ни на йоту. Однажды он даже возымел достаточно дерзости, чтоб критиковать русский язык императрицы.
Этот неслыханный спор между государыней и подданным, немыслимый всего одним поколением прежде, показал, насколько стремительно расползается трещинка в вотчинной структуре. В царствование Елизаветы появление беллетристики как самостоятельного занятия составило важнейший конституционный сдвиг, а в правление Екатерины угодья вольной мысли уже вобрали в себя спорные политические вопросы. Знаменательно, что расхождения Новикова с императрицей не обернулись для него скверными последствиями. Екатерина продолжала , всячески содействовать ему, в том числе и деньгами. При помощи императрицы и состоятельных друзей он затеял в 1770-1780-х гг. программу просветительной и филантропической деятельности такого грандиозного масштаба, что здесь достанет места только лишь перечислить ее вершины. Его издательства, предназначенные доставить дворянским и купеческим семействам содержательную, а не просто развлекательную литературу, выпустили более девятисот названий. Через «Переводческую семинарию» он открыл русскому читателю доступ к множеству зарубежных сочинений религиозного и художественного свойства. Часть дохода от его журналистской и издательской деятельности шла на учрежденную им школу для сирот и нуждающихся детей, а также на бесплатную больницу. Во время голода он устраивал продовольственную помощь. Все это сочли бы добрым делом в любой стране мира, однако в России то было к тому же и политическое новшество революционного размаха. Новиков порвал с традицией, согласно которой государство, и лишь оно одно, имело право делать что-либо на благо «земли». От него и его соратников общество впервые узнало, что может само заботиться о своих нуждах.
И тем не менее, Новикова заносят в политические консерваторы из-за его решимости действовать «внутри системы», как сейчас выражаются. Он был масоном и последователем Сан-Мартина и верил, что все зло проистекает от людской порочности, а не от учреждений, под властью которых живут люди. Он безжалостно бичевал «порок» и ревностно пропагандировал полезные знания, потому что, по его убеждению, человечество можно улучшить лишь через улучшение человека. Он не подверг сомнению ни самодержавную форму правления, ни крепостничество. Такой упор на человека, а не на среду был всегда отличительным знаком консерватизма.
Первый русский либеральный радикал Александр Радищев был менее значительной фигурой, хотя благодаря неустанным и недурно финансируемым усилиям советских пропагандистов он более известен из этих двух деятелей. Слава его целиком зиждется на «Путешествии из Петербурга на Москву» (стр. #196), в котором, используя популярную тогда форму придуманных путевых заметок, он разоблачал наиболее неприглядные стороны русской провинциальной жизни. Написана книга ужасно, и если исходить из одних ее литературных достоинств, вряд ли вообще заслуживает упоминания. В ней царит такая идеологическая путаница, что критики и по сей день не сойдутся в том, какую же цель ставил себе автор: призыв к насильственным переменам или просто предупреждение, что если вовремя не провести реформы» то бунт неизбежен. В отличие от Новикова, мировоззрение которого коренилось в масонстве и англо-германском сентиментализме (к Вольтеру он относился с отвращением), Радищев многое почерпнул у французского просвещения, особенно у его крайнего материалистического крыла (Гельвеции и Гольбах). В одном из последних своих сочинений, законченном незадолго до самоубийства, он разбирает проблему бессмертия души и хотя решает этот вопрос в положительном смысле, отрицательные аргументы явно выписаны в этом труде с большим убеждением. Предвосхищая Кириллова у Достоевского, в своем последнем послании перед смертью он писал, что лишь тот сам себе хозяин, кто кончает жизнь самоубийством.
Носитель таких идей вряд ли мог принять старый режим или согласиться действовать в его рамках. Предложения его, как уже отмечалось, весьма расплывчаты, и все либералы и радикалы признают его своим предтечей из-за философской позиции и безусловного отрицания крепостничества. Инстинкт подсказал Пушкину, что Радищев был неумен (он даже называет «преступление» автора «Путешествия» «действом сумасшедшего» и характеризует его как «истинного представителя полупросвещения») [А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII, М., 1949, стр. 354 и 360], и не случайно, вероятно, что фигура Евгения в «Медном всаднике» имеет такое сходство с Радищевым. [В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, М.. Петроград, 1923, стр. 268-9].
И Новиков, и Радищев были арестованы в разгар паники, охватившей Петербург после начала Французской революции, и приговорены к пожизненной ссылке. После смерти Екатерины своевольный сын ее Павел I помиловал и освободил их.
Движение декабристов, о котором упоминалось выше, одной своей драматичностью, числом и знатностью своих участников не знало себе равных до возмущений, произведенных революционными социалистами в 1870-е гг. Тем не менее, сложно доказать, что это движение было русским в строгом смысле слова, поскольку его чаяния, идеалы и даже организационные формы пришли прямо из Западной Европы. Все это было заимствовано из опыта посленаполеоновской Франции и Германии, где многие русские дворяне провели по два-три года во время кампаний 1812-1813 гг. и последовавшей затем оккупации. О космополитизме молодых русских аристократов свидетельствует то обстоятельство, что они настолько прониклись политическим брожением эпохи Реставрации, что посчитали возможным пересадить на родную землю политические программы Бенджамина Констана, Дестюта де Траси или американскую конституцию. После неудачи заговора идеи эти растаяли в воздухе, и следующее поколение мыслящих россиян обратилось к совершенно иному источнику.
Этим источником был немецкий идеализм. Не то чтобы русские интеллектуалы разбирались в запутанных и подчас чересчур заумных доктринах идеалистической школы ибо мало кто из них имел необходимое для того философское образование, а некоторые (например, Белинский) не знали немецкого и вынуждены были полагаться на пересказы из вторых рук. Но, как всегда происходит в истории идей (в отличие от обычной истории или философии), наиболее важен не точный смысл чьих-то мыслей, а то, как их воспринимает публика. Русские интеллигенты 1820-1840-х гг. ухватились за теории Шеллинга и Гегеля с таким рвением потому, что вполне справедливо рассчитывали найти в них идеи, способные дать оправдание, своим чувствам и чаяниям. И они действительно почерпнули у этих философов только лишь то, что им требовалось.
В России, как и везде, главным последствием идеализма было мощное усиление творческой роли человеческого разума. Нечаянным результатом кантовской критики эмпирических теорий явилось то, что она превратила разум из простого восприемника чувственных впечатлений в активного участника процесса познания. Способ, которым мышление посредством присущих ему категорий воспринимает действительность, сам по себе является важнейшим атрибутом этой действительности. Выдвинув этот довод, идеалистическая школа, затмившая своим появлением эмпиризм, вложила оружие в руки всех тех, кто был заинтересован в признании человеческого разума высшей творческой силой, то есть, прежде всего, интеллигентов. Теперь можно стало утверждать, что идеи настолько же «реальны», насколько реальны физические факты, а то и реальнее их. «Мысль», которая в своем широком толковании включала чувства, восприятия и, превыше всего, творческие художественные импульсы, была поставлена в равное положение с «Природой». Все было взаимосвязано, ничто не было случайным, и разуму требовалось только разобраться, каким образом явления соотносятся с идеями. «Шеллингу обязан я моею теперешнею привычкою все малейшие явления, случаи, мне встречающиеся, родовать (так перевожу я французское слово generaliser, которого у нас по-русски до сих пор не было...)»,— писал В. Ф. Одоевский, ведущий последователь Шеллинга 1820-х гг. [П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма; князь В. Ф. Одоевский, М., 1913. т. I, ч. I. стр. 132]. В конце 1830-х гг., когда мыслящие россияне сильно увлеклись Гегелем, это пристрастие приняло самые крайние формы. Вернувшись из ссылки, Александр Герцен нашел своих московских друзей в состоянии своего рода коллективного бреда:
Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте...» Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью... Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку к «гемюту» или к «трагическому в сердце»... [А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, Петербург, 1919, XIII, стр 12-13].
Вторым и лишь чуть менее важным обстоятельством было то, что идеализм внес в философию элемент динамизма. С его точки зрения, действительность в своем духовном и физическом аспекте переживает постоянную эволюцию, она «становится», а не просто «существует». Весь космос проходит через процесс развития, ведущий к определенному расплывчатому состоянию абсолютно свободного и рационального существования. Присутствующий во всех идеалистических доктринах историзм сделался с тех пор непременным состоянием всех «идеологий». Он вселял и продолжает вселять в интеллигенцию уверенность, что окружающая ее действительность, которую они в той или иной степени отвергают, в силу самой природы вещей имеет преходящий характер и являет собою ступень на пути к некоему высшему состоянию. Затем, он дает им основание утверждать, что если между их идеями и действительностью и имеется какое-то несоответствие, то это из-за того, что действительность, так сказать, все еще отстает от их идей. Неудача всегда кажется идеологам временной, тогда как успехи властей предержащих всегда представляются им иллюзорными.
Основной результат идеализма состоял в том, что он придал мыслящим россиянам уверенность в себе, которой у них прежде не было. Разум был увязан с природой; они вместе являлись частью неуклонно разворачивающегося исторического процесса, и в свете этой визионерской картины какой малостью казались правительства, экономика, армии и бюрократии. Князь Одоевский так описывает экзальтацию, испытанную им и его друзьями при первом знакомстве с этими пьянящими концепциями:
Каким-то торжеством, светлым радостным чувством исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явления природы теми же самыми законами, каким подчиняется дух человеческий в своем развитии, закрыть, по-видимому, навсегда пропасть, разделяющую два мира, и сделать из них единый сосуд для вмещения вечной идеи и вечного разума. С какою юношескою и благородной гордостью понималась тогда часть, предоставленная человеку в этой всемирной жизни! По свойству и праву мышления, он переносил видимую природу в самого себя, разбирал ее в недрах собственного сознания, словом становился ее центром, судьею и объяснителем. Природа была поглощена им и в нем же воскресала для нового, разумного и одухотворенного существования... Чем светлее отражался в нем самом вечный дух, всеобщая идея, тем полнее понимал он ее присутствие во всех других сферах жизни. На конце всего воззрения стояли нравственные обязанности, и одна из необходимых обязанностей — высвобождать в себе самом божественную часть мировой идеи от всего случайного, нечистого и ложного, для того, чтобы иметь право на блаженство действительного, разумного существования. [А. Н. Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, 2-е изд., СПб., 1908, стр. 88].
Конечно, не все мыслящие русские люди поддались такому экстатическому порыву. У идеализма имелись и более трезвые последователи, такие как, например, академические историки, помимо общей схемы развития человеческого общества взявшие у Гегеля совсем мало. Однако в царствовании Николая I идеализм был в какой-то степени непременной философией русской интеллигенции, и влияние его сохранялось на протяжении большей части второй половины XIX в., уже после того, как его основные догматы были опровергнуты и замещены материализмом.
Первое, «идеалистическое», поколение русской интеллигенции вышло почти целиком из дворянской среды, особенно из состоятельного мелкопоместного дворянства. Но преобладание дворян было исторической случайностью, вызванной тем обстоятельством, что в первой половине XIX в. лишь у них доставало досуга и средств на умственные занятия, особенно такого эзотерического свойства, которое требовал идеализм. Даже тогда, однако, к этой группе свободно могли присоединяться и мыслящие члены других сословий, и к числу их относились, среди прочих, Белинский и купеческий сын В. П. Боткин. После вступления на престол Александра II и с началом разложения сословной структуры страны ряды интеллигенции непрерывно пополнялись за счет недворянской молодежи. В 1860-х гг. большое значение придавали внезапному появлению новой мыслящей силы в лице разночинцев, не принадлежавших ни к одной из стандартных юридических категорий, таких как сыновья священников, не пошедшие по отцовским стопам (например, Николай Страхов и Николай Чернышевский), дети чиновников низших, ненаследственных рангов, и т. д. Медленное, но неуклонное распространение образования увеличивало число потенциальных инакомыслов. Как свидетельствует Таблица 2, до царствования Александра III процент простолюдинов в средней школе непрерывно рос за счет дворянства, и, поскольку из каждых десяти выпускников средней школы восемь-девять поступали потом в университет или иное высшее учебное заведение, очевидно, что с каждым годом состав студенчества постепенно начинал носить все более плебейский характер.
ТАБЛИЦА 2
Сословный состав учащихся русской средней школы в 1833-1885 гг.
(в процентах). [Л В. Камоско, «Изменения сословного состава учащихся средней и высшей, школы России (30-80-е годы XIX в.)». Вопросы истории. Э 10, 1970, стр 206].
Год Дворяне, чиновники Духовенство Податные сословия
1833 78,9 2,1 19,0
1843 78,7 1,7 19,6
1853 79,7 2,3 18,0
1863 72,3 2,8 24,9
1874 57,7 5,5 35,7
1885 49,1 5,0 43,8
Во второй половине XIX в. большого расцвета достигли свободные профессии, в дореформенной России практически неизвестные. Подсчитано, что между 1860 и 1900 гг. число лиц, получивших профессиональное образование, выросло от 20 до 85 тысяч. [В. Р Лейкина-Свирская, Интеллигенция в России во второй половине XIX века, М., 1971, стр. 70].
Так постепенно расширялся образованный класс, из которого пополнялись ряды интеллигенции, попутно приобретая новый характер: из малочисленной группы богатой молодежи с чуткой совестью и патриотическими устремлениями он превратился в широкий слой, состоявший из представителей всех сословий, для которых умственная работа являлась средством существования. В 1880-е гг. в России уже имелся многочисленный умственный пролетариат. Тем не менее, вплоть до конца старого режима тон задавали выходцы из старого служилого сословия: большинство властителей русских дум всегда происходило из числа состоятельных дворян и чиновников высшего ранга. Именно они формулировали идеологию недовольной интеллигентской массы.
Интеллигенции были нужны учреждения, которые свели бы вместе единомышленников, позволили бы им делиться мыслями и завязать дружеские отношения на основе общих убеждений. В XIX в. в России было пять таких учреждений.
Старейшим был салон. Богатые помещики жили открытым домом, особенно в своих просторных московских4 резиденциях, которые создавали идеальные условия для неформальных контактов между людьми, интересующимися общественными делами. Хотя посещавшая салоны знать была по большей части поглощена сплетнями, сватовством и картами, иные салоны привлекали людей более серьезных и даже приобретали некий идеологический оттенок. Например, разногласия, впоследствии расколовшие интеллигентов на западников и славянофилов, впервые прорезались в салонных беседах и лишь позднее нашли дорогу в печать.
Вторым был университет. Первый русский университет, Московский, был основан в 1775 г., но вряд ли оказал глубокое интеллектуальное воздействие на страну, хотя типография его и пригодилась Новикову в его издательских предприятиях. Преподавателями были по большей части иностранцы, читавшие по-немецки и по-латыни лекции плохо понимавшим их студентам, состоявшим из сыновей священников и прочих плебеев; дворяне не видели смысла посылать своих отпрысков в университет, тем более что годы учения не засчитывались в служебный стаж. Такое положение сохранялось до 1830-х гг., когда во главе Министерства народного просвещения стал С. С. Уваров. Националист-консерватор, но в то же время и видный знаток классической древности, Уваров полагал, что научные знания являются лучшим противоядием от витающих в стране крамольных идей. В бытность его министром высшее образование достигло в России замечательного расцвета. В 1830-х гг. пошла большая мода записывать в Московский университет сыновей аристократических фамилий. Правительство не желало способствовать созданию многочисленной безработной интеллигенции и поэтому намеренно держало число студентов на низком уровне; при Николае I число это оставалось постоянным и едва превышало три тысячи человек на всю империю. Правительство также сильно препятствовало приему простолюдинов в университеты. После смерти Николая I доступ в высшие учебные заведения облегчился. Было открыто множество профессиональных и технических учебных заведений: в 1893-1894 гг. в России было 52 высших учебных заведения с 25 тысячами студентов. Еще несколько тысяч человек посещали иностранные университеты. В ту эпоху, когда родительская власть строго охранялась законом и обычаем, университет представлял собою естественный рассадник оппозиционной деятельности. Именно здесь юноши со всех концов империи впервые оказывались в относительной свободе и в дружеской компании сверстников, в которой молодежь составляла абсолютное и главенствующее большинство. Здесь они слышали, как вслух высказывают их собственные потаенные огорчения и мечты. Пришедшие туда без сильных общественных убеждений вскоре втягивались в водоворот общественной деятельности, выступления против которой грозили остракизмом: как и теперь, университет был тогда одним из наиболее эффективных средств насаждения умственного конформизма. В начале 1860-х гг. русские университеты были охвачены волнениями, и с тех пор «студенческое движение» сделалось постоянным элементом русской жизни. Протесты, стачки, обструкции и даже акты насилия против нелюбимых преподавателей и администраторов влекли за собой массовые аресты, исключения и закрытие университетов. Последние полвека своего существования старый режим находился в состоянии перманентной войны со своим студенчеством.
На протяжении всего XIX в. весьма популярным центром интеллектуальной деятельности служил кружок. Он появился еще в эпоху салонов, когда образовалось несколько кружков для изучения Шеллинга, Гегеля и французских социалистов, и сохранился в эру господства университетов, когда салон уже перестал играть значительную роль в умственной жизни страны. Кружок являлся неофициальным собранием людей с общими умственными интересами, периодически встречавшихся для совместных занятий и дискуссий. Во времена суровых репрессий они неизбежно принимали тайный и крамольный характер.
Четвертым важнейшим учреждением русской интеллигенции, не уступавшим по своему значению университету, был толстый журнал. Издание этого сорта вошло в моду после ослабления цензуры в 1855 г. Состояло оно, как правило, из двух разделов — художественного и общественно-политического в самом широком смысле слова (политика в дозволяемых цензурой пределах, экономика, социология, наука и техника, и т. д.). Каждый журнал проводил определенную философско-политическую линию и рассчитывал на определенный читательский круг. Полемические споры между журналами, по цензурным соображениям облеченные в эзоповские формулировки, стали в России суррогатом открытой политической дискуссии. В 1850-х -начале 1860-х гг. ведущим радикальным органом был «Современник», а после его закрытия в 1866 г.— «Отечественные записки», за которыми последовало, в свою очередь, «Русское богатство». «Вестник Европы» был неизменным выразителем западнического, либерального общественного мнения; с 1907 г. он разделял эту роль с «Русской мыслью». Рупором консервативно-националистических взглядов был «Русский вестник», популярность которого в значительной мере объяснялась тем, что в нем печатали многие свои произведения Толстой, Достоевский и Тургенев. За этими ведущими органами общественной мысли следовали десятки менее известных изданий. [В царствование Николая I число политических, общественных и литературных журналов колебалось между 10 и 20. После 1855 г. число их стремительно возросло: в 1855 г — около 15. в 1860 г.-ок. 50, в 187.5 г.-ок. 70, в 1880 г.-ок. 110, и в 1885 г.-ок. 140 Энциклопедический словарь... Об-ва Брокгауз и Ефрон, СПб., 1889, XVIla, стр. 416-417]. Толстый журнал сыграл совершенно исключительную роль в развитии русского общественного мнения. Он разносил по всей огромной империи знания и идеи, которые в противном случае остались бы достоянием лишь двух столиц, и таким образом создавал объединяющие связи между людьми, живущими вдали друг от друга в провинциальных городках и в деревенских поместьях. Именно на этой основе в начале XX в. в России с такой быстротой появились политические партии. В течение года после прихода к власти Ленин закрыл все дореволюционные толстые журналы, поскольку его острое политическое чутье несомненно подсказывало ему, что они представляют большую угрозу для абсолютной власти. [В хрущевскую эпоху «Новый мир» сделал относительно успешную попытку возродить традицию толстого журнала как критика политического статус-кво. Со смещением в 1970 г. главного редактора журнала Александра Твардовского попытке этой было положен конец.].
И, наконец, были земства. Эти органы самоуправления появились в 1864 г., отчасти для того, чтобы заместить власть бывших крепостников, отчасти чтобы взять на себя функции, с которыми не справлялась провинциальная бюрократия, такие как начальное обучение, водопровод и канализация, содержание в порядке дорог и мостов, улучшение землепользования. У земств были кое-какие права налогообложения и полномочия использовать полученные средства для найма технических работников и специалистов, известных под названием «третьего элемента» и состоявших из учителей, врачей, инженеров, агрономов и статистиков. В 1900 г. их было около 47 тысяч. Политическую ориентацию этой группы можно определить как либерально-радикальную, или либерально-демократическую, то есть социалистическую, но антиреволюционную и антиэлитарную. Впоследствии «третий элемент» образует костяк либеральной кадетской партии, основанной в 1905 г., и в немалой степени обусловит ее общее умеренно левое направление. Выбранные на земские должности помещики куда больше склонялись вправо и настроены были, главным образом, консервативно-либерально; они недолюбливали бюрократию и выступали против всяких проявлений произвола, однако настороженно относились к созданию в России конституционной системы правления и особенно парламента, основанного на демократических выборах. В 1880-1890-х гг. у либералов и нереволюционных радикалов было модно поступать на земскую службу. Убежденные революционеры, с другой стороны, смотрели на такую деятельность с подозрением.
Общим для этих пяти учреждений было то, что они предоставляли обществу средства для борьбы с вездесущей бюрократией; по этой причине они делались основным объектом репрессий. В последние годы XIX в., когда монархия перешла в решительное контрнаступление против общества, на университеты, журналы и земства обрушились особенно чувствительные удары.
Первые разногласия в среде русской интеллигенции появились в конце 1830-х гг. и связаны были с исторической миссией России. Шеллинговская и гегелевская философия в общей форме поставили вопрос о том, какой вклад внесла каждая крупная страна в прогресс цивилизации. Немецкие мыслители имели обыкновение отрицать вклад, сделанным славянами, и низводить их в категорию «неисторических» рас. В ответ славяне выставили себя волной будущего. Первыми славянофильские идеи выдвинули поляки и чехи, непосредственно страдавшие от немцев. В России вопрос этот встал с особой остротой несколько позднее, после 1836 г., в связи с опубликованием сенсационной статьи Петра Чаадаева, бывшего виднейшей фигурой московского света. Чаадаев, находившийся под сильным влиянием католической мысли эпохи Реставрации и сам близко стоявший к переходу в католичество, утверждал, что из крупнейших стран лишь Россия не внесла никакого вклада в цивилизацию. И вообще Россия является страной без истории: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя.» [Первое письмо о философии истории, в М. Гершензон, ред., Сочинения и письма П, Я. Чаадаева, т. II. М., 1914, стр. 111]. Россия являет собою нечто вроде болота истории, тихой заводи, в которой что-то иногда колыхнется, но настоящего движения нет. Так вышло из-за того, что христианство было почерпнуто из нечистого источника — из Византии, поэтому православие оказалось отрезанным от столбовой дороги духовности, ведущей из Рима. За такие идеи Чаадаева официально объявили умалишенным, и он отчасти повинился, но в конце жизни пессимизм его в отношении России возродился вновь:
Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути. [П. Я. Чаадаев, «Неопубликованная статья». Звенья, т. III/IV, 1934, стр. 380].
Чаадаевское эссе 1836 г. всколыхнуло дискуссию, бушевавшую два десятилетия и расколовшую русскую интеллигенцию надвое. Один лагерь славянофильский — породил наиболее плодотворное течение русской общественной мысли. Он создал первую идеологию русского национализма (в отличие от ксенофобии), и сделал это путем заимствования идей в Западной Европе, чтобы с их помощью возвысить Россию на западноевропейский счет. Его будущие теоретики вышли из рядов среднего дворянского слоя, сохранившего тесную связь с землей. Идеи их получили первоначальную разработку в ходе дискуссий, которые велись в московских салонах в конце 1830-х-1840-х гг. В 1850-х гг., когда влияние их достигло своей наивысшей точки, славянофилы образовали партию вокруг журнала «Московитянин». Хотя они декларировали полное отсутствие интереса к политике, им постоянно доставалось от властей, подозрительно относившихся к любой идеологии — даже к такой, которая отдавала предпочтение абсолютизму. Согласно теории славянофилов, все важнейшие различия между Россией и Западом в конечном итоге коренятся в религии. Западные церкви с самого своего зарождения подпали под влияние античных культур и переняли у них отраву рационализма и суетности. Православие же сохранило верность истинным христианским идеалам. Оно является подлинно соборной церковью, черпающей силы из коллективной веры и мудрости паствы. Соборность представляет собою наиболее типическую черту русского национального характера и составляет основу всех русских учреждений. На Западе же, напротив, основы организованной жизни имеют индивидуалистическую и легалистическую природу. Благодаря православию россиянам удалось сохранить «цельную» личность, в которой слияние веры и логики порождает более высокий тип знания, названный Хомяковым «живым знанием».
Погрязшая в рационализме западная цивилизация изолировала человека от общества себе подобных: следуя велениям своего разума, западный человек замыкается в своем собственном мирке. Если употребить слово, которое Гегель сделал популярным, он «отчужден». В России же, напротив, каждый человек (кроме людей европеизировавшихся) сливается с обществом и ощущает себя единым с ним. Мыслящим русским людям, получившим западное образование, надо вернуться к обществу, к крестьянству. По мнению славянофилов, стихийно сложившаяся общественная организация, типичным примером которой служат сельская община и артель, является вполне естественной формой для выражения социальных инстинктов русского человека. Легализм и частная собственность чужды русскому духу.
Из этих посылок вытекала своеобразная анархо-консервативная политическая философия. С точки зрения славянофилов, в России традиционно проводится резкое разграничение между властью и землей. Земля доверяет государству управление высокой политикой и не связывает его никакими юридическими ограничениями. Самое большее она просит, чтоб ее выслушали перед тем, как принимать важные решения. Взамен государство не стесняет права общества жить по своему. Это взаимоуважение между государством и обществом, не скованное какими-либо формальностями, и есть истинная русская конституция. Традицию эту нарушил Петр, и начиная с его царствования Россия следовала путем, абсолютно чуждым ее природе. Создав в Петербурге бюрократическую машину, Петр поломал связи между монархией и народом. Хуже того, он покусился на народные обычаи, привычки и веру. Весь петербургский период русской истории есть одно чудовищное недоразумение. Стране следует вернуться к своему наследию. Не нужно ни конституции, ни парламента, ни к чему и назойливая, беззаконная бюрократия. «Землю» надобно возвратить народу, имеющему право на любые вольности, кроме политических. Крепостное право должно быть отменено.
Точка зрения славянофилов не имела ничего общего с историческими фактами и недолго способна была выдерживать огонь научной критики. Однако данные о развитии русского государства и общества, очерченные на предшествующих страницах, были неизвестны в середине XIX в., когда была сформулирована теория славянофильства, поскольку эти данные являются главным образом продуктом научных изысканий, проведенных за последнее столетие. По всей видимости, славянофильское мировоззрение было меньше обязано собственной русской традиции, чем тогдашнему движению «Молодая Англия». Славянофилы были большими англоманами (Франция и Германия, напротив, были им не по душе) и хотели бы, чтобы в России была такая же неписаная конституция, при которой отношения между монархией и народом регулируются не писаным законом, а обычаем, когда монархия (в идеале) является союзницей трудящихся классов, когда бюрократия малочисленна и слаба, и когда в силу естественного порядка вещей государство не стесняет права общества заниматься своими делами. Разумеется, они почти ничего не знали об исторических предпосылках компромиссного викторианского устройства или о той роли, какую играют в нем столь ненавистные им законоправие, частная собственность и узаконенное противоборство между правителями и управляемыми. Такое карикатурно идеализированное представление о прошлом позволяло славянофилам утверждать, что Россия является страной будущего, и что ей суждено разрешить проблемы, отравляющие жизнь человечества. Ее лепта будет заключаться в распространении добровольных обществ, созданных в духе братской любви, и в постройке политической системы, основанной на доверии между властью и народом. Таким образом русские люди навсегда избавятся от бушующих в мире политических и классовых конфликтов.
Историки, любящие симметрию, создали зеркальное отражение славянофилов, партию, которую они окрестили западниками — однако трудно обнаружить какое-либо единство среди противников славянофильских построений, за исключением единства отрицательного свойства. Западники отвергали взгляды славянофилов на Россию и на Запад как смесь невежества и утопизма. Там, где славянофилы усматривали глубокое религиозное чувство, они видели предрассудки, граничащие с безверием (см. письмо Белинского к Гоголю, цит. выше, стр. #212). Историкам из числа противников славянофильства не стоило большого труда разгромить одно за другим излюбленные славянофильские убеждения: они смогли продемонстрировать, что передельческая община не имеет древнего, стихийного, «народного» происхождения, но есть институт, созданный государством для удобства податного обложения; что у любого из «революционных» нововведений Петра имелись предшественники в Московской Руси; что так называемого взаимопонимания между государством и обществом сроду не существовало, и что русское государство всегда ломало кости обществу своим необъятным весом. Они не отрицали, что Россия отлична от Запада, однако относили это отличие за счет не ее своеобразия, а ее отсталости. Они не видели в России практически ничего, достойного сохранения, а та малость, которую следовало бы сохранить, была создана государством и особенно Петром Первым.
Помимо своего отрицания славянофильской идеализации западники не имели общей идеологии. Одни из них были либералами, другие — радикалами, даже крайними радикалами. Однако радикализм их претерпевал изменения. На Белинского, к примеру, под конец жизни вдруг снизошло озарение, что России нужен не социализм, а буржуазия, а Герцен, бывший всю жизнь красноречивым проповедником кардинальных перемен, в одном из последних своих сочинений («Письма к старому товарищу») выступил с отрицанием революции. В связи с этим будет, возможно, лучше называть движение западников «критическим движением», поскольку его характернейшей чертой было в высшей степени критическое отношение к прошлому и настоящему России. Помимо истории, его главным поприщем была литературная критика. Белинский, бывший самым последовательным западником своего поколения, превратил рецензию и очерк в мощное орудие общественного анализа. Он использовал свое значительное влияние для опровержения всякой идеализации русской действительности и пропаганды литературной школы, которую считал реалистической. Именно благодаря ему русский писатель впервые осознал свою общественную роль.
В царствование Александра II в русском общественном мнении произошел резкий раскол. Идеалистическое поколение все еще в основном занималось вопросом «кто мы?». А пришедшее после 1855 г. новое поколение «позитивистов», или «реалистов», задалось вопросом более прагматическим, сформулированным впервые Новиковым: «что делать нам?». В процессе ответа на этот вопрос интеллигенция размежевалась на два крыла — консервативное и радикальное, между которыми притулились немногочисленные сторонники либерального подхода. В отличие от предшествующей эпохи, когда идеологические противники продолжали видеться в свете и соблюдать правила обыденной учтивости, в царствование Александра конфликт идей был перенесен на личности и нередко приводил к ярой вражде.
Поводом для этой перемены явились проведенные новым государем Великие Реформы, большая часть которых уже упоминалась на этих страницах. Они состояли из освобождения крепостных, за которым последовало учреждение земств и городских дум, реформа судебной системы (которая будет затронута в следующей главе) и введение обязательной воинской повинности. Это была наиболее грандиозная попытка в истории России привлечь обществом активному участию в жизни страны, хотя и без предоставления ему возможности играть роль в делах политических.
Реформы произвели огромное возбуждение в обществе, особенно среди молодежи, внезапно получившей такие возможности для приложения своих общественных сил, каких прежде не было и в помине. Она могла теперь вступать на такие поприща, как юриспруденция, медицина и журналистика, могла работать в земствах и в городских думах, могла делать карьеру на военной службе, ибо простолюдинам открылась дорога в ряды офицерства, и, превыше всего, могла установить связь с освобожденным, крестьянином и помочь ему подняться до уровня гражданина. Конец пятидесятых — начало шестидесятых годов были временем редкостного единодушия, когда левые правые и центр объединили усилия, чтобы помочь правительству провести программу грандиозных реформ. Первая брешь в этом едином фронте образовалась и начале 1861 г., когда были опубликованы условия, на которых освобождались крестьяне. Левое крыло, возглавляемое Чернышевским и его «Современником», было разочаровано тем, что крестьянин получил лишь половину обрабатываемой им земли, да еще должен был за нее расплачиваться, и объявило всю затею с освобождением бессовестным надувательством. Студенческие волнения в начале 1860-х гг. вкупе с польским восстанием 1863 г. и прокатившейся в то же время волной таинственных поджогов в Петербурге убедили многих консерваторов и либералов в наличии некоего заговора. «Русский вестник», бывший до сего времени органом умеренных кругов, теперь резко подался вправо и начал нападать на левых с патриотических позиций. Ряды самих радикалов раскололись еще дальше. «Современник» обрушился с яростными персональными нападками на интеллигентов старшего поколения, обвиняя их в инертности и отсутствии серьезных убеждений. Герцен ответил ему на страницах своего лондонского «Колокола», где обвинил младшее поколение в хронической желчности. Тогда Чичерин обрушился на Герцена за его революционные наклонности, а Чернышевский обозвал Герцена «скелетом мамонта». К 1865 г. русское общественное мнение пребывало в состоянии глубокого раскола. Но главная дискуссия представляла собою диалог между радикалами и консерваторами, которые не могли договориться ни о чем, кроме своей общей неприязни к рассудительным прагматическим деятелям центра. 1860-е и 1870-е гг. были Золотым Веком русской мысли, ибо в тот период были высказаны и обсуждены все основные темы, с тех пор занимающие интеллигенцию.
Новый радикализм развился на основе «научной», или «позитивистской», философии, начавшей проникать в Россию с Запада в завершающие годы николаевского царствования, но окончательно полонившей радикальное левое крыло лишь при новом государе. Замечательные свершения химии и биологии в 1840-х гг., особенно открытие закона сохранения энергии и клеточного строения живых организмов, вызвали появление в Западной Европе антиидеалистического течения, исповедующего грубые формы философского материализма. В писаниях Бюхнера и Молешотта, которые русская молодежь воспринимала как откровение, говорилось о том, что космос состоит из одной материи, что все в ней происходящее может быть сведено к элементарным химическим и физическим процессам, и что в таком космосе нет места для Бога, души, идеалов и прочих метафизических субстанций. Фейербах объяснил, что сама идея Бога суть отражение человеческих устремлений, а его последователи применили это психологическое объяснение к деньгам, государству и другим институтам. В предисловии к своей «Истории цивилизации в Англии», пользовавшейся в России бешеным успехом, Бокль обещал, что статистическая наука позволит заранее предсказать с математической точностью все проявления общественного поведения. Идеи эти, подкрепленные, казалось, авторитетом естественных наук, создавали впечатление, что наконец-то найден ключ к пониманию человека и общества. Воздействие их нигде не было так сильно, как в России, в которой отсутствие гуманистической традиции и светского богословия сделали интеллигенцию особенно падкой на детерминистские трактовки.
Теперь левая молодежь с презрением отвергала идеалистическую философию, приводившую в такой восторг старших; то есть по меньшей мере отвергала ее сознательно, ибо подсознательно сохраняла немалый заряд личного идеализма и веру в исторический прогресс, которую, строго говоря, невозможно обосновать с эмпирических позиций. Тургенев изобразил этот конфликт поколений в «Отцах и детях», и прототипы его героев тотчас же признали это изображение вполне точным. Молодые «нигилисты» рассматривали окружающий мир как пережиток иной, более ранней стадии человеческого развития, подходящей теперь к своему концу. Человечество стояло на пороге стадии «позитивизма», на которой можно будет правильно понять все явления природы и общества и благодаря этому подчинить их научному управлению. Первоочередная задача состояла в сокрушении остатков старого порядка, частью которого как доктрина метафизическая был и идеализм. Кумир радикальной молодежи начала 1860-х гг. Дмитрий Писарев призывал своих последователей крушить направо и налево, лупить по учреждениям и обычаям в предположении, что если какие из них рухнут, то их и сохранять не стоило. Таким «нигилизмом» двигало не полное отсутствие каких-либо ценностей, как будут впоследствии доказывать консервативные критики, а убеждение, что настоящее уже уходит в прошлое, и разрушение посему можно считать делом созидательным.
С психологической точки зрения, самой выпуклой чертой нового поколения радикалов была его склонность сводить весь опыт к какому-то одному принципу. Сердце его не лежало к сложностям, тонкостям, оговоркам. Отрицание простейшей истины или попытки усложнить ее оговорками оно воспринимало как предлог для ничегонеделанья, как симптом обломовщины. У каждого радикала этой эпохи имелась формула, воплощение которой непременно должно было самым коренным образом изменить судьбу человечества. Представление Чернышевского о земном рае смахивало на олеографии профетических сочинений, которые он, наверное, читывал в дни своих семинарских штудий; на самом деле, все очень просто, стоит лишь людям познать истину, а истина состоит в том, что существует лишь материя, и ничегошеньки кроме нее. [В умении свести все к одной истине русское правое крыло не отставало от левого. Как писал Достоевский в конце «Сна смешного человека»: «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться».]. Чернышевский и его союзники отмахивались от вполне разумных возражений против философии материализма как от нестоящих внимания. Нечего и говорить, что неокантианская критика механистической науки, на которой зиждется материализм, так и не дошла до русских радикалов, хотя они чутко прислушивались к тому, что происходило в немецкой философии. Перед своей смертью в 1889 г. Чернышевский все еще преданно цеплялся за Фейербаха и прочих кумиров своей юности, от которой его отделяло полвека, пребывая в блаженном неведении относительно смятения, произведенного в области естественных наук последними открытиями. Он отрицал даже Дарвина. Такое избирательное отношение к науке было весьма характерно для левых радикалов, прикрывавшихся ее авторитетом, но совершенно не имевших привычки к свободному и критическому изучению предмета, без которой нет подлинного научного мышления.
Радикалы 1860-х гг. хотели создать нового человека. Он должен был быть совершенно практичен, свободен от предвзятых религиозных и философских мнений; будучи «разумным эгоистом», он в то же время был бы беззаветно преданным слугой общества и борцом за справедливую жизнь. Радикальные интеллигенты ни разу не задумались над очевидным противоречием между эмпиризмом, доказывавшим, что всякое знание происходит из наблюдения за вещами и явлениями, и этическим идеализмом, не имеющим эквивалента в материальном мире. Владимир Соловьев как-то выразил это их затруднение в форме псевдосиллогизма: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». В эмоциональном плане некоторые из радикальных публицистов ближе подошли к христианскому идеализму, чем к твердолобому прагматизму, которым они на словах так восхищались. Рахметов в «Что делать?» Чернышевского являет собою фигуру, прямо вышедшую из житийной православной литературы; аскетизм его достигает такой степени, что он делает себе ложе, утыканное гвоздями. Другие персонажи романа (оказавшего большое влияние на молодого Ленина) напоминают первых христиан тем, что тоже порывают со своими развращенными, бездуховными семьями и вступают в братский круг отринувших соблазны денег и наслаждений. У героев книги бывают увлечения, но никак уж не любовь, а о сексе и говорить нечего. Но это бессодержательная религиозность, один пыл и никакого сострадания. Соловьев, раздраженный утверждениями о том, что социалистические идеалы — де тождественны христианским, однажды напомнил своим читателям, что если христианство велит человеку раздать свое имущество, то социализм велит ему экспроприировать имущество других.
Кучка радикалов прекрасно понимала свое бессилие по сравнению с мощью самодержавного государства. Однако они и не собирались тягаться с ним на политическом поприще. Будучи анархистами, они не интересовались государством как таковым, рассматривая его просто как один из многих побочных продуктов определенных форм мышления и основанных на них отношений между людьми. Их наступление на статус-кво было направлено в первую очередь против мнений, и оружием их были идеи, в мире которых, по мысли радикалов, у них было явное преимущество перед истэблишментом. Постольку, поскольку (согласно Конту) прогресс человечества выражается в неуклонном расширении интеллектуальных горизонтов,— от религиозно-магических воззрений к философски-метафизическим и от них к эмпирикопозитивистским,— распространение высшей, позитивистско-материалистической формы мышления само по себе является мощнейшим катализатором перемен. Перед ним не устоит ничто, ибо оно подрывает самые устои системы. Сила идей разрушит государства, церкви, экономические системы и общественные институты. Парадоксально, но торжество материализма будет обеспечено действием идей.
Отсюда вытекает, что интеллигенции суждено сыграть судьбоносную роль. Определенная левыми публицистами в узком смысле, то есть как общественный слой, исповедующий позитивистско-материалистические взгляды, интеллигенция являла собою острие исторического клина, позади которого следовали массы. Один из главнейших догматов всех радикальных течений того времени заключался в том, что интеллигенция является основной движущей силой общественного прогресса. Социал-демократы, которые приобрели популярность только в 1890-х гг., первыми отказались от этого положения и выдвинули на первый план безличные экономические силы. Однако важно отметить, что большевизм, бывший единственным порождением русской социал-демократии, в конце концов добившимся успеха, счел необходимым отказаться от опоры на безличные экономические силы, которые как-то тянули в сторону от революции, и вернуться к традиционному акценту на интеллигенцию. Согласно ленинской теории, революцию могут сделать только кадры профессиональных революционеров, иными словами, никто иной, как интеллигенция, поскольку мало кто из рабочих и крестьян мог целиком посвятить себя революционной работе.
Между 1860-ми и 1880-ми гг. движение радикалов, или, как их тогда называли, «социалистов-революционеров», претерпевало безостановочную эволюцию в результате приводившей его в большое расстройство неспособности достичь хотя бы одной из своих целей. Перемены затрагивали лишь тактику. Сама цель (упразднение государства и всех связанных с ним учреждений) оставалась прежней, и точно так же сохранялась вера в позитивистскоматериалистические принципы, но каждые несколько лет, с новыми наборами в университеты, разрабатывалась новая тактика борьбы. В начале 1860-х гг. считали, что достаточно самого факта разрыва с умирающим миром; остальное произойдет само собой. Писарев призывал своих последователей бросить все другие занятия и интересы и сосредоточиться на изучении естественных наук. Чернышевский звал рвать с семьей и вступать в трудовые коммуны. Однако складывалось впечатление, что методы эти никуда не ведут, и около 1870 г. радикальная молодежь стала проявлять все больший интерес к недавно освобожденному крестьянину. Ведущие теоретические светила этого периода, Михаил Бакунин и Петр Лавров, призывали молодежь бросать университеты и отправляться в деревню. Бакунину хотелось, чтобы молодежь несла туда знамя немедленного бунта. Он считал, что мужик является прирожденным анархистом, и чтобы разжечь пожар в деревне, достаточно лишь искры. Искру эту в виде революционной агитации должна занести интеллигенция. Лавров предпочитал более постепенный подход. Чтобы сделаться революционером, русский крестьянин должен подвергнуться пропаганде, которая откроет ему глаза на несправедливости в указе об освобождении, на причины его экономических бедствий и на сговор между богатеями, государством и церковью. Весной 1874 г. несколько тысяч молодых людей, вдохновленных этими идеями, бросили ученье и отправились в народ. Здесь их ожидало разочарование. Мужик, знакомый им в основном по художественной литературе и полемическим трактатам, не желал иметь дела с явившимися его спасать студентами-идеалистами. Подозревая низменные мотивы (с которыми он единственно был знаком из своего опыта), он либо игнорировал их, либо передавал их уряднику. Однако худшее разочарование было связано не с враждебностью мужика, которую можно было списать за счет его темноты, а с его нравственными устоями. Радикальная молодежь с презрением относилась к собственности, особенно та часть ее, которая происходила из состоятельных семей; тяга к обогащению ассоциировалась для нее с отвергнутыми ею родителями. Посему она идеализировала сельскую общину и артель. Мужик же, перебивавшийся с хлеба на воду, смотрел на вещи совсем иначе. Он отчаянно стремился разжиться собственностью и не отличался особой разборчивостью в методах ее приобретения. По его представлениям, новый общественный строй должен был быть устроен так, чтобы он мог занять место помещика-эксплуататора. Интеллигенты могли предаваться разговорам о бескорыстном братстве, находясь на иждивении у родителей или у правительства (дававшего им стипендии) и поэтому не имея нужды конкурировать друг с другом. Мужик же вечно боролся за скудные ресурсы и оттого смотрел на конфликт (в том числе с применением силы и обмана) как на вполне нормальное явление. [Быть может, здесь будет уместно заметить, что случившаяся в октябре 1917 г. революция смела старую европеизированную верхушку и привела к власти новую элиту, с деревенскими корнями и соответствующей психологией. Вот одна из необъясненных тайн русской истории: почему радикальная интеллигенция, немало узнавшая о крестьянской психологии, тем не менее ожидала, что крестьяне сделаются бескорыстными социалистами?].
Эти разочарования привели к расколу радикального движения на враждующие фракции. Одна группа, получившая имя народников, решила, что интеллигенции негоже навязывать массам свои идеалы. Трудящиеся всегда правы. Интеллигент должен поселиться в деревне и учиться у крестьян, а не поучать их. Другая группа была убеждена, что такой подход означает отказ от революции, и стала склоняться к терроризму (см. ниже, стр. #388). Третья приобрела интерес к западной социал-демократии и, заключив, что пока капитализм не сделал своего дела, никакие социальные революции в России невозможны, приготовилась к долгому и терпеливому ожиданию.
Число активных радикалов в России всегда было совсем невелико. Статистика политических репрессий, составленная полицией, которая никак не истолковывала сомнений в пользу подозреваемых, показывает, что активисты составляли ничтожно малый процент населения страны (см. ниже, стр. #411). Опасными их делало поведение широкой публики в разгорающемся конфликте между левыми радикалами и властями. В борьбе с радикальными выступлениями императорское правительство неизменно проявляло излишнее усердие, проводя массовые аресты там, где хватило бы самых умеренных мер, и прибегая к ссылке там, где достаточным наказанием был бы арест и кратковременное задержание. Посредством всевозможных полицейско-бюрократических ухищрений, подробно очерченных в следующей главе, правительство все больше ограничивало гражданские права всех жителей России, отталкивая этим от себя законопослушных граждан, которые в противном случае не захотели бы иметь с оппозицией ничего общего. Радикалы быстро сообразили, насколько им на руку чрезмерное правительственное рвение, и разработали хитроумную тактику «провокации», то есть искусственного вызова полицейских жестокостей как средства привлечения к себе и к своему делу общественных симпатий. Результатом этого явилось постепенное полевение общественного мнения. Средний либерал ума не мог приложить, как вести себя в разгорающемся общественном конфликте. Он не одобрял насилия, но в то же время видел, что и власти не желают оставаться в рамках закона; выбор его лежал не между законопорядком и насилием, а между двумя видами насилия — насилием, осуществляемым всемогущим (на первый взгляд) государством, и насилием заблуждающейся, но (на первый взгляд) идеалистической и жертвенной молодежи, борющейся за то, в чем она видит общественное благо. Поставленный перед таким выбором либерал чаще всего отдавал предпочтение радикализму. Дилемма такого рода ясно отражена в сочинениях Тургенева, бывшего в этом отношении типическим западником и либералом. Но полностью не мог уйти от нее даже такой архиконсерватор, как Достоевский. Хотя он в лучшем случае называл радикализм бесовщиной, Достоевский как-то признался другу, что если б он услышал разговор гипотетических террористов о бомбе, подложенной в Зимнем Дворце, он не смог бы донести на них в полицию из-за боязни «прослыть доносчиком» и быть обвиненным либералами в «сообщничестве». [Дневник А. С. Суворина, М.-Петроград, 1923, стр. 15-16].
Колеблющееся, нерешительное, часто терзаемое противоречиями пополнение из рядов политического центра было для радикалов важнейшим приобретением. Техника умышленного подталкивания правительства на крайне правые позиции, в сторону насильственных эксцессов, впервые разработанная русскими радикалами конца XIX в., с тех пор является мощнейшим оружием радикального арсенала. Она парализует либеральный центр, побуждает его объединиться с левыми в борьбе с занимающим все более крайние позиции правым крылом и так в конечном итоге обеспечивает самоуничтожение либерализма.
Консервативное движение в России при Александре II и Александре III появилось как реакция на радикализм и в ходе борьбы с ним переняло многие его качества. Оно было движением «правого радикализма», отличающегося презрительным отношением к либерализму и склонностью к бескомпромиссным позициям в духе «все или ничего». [Мои взгляды на русский консерватизм излагаются более подробно в докладе, прочитанном на XIII Международном Историческом Конгрессе. Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth Century (Москва, 1970)]. Движение это пошло с критики «нигилизма», внезапное появление которого вызвало в русском обществе большое замешательство. Что это за тип, который отвергает все, чем дорожат другие, демонстративно пренебрегает всеми условностями, и откуда он взялся? В этом заключался центральный вопрос консервативного направления в императорской России. Схватка в большой степени шла по поводу будущего русского национального типа, и «новому человеку» радикалов противопоставлялась не менее идеализированная модель человека, так сказать, «почвенного».
Недуг, породивший «нигилизм» (этот термин обозначал отрицание всех ценностей), диагностировался как отрыв теории и теоретиков от реальной жизни. Консерваторы недоверчиво относились ко всяким абстракциям и тяготели к философскому номинализму; когда их вынуждали к генерализациям, они предпочитали языку механики термины биологии. В качестве образцового интеллекта они превозносили хомяковское «живое знание». В отрыве от опыта интеллект впадает во всяческие заблуждения, в том числе убеждение, что способен полностью изменить природу и человека. Эта претензия в адрес радикалов сильно походила на обвинения, выдвинутые столетием раньше против Новикова Екатериной II, хотя сам Новиков, разумеется, никаким таким заблуждениям подвержен не был. Согласно доводам консервативных теоретиков, оторванность мысли от жизни приобрела в России трагические масштабы по вине педагогических методов, принятых после Петра. Образование западное, а национальная культура, все еще сохраняемая в первозданном виде среди простого народа, — славянская и православная. Из-за своего образования высший класс России, из которого вышел «нигилизм», оторван от родной почвы и обречен на духовное бесплодие, естественным проявлением которого служит манера все отрицать. Как писал Иван Аксаков, «вне народной почвы нет основы, вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль благая, всякое учреждение, не связанное корнями с исторической почвой народной, или не выросшее из нее органически, не дает плода и обращается в ветошь». [Иван Аксаков, Сочинения. 2-е изд., СПб., 1891, II. стр. 3-4]. А редактор «Русского вестника» Михаил Катков давал «нигилизму» героя «Отцов и детей» такой диагноз:
Человека в отдельности нет; человек везде есть часть какой-нибудь живой связи, какой-нибудь общественной организации ...Человек, взятый отдельно от среды, есть не более как фикция или отвлеченность. Его нравственная и умственная организация, или говоря вообще, его понятия только тогда действительны в нем, когда он преднаходит их как организующие силы среды, в которой привелось ему жить и мыслить. [Русский вестник, т. 40, июль 1862, стр. 411].
Радикалы тоже подчеркивали коллективистскую природу человека, однако в их глазах коллектив свободно складывался людьми, порвавшими со средой, в которую поместила их прихоть рождения, тогда как для консерваторов он был реальной, исторически сложившейся средой, и ничем больше. Достоевский вообще провел прямую связь между западным образованием и жаждой убийства. Он назвал безобидного профессора средневековой истории, видного западника Т. Грановского, как и Белинского» «отцами» Нечаева — анархиста, организовавшего убийство невинного юного студента: история эта послужила сюжетом для «Бесов».[Ф. М. Достоевский, Письма, т. III, М.-Л., 1934, стр. 50]. В «Братьях Карамазовых» рационалист-западник Иван является главным виновником отцеубийства.
Первостепенным долгом интеллигенции является обретение утерянной почвы; ей надо идти в народ, но не в том буквальном смысле, в каком за это ратовали Бакунин с Лавровым, а в духовном, как призывают славянофилы. Она должна погрузиться в народную толщу и стремиться к растворению в ней. Интеллигенция есть отрава в теле России, и единственным противоядием от нее является «народность».
По мере обострения борьбы между радикалами и властью политическая философия консерватизма претерпела значительные изменения. В принципе, консерваторы, подобно славянофилам, хотели способа правления без парламентарной демократии или бюрократического централизма, правления в духе мифического древнего строя Московской Руси. Суть дела не в учреждениях, а в человеке. Консерваторы полностью отвергали точку зрения Базарова, служившего воплощением «нигилизма» в «Отцах и детях», о том, что «при правильном устройстве общества, совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр». Без добротного материала «правильно устроенного общества» быть не может; и, в любом случае, есть пределы усовершенствования любого общества, поскольку человек по природе своей развращен и порочен. Достоевский, чей пессимизм был глубже, чем у большинства русских консерваторов, смотрел на человека как на прирожденного убийцу, инстинкты которого обуздываются в основном страхом божественного возмездия после смерти. Если человек утратит веру в бессмертие души, удержать его кровожадные инстинкты будет нечем. Отсюда вывод о необходимости сильной власти.
По мере обострения конфликта между левыми и режимом большинство консерваторов безоговорочно поддерживали режим, что само по себе вело к исключению их из рядов интеллигенции. Постепенно крепчали их ксенофобия и антисемитизм. В Победоносцеве, незримой руке за троном Александра III, консерватизм обрел своего Великого Инквизитора.
«Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года». [И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем; Сочинения, т. IX, М.-Л., 1965, стр. 119]. С первого взгляда эта тургеневская фраза производит странное впечатление. Однако смысл ее прояснится, если рассматривать ее в контексте судьбоносного спора, завязавшегося в России между радикальной интеллигенцией и писателями и художниками.
Литература была первым поприщем в России, порвавшим узы вотчинного раболепства. Со временем за нею последовали и другие области духовной деятельности: изобразительное искусство, гуманитарные и естественные науки. Можно сказать, что к середине XIX в. «культура» и преследование материального интереса были единственными сферами, в которых режим позволял своим подданным подвизаться более или менее нестесненно. Однако, поскольку, как отмечалось в начале этой главы, преследование материального интереса шло в России рука об руку с полным политическим подобострастием, возможную базу для оппозиции составляла одна культура. Естественно поэтому, что она постепенно все больше политизировалась. Можно категорически утверждать, что при старом режиме ни один великий русский писатель, художник или ученый не поставил свое творчество на службу политике. Немногие, кто так сделал, были посредственностями. Между политикой, которая требует дисциплины, и творчеством, нуждающимся в свободе, есть коренная несовместимость, ибо из них получаются в лучшем случае плохие союзники, но чаще всего — смертельные враги. В России, однако, вышло так, что люди творчества испытывали чудовищное давление со стороны стоявшей слева от центра интеллигенции, требовавшей, чтобы они предоставили себя и свои произведения в распоряжение общества. От поэтов требовали писать романы, а от романистов — разоблачения социальных язв. Художников просили своим искусством дать всем, а особенно неграмотному люду, зримое изображение страданий, испытываемых массами. Ученых призывали заняться проблемами, имеющими неотложное социальное значение. Западная Европа тоже не обошлась без такого утилитарного подхода, однако в, России голос его сторонников звучал куда громче, поскольку культура, а особенно литература, занимали в ней такое уникальное положение. Как говорил верховный жрец утилитарной эстетики Чернышевский:
В странах, где умственная и общественная жизнь достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература. Потому как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было — другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности. В Германии, например, повесть пишется почти исключительно для той публики, которая не способна читать ничего, кроме повестей,— для так называемой «романной публики». У нас не то: повесть читается и теми людьми, которые в Германии никогда не читают повестей, находя для себя более питательное чтение в различных специальных трактатах о жизни современного общества. У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов. То, о чем говорит Диккенс, в Англии, кроме его и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов. Потому, если бы Диккенс и мог не чувствовать на себе, как беллетристе, прямой обязанности быть выразителем стремлений века, так как не в одной беллетристике могут они находить себе выражение, — то у нас беллетристу не было бы такого оправдания. А если Диккенс или Теккерей все[-таки] считают прямою обязанностью беллетристики касаться всех вопросов, занимающих общество, то наши беллетристы и поэты должны еще в тысячу раз сильнее чувствовать эту свою обязанность. [Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода», в его Эстетика и литературная критика. Избранные статьи, М.-Л., 1961, стр. 338].
Ключевым словом в этом отрывке является «обязанность», повторенная в нем четырежды. Утилитарная критическая школа, с 1860 по 1890 г. занимавшая в России практически монопольное положение, диктовала, что священным долгом всякого писателя, а особенно писателя русского, является «быть выразителем стремлений века», иными словами, перо его должно быть поставлено на службу политическим и социальным чаяниям народа. Молодой Писарев выдвинул теорию утилитарной эстетики в ее самой крайней форме. Оперируя принципом сохранения энергии, он доказывал, что отсталое общество не может позволить себе такой роскоши, как литература, не обслуживающая потребностей социального прогресса. Ум был для него формой капитала, нуждающегося в бережливом использовании. «Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны», писал он в эссе «Реалисты», заключая, что писание (и чтение) литературы, имеющей главным образом развлекательное назначение, являет собою непростительное разбазаривание народных ресурсов.
В полемике между утилитаристами и приверженцами «искусства для искусства» основные раздоры вертелись вокруг Пушкина. До 1860-х гг. его место в русской литературе не вызывало сомнений. Его чтили не только как величайшего русского поэта и основоположника русской литературы, но и как новый национальный тип. Пушкин, писал Гоголь, — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». [Н. В. Гоголь, «Несколько слов о Пушкине», Собрание сочинений, М., 1950, VI, стр. 33]. Но известно, что Пушкин не выносил людей, хотевших, чтобы искусство служило каким-то посторонним целям. Для него «цель поэзии — поэзия», а «поэзия выше нравственности». [Цит в С. Балухатый. ред.. Русские писатели о литературе, т. 1, Л., 1939, стр. 109]. Именно из-за таких его взглядов критики из радикалов избрали Пушкина главной своей мишенью, усматривая в нем главный бастион идеализма, который они вознамерились повергнуть. Для Чернышевского концепция искусства, служащего самому себе, отдавала черствостью, граничащей с изменой. Как он говорил, «бесполезное не имеет права на существование». [Цит в [Е. Соловьев] Андреевич, Опыт философии русской литературы, 2-е изд., СПб, 1909. стр. 6]. Он неоднократно обрушивался на Пушкина не только как на человека безответственного и бесполезного, но и как на второразрядного стихотворца, всего-навсего подражателя Байрона. Enfant terrible своего поколения Писарев окрестил Пушкина «возвышенным кретином». [Д. И. Писарев, Сочинения, т. 3, М., 1956, стр. 399]. Бесконечные кампании такого сорта не только подорвали на время пушкинскую репутацию, но и имели весьма расхолаживающее действие на всех, не считая самых великих литературных и художественных дарований.
Великие отвечали ударом на удар. Они отказывались служить пропагандистами, будучи убеждены, что коли у них и имеется социальная роль, то состоит она в том, чтобы быть верным зеркалом жизни. Когда А. С. Суворин стал сетовать Чехову на то, что писатель не выносит в своих рассказах нравственных оценок, тот ответил:
Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. [Письмо А. С. Суворину (I апреля 1890) в Письма А, П. Чехова, т. III, M., 1913, стр. 44].
А Толстой коротко, но ясно высказался на эту тему в письме к П. А. Боборыкину:
Цели художника несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых ее проявлениях. [Письмо 1865 года, цит. в Балухатый, ред., Русские писатели, т. II. стр. 97].
Раздоры эти имели куда большее значение, чем может показаться из их литературной оболочки. Речь шла не об эстетике, а о свободе художника (и, в конечном итоге, каждого человека) быть самим собою. Радикальная интеллигенция, борющаяся с режимом, который традиционно стоял на принципе обязательной государственной службы, сама начала заражаться служилой психологией. Убеждение, что литература, искусство и (в несколько меньшей степени) наука прежде всего имеют обязанности перед обществом, сделалось в левых кругах России аксиомой. Социал-демократы как большевистского, так и меньшевистского толка настаивали на этом до конца. Поэтому нечего удивляться, что, добравшись до власти и завладев аппаратом подавления, давшим им возможность воплотить свои теории на практике, коммунисты скоро отняли у русской культуры свободу выражения, которую она сумела отвоевать при царском режиме. Так интеллигенция обратилась против самой себя и во имя общественной справедливости наступила обществу на горло.
ГЛАВА 11. НА ПУТИ К ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Из отсутствия в России крепкой традиции самоуправления отнюдь не следует, что в ней существовала традиция бюрократического централизма. До прихода к власти коммунистического правительства российский бюрократический аппарат был сравнительно невелик и неэффективен. Развитие бюрократизации сдерживали такие внушительные препятствия, как обширность страны, сильная рассредоточенность населения, затруднительность сообщения и (что, может быть, наиболее важно) недостаток средств. Российские правительства были вечно стеснены в деньгах и предпочитали тратить все наличные средства на армию. При Петре I на управление в России, которая уже тогда была самым пространным государством мира, уходило 135-140 тыс. рублей в год, т. е. от 3% до 4% национального бюджета. [Ю. Готе, История областного управления в России от Петра I до Екатерины II, М., 1913, I. стр. 499. и М. Богословский, Областная реформа Петра Великого, М.. 1902, стр. 263]. Насколько скудна была эта сумма, можно понять из следующего примера. Порядок, царивший в Ливонии, которую Петр отвоевал у Швеции, произвел на него такое сильное впечатление, что в 1718 г. он велел произвести исследование тамошней административной системы. Исследование показало, что шведское правительство расходовало на управление провинцией размером тысяч в 50 кв. км столько же денег, сколько российское выделяло на управление всей империей площадью свыше 15 миллионов кв. км. Не пытаясь совершить невозможное и скопировать шведские методы, Петр разрушил систему управления в Ливонии. [Богословский. Областная реформа, стр. 262].
Российская бюрократия представала незначительной не только в бюджете страны; она также была невелика в процентном отношении к населению государства. В середине XIX века в России было 12-13 чиновников на 10 тыс. человек населения, т. е. пропорционально раза в три-четыре меньше, чем в странах Западной Европы того же периода. [S. Frederick Starr, Decentralization and Self-Government in Russia, 1830-1870 (Princeton 1972), p. 48].
В Московской Руси и в период империи в бюрократической машине, пользовавшейся широкими полномочиями и известной своим крайним своеволием, ощущался явный недостаток чиновников. Препятствия, преграждавшие путь широкой бюрократизации, были сняты только в октябре 1917 года с захватом власти большевиками. К тому времени средства транспорта и связи усовершенствовались до такой степени, что ни расстояния, ни климат уже не мешали центральной власти жестко контролировать самые отдаленные провинции. Деньги тоже больше не представляли проблемы: проведенная под лозунгом социализма экспроприация производительного капитала страны предоставила в распоряжение нового правительства все ресурсы, необходимые ему для целей управления, снабдив его в то же время законным предлогом для создания гигантского бюрократического аппарата, на который оно могло тратить приобретенные средства.
Порядок управления, существовавший в России до 1917 г., основывался на своеобразной откупной системе, имевшей мало общего с бюрократическим централизмом или с самоуправлением. Прототипом ее являлся существовавший в Московской Руси институт кормления, при котором чиновничеству предоставлялась по сути дела неограниченная свобода эксплуатировать страну; взамен от него требовалось только отдавать государству установленную долю. Корону мало заботило, что происходит с излишком, выжатым из населения. Екатерина Вторая с очаровательной откровенностью объясняла французскому послу эту систему в применении ко двору:
Король французский никогда не знает в точности размер своих расходов; ничто не упорядочивается и не устанавливается заранее. Мой же план, напротив, заключается в следующем: я устанавливаю ежегодную сумму, всегда одну и ту же, на расходы, связанные с моим столом, мебелью, театрами и празднествами, моими конюшнями, короче, со всем моим хозяйством. Я приказываю, чтобы на разные столы в моем дворце подавалось такое-то количество вина и такое-то число блюд. То же самое и во всех других областях управления. Покуда мне поставляют, качественно и количественно, то, что я приказала, и никто не жалуется, что его обошли, я считаю себя удовлетворенной; я мало беспокоюсь о том, что помимо установленной суммы от меня утаят хитростью или бережливостью... [М. Le Comte de Segur, Memoires (Paris 1826), II, стр. 297].
В принципе такая же система преобладала на всех ступенях российского управления по крайней мере до второй половины XIX века.
Ставшее притчей во языцах взяточничество русских чиновников (особенно провинциальных, и уж тем более в губерниях, удаленных от центральных городов) не было следствием каких-то особых черт русского национального характера или ничтожности людей, избиравших административное поприще. Оно порождалось правительством, которое, не имея средств на управление, не только веками не платило жалованья своим чиновникам, но и прямо советовало им «кормиться от дел». В Московской Руси право чиновников набивать себе карманы в какой-то степени регулировалось тем, что они могли занимать должности в провинции только в течение строго определенного срока. Чтобы воеводы, назначенные на хлебные должности в Сибирь, не превосходили некоего считавшегося разумным порога вымогательства, правительство выставляло на ведущих из Сибири к Москве трактах заставы, которые обыскивали возвращавшихся воевод и их семейства и отбирали у них излишки. Чтобы уйти от этого, лукавые воеводы, как тати ночные, возвращались домой окольными путями.
Петр Великий предпринял смелую попытку положить конец таким порядкам, когда чиновники, на бумаге служившие короне, на деле являлись мелкими сатрапами и заботились в основном о своем собственном благополучии. В 1714 г. он запретил жаловать поместья чиновникам центральных приказов и отменил систему кормления для провинциальных чиновников. Отныне все государственные служащие должны были получать жалованье. Эта реформа не увенчалась успехом по недостатку средств. Даже при строгом петровском режиме только чиновники центральных ведомств Петербурга и Москвы получали жалованье, да и то нерегулярно; провинциальные же чиновники продолжали жить за счет местного населения. В 1723 г. четверть средств, выделенных на оплату государственных служащих, пришлось задержать для частичного покрытия бюджетного дефицита. Как отмечает австрийский путешественник Иоанн Корб, во времена Петра российские начальники должны были давать взятки собственным коллегам, чтобы получить причитающееся им жалованье. При ближайших преемниках Петра казна пришла в еще большее расстройство, дела шли все хуже и хуже. Например, в 1727 г. выплата жалованья большинству категорий подьячих была официально отменена, и чиновникам было предложено кормиться от дел. Положение несколько выправилось при Екатерине Второй, которая проявила большой интерес к провинциальному управлению и велела значительно увеличить отпускаемые на него средства; в 1767 г. для этой цели была ассигнована четверть бюджета. Также были приняты меры к тому, чтобы жалованье чиновникам выплачивалось вовремя. Коренная проблема, однако, оставалась нерешенной. Во время и после царствования Екатерины жалованье государственных служащих оставалось на таком низком уровне, что большинство чиновников не могли свести концы с концами и вынуждены были искать дополнительных источников дохода. В царствование Александра I младшие подьячие получали от одного до четырех рублей жалованья в месяц. Даже принимая во внимание дешевизну продуктов и услуг в России, этого было далеко недостаточно, чтобы прокормить семью. Затем, жалованье выплачивалось бумажными деньгами (ассигнациями), которые, спустя некоторое время после их первого выпуска в 1768 г., сильно упали в цене и в царствование Александра I шли, в пересчете на серебряные деньги, за одну пятую номинальной стоимости. Таким образом, реформы Петра и Екатерины не изменили ни экономического положения чиновничества, ни порождаемого им отношения администрации к обществу. Наподобие посланцев татарского хана, чиновники, назначенные управлять провинциями, в основном выступали в роли сборщиков налогов и вербовщиков; они не были, что называется, «слугами народа».
Вследствие отсутствия абстрактной, самодовлеющей идеи государства, чиновники не служили «государству», а сперва заботились о себе и потом уж о царе; вследствие отождествления бюрократического аппарата и государства, чиновники были неспособны провести различие между частной и казенной собственностью. [Hans-Joachim Torke, «Das Russische Beamtentum in der ersten Halfte des 19 Jahrhunderts». Forschungen zur Osleuropdischen Geschichle. т. 13 (Berlin I967), стр. 227].
Таким образом, коррупция в бюрократическом аппарате дореволюционной России не была аберрацией, отклонением от общепринятой нормы, как бывает в большинстве других стран, она являлась неотъемлемой частью установившейся системы управления. Чиновники приучились жить за счет населения со времени основания Киевского государства. Как ни старалось правительство, у него не хватало сил искоренить этот обычай. Так оно и шло. За столетия мздоимство на Руси обзавелось тщательно разработанным этикетом. Проводилось различие между безгрешными и грешными доходами. Критерием различия была личность жертвы. «Грешными» считались доходы, добытые за счет короны через растрату казенных денег или намеренное искажение отчетов, затребованных начальниками из центра. «Безгрешные» доходы создавались за счет общества; они включали в себя прибыль от вымогательства, суммы, взимаемые судьями за решение дела в пользу давателя, а в основном — взятки, даваемые на ускорение дел, которые граждане вели с правительством. Нередко бывало, что получатель «грешной» взятки, согласуясь с неписаным тарифом, давал сдачу. Правительственные ревизоры, во всяком случае, при Петре и его преемниках, нередко безжалостно преследовали виновных в ущемлении государственных интересов. Они, однако, нечасто вмешивались, когда страдали простые граждане. Чем выше ранг, тем большую возможность сколотить состояние за счет общества имел чиновник. Для этого использовалась такая масса приемов, что лишь малую часть из них можно привести в качестве иллюстрации. Вице-губернатор, в обязанности которого входило удостоверение качества продаваемой в его губернии водки, за соответствующую мзду от владельцев спирто-водочных заводов мог записать разбавленную водку как чистую. Поскольку жертвой в данном случае был потребитель, если бы даже эта проделка случайно открылась, никого не привлекли бы к суду. Губернаторы отдаленных губерний иногда ложно обвиняли богатых местных купцов в каком-либо преступлении и заключали их в тюрьму, пока те не откупались. Лихоимство было тонким, даже изящным ремеслом. Хорошим тоном считалось давать взятки не напрямик. Например, жертвовалась щедрая сумма на «благотворительное» предприятие, возглавляемое женой управителя, или продавалось тому же начальнику какое-то имущество за полцены, или покупалось у него что-либо (картина, к примеру) втридорога. М. Е. Салтыков-Щедрин, бывший в начале царствования Александра II вице-губернатором в Тверской и Рязанской губерниях, писал, что вкладывать капитал во взятки лучше, чем в банк, поскольку в этом случае есть гарантия от нередко весьма разорительных придирок со стороны властей.
Рядовым губернским чиновникам приходилось сводить концы с концами при помощи взяток и копеечного вымогательства. Чтобы пояснить, как функционировала эта система, лучше всего процитировать эпизод из «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина, где художественными средствами описывается вполне реальная ситуация. Герой повествования, мелкий губернский чиновник николаевской школы, захлестнутый реформами Александра II, ностальгически рассуждает о прошлом:
Брали мы, правда, что брали — кто Богу не грешен, царю не виноват? Да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать; как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, все разговором занимаются, и все больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок — не слыхать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего.
Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, все дочиста спустишь — как быть? ну, и идешь к исправнику.
— Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги! Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: «Вы, мол, сукины дети, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, все в кабак да в карты!» А потом и скажет: «Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать сбирать.» Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.
И ведь как это все просто делалось! Не то чтобы истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.
— Ну, мол, ребятушки, выручайте! Царю-батюшке деньги надобны; давайте подати!
А сам идешь себе в избу, да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение; вдруг все заговорят и руками замахают, — да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе, да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: «Будет, мол, вам разговаривать — барин сердится.» Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего. Начнут жеребий кидать — без жеребья русскому мужичку нельзя. Это, значит, дело идет на , лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.
— Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой царем-то быть? Ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!
И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: я, дескать, взяток не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной! — нет, этак лаской да жаленьем, чтобы насквозь его, сударь, прошибло!
— Да нельзя ли, батюшка, хоть до Покрова обождать? — Ну, натурально, в ноги.
— Обождать-то, для-че не обождать, это все В наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду — судите сами.
Пойдут ребята опять на сход, потолкуют — потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь,сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четыреста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее. [Н. Щедрин (М. Салтыков), Губернские очерки, в его Собрании сочинений, М., 1951, I, стр. 59-60].
Подобные чиновники населяют страницы русской литературы от Гоголя до Чехова; некоторые из них добродушны и мягкосердечны, другие властны и жестоки, но и те и другие живут за счет населения, как будто бы они были чужеземными завоевателями среди покоренного народа. Их сообщество напоминало тайный орден. Они предпочитали водиться только с себе подобными, пресмыкаясь перед начальством и попирая нижестоящих. Им по душе была иерархическая лестница чинов с автоматическим продвижением по службе; они были частью ее и все, существующее вне этой системы, почитали за разгул анархии. Они инстинктивно изгоняли из своей среды чересчур усердных и щепетильных, поскольку система требовала, чтобы все были замешаны в лихоимстве и так скованы круговой порукой.
Как и всякий замкнутый иерархический орден, российская бюрократическая машина создала изощренный набор символов, предназначенных для различения чинов. Эта символика была упорядочена в царствие Николая I и изложена в 869 параграфах первого тома Свода Законов. Из соображений этикета чины разделялись на несколько категорий, к каждой из которых надлежало обращаться согласно соответствующему титулу, переведенному с немецкого. Обладатели высших двух чинов должны были [зваться «Ваше Высокопревосходительство» (Euer Hochwohlgeboren), состоявшие в третьей и в четвертой категориях — «Ваше Превосходительство» — (Euer Wohlgeboren), и так далее по нисходящей; к чинам девятой-четырнадцатой категорий обращались просто «Ваше Благородие» (Euer Wurden). Каждой ступени сопутствовал и уместный мундир, предназначенный специально для нее и разработанный до последней портновской детали; повышение с белых брюк до черных было событием эпохального значения в чиновничьей жизни. Носители орденов и медалей (Св. Владимира, Св. Анны, Св. Георгия и т. п., (которых тоже было несколько классов)) также имели право на всяческие отличия.
Честные управители встречались почти всегда только в центре, в министерствах или соответствующих им учреждениях. Идея государственной службы как служения обществу была совершенно чужда русскому чиновничеству; она была завезена с Запада, в основном из Германии. Именно прибалтийские немцы впервые показали русским, что чиновник может использовать свою власть для служения обществу. Правительство империи высоко ценило) этих людей, и они удостоились непропорционально большой доли высших чинов; среди административной элиты империи было немалое количество иностранцев, в особенности лютеран. Многие лучшие чиновники являлись выпускниками двух специальных учебных заведений Царскосельского Лицея и Императорской Школы Юриспруденции.
Почти непроходимая пропасть лежала между управителями, служившими в центральных канцеляриях Петербурга и Москвы, и чиновниками губернской администрации. Последние почти не имели шанса когда-либо выдвинуться на должности в одной из столиц, тогда как служащие, по своему происхождению, образованию или богатству начавшие взбираться, по лестнице карьеры в центральном управлении, редко попадали в провинцию, кроме как чтобы занять пост губернатора или вице-губернатора. Эта пропасть усугубляла существовавший издревле раскол между дворянской элитой, внесенной в служебные московские книги, и простым губернским дворянством. Bo-вторых, опять-таки в соответствии с московской традицией, чиновничество империи проявляло ярко выраженную тенденцию замыкаться в закрытую наследственную касту. Чиновники по большей части были сыновьями чиновников, и священнослужители, купцы и прочие простолюдины, пришедшие на государственную службу со стороны, тоже чаще всего пытались ввести своих сыновей на чиновничье поприще. Мало-мальски знатные дворяне редко поступали на государственную службу, отчасти из-за невеликой ее престижности, отчасти потому, что жесткая система рангов вынуждала их конкурировать с чиновниками, гораздо ниже их стоящими по образованию и социальному положению. Положение это стало меняться только к концу царского режима, когда среди высших классов пошла мода поступать на правительственную службу.
Поскольку столичное и провинциальное чиновничество почти не общалось друг с другом, дух общественного служения, зародившийся в первом, почти не просачивался в страну, и для подавляющего большинства чиновников своекорыстие и мздоимство были стилем жизни; им и в голову не приходило, что может быть иначе. Именно это имел в виду Карамзин, говоря, что «если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут.» [П. А. Вяземский, «Старая записная книжка», Полное собрание сочинений Князя П. А. Вяземского. СПб., 1883, стр. 113].
В Московской Руси и во времена империи повальное лихоимство чиновничества было симптомом более глубокого недуга — беззакония, верным спутником которого оно всегда является.
До судебной реформы 1864 г. (а отчасти и после нее, но об этом ниже) Россия не знала независимого судопроизводства. Юстиция была ответвлением административной системы, и посему основной ее заботой было проведение в жизнь воли государства и охрана его интересов. Неразвитость правосознания в России нигде не выступает так явственно, как в дожившем до самой грани новейшего времени традиционном представлении о том, что преступления, совершенные гражданами друг против друга и чиновниками против граждан, общественности не касаются.
В Риме судопроизводство было отделено от администрации ко второму веку до н. э.. В странах с феодальной традицией, т. е. в большей части Западной Европы, это разделение произошло к концу средневековья. В Англии к концу XIII столетия уже проводилось различие между судебными королевскими чиновниками и его административными и фискальными агентами. Во Франции суд, известный под именем Парижского парламента, также утвердился к этому времени как самостоятельный институт. Россия в этом смысле напоминала древние восточные монархии, где царские чиновники, как правило, отправляли правосудие в рамках своих административных обязанностей. В Московском государстве в каждом приказе имелось судебное отделение, функционировавшее по своей собственной юридической системе и имевшее власть над гражданами, входившими в административную компетенцию приказа, — точно так же, как обстояло дело в крупных поместьях удельного периода. Помимо того, воеводы отправляли правосудие в своих владениях. А церковь — в своих. Тяжкие преступления против государства рассматривались царем и его советом.
Как и можно было предположить, попытки учредить независимое судопроизводство делались Петром и особенно Екатериной, но и тот и другая столкнулись с непреодолимыми трудностями, не последней из которых было отсутствие свода законов. Единственный имевшийся свод законов (Уложение 1649 г.) стал малоприменимым в послепетровскую эпоху, да и в любом случае в нем было мало указаний на то, как быть с тяжбами между подданными. Даже если бы судье XVIII века вдруг пришла охота сыскать закон, относящийся в лежащему перед ним делу, он бы его не откопал. Так продолжалось до царствования Николая I, когда правительство наконец опубликовало собрание законов, начиная с 1649 г., за которым последовало издание нового Свода. Однако, поскольку судебная процедура оставалась традиционной, россияне избегали тяжбы, как чумы. До реформы 1864 г. правительство не возбуждало уголовных дел, за исключением тех случаев, когда затрагивались его собственные интересы; судебное разбирательство по уголовным и всем гражданским делам происходило по ходатайству пострадавшего и обыкновенно уподоблялось торгам, на которых верх одерживал тот, кто предлагал всемогущему секретарю суда большую мзду. Все это имело крайне пагубное воздействие на весь строй русской жизни. Модная теория, происходившая от Маркса, утверждает, что суды и законы создаются для того, чтобы служить интересам правящего класса. Однако исторический опыт показывает, что дело обстоит как раз наоборот. Чтобы поставить на своем, стоящие у власти не нуждаются в судах и законах; в них нуждаются бедные и слабые. Тому, кто сомневается в истинности этого положения, достаточно будет сравнить общее положение низших классов и их чувство уверенности в себе в районах со слабо развитой традицией судопроизводства, например, в Юго-Восточной Азии, и там, где эта традиция имеет прочные корни, к примеру, в Западной Европе и в США.
До 1860-х годов русская юриспруденция даже не проводила различия между законами, указами и административными распоряжениями, которые после утверждения их монархом почитались с равным благоговением и в 1830 г. были внесены недрогнувшей рукой в Полное Собрание Законов в хронологическом порядке. К высочайшему повелению о новом порядке престолонаследия или об освобождении дворян от обязательной государственной службы относились с формально юридической точки зрения так же, как к указу о строительстве нового завода или об удовлетворении прошения какого-нибудь отставного губернского чиновника. Вообще говоря, большая часть основополагающих законов, определяющих [государственное устройство в России и статус ее граждан, не была объявлена сколько-нибудь официально. К их [числу относились: прикрепление крестьян к земле и горожан к городам (т. е. крепостное право), положение о том, что обладание землей должно сопровождаться государственной службой, учреждение опричнины, подвластность крестьян своему помещику, автоматическое продвижение чиновников по службе по праву старшинства, основание первого централизованного полицейского органа Преображенского приказа и введение ограничений, связанных с местом жительства для евреев (черта оседлости). Другие законы вводились как бы походя. Например, юридическое обоснование самодержавной власти российских правителей было сформулировано случайной фразой из Военного Устава Петра, тогда как до 1845 года законы о преследовании политических преступников практически не были определены юридически. Следствием такого неуважения к юридической процедуре явилось непонимание того, что право подразделяется на государственное, гражданское и уголовное, в то время как на Западе это различие проводилось, начиная со Средних веков. Неумение различить между типами юридических актов, равно как и между областями права, только усугубляло неразбериху, царившую в русской юриспруденции до 1860-х годов. Хуже того, до этого времени законы не нуждались в обнародовании для того, чтобы войти в силу; часто они вводились в секретных документах и были известны лишь чиновникам, отвечавшим за их проведение. Эта практика пережила реформу 1864 г.. Как будет указано ниже, Министерство внутренних дел в 1870-80 гг. нередко объявляло меры, затрагивающие жизнь всего населения, в своих секретных циркулярах, многие из которых не опубликованы и по сей день.
Неразвитость юридической традиции и судебной системы, разумеется, давала большие преимущества бюрократическому аппарату. Некоторые консервативные русские юристы даже доказывали вполне серьезно необходимость того, чтобы юстиция и администрация были тесно сплетены между собой. Среди них был уважаемый специалист по государственному праву профессор H. М. Коркунов, разработавший теорию русской юриспруденции, согласно которой основной функцией законов страны является не столько отправление правосудия, сколько поддержание порядка. [Н. М. Коркунов, Русское государственное право, СПб., 1909, I, стр. 215-22]. Данный взгляд на судопроизводство был выражен в несколько грубоватой форме (но зато и честнее) графом Бенкендорфом, начальником тайной полиции при Николае I. Однажды, когда А. А. Дельвиг пришел к нему с жалобой на незаконные придирки цензоров, Бенкендорф в сердцах отрезал: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства!»
До Николая I политические преследования в России носили неупорядоченный характер. Преображенский приказ Петра Великого обозначил важный шаг в направлении профессионализации политической полиции, однако выстроенный им полицейский аппарат был упразднен при Петре III и Екатерине, когда было запрещено выступать с обвинениями типа «слово и дело». Хотя Екатерина II и Александр I не чужды были того, чтобы время от времени ставить вольнодумцев на место, они не были особыми поклонниками полицейской слежки. Министерство Полиции, учрежденное в 1811 г., было ликвидировано восемью годами позже. Со второй половины XVIII века в России существовала сельская и городская управа, но не было особого органа для выявления политической оппозиции типа тех, что имелись в ту пору во многих странах европейского континента. Не было и цензурного кодекса. За исключением ряда довольно общих и вполне устаревших положений. Уложения 1649 г. и кое-каких постановлений Петра Великого, отсутствовали конкретные законодательные акты, направленные против подрыва государственных устоев. До начала XIX века любительских методов борьбы с политической оппозицией было вполне довольно, однако они стали негодны в эпоху Реставрации, когда более развитые формы вольнодумства вошли в моду в Европе, неотъемлемой частью которой Россия стала вследствие своего участия в кампаниях 1813-1815 гг.
Негодность внутренних оборонительных линий России стала очевидной в связи с восстанием декабристов. В перевороте было замешано более сотни дворян, часть которых принадлежала к числу виднейших семейств государства. Это обстоятельство само по себе исключало возможность тихо разрешить дело административными мерами, какие обычно применялись против непокорных простолюдинов. Помимо этой технической сложности, восстание заставило серьезно задуматься о проблеме безопасности государства: как случилось, что представители класса, которому корона даровала такие невероятные привилегии, пошли на нее с оружием в руках? И как получилось, что никто не заметил, как они вошли в заговор?
В 1826 г. Николай назначил Верховную Следственную Комиссию для расследования причин восстания и вынесения рекомендаций о наказании виновных. Задача перед Комиссией стояла необыкновенно трудная, поскольку в России того времени не было не только уголовного кодекса, но и точного юридического определения преступления против государства. Всякий, кто потрудится заглянуть в текст окончательных рекомендаций Комиссии, обнаружит там в качестве юридического основания приговоров, вынесенных декабристам, загадочную формулировку, «по первым двум пунктам». Речь шла о мелком указе Петра 1 от 25 января 1715 г. (Э 2877 в Полном Собрании Законов), согласно первым двум пунктам которого подданные обязывались доносить властям о действиях, наносящих вред государственным интересам, и в особенности о подстрекательстве к бунту. Такое скудное юридическое основание было подведено под судебное преследование против декабристов. «По первым двум пунктам» полагалась смертная казнь. Однако, признавая неравнозначность содеянного обвиняемыми, Комиссия разделила их на девять категорий, положив для каждой особенное наказание, от отдачи в солдаты до смертной казни через четвертование.
Ставивший порядок превыше всего Николай не мог примириться с таким положением. Он хотел, чтобы преступлениям против государства была дана точная дефиниция и назначено уместное наказание. Ответственность за выполнение сей задачи лежала на Сперанском, возглавлявшем Комиссию по составлению Свода Законов Российской Империи. Однако работа эта по необходимости была долгой, тогда как надо было тотчас принимать меры к недопущению повторения событий 14 декабря 1825 г.
Первым шагом явилось учреждение в империи постоянной полицейской службы. Для этого Николай создал в 1826 г. Третье Отделение Собственной Его Величества Канцелярии. Номинально задачей этого ведомства было призрение «вдов и сирот», и официальный герб его — платок, врученный Николаем первому его главе, должен был символизировать осушение слез. На самом деле, однако, Третье Отделение представляло собой самую обыкновенную тайную полицию, запустившую щупальца во все слои общества, и в таком своем качестве бесспорно пролило больше слез, чем сумело высушить. Штат его был невелик и насчитывал в среднем от тридцати до сорока служащих, однако действительное число работников было куда больше. К примеру, Третье Отделение оплачивало услуги множества соглядатаев, посещавших салоны, кабаки, ярмарки и другие скопления публики; они поставляли собранную ими конкретную информацию, а также излагали свое общее мнение о настроениях общества. Во-вторых, при Третьем Отделении имелся Корпус жандармов численностью в несколько тысяч человек, облаченных в синие мундиры и белые перчатки, которыми командовал начальник Отделения. Непосредственной функцией жандармов являлась защита государственной безопасности; они представляли собой особую политическую полицию, отличную от обычных полицейских органов. Обязанности Третьего Отделения и жандармского корпуса не были четко определены, однако к ним определенно относились, помимо выявления и предотвращения подрывной деятельности, слежка за иностранцами и религиозными диссидентами и в какой-то степени цензура. Как и его предтеча. Преображенский приказ, оно было неподотчетно другим правительственным ведомствам и докладывало непосредственно самому императору. Основатели и первые начальники Третьего Отделения были из балтийских немцев (его первый глава Д. X. Бенкендорф и его помощник М. Я. Фок), однако вскорости им на смену пришли местные специалисты в данной области.
Другая из принятых в то время превентивных мер касалась цензуры. Николай был убежден в том, что основной причиной восстания декабристов было влияние на российскую молодежь «зловредных», «праздных» идей, и он твердо вознамерился закрыть им дорогу в страну. В России за правительством всегда признавалось право решать, что его подданные могут публиковать и читать. Однако до царствия Николая повод воспользоваться этим правом случался редко: до 1783 г. все печатные станки принадлежали правительству либо церкви, и грамотная часть населения была столь невелика, что не стоило хлопот расследовать читательские вкусы. В XVII веке власти приказали уничтожить староверские книги, равно как и некоторое количество напечатанных в Киеве религиозных трудов, по мнению духовенства засоренных латинизмами. В XVIII веке цензура была доверена Академии Наук, которая настолько бережно пользовалась этими своими полномочиями, что до начала Французской Революции россияне могли читать все, что хотели. Впервые цензура проявилась по-настоящему в 1790 г., когда Екатерина изъяла «Путешествие» Радищева и велела посадить автора в тюрьму. При Павле множество иностранных книг было запрещено к ввозу в Россию. Тысячи книг были сожжены. Но со вступлением на трон Александра I цензура снова почти захирела. Таким образом, цензурный кодекс, утвержденный Николаем в 1826 г., представлял собой весьма важное нововведение. Кодекс впоследствии подвергался изменениям; согласно ему, для распространения какого-либо печатного издания полагалось сперва заручиться разрешением одного из специально созданных «цензурных комитетов». Для этого печатные материалы, публиковавшиеся в России в царствие Николая I, не только должны были не содержать «зловредных» идей, но и способствовать укреплению общественной нравственности — налицо ранний провозвестник «позитивной цензуры», воцарившейся в России в 1930-х и 1940-х годах. Впоследствии цензурные правила то ужесточались (например, в 1848-55 гг.), то смягчались (во второй половине XIX века), но в разных формах цензура продолжала существовать в России вплоть до революции 1905 г., когда она была упразднена; она возродилась в полном своем блеске тринадцатью годами позже. Несмотря на внушительный набор правил и большой бюрократический аппарат, нельзя сказать, что цензурные нормы применялись в Российской Империи строго. Каждый, кто знаком с более современными формами преследований, изумится, обнаружив, что между 1867 и 1894 гг., т. е. во времена консервативного царствования Александра III, к распространению в России было запрещено всего-навсего 158 книг. В одно десятилетие было отвергнуто около 2% рукописей, поданных на предварительную цензуру. Цензура иностранных изданий также была довольно либеральной. Из 93.565.260 экземпляров книг и периодических изданий, посланных в Россию из-за границы в одно из десятилетий конца XIX века, было задержано всего 9.386. [П. А. Зайончковский, Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. стр. 299-301]. Все это говорит о том что цензура в Российской империи была скорее досадной помехой, чем барьером на пути свободного движения идей.
Свод законов, над которым Сперанский трудился с начала николаевского царствования, вышел в 1832 году. Том пятнадцатый этого собрания содержал Уложение о наказаниях, включавшее в себя также и преступления против государства. Однако, поскольку он всего-навсего расположил в каком-то порядке хаотический набор изданных на то время законоположений (в том числе и «два пункта» 1715 г.), Уложение сразу было признано негодным. Сперанскому было велено составить проект нового, систематизированного Уложения о наказаниях, однако он умер, не доведя дело до конца, и оно было поручено Д. Н. Блудову. Уложение, вышедшее в 1845 г., стало вехой исторической эволюции полицейского государства. О политических преступлениях речь шла в двух разделах: третьем («О преступлениях государственных») и четвертом («О преступлениях и проступках против порядка управления»). Эти два раздела занимают 54 печатных страницы и представляют собой настоящий конституционный документ авторитарного режима. Законодательство других стран европейского континента также содержало подчас весьма детальные законоположения, касающиеся государственных преступлений (эта категория преступлений отсутствует в английской и американской юриспруденции), однако нигде не придавалось им такое значение и нигде они не трактовались так вольно и широко, как в России. Согласно уложению 1845 г.:
1. Любая попытка ограничить власть самодержца или заменить существующий порядок правления, равно как убедить других совершить вышеозначенное или заявить открыто о подобных намерениях, либо укрыть лиц, виновных в сих преступлениях, содействовать им или не донести о них влекла за собой смертную казнь и лишение всех прав состояния (ст. 263-65 и 271);
2. Распространение словесное, письменное или печатное идей, которые, не являясь подстрекательством к бунту в вышеозначенном смысле, подвергают сомнению верховную власть или вызывают неуважение к государю или его престолу, было наказуемо лишением всех прав состояния и каторжными работами на время от четырех до двенадцати лет, равно как телесными наказаниями и наложением клейм (ст. 267 и 274).
Разделы третий и четвертый русского Уложения о наказаниях 1845 г. явились неистощимым источником всех тех туманных обобщений, которые с тех пор предоставляют полиции в России, зависимых от нее государствах и в тех странах, которые подражают ее государственному устройству, вполне законное право душить все проявления политического инакомыслия. Начиная с 1845 г. (с перерывом между 1905 и 1917 гг.), не только попытки изменить существующий государственный строй и порядок управления, но и сама постановка вопроса об этом продолжают оставаться преступлением в России. Политика была законодательно объявлена монополией стоявших у власти; так теплившийся веками вотчинный дух, выразившись в аккуратных разделах, статьях и параграфах, наконец оброс плотью. Особенно важным новшеством было нежелание провести различие между поступком и умыслом, т. е. отсутствие четкой градации виновности, характерное для современных полицейских государств. Хотя «подвергнуть сомнению» существующее политическое устройство считалось менее тяжким преступлением, чем действительные попытки его изменить, но все же это был серьезный проступок, наказуемый каторжными работами, поркой и клеймением.
Начиная с 1845 г., в русских уголовных кодексах содержится подобная политическая часть, написанная таким расплывчатым языком, что на ее основании органы государственной безопасности могут подвергнуть заключению граждан, виновных в таких нечетко определенных преступлениях, как «неуважение» к существующей власти и умысел «ослабить», «подорвать» и «поставить ее под сомнение». Сопоставление трех последовательных уголовных кодексов — 1845, 1927 и 1960 гг.— рисует поучительную картину неизменности полицейской психологии в России вне зависимости от природы режима:
Уложение 1845 г., ст. 267 и 274:
Изобличенные в составлении и распространении письменных или печатных сочинений или изображений с целью возбудить неуважение к Верховной власти, или же к личным качествам Государя, или к управлению Его государством, приговариваются как оскорбители величества: к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в крепостях на время от десяти до двенадцати лет... Участвовавшие в составлении или злоумышленном распространении таких сочинений или изображений подвергаются: тому же наказанию. Виновные в составлении сочинений или изображений сего рода, но не изобличенные в злоумышленном распространении оных, приговариваются за сие, как за преступный умысел: к заключению в крепости на время от двух до четырех лет... За составление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публично речей, в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, усиливаются оспоривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее, или же дерзостно порицать установленный законами образ правления, или порядок наследия Престола, виновные в том подвергаются: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от четырех до шести лет... [Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных, СПб., 1845, стр. 65-6, 69. Эти статьи были с незначительными изменениями сохранены в Уголовном Кодексе 1885 г].
Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г., ст. 58-1 и 58-10:
Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению [власти]... основных хозяйственных, политических и национальных [мероприятий советского государства] ...Пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, ...а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собою лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев. [Собрание Кодексов РСФСР, 4-с изд., М., 1927, стр. 665, 668].
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., ст. 70:
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение или изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет... [Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. В двух томах. М., 1963, I, стр. 108].
Законодательство такого типа и создаваемые для его проведения полицейские органы после революции 1917 г. получили распространение сперва в фашистской Италии и национал-социалистической Германии, а затем в прочих авторитарных государствах Европы и на других континентах. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что разделы третий и четвертый российского Уложения о наказаниях 1845 г. есть для тоталитаризма то же, что Магна Карта — для свободы.
При Николае I драконовские законы против инакомыслия проводились куда менее строго, чем можно было бы предположить. Аппарат насилия был еще слишком примитивен, чтобы полицейские власти могли действовать достаточно методично; для этого надобны были железные дороги, телеграф и телефон. А пока законодательство применялось кое-как; обычно лицо, подозреваемое со слов осведомителей в том, что суется в политику, задерживалось и после допроса в полиции либо отпускалось с предупреждением, либо на какой-то срок ссылалось в провинцию. Иногда допрос учинял сам император. С 1823 по 1861 гг. к ссылке в Сибирь были осуждены 290.000 человек, из них 44.000 — к каторжным работам. Однако более девяти десятых ссыльных составляли уголовные преступники, бродяги, беглые крепостные и т. п. Быть может, всего лишь 5% (среди них декабристы) пострадали за (преступления политического характера; немалую часть из них составляли польские патриоты. [С Максимов, Сибирь и каторга, ч. 2, СПб., 1871, стр. 229, 305].
Со вступлением в царствование Александра II правительство сделало серьезную попытку положить конец своеволию бюрократического аппарата и полиции и превратить Россию в то, что немцы называют Rechtsstaat, или правовым государством. Законность, гласность судебного заседания, суд присяжных и несмещаемость судей — таковы были лозунги, витавшие в воздухе 1860-х гг. Завершенная в 1864 г. судебная реформа являлась по общему признанию наиболее успешной из Великих Реформ и единственная (за одним важным исключением, о котором речь ниже) дожила до конца царского режима без того, чтобы быть искромсанной всякими оговорками. После 1864 г. все виды преступлений, включая политические, сделались подсудными обычным судам; судебные заседания стали открытыми, а их материалы должны были публиковаться в официальном «Правительственном Вестнике». Есть все основания полагать, что правительство Александра II надеялось на успех этой реформы; формальная законность является тем элементом либерального государства, который авторитарный режим может ввести, не подрывая собственных устоев.
Вскоре, однако, эти мероприятия стали саботироваться, и на этот раз не бюрократией, а радикальной интеллигенцией и ее прекраснодушными поклонниками среди просвещенной либеральной публики. Сперва правительство сделало попытку рассматривать политические дела в суде присяжных. Так, например, состоявшийся в 1871 г. процесс Сергея Нечаева и его последователей (см. выше, стр. #362), равно как и ряд других дел по обвинению в революционной деятельности проходил в присутствии присяжных. Результаты принесли правительству большое разочарование. Во-первых, обвиняемые на политических процессах сообразили, что им предоставляется великолепная возможность пропагандировать свои взгляды на всю страну с высокой судебной трибуны, и вместо того, чтобы защищать себя, часто использовали судебное заседание для произнесения зажигательных речей, которые затем прилежно излагал официальный «Правительственный Вестник». Иногда, как, например, на так называемом Процессе Пятидесяти (1877 г.), обвиняемые отказывались признавать правомочность суда; в иных случаях (например, на процессе 133-х в 1877-78 гг.) они забрасывали судей оскорблениями. Кроме того, присяжные по большей части имели весьма туманное представление о законности; симпатия и жалость к молодости подсудимых мешали им выполнять свои обязанности по выяснению виновности последних. Даже те, кто не одобрял методов, использовавшихся радикалами, крайне неохотно шли на вынесение обвинительного вердикта, полагая, что это поставит присяжных на сторону бюрократии и жандармов против молодых людей, которые хотя, быть может, и заблуждались, но, по крайней мере, выказывали идеализм и самоотверженность. Подсудимых часто оправдывали; даже в случае признания их виновными судьи склонялись к вынесению чрезвычайно мягких приговоров за действия, которые по западноевропейским уголовным кодексам наказывались весьма строго. Глядя на это ретроспективно, следует признать, что такая «политизация» правосудия русскими радикалами и их доброхотами явилась для России большой трагедией. Дело в том, что хотя статьи Уложения о наказаниях, касающиеся политических преступлений, содержали недопустимо широкие и расплывчатые формулировки и полагавшиеся за эти преступления наказания были чрезвычайно жестокими, тем не менее впервые в тысячелетней истории России правительство сделало попытку отдать свои претензии к частным гражданам на суд третьих лиц. В свое время из этой попытки могла бы вырасти настоящая система правосудия, даже для политических преступников, и, что еще важнее,— власть, основанная на законности. Использование предоставленных реформой 1864 г. возможностей нe для укрепления судебной системы, а для преследования сиюминутных политических интересов сыграло на руку архиконсерваторам и тем чиновникам, которые всегда считали независимое судопроизводство незаконнорожденной, «нерусской» идеей. Наиболее вопиющим примером подрыва законности либеральными кругами явилось дело террористки Веры Засулич, в январе 1878 г. тяжело ранившей из револьвера санкт-петербурского градоначальника. В данном случае прокурор старался, как мог, чтобы дело рассматривалось как уголовное, а не политическое. Тем не менее, несмотря на то, что виновность Веры Засулич в попытке совершить предумышленное убийство была неопровержимо доказана, присяжные ее оправдали. Этот вердикт создал у каждого правительственного служащего ощущение, что он отныне является беззащитной мишенью для террористов; стрелять в чиновника по политическим мотивам перестало быть преступлением. Такое извращение правосудия вызвало враждебную реакцию со стороны Достоевского и либерального теоретика Бориса Чичерина, которые явно понимали лучше других своих современников нравственные и политические последствия того, что интеллигенция прилагает двойной стандарт к морали и правосудию. Теперь даже более либерально настроенным чиновникам стало ясно: правительство никак не может рассчитывать на то, что обычный суд и присяжные станут беспристрастно отправлять правосудие при рассмотрении дел, в которых каким-то образом замешана политика, вследствие чего были предприняты шаги к изъятию соответствующих дел из компетенции судов и разрешению их административными мерами, обычно в военном суде или в Сенате, причем часто in camera. К 1890 г. государственные преступления были вообще исключены из компетенции суда и с тех пор до самой революции 1905 г. решалась административными мерами. Таким образом, на «прогрессивном» общественном мнении России лежит тяжкая ответственность за срыв первой попытки в истории страны поставить дело так, чтобы правительство тягалось со своими подданными на равных.
Исследователи политической социологии отмечают, что тогда как политические партии имеют тенденцию избавляться от экстремистов и постепенно перемещаются к центристской позиции, аморфные «движения» наоборот склонны подпадать под влияние входящих в их состав крайних элементов. Движение под лозунгом «хождения в народ» обернулось полной катастрофой. Дело не просто в том, что агитаторам не удалось пробудить в крестьянине и рабочем ни малейшего интереса к своим идеям. Эта неудача вскрыла более глубокое обстоятельство: она убедительно показала, что «трудящиеся массы» пропитаны приобретательским духом худшего буржуазного пошиба в сочетании с нравственным цинизмом и политической реакционностью.
От всего идеального образа русского мужика остались одни осколки. Разочарование побудило многих радикалов покинуть движение, однако возымело прямо противоположное действие на наиболее преданных его членов, только укрепив их стремление выработать тактику, которая сможет поставить правительство на колени.
В 1878-79 гг. порешили на терроре. Революционные теоретики доказывали, что волна покушений на высших правительственных чиновников достигнет двух целей: деморализует и, возможно, остановит правительственную машину, одновременно продемонстрировав крестьянству уязвимость монархии, на которую оно взирало с таким благоговением. Однако, раз начавшись, террор обрел инерцию, и его устроители скоро забыли о первоначальных целях. Всякая серия совершенных публично дерзких самоубийственных актов-покушений, взрывов бомб, самосожжений, угонов самолетов резонансом отдается в некоторых людях и заражает их необоримым желанием повторить то же самое. Начавшийся в 1878 г. и длившийся три года террор социалистов-революционеров продолжал усиливаться даже после того, как стало ясно, что ему не удастся ни парализовать правительство, ни побудить крестьян к бунту. Под конец он превратился в террор ради террора и осуществлялся (с замечательной ловкостью и отвагой) просто, чтобы доказать, что он осуществим; шел спор о том, у кого воля сильнее: у кучки революционеров или у всего истэблишмента империи.
По мере умножения террористических актов (причем на удивление большая их часть оказывалась успешной, поскольку система охраны правительственных чиновников была самой примитивной) власти приходили в состояние, близкое к панике. Хотя действительное число террористов в каждый данный момент было совсем невелико (так называемый Исполнительный Комитет Народной Воли, включавший в себя все боевые силы организации, насчитывал около тридцати членов), такова уж психология авторитарного режима, что он склонен реагировать на прямой вызов куда более энергично, чем надобно. Такой режим в каком-то смысле подобен коммерческому банку, а его власть уподобляется форме кредита. Банк держит наготове лишь небольшую часть вверенного ему вкладчиками капитала, чтобы платить по текущим счетам, а остальное пускает в оборот. Даже вкладчики, знающие об этой практике, ничего против нее не имеют до тех пор, пока есть уверенность, что, когда бы они ни обратились в банк, свое они получат. Но стоит только банку не оплатить хотя бы один чек, как доверие к нему мигом рушится, клиенты валят толпой и требуют свои вклады. В результате банк терпит крах и вынужден отсрочивать платежи. Точно так же авторитарное государство добивается всеобщей покорности не потому, что у него хватает сил, чтобы поднять все брошенные ему перчатки, но потому, что у него их достаточно, чтобы поднять те, которых он ждет. Отсутствие решительных действий с его стороны приводит к потере престижа, вызов следует за вызовом и в результате ведет, так сказать, к политическому краху, известному под именем революции.
В своем стремлении ответить на угрозу, которую представляли собой террористы, царское правительство явно перестаралось. Где открыто, где тайно, оно взялось за введение контрмер, которые в своей совокупности замечательно предвосхитили современное полицейское государство и даже содержали в себе ростки тоталитаризма. Между 1878 и 1881 гг. в России был заложен юридический и организационный фундамент бюрократическо-полицейского режима с тоталитарными обертонами, который пребывает в целости и сохранности до сего времени.
Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам лишь если падут на почву, готовую их принять.
В ответ на террор царское правительство первоначально обратилось за содействием к армии. 4 августа 1878 г. среди бела дня Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк) ударил ножом и убил шефа жандармов Мезенцова на одной из петербургский улиц. Через пять дней правительство издало «временное» распоряжение — одно из многих, которым суждено быть стать постоянными, согласно которому дела о вооруженном сопротивлении правительственным органам и нападениях на государственных чиновников при исполнении теми служебных обязанностей впредь должны были передаваться военно-полевому суду и судиться по законам военного времени. Приговоры нуждались лишь в утверждении командира соответствующего военного округа. Таким образом, когда речь шла о терроре, правительство начинало рассматривать Россию как оккупированную вражескую территорию. Еще дальше шел не опубликованный и по сей день секретный циркуляр от 1 сентября 1878 г., перечислявший строгие превентивные меры [Он суммируется на основе архивных материалов в П. А. Зайончковскнй, Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов, М., 1964, стр. 76-7] и уполномачивавший членов жандармского корпуса, а в их отсутствие и чинов полиции, задерживать и даже административно ссылать любое лицо, подозреваемое в политических преступлениях. Для того, чтобы сослать кого-либо в соответствии с этими инструкциями, жандармерия и полиция нуждалась лишь в одобрении Министра Внутренних Дел или шефа жандармов; не было необходимости испрашивать санкцию прокурора. Циркуляр от 1 сентября во многих отношениях явился важным шагом на пути к созданию полицейского режима. До того времени, чтобы подвергнуться ссылке, гражданин России должен был совершить какое-то деяние (в эту категорию включались устные и письменные высказывания). Теперь же, чтобы удостоиться такой участи, ему достаточно было лишь возбудить подозрение. Эта мера явилась вторым столпом полицейского государства; первый был утвержден в 1845 г., когда занятие частного лица политической деятельностью было объявлено уголовным преступлением. Ныне же это лицо считалось преступником даже если только создалось впечатление, что оно занимается такой деятельностью. Все это означало внесение профилактического элемента, являющегося кардинально важным для надежного функционирования любого полицейского государства. Во-вторых, наделение бюрократии и полиции широкими полномочиями приговаривать граждан России к ссылке повлекло за собой сужение полномочий монарха. Это была первая из принятых в этот критический период мер, которые (естественно, без всякого умысла) передавали прерогативы, ранее принадлежавшие исключительно монарху, его подчиненным. И, наконец, предоставление чиновникам права использования судебной власти без консультации с прокурором ознаменовало начало перемещения юридических полномочий от Министерства Юстиции к Министерству Внутренних Дел.
Эти чрезвычайные меры не остановили террористов. В апреле 1879 г. было совершено очередное покушение на жизнь царя, после чего правительство назначило в несколько главнейших городов империи «Временных генерал-губернаторов», наделив их чрезвычайными полномочиями, распространяющимися на прилегающие провинции. Эти управители, обычно взятые из армии, получили власть предавать военному суду и административно высылать не только лиц, заподозренных в вынашивании умысла против правительства и его чиновников, но и тех, кто, как считалось, были настроены против «общественного спокойствия». Таким образом, корона передавала своим подчиненным еще одну часть своих полномочий. В начале 1880 г. переодетый плотником С. Н. Халтурин сумел пронести в Зимний дворец большое количество взрывчатки, которую он подорвал 5 февраля под царской столовой. Только поздний приезд царя спас его от того, чтобы быть разорванным на куски. То, что террористы сумели пробраться в самый императорский дворец, показало вне всякого сомнения, насколько недостаточны были принятые меры охраны. Действительно, Третье Отделение было слишком мало, скудно финансировалось и работало до смешного плохо. В августе 1880 г. штат его насчитывал всего 72 служащих, и даже из них не все были заняты политическим сыском. Немалая часть скудного бюджета расходовалась на контрпропаганду. В вопросе о том, кто чем занимается, царила полная неразбериха, когда речь шла об охране государственной безопасности. Корпус жандармов подчинялся Третьему Отделению, входившему в состав императорской канцелярии, однако свои военные функции он исполнял под началом военного министерства; обычная же полиция руководилась Министерством Внутренних Дел.
Вследствие этого в августе 1880 г. по рекомендации генерала Лорис-Меликова Третье Отделение было вообще ликвидировано и заменено центральной политической полицией, сперва именовавшейся Департаментом государственной полиции, а с 1883 г.— просто Департаментом Полиции. Административно новое ведомство входило в состав Министерства Внутренних Дел, которое отныне стало главным стражем государственной безопасности в России. Список обязанностей нового Департамента был замечательно обширен. Департамент должен был печься об охране общественной безопасности и порядка и пресечении государственных преступлений. В дополнение к сему на него возлагалась ответственность за охрану государственной границы, выдачу паспортов, надзор за проживающими в России иностранцами и евреями, а также кабаками, противопожарными инструментами и взрывчатыми веществами. Он также имел широкие полномочия «по утверждению уставов разных обществ и клубов и разрешению публичных лекций, чтений, выставок и съездов.» [Свод Законов Российской Империи, т. I, ч. I. кн. V. СПб.. 1892, стр. 10. Статья 362]. Департамент был разбит на несколько отделов, один из которых занимался «тайными» делами, т. е. политическим сыском. Под началом Департамента находились три жандармские дивизии со штабами в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, а также целый ряд специализированных подразделений. Штат его оставался небольшим: в 1895 г. Департамент Полиции имел 161 постоянного служащего, а численность жандармского корпуса продолжала составлять менее 10 тыс. человек. В 1883 г., однако, полиция, насчитывавшая около 100 тыс. чинов, получила приказ всячески содействовать жандармерии, что резко увеличило личный состав последней. Министр Внутренних Дел был по должности шефом жандармов, но в действительности руководство ими осуществлял один из его заместителей, именовавшийся Директором Департамента Полиции и Командиром Корпуса жандармов. 9 июня 1881 г. был издан приказ, по которому жандармерия выходила из-под начала губернаторов и генерал-губернаторов и должна была подчиняться исключительно шефу полиции. Эта мера ставила жандармский корпус вне обычного административного аппарата и давала ему возможность жить по своим собственным законам. Департамент Полиции и Корпус жандармов продолжали заниматься исключительно политическими преступлениями, и когда их члены нападали на след уголовного правонарушения, они передавали дело полиции. Раз в год шеф жандармов представлял императору отчет о кампаниях, проведенных его ведомством против подрывных элементов, читавшийся, как военная сводка.
Чтобы облечь своевластные действия Департамента Полиции в покровы законности, Министр Внутренних Дел ввел в его состав особый «Судебный отдел». Этот орган занимался юридической стороной дел, попадавших в сферу деятельности Министерства Внутренних Дел, т. е. преступлений, наказуемых на основании политических статей Уложения о наказаниях и не передававшихся в обычные суды, а также совершенных в нарушение многочисленных чрезвычайных и временных законов, изданных в те годы.
В 1898 г., когда после многих лет затишья вновь появились признаки оживления политической жизни и возникло опасение возобновления терроризма, «тайный» отдел Департамента Полиции образовал «Особое отделение» сверхсекретный орган, который должен был служить нервным центром кампании против подрывных элементов. Это отделение вело непрерывную слежку за революционерами в России и за границей и устраивало хитроумные провокации для их выявления. Штаб-квартира отделения располагалась на четвертом этаже дома № 16 на Фонтанке и охранялась с большой строгостью; доступ в него имели только сотрудники.
В связи с «Временными Правилами» (о которых ниже, стр. #398-#400) 14 августа 1881 г., правительство упорядочило статус охранных отделений (или, сокращенно, охранок), образованных в 1870-х гг.; они также боролись с революционерами, причем делали это на довольно высоком профессиональном уровне. Формально являясь частью жандармского корпуса, они, видимо, действовали совершенно самостоятельно.
У Департамента Полиции было несколько заграничных отделений, главное из которых находилось в русском посольстве в Париже; в их задачу входила слежка за русскими эмигрантами. Местные полицейские власти нередко оказывали этим заграничным филиалам содействие из политических симпатий или корысти.
Хорошо продуманная и весьма гибкая система политической полиции, созданная в России в начале 1880-х гг., была уникальна в двух отношениях. До Первой мировой войны ни в одной другой стране мира не было двух видов полиции: одной для защиты государства, а другой — для защиты его граждан. Только страна с глубоко укоренившейся вотчинной психологией могла додуматься до такой двухъярусной системы. Во-вторых, в отличие от других стран, где полиция действовала как орудие закона и обязана была передавать арестованных судебным властям, единственно в царской России полицейские органы были свободны от этой обязанности. С 1881 г. там, где речь шла о политических преступлениях, жандармский корпус не подлежал судебному надзору; контроль за его деятельностью носил бюрократический, внутриведомственный характер. Члены его имели право производить обыски, заключать граждан в тюрьму и подвергать их ссылке своей собственной властью, без санкции прокурора. В 1880-х годах весь обширный набор преступлений, считавшихся политическими, стал в основном караться административными мерами, которые принимались органами безопасности. Эти две черты делают полицейские учреждения позднего периода царской России предтечами и, через посредство соответствующих коммунистических институтов, прототипами всех органов политической полиции двадцатого века.
В своих ответных мерах на террор правительство Александра II не ограничилось репрессиями. В его административных сферах имелся ряд высокопоставленных чиновников, достаточно дальновидных для понимания того, что репрессии, не сопровождаемые какими-то конструктивными мероприятиями, окажутся бесплодными, а может быть, и пагубными.
Не один раз в царствование Александра серьезно обдумывали проекты реформ, представленные правительственными чиновниками или влиятельными общественными деятелями. Эти проекты ставили себе целью в различной степени и разными способами привлечь к выработке политических решений тех, кого в то время звали «благонадежными» членами общества. Одни призывали к расширению Государственного Совета за счет включения в него выборных представителей; другие — предлагали созыв совещательных органов типа земских соборов Московской Руси; третьи — рекомендовали проведение реформы местного управления, которая бы расширила компетенцию земств и предоставила дворянам-землевладельцам дополнительную возможность участия в общественной деятельности. Надеялись, что подобные меры смогут изолировать крошечные группки террористов и вызвать к злоключениям правительства сочувствие образованного общества, в котором до сих пор наталкивались на равнодушие, перемешанное со злорадством. Среди выступавших за подобные меры чиновников были Министр Внутренних Дел П. А. Валуев, военный министр Д. А. Милютин и генерал Лорис-Меликов, получивший в последний год царствования Александра II диктаторские полномочия. Сам император относился к этим предложениям не без благосклонности, но не спешил с их проведением, так как столкнулся с сильным противоборством со стороны рядовых чиновников, равно как и своего сына и престолонаследника — будущего Александра III. Революционеры невольно содействовали этому консервативному крылу; всякий раз, когда они совершали очередное покушение на жизнь царя или убивали какого-нибудь высокопоставленного чиновника, противники политических реформ получали возможность настаивать на еще более строгих полицейских мерах и дальнейшем откладывании коренных преобразований. Будь они даже на жалованьи у полиции, террористы не могли бы лучше преуспеть в предотвращении политических реформ.
Противодействуя политическим реформам, бюрократия боролась за свое существование. С точки зрения ее привилегий, и в земствах ничего хорошего не было, так как они расстраивали главный поток директив, струившийся из Петербурга в самые отдаленные провинции. Если бы представителей общественности пригласили к участию в законодательстве, пусть даже только в совещательной функции, бюрократия впервые оказалась бы под каким-то общественным контролем; это бы явно была немалая помеха, могущая даже привести к подрыву ее власти. Сомнения ее не были поколеблены даже уверениями, что речь идет только о самых «благонадежных» элементах. Русские монархисты того времени хотя и были настроены против конституции, отнюдь не жаловали бюрократию. Они по большей части находились под влиянием славянофильских идей и рассматривали бюрократию как инородное тело, безо всякого на то права вставшее между царем и народом.
Благодаря архивным изысканиям П. А. Зайончковского, мы теперь более или менее осведомлены о дискуссиях, которые шли в правительстве в тот решающий период. [Две его важнейшие монографии на эту тему указываются выше в прим. 9 и 14]. Аргументы противников политических реформ сводились к следующим основным моментам:
1. Привлечение к управлению представителей общественности, в центре или в губерниях, в законодательной или чисто совещательной функции, внесло бы разнобой в структуру руководства и дезорганизовало бы управление. Если уж на то пошло, то для поднятия эффективности руководства земства следовало бы упразднить.
2. В силу своих географических и социальных особенностей Россия нуждалась в системе управления, скованной минимумом ограничений и контроля. Русским чиновникам следовало бы предоставить широкие дискреционные полномочия, а полицейское «правосудие» надо было бы отделить от судов. Последняя точка зрения высказывалась закоренелым консерватором Д. А. Толстым, бывшим с 1882 г. по 1889 г. Министром Внутренних Дел:
Редкое население России, раскинутое на огромной территории, неизбежная вследствие сего отдаленность от суда, низкий уровень экономического благосостояния народа и патриархальные обычаи жизни нашего земледельческого класса — все это такие условия, которые требуют установления власти, нестесненной в своих действиях излишним формализмом, способной быстро восстановить порядок и давать по возможности немедленную защиту нарушенным правам и интересам населения. [Министерство Внутренних Дел, Исторический очерк, СПб., 1902, стр. 172. Документ датирован 1886 г. Курсив наш.].
3. Вынужденные политические реформы были бы истолкованы как признак слабости и способствовали бы дальнейшему ослаблению государственной власти. Этот аргумент использовался даже таким сравнительно либеральным чиновником, как Лорис-Меликов. Выступая против учреждения в России представительных учреждений, он писал:
По глубокому моему убеждению, никакое преобразование, в смысле этих предположений, не только не было бы ныне полезно, но, по совершенной своей несовременности, вредно... Самая мера имела бы вид вынужденной обстоятельствами и так была бы понята и внутри государства, и за границею. [Былое, Э 4/5. 1918, стр. 158-9].
4. Введение в любой, даже самой консервативной форме представительных учреждений ознаменовало бы первый шаг по направлению к конституционному правлению; за первым неминуемо последовали бы другие шаги.
5. Опыт представительных учреждений за границей показывает, что они не располагают к стабильности; что бы там ни говорили о парламентах, они только мешают управлять как следует. Этот аргумент казался особо привлекательным престолонаследнику.
Чтобы выйти из спора с победой, противники политических уступок всячески преувеличивали размах крамолы в стране, запугивая императора призраком разветвленного заговора и смуты, т. е. рисуя картину, весьма далекую от действительности. Как будет показано ниже, фактическое число лиц, занимавшихся антиправительственной деятельностью, было до смешного невелико; при всей своей широчайшей власти жандармы не сумели выявить сколько-нибудь значительного числа смутьянов. Однако апелляция к страху помогла заставить Александра II отказаться следовать рекомендациям своих более либеральных советников.
Истинными правителями России были... шеф жандармов Шувалов и начальник санкт-петербургской полиции Трепов. Александр II выполнял их волю, он был орудием. Они правили посредством страха. Трепов так запугал Александра призраком революции, которая вот-вот разразится в Санкт-Петербурге, что стоило всесильному шефу полиции опоздать на несколько минут к своему ежедневному докладу во дворце, как император начинал допытываться, все ли тихо в столице. [П. А. Кропоткин. цит. в Ronald Hingley, The Russian Secret Police (New York 1970), p. 55].
Александр ближе всего подошел к тому, чтобы сделать уступку обществу в 1880-81 гг., когда согласился с предложением Лорис-Меликова. В дополнение к глубоким переменам в губернском управлении, Лорис-Меликов предложил созвать в Санкт-Петербурге несколько выборных комитетов, которые бы обсудили ряд насущных вопросов, в том числе о провинциальном управлении, крестьянском хозяйстве, продовольственном снабжении и финансах страны. По завершении своей работы эти специализированные комитеты должны были образовать общую комиссию, которая бы консультировала правительство. Это предложение, часто неверно называемое «конституцией Лорис-Меликова» (выражение, придуманное в целях его дискредитации Александром III), было вполне скромным, однако вело к весьма значительным последствиям. Россия вступала в неведомое, и кто мог предсказать, куда приведет ее этот путь. Даже Александр, одобряя предложение, пробормотал что-то о русских Генеральных Штатах. Он должен был подписать указ о созыве комитетов Лорис-Меликова 1 марта 1881 г., но в тот день был убит бомбой террориста.
Убийство Александра II уберегло бюрократию от того, чего она более всего боялась: от участия общественности в принятии политических решении. После минутного колебания Александр III решил, что порядок будет восстановлен не путем дальнейших уступок, а более жестокими репрессивными мерами. Проекты реформ прекратились; новый Министр Внутренних Дел Н. П. Игнатьев, неблагоразумно предложивший Александру III созвать сословный съезд по типу Земских соборов Московской Руси, был незамедлительно уволен с должности. Вотчинный принцип, пребывавший в опале с середины XVIII века, вновь выплыл на поверхность. «Государство» с тех пор понималось как царь и его чиновники, а внутренняя политика стала означать защиту оных от поползновений со стороны общества.
Быстрая серия чрезвычайных мер завершила подчинение общества деспотической власти бюрократии и полиции.
14 августа 1881 года Александр III узаконил своей подписью наиболее важный законодательный акт в истории императорской России между отменой крепостного права в 1861 году и Октябрьским Манифестом 1905 г.. Этот документ, оказавшийся более долговечным, чем оба вышеупомянутых акта, кодифицировал и систематизировал проведенные в предыдущие годы репрессивные меры и сделался настоящей конституцией, по которой (кроме как в периоды мимолетных просветов) по сей день управляется Россия. Этот важнейший юридический документ, вполне в духе российской законодательной практики, небрежно стиснут в Собрании Узаконений и Распоряжений между директивой, утверждающей мелкие изменения в уставе Российской Компании страхования от пожаров, и распоряжением, касающимся руководства техническим институтом в Череповце. [Собрание узаконений и распоряжений правительства, СПб., 1881, датировано сентября 1881 г., Э 616, стр. 1553-65]. Полностью он назывался «Распоряжением о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние Усиленной Охраны». В начальных параграфах распоряжения говорится о том, что обычных законов для сохранения порядка в империи оказалось недостаточно, поэтому появилась нужда в определенных «чрезвычайных» мерах. (В своей конструктивной части оно полностью сосредоточивает борьбу с подрывной деятельностью в руках Министерства Внутренних Дел. Предусматриваются два вида особых положений: «Усиленная Охрана» и «Чрезвычайная Охрана». Полномочиями вводить Усиленную Охрану наделялись Министерство Внутренних Дел и, при его согласии, генерал-губернаторы. «Чрезвычайная Охрана» нуждалась в утверждении царем и кабинетом. Условия, при которых могло вводиться то или иное положение, четко не оговаривались.
При Усиленной Охране генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальники имели право принять любую из нижеперечисленных мер (или все сразу): заключить любого жителя в тюрьму на срок до трех месяцев и наложить на него штраф до 400 рублей; запретить все публичные и частные сборища; закрыть все торговые и промышленные предприятия либо на какой-то определенный период, либо на время действия чрезвычайного положения; отказать каким-либо лицам в праве селиться в данной местности; передать смутьянов в руки военной юстиции. Затем, им была дана власть объявить любое лицо, служащее в земстве, городском управлении или в суде, неблагонадежным и потребовать его немедленного увольнения. Наконец, органы местной полиции и жандармерии уполномочивались задерживать на срок до двух недель всех лиц, «внушающих основательное подозрение» с точки зрения государственной безопасности. В случаях, когда правительство усматривало необходимость введения Чрезвычайной Охраны, оно назначало Главнокомандующего, который в дополнение к вышеуказанным полномочиям получал право смещать с должности выборных земских депутатов (в отличие от наемных служащих) или даже вообще закрывать земства, а также увольнять любых чиновников ниже высших трех рангов. Последний пункт был включен неспроста. В момент выхода данного узаконения Министр Внутренних Дел Игнатьев полагал, что среди чиновников и их отпрысков таятся многие из крупнейших смутьянов страны, и предложил периодически «вычищать» неблагонадежных лиц с государственной службы. При Чрезвычайной Охране Главнокомандующий также мог временно прекращать публикацию периодических изданий и закрывать сроком до месяца высшие учебные заведения. Он мог подвергать подозреваемых заключению сроком до трех месяцев и налагать штраф до трех тысяч рублей. То же распоряжение значительно расширяло полномочия жандармерии в местностях с Усиленной и Чрезвычайной Охраной.
Значение этого законодательства было, видимо, лучше всего подытожено словами человека, который, будучи главой Департамента Полиции с 1902 под 1905 гг., немало сделал для проведения его в жизнь, а именно А. А. Лопухина. Выйдя на пенсию, он опубликовал весьма примечательный очерк, в котором заявил, что Распоряжение от 14 августа 1881 года «поставило все население России в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции». Таким образом, там, где речь шла о государственной, безопасности, объективного критерия виновности больше не существовало: виновность устанавливалась на основании субъективного мнения полицейских чиновников. [А. А. Лопухин, Настоящее и будущее русской полиции, М., 1907, стр. 26-7]. Хотя формально данное распоряжение было «временным», со временем действия в три года, каждый раз перед истечением этого срока его снова продлевали, и так до самого конца царского строя. Немедленно после введения Распоряжения от 14 августа в десяти губерниях в том числе в столичных городах Санкт-Петербурге и Москве, была объявлена Усиленная Охрана. После 1900 года число таких губерний увеличилось, а во время революции 1905 г. некоторые местности были поставлены под Чрезвычайную Охрану. После подавления революции, при П. А. Столыпине, Распоряжение было в той или иной форме распространено на все части империи, практически сводя на нет положения о гражданских правах, содержавшиеся в Октябрьском Манифесте, а затем — в законодательстве 1906 года. [П. Н. Милюков, Очерки по истории русской культуры, 6-е изд., СПб., 1909, I стр. 216-17]
С 14 августа 1881 года Россия оставалась самодержавной монархией лишь формально. Как писал Струве в 1903 г., действительная самобытность России по сравнению с прочим, культурным миром заключалась «во всемогуществе политической полиции», которое стало сущностью русского самодержавия; он предсказывал, что стоит упразднить эту подпорку, как самодержавие падет само по себе, кому бы ни принадлежала сама самодержавная власть. [П. Б. Струве, «Россия под надзором полиции», Освобождение, т 1, Э 20/21 18 апреля / 1 мая 1903, стр 357]. Ему вторил Лопухин: в полиции, писал он, «заключалась вся сила покончившего свое существование режима», — и добавлял пророчески: «К ней первой он прибегнет в случае попытки к его возрождению». [Лопухин, Настоящее и будущее, стр 5]. Парадокс заключался в том, что планомерное наступление на права граждан, совершавшееся во имя государственной безопасности, не упрочивало власти монарха; выигрывал не он, а бюрократия и полиция, которым приходилось давать все более широкие полномочия для борьбы с революционным движением. Поскольку угроза никак не соответствовала мерам, принятым для ее отражения, положение выглядело несколько абсурдно. Когда в феврале 1880 г. в самый разгар террора Лорис-Меликову были даны диктаторские полномочия, полиции было известно менее 1.000 случаев преступной антиправительственной деятельности — и это на империю с почти 100 миллионами подданных! [Зайончковский, Кризис самодержавия, стр. 182].
Трудно передать, до какой степени вмешивалась полиция в русскую жизнь позднего монархического периода. Одним из мощнейших видов оружия в руках полиции были имевшиеся у нее полномочия выдавать справки о благонадежности, которыми граждане должны были запастись перед тем, как поступить в университет или на «ответственную» должность. Получив отказ в такой справке, российский житель обрекался на положение гражданина второго сорта, а иногда просто вынуждался присоединиться к революционерам. Затем, предварительно не получив разрешения от полиции, нельзя было заниматься многими видами деятельности. В 1888-89 гг. хорошо осведомленный американский комментатор Джордж Кеннан (двоюродный дед своего тезки и однофамильца, бывшего в более поздний период послом США в Москве) составил следующий список ограничений, которым подвергался русский гражданин в конце 1880-х гг.:
Если вы русский и хотите основать газету, вы должны испросить разрешение у Министерства Внутренних Дел. Если вы желаете устроить воскресную и любую другую школу, в Богом забытой ли петербургской трущобе, или в туземной деревушке на Камчатке, вы должны испросить разрешение Министерства Народного Просвещения. Если вы хотите устроить концерт или представление на нужды сиротского приюта, вам следует испросить разрешение у ближайшего представителя Министерства Внутренних Дел, затем представить программу представления в цензуру на утверждение или исправление и, наконец, передать выручку от зрелища полиции, которая ее промотает или даже, может быть, отдаст приюту. Если вы хотите продавать на улице газеты, вы должны заручиться разрешением, зарегистрироваться в полиции и носить на шее медную номерную бирку величиною с блюдце. Если вы хотите открыть аптеку, типографию, фотоателье или книжную лавку, вы должны получить разрешение. Если вы фотограф и желаете перенести свое предприятие на новое место, вы должны получить разрешение. Если вы студент и приходите в публичную библиотеку, чтобы справиться с «Принципами геологии» Лиеля или «Социальной статистикой» Спенсера, вы обнаружите, что без специального разрешения вы не сможете даже взглянуть на столь опасные, крамольные книги. Если вы врач, перед тем, как начать практику, вы должны получить разрешение; потом, если вы не хотите ходить на вызовы ночью, вы должны получить разрешение отвечать на них отказом; далее, если вы хотите прописать то, что в России называется «сильнодействующим» лекарством, вы должны иметь особое разрешение, иначе аптекари не осмелятся воспользоваться вашим рецептом. Если вы крестьянин и желает выстроить на своем участке баню, вы должны получить разреши ние. Если вы желаете молотить зерно вечером при свечах, вы должны получить разрешение или дать взятку полиции. Если вы хотите отъехать от своего дома более, чем на 15 миль, вы должны получить разрешение. Если вы иностранный путешественник, вы должны получить разрешение въехать в Империю, разрешение выехать из нее, разрешение находиться в ней более полугода должны всякий раз извещать полицию, если меняете гостиницу. Короче говоря, вы не можете жить, передвигаться и функционировать в Российской Империи без разрешения.
Полиция, возглавляемая Министерством Внутренних Дел, при помощи паспортов контролирует передвижения всех жителей Империи; она постоянно держит под наблюдением тысячи подозреваемых; она устанавливает и свидетельствует в суде задолженность банкротов; она распродает невыкупленные у ростовщиков заклады; она выдает удостоверения личности пенсионерам и всем другим нуждающимся в них лицам; она заведует починкой дорог и мостов; она надзирает за всеми театральными представлениями, концертами, живыми картинами, театральными программами, афишами и уличной рекламой; она собирает статистику, следит за исполнением санитарных правил, проводит обыски и изъятия в частных, домах, перлюстрирует корреспонденцию подозреваемых, распоряжается найденными трупами, «журит» верующих, слишком долго не ходивших к причастию и заставляет граждан покорно выполнять тысячи разнообразных приказов и распоряжений, призванных способствовать благосостоянию народа и упрочению безопасности государства. Законодательные акты, касающиеся полиции, заполняют более пяти тысяч параграфов Свода Законов, или собрания российских законов, и вряд ли будет преувеличением сказать, что в крестьянских селениях, вдали от центров образования и просвещения, полиция является вездесущим и всесильным распорядителем всего поведения человека, выступая в виде негодной бюрократической замены божественного Провидения. [George Kennan, «The Russian Police», The Century Illustrated Magazine, Vol XXXVII (1888-9), pp. 890-2].
Другим важнейшим источником полицейской власти было данное ей декретом от 12 марта 1882 г. право ставить любого гражданина под гласный надзор. Относящееся к данной категории лицо именовалось «поднадзорным» и должно было сдать все свои документы в обмен на особое удостоверение, выдаваемое полицией. Ему запрещалось переезжать без разрешения полиции, а его жилище могло подвергнуться обыску в любое время дня и ночи. Поднадзорный гражданин не мог поступить на казенную службу и занимать какую-либо общественную должность, состоять в частных организациях, преподавать, читать лекции, владеть типографией, фотолабораторией или библиотекой и торговать спиртными напитками; он мог практиковать медицину, заниматься акушерством и фармакологией только по лицензии Министерства. Внутренних Дел. То же министерство решало, может ли он получать почту и телеграммы. [Собрание узаконений и распоряжений правительства, СПб., 16 апреля 1882 г №212]. Поднадзорные россияне представляли собой особую категорию — граждан второго сорта — и стояли вне закона и за пределами обычной администрации, живя под прямым диктатом полиции.
Вышеописанные меры безопасности подкреплялись уголовным законодательством, характер которого вел к тому, что русская юриспруденция имела явную тенденцию становиться на сторону правительства. Кеннан делает следующие замечания (в истинности которых легко удостовериться) об Уложении о наказаниях 1885 г.:
Для того, чтобы составить представление о чрезвычайной строгости законов по защите Священной Особы, Достоинства и Верховной Власти Царя, достаточно лишь сравнить их с законами, содержащимися в Разделе X и охраняющими личные права и честь частных граждан. Из такого сравнения выясняется, что повреждение портрета, статуи, бюста или иного изображения Царя, выставленных в публичном месте, является более предосудительным преступлением, чем нападение на частного гражданина и нанесение ему увечий в виде лишения глаз, языка, руки, ноги или слуха [Сравните Параграф 246 с Параграфом 1477]. Организация либо участие в обществе, ставящем себе целью свержение правительства либо изменение формы правления, даже если такое общество не замышляет использования насилия либо каких-то конкретных действий, есть преступление более тяжкое, чем частичное лишение человека умственных способностей посредством побоев, дурного обращения или пыток. [Сравните Параграф 250 с Параграфом 1490.] Произнесение речи либо написание книги, оспаривающей либо подвергающей сомнению неприкосновенность прав или привилегий Верховной Власти, является таким же серьезным правонарушением, как насилие над женщиной. [Сравните Параграф 252 с Параграфом 1525.] Простое укрывание лица, виновного в злоумышлении против жизни, благополучия или чести Царя, либо предоставление убежища лицу, замыслившему добиться ограничения прав и привилегий Верховной Власти, является более серьезным делом, чем предумышленное убийство собственной матери. [Сравните Параграф 243 с Параграфом 1449.] Наконец, по мнению уголовного уложения, частное лицо, составляющее либо распространяющее карикатуры на Священную Особу Царя с целью возбудить неуважение к его личным качествам или к его управлению империей, совершает более ужасное преступление, чем тюремщик, насильничающий над беспомощной и беззащитной заключенной девушкой пятнадцати лет, пока она не умирает в камере. [Сравните Параграф 245 с Параграфами 1525, 1526 и 1527.] [George Kennan, «The Russian Penal Code». The Century Illustrated Magazine. Vol. XXXV (1887-8), pp. 884-5].
В систему политических преследований входила и ссылка. Она могла быть назначена либо по приговору суда, либо административным решением и имела несколько степеней строгости. Самой мягкой была ссылка под гласный надзор полиции в деревню или в отдаленную губернию на какой-то определенный срок. Более суровым был приговор к ссылке на поселение в Сибирь (Западная Сибирь считалась куда более мягким местом наказания, чем Восточная) . Ссыльнопоселенцы были по сути дела свободными людьми, могли работать по найму и иметь с собой семьи. У кого были деньги сверх скудного казенного пособия, те могли жить совсем недурно. Худшей формой ссылки была каторга (от греченского katergon, «галера»). Такого рода каторжные работы были учреждены Петром Великим, который использовал преступников на постройке судов, в шахтах, на строительстве Петербурга и вообще везде, где требовался бесплатный труд. Приговоренные к каторжным работам жили в тюремных казармах и выполняли тяжелую работу под конвоем. После 1886 года эксплуатация принудительного труда (включая труд заключенных) регулировалась особыми инструкциями, направленными на то, чтобы сделать ее доходной для государства. В 1887 г., к примеру, она принесла Министерству Внутренних Дел общий доход на сумму 538.820 рублей, из которой после оплаты расходов оказалось чистой прибыли 166.440 рублей 82 коп. [Министерство Внутренних Дел Исторический очерк, стр 215].
Так много разных чиновников могли своей властью приговорить обвиняемых к ссылке, что статистику по этому виду наказания отыскать сложно. Согласно лучшим из имеющихся в нашем распоряжении официальных статистических данных, в 1898 во всей Сибири было почти 300 тысяч ссыльных всех категорий, а также 10.688 заключенных на каторжных работах. [Академия Наук СССР, Сибирское Отделение, Ссылка и каторга в Сибири, Новосибирск, 1975, стр. 230-1 Из этого числа, однако, в зависимости от района между 22 и 86% ссыльных обычно «отсутствовали без разрешения», т е были в бегах: там же, стр. 231].
Однако, как и в первой половине XIX века, лишь малая часть этих заключенных была осуждена за политические преступления. Зайончковский, имевший доступ в соответствующие архивы, цитирует официальные отчеты, согласно которым в 1880 г. во всей Российской империи лишь около 1.200 человек были приговорены к ссылке за политические преступления; из них 230 проживали, в Сибири, а остальные — в Европейской части России; всего 60 человек находились на каторжных работах (эти цифры не включают более 4 тыс. поляков, сосланных за восстание 1863 г.). В 1901 г. общее число сосланных по суду и административно политических ссыльных всех категорий выросло до 4.113, из которых 3.838 находились под гласным надзором полиции, а 180 — на каторжных работах. [Зайончковский, Кризис самодержавия, стр. 184, 296, и Российское самодержавие, стр. 168].
Чтобы завершить картину запретительных мер, учрежденных правительством Александра III, следует упомянуть о мероприятиях, входивших в категорию так называемых «контрреформ», целью которых, по общему признанию, было выхолостить великие реформы Александра II. Среди них были ограничение полномочий земств, упразднение мировых судей и назначение «земских начальников» — местных чиновников с большой дискреционной властью над крестьянами. На евреев, которые, как , считалось, более других подвержены крамоле, в царствование Александра III обрушилась вся мощь дискриминационных законов, написанных давно, но до сей поры применявшихся нестрого.
Таким образом, в начале 1880-х гг. в царской России наличествовали все элементы полицейского государства. Их можно, суммировать следующим образом:
1. Политика была объявлена вотчиной правительства и его высокопоставленных чиновников; вмешательство в нее со стороны неуполномоченных на то лиц, то есть всех частных граждан, являлось преступлением и наказывалось в соответствии с законом;
2. Надзор за соблюдением этого принципа был поручен Департаменту Полиции и Жандармскому корпусу, который занимался исключительно антиправительственными преступлениями;
3. Эти органы государственной безопасности имели власть:
а. обыскивать, задерживать, допрашивать, заключать в тюрьму и ссылать лиц, виновных в политической деятельности или подозреваемых в оной;
б. отказывать в выдаче гражданам свидетельств о благонадежности, без которых те были лишены права заниматься многими видами деятельности, включая посещение высших учебных заведений и службу в общественных и казенных учреждениях;
в. надзирать за всеми видами культурной деятельности граждан и утверждать уставы общественных организаций;
4. Исполняя свои обязанности, Департамент Полиции и Жандармский корпус не подлежали надзору со стороны юридических органов; они также были изъяты из юрисдикции гражданской администрации, на территории которой они функционировали;
5. Используя имевшиеся в его распоряжении средства, такие как гласный надзор, сибирская ссылка и каторжные работы, аппарат политической полиции мог частично или полностью изолировать инакомыслящих от остального общества;
6. Никакая литература не могла быть напечатана в России или проникнуть в нее без разрешения цензора;
7. Министр Внутренних Дел имел полномочия объявить любой район империи в состоянии Усиленной Охраны, когда временно отменялись нормальные законы и учреждения и все население начинало жить на чрезвычайном положении; точно так же высшие губернские чиновники получили власть с разрешения Министра предавать инакомыслящих военно-полевому суду.
Но это еще не все. В первые годы двадцатого столетия царское правительство провело ряд пробных мероприятий, шагнувших за пределы полицейского режима и вступивших в еще более зловещее царство тоталитаризма. При полицейском режиме политическая деятельность поставлена вне закона, и органы безопасности наделяются практически неограниченными полномочиями для надзора за исполнением этого запрета. Такая система по сути своей оборонительна; она создается для отражения враждебных поползновений. Тоталитаризм отличается более конструктивным подходом; включая в себя все элементы полицейского государства, он идет дальше них, стараясь преобразовать общество таким образом, чтобы все общественные институты и проявления общественной жизни, даже не имеющие политического звучания, попали под контроль бюрократии или, точнее, аппарата государственной безопасности. Во всем усматривается политический смысл, и все ставится под контроль.
Попытка, о которой идет речь, связана с именем Сергея Зубатова и обычно рассматривается как один из самых причудливых эпизодов напряженной борьбы между царским режимом и революционерами. В более широкой исторической перспективе, однако, Зубатов, видимо, внес немалый вклад в технологию авторитарной политики и заслужил видное место в списке политических первопроходцев.
Зубатов (род. в 1866 г.) в юности, кажется, был каким-то образом замешан в крамольной деятельности. У нас не так много достоверных фактов из его биографии, но где-то в середине 1880-х годов он, видимо, поступил в Департамент полиции и постепенно был повышен сперва до должности начальника Московской Охраны, а затем — Особого Отделения. По уму и прозорливости он стоял много выше заурядных полицейских и жандармских чинов, с которыми ему приходилось иметь дело. Он был первым по-настоящему профессиональным работником службы безопасности в России. Зубатов привел с собой в организацию старательных молодых сотрудников и назначил их руководить отделениями охраны, которые он учредил во всей стране. Он ввел такие новшества, как снятие отпечатков пальцев и фотографирование арестованных. Кроме того, у него была своя философия. Будучи убежденным монархистом, он считал долгом защищать Россию от революционеров, поскольку боялся, то они развалят страну (в 1917 г., услыхав об отречении царя, он пустил себе пулю в лоб). Зубатов полагал, что полиция не должна ограничиваться предупреждением и подавлением крамолы и что ей следует активно внедряться в общество. Являясь поклонником Бисмарка, он желал установления в России своего рода социального монархизма, при котором корона встала бы во главе рабочего класса. Внимательное изучение нарождающегося рабочего движения убедило его (как и Ленина, но с противоположными результатами) в том, что у русских рабочих не было политических устремлений, и он стал экспериментировать с профсоюзами, создававшимися под эгидой полиции. Между 1901 и 1903 гг. он, при большой поддержке в высших сферах, создал многочисленные профсоюзные организации под покровительством полиции. Результаты были вне всяких ожиданий. Рабочие, получившие, наконец, возможность бороться за свои экономические интересы, не рискуя подвергнуться аресту, повалили в зубатовские профсоюзы — первые легальные ассоциации рабочих в истории России. Особенной популярностью он пользовался среди рабочих-евреев. До поры до времени дело шло хорошо, но в конце 1903 года Зубатов впал в немилость и был смещен, пав жертвой бюрократических интриг и протестов со стороны промышленников, возражавших против того, чтобы агенты полиции поддерживали их бастующих рабочих. [Наиболее полно деятельность Зубатова описывается в Dimitry Pospielovsky, Russian Police Trade. Unionism (London 1971)].
Придуманная Зубатовым метода была чрезвычайно плодотворна. Если бы ему позволили продолжать в том же духе, он мог бы основать под водительством полиции всевозможные виды ассоциаций. Ведь он какое-то время уже экспериментировал со студенческими обществами, находившимися под крылышком у полиции. В конце концов можно было бы соорудить парламент, состоящий исключительно из полицейских чинов или назначенных ими лиц. Таким образом органы безопасности приобрели бы поистине творческую роль в жизни страны. Однако эта увлекательная тема выходит за хронологические рамки нашего исследования.
И тем не менее, в конечном итоге трудно было бы утверждать, что царская Россия являлась стопроцентным полицейским государством; скорее она являлась предтечей, грубым прототипом такого режима, ей было далеко до законченной его формы. В системе было слишком много прорех, происходивших большей частью от того, что правящая элита России восприняла западные институты и ценности, от которых не желала отказываться, несмотря на их несовместимость с вотчинным духом. Эти прорехи в значительной степени сводили на нет весь внушительный набор репрессивных мер, введенных в 1870-80-х гг. Среди вышеупомянутых противовесов, пожалуй, наиболее важным была частная собственность. Этот институт появился в России довольно поздно, однако быстро пустил в ней глубокие корни. Хотя царский режим преследовал своих подданных за мельчайшие политические провинности, он старательно избегал затрагивать их право собственности. Когда А. Герцен публиковал в Лондоне «Колокол», приводивший власти в крайнее раздражение, рента регулярно поступала к нему из России через международный банк. Мать Ленина, после того как один из ее сыновей был казнен за попытку цареубийства, а двое других детей сели в тюрьму за революционную деятельность, до самой смерти продолжала получать казенную пенсию, полагавшуюся ей как вдове государственного служащего. Наличие частного капитала и частных предприятий сводило на нет многие полицейские меры, направленные на то, чтобы лишить неблагонадежные элементы средств к существованию. Неблагонадежное лицо почти всегда могло устроиться в какой-нибудь частной фирме, администрация которой либо не симпатизировала правительству, либо была политически нейтральной. Некоторые радикальнейшие литераторы России получали средства от чудаковатых богачей. Земства открыто нанимали радикальных интеллигентов учетчиками и учителями. «Союз Освобождения» — подпольное общество, сыгравшее ведущую роль в подготовке революции 1905 г.,— также финансировался из частных источников. Благодаря частной собственности, по всей территории империи создались уголки, куда полиция была бессильна ступить, поскольку законы, бесцеремонно попиравшие права личности, строго охраняли право собственности. В конечном итоге, попытки Зубатова учредить «полицейский социализм» в царской России никогда не увенчались бы успехом, поскольку рано или поздно им суждено было бы пойти вразрез с интересами частных собственников.
Другой прорехой были заграничные поездки. Разрешенные дворянам в 1785 г., они постепенно были позволены и другим сословиям. Их не запрещали даже в периоды свирепейших преследований. Николай I пытался их ограничить, угрожая лишить дворян, в возрасте от 10 до 18 лет, учившихся за границей, права поступать на казенную службу. В 1834 г. он потребовал, чтобы дворяне ограничили свое пребывание за границей пятью годами, а в 1851 г. он сократил этот срок до двух лет. Уложение в наказаниях содержало положения, согласно которым российские граждане обязаны были вернуться из-за границы если на то будет приказ правительства. Однако проку ото всех этих мер было немного. Россияне часто ездили в Западную Европу и жили там подолгу; в 1900 г., например, 200 тысяч русских провели за границей в среднем по 80 дней. В вильгельмовской Германии они составляли самую многочисленную группу иностранных студентов. Для получения заграничного паспорта надо было всего-навсего послать заявление местному губернатору и уплатить небольшую пошлину. Паспорта легко выдавались даже лицам, на которых имелось досье в связи с их крамольной деятельностью, очевидно, в предположении, что за границей от них будет меньше хлопот, чем на родине. Нет ничего удивительного в том, что глава и боевой штаб революционной партии, захватившей власть в России в октябре 1917 г., много лет пребывали в Западной Европе.
В-третьих, существовали мощные факторы психологического характера, не дававшие использовать машину репрессий в полную силу. Воспитанная в западном духе правящая элита царской России боялась позора. Она избегала чересчур жестких мер, опасаясь быть поднятой на смех цивилизованным миром. Она ужасно смущалась, если даже в своих собственных глазах вела себя «по-азиатски». Элита империи была явно неспособна употребить силу и не думать при этом о последствиях. Существует чопорная до трогательности записка Николая II, в своем роде эпитафия его царствованию, которую он послал в конце 1916 г. родственникам, вступившимся за великого князя, замешанного в убийстве Распутина: «Никому не дано право заниматься убийством». [Красный архив, № 26, 1928. стр 191]. Такое представление об этике и полицейский режим как-то не вязались друг с другом.
Результатом этого конфликта между старой вотчинной психологией и современными западными влияниями явилось то, что вездесущий, назойливый и подчас жестокий полицейский аппарат в конечном счете был малодейственен. Власть, данная политической полиции, никак не соответствовала достигаемым ею результатам. Мы уже видели кое-какие статистические данные о политических преступлениях, согласно которым число лиц, находившихся под надзором и в ссылке, и перехваченных цензором книг было крайне невелико. За все 1880-е годы за политические преступления были казнены всего 17 человек, все — за покушения или попытку совершить оные. В царствование Александра III, бывшее периодом жестоких репрессий, в связи с политическими преступлениями было задержано и допрошено всего 4 тысячи человек. В свете обширности России и огромных размеров созданной для борьбы с крамолой полицейской машины эти цифры кажутся весьма незначительными.
Главным — и совсем незапланированным — свершением этого прототипа полицейских режимов явилась радикализация русского общества. Политическое преступление было определено столь широко, что далеко раскинутые сети полицейских мероприятий захватывали и объединяли людей, не имевших почти ничего общего между собой. С юридической точки зрения не проводилось различия между консервативной, националистической, либеральной, демократической, социалистической и анархической формами недовольства. Помещик-монархист, разъяренный некомпетентностью или взяточничеством бюрократии у себя в уезде, в глазах закона и жандармерии превращался в союзника анархиста, готовящего бомбу для взрыва императорского дворца. Своими запретительными мерами правительство по сути дела толкало граждан в ряды оппозиции, где они становились восприимчивыми к экстремистским лозунгам. Например, законы 1880-х гг. запрещали студентам объединяться в какие-либо ассоциации. Одиночество, нужда и естественная жажда общения неизбежно приводили к тому, что молодые люди искали компании своих сверстников и в нарушение закона создавали сообщества, которые не могли существовать иначе, как подпольно, а потому в них легко проникали радикалы и начинали ими верховодить. Так же обстояло дело и с трудовым законодательством. Строжайший запрет на создание рабочих ассоциаций обращал даже самую безобидную профсоюзную деятельность в антиправительственное преступление. Рабочих, интересы которых в противном случае ограничивались бы самообразованием и улучшением своего экономического положения, толкали в объятия радикальных студентов, которым они в принципе не доверяли и которых недолюбливали. Таким образом, трудами самого правительства было совершено на первый взгляд невозможное: сложился союз представителей всех слоев общественного мнения, от славянофилов справа до социалистов-революционеров слева, который под именем Освободительного Движения сумел в 1902-1905 гг вырвать у правительства конституцию.
Проницательные современники не могли не заметить, что существующее законодательство отнюдь не вело к искоренению революционной деятельности, а, напротив, ей содействовало. Среди тех, кто предвидел губительные последствия такой политики, был уже цитировавшийся выше бывший директор Департамента Полиции Лопухин. В 1907 г. он пророчески писал:
При отсутствии элементарных научных понятий о праве, при знакомстве с общественной жизнью только в ее проявлениях в стенах военной школы и полковых казарм все политическое мировоззрение чинов корпуса жандармов заключается в представлениях о том, что существуют народ и государственная власть, что последняя находится в непрестанной опасности со стороны первого, что она подлежит от этой опасности охране и что для осуществления таковой все средства безнаказанно дозволены. Когда же такое мировоззрение совпадает со слабо развитым сознанием служебного долга и неспособностью по умственному развитию разобраться в сложных общественных явлениях, то основанные на нем наблюдения останавливаются только на внешних признаках этих явлений, не усваивая внутреннего их содержания, и потому всякое явление общественное принимает характер для государственной власти опасного. Вследствие чего охрана государственной власти в руках корпуса жандармов обращается в борьбу со всем обществом, а в конечном результате приводит к гибели и государственную власть, неприкосновенность которой может быть обеспечена только единением с обществом.
Усиливая раскол между государственной властью и народом, она создает революцию. Вот почему деятельность политической полиции представляется не только враждебной народу, но и противогосударственной. [Лопухин. Настоящее и будущее, стр. 32-3].
Теоретически, разумеется, монархия могла вернуться к порядкам Московской Руси, экспроприировать всю частную собственность, взнуздать все классы государственной повинностью — тяглом, оградить Россию от остального мира непроницаемой стеной и объявить себя Третьим Римом. Такие преобразования закрыли бы прорехи, превращавшие полицейскую систему России в посмешище. Но для этого понадобилась бы настоящая социальная и культурная революция. В силу своего воспитания правители России не подходили на роль вершителей подобных катаклизмов. На это нужны были новые люди с иной психологией и иными ценностями.
В исторической литературе обрисованная выше репрессивная система обычно сопровождается эпитетом «реакционной». Методы, однако, сами по себе нейтральны. Тактика подавления инакомыслящих может быть использована режимами «левой» ориентации с такой же готовностью, что и режимами, ходящими в «правых». Проверенная опытом и признанная успешной, она наверняка будет применена любым правительством, которое, все равно на каком основании, отведет себе право на политическую монополию. Точно так же, как тактика массированного прорыва бронетанковыми частями, впервые примененная англичанами у Камбрэ, но толком ими дальше не использованная, была усовершенствована их противниками — немцами во Второй мировой войне, политические методы, неуверенно вводившиеся в России царским режимом впервые были с полным размахом применены его бывшими жертвами — революционерами. Пришедшие в октябре 1917 г. к власти в России люди выросли при режиме «чрезвычайных» и «временных» законов; то была единственная конституция, которую они знали. За каждым из них в прошлом следила политическая полиция царского правительства; она обыскивала их, арестовывала, держала в тюрьмах и приговаривала к ссылке. Они сражались с цензурой и имели дело с засланными в их среду провокаторами. Они прекрасно знали систему изнутри и, значит, ее недочеты и прорехи. Их представление о том, каким должно быть правительство, было зеркальным отражением царского режима, и прозванное им «крамолой» они нарекли «контрреволюцией». Задолго до прихода к власти социал-демократы вроде Ленина и Плеханова не делали секрета из того, что не видят греха в убийстве своих идеологических противников. [Richard Pipes, Struve: Liberal on the Left, 1870-1905 (Cambridge, Mass. 1970), pp. 257 и 219].
Посему не было ничего удивительного в том, что почти сразу после прихода к власти большевики начали выстраивать заново разрушенный недолго правившим демократическим Временным Правительством аппарат царской политической полиции. Политический сыск, Чека, был официально учрежден в декабре 1917 г., однако неофициально его функции выполнялись со дня переворота Военно-Революционным Комитетом. Чека получила гораздо более широкие полномочия, чем имели в прошлом Департамент Полиции, охрана и корпус жандармов, и неограниченное право расстреливать тех, кого она зачисляла по своему усмотрению в «контрреволюционеры». В сентябре 1918. г., с провозглашением красного террора, она в один день расстреляла более 500 «врагов государства», частью заложников, виновных единственно в том, что по рождению они принадлежали не к тем социальным слоям. В течение девяти месяцев после захвата власти большевиками умолкла оппозиционная печать и были выданы ордера на арест ведущих политических противников. Уже тогда поговаривали о концентрационных лагерях для «смутьянов», и вскоре был снова введен принудительный труд.
Как уже отмечалось выше (стр. #384), Уголовный кодекс 1926 г. содержал санкции против антиправительственных преступлений, которые ни по широте трактовки, ни по суровости существенно не отличались от законов, принятых царским режимом.
Все это было сделано сразу после захвата власти. Затем карательная машина с каждым годом совершенствовалась, до тех пор, пока при диктатуре Сталина повальное уничтожение людей не достигло размаха, невиданного в истории человечества.
Приступив немедленно после прихода к власти к восстановлению полицейского государства, Ленин и его соратники — революционеры безусловно считали такие шаги чрезвычайными мероприятиями — точно так же, как думало в свое время царское правительство. Они полагали, что Чека, «ревтрибуналы», массовые казни, лагеря принудительного труда, ссылки, цензура и тому подобные репрессивные институты необходимы для того, чтобы выкорчевать последние остатки царского режима. С выполнением этой задачи вновь созданные учреждения будут ликвидированы. Однако «временные» репрессивные меры коммунистов постигла та же участь, что и подобные мероприятия их предшественников: их регулярно продлевали, и огульное использование связанных с ними насильственных акций постепенно перестало иметь какое-либо отношение к порядку, который они были призваны охранять. Если бы большевистские вожди читали больше книг по истории и меньше полемических трактатов, они сумели бы предвидеть такой результат.
Ибо идея о том, что политика может быть отгорожена от превратностей жизни и монополизирована какой-либо группой или идеологией, в условиях современного мира бесперспективна. Любое правительство, упорствующее в этом заблуждении, вынуждено давать все большую власть своему полицейскому аппарату и конце концов падает его жертвой.


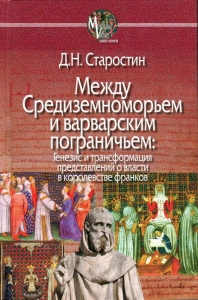

Комментарии к книге «Россия при старом режиме», Ричард Пайпс
Всего 0 комментариев