Стивен Коэн «ВОПРОС ВОПРОСОВ»: Почему не стало Советского Союза? Новое расширенное издание
ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ. Предисловие к новому расширенному изданию
Я решил подготовить это новое издание «Вопроса вопросов» по трем причинам, каждая из которых для меня как американского историка, более тридцати лет связанного с русским читателем, имеет большое значение.
Во-первых, первое издание этой книги, опубликованное в Москве в 2007 году, быстро исчезло с прилавков книжных магазинов и сегодня практически недоступно. О том, что оно стало «дефицитом», я узнал, когда всё больше русских, знакомых с моими прочими работами, стали спрашивать меня, не написал ли я что-нибудь по поводу конца Советского Союза. Поскольку эта тема, начиная с 1991 года, была важной частью моей исследовательской работы, вопрос удивил меня и расстроил. Надеюсь, это новое издание поможет донести до всех заинтересованных читателей мои мысли по поводу «вопроса вопросов».
Я не считаю, однако, что трактовки и доводы, представленные здесь, являются чем-то вроде истины в последней инстанции в этом вопросе. Исчезновение Советского государства — это одно из тех меняющих историю событий, которые будут по-разному истолковываться и дебатироваться десятилетиями, если не столетиями — «спор без конца», как справедливо выразился об Истории, какой она должна быть, Питер Гейл. В этом смысле, те из нас, кто пишут сегодня о конце Советского Союза, всё еще работают над первым черновым наброском этой истории.
С другой стороны, «Вопрос вопросов», думаю, может стать существенным вкладом в продолжающуюся дискуссию, особенно в связи с 20-летием того события, которое обыкновенно (и часто ошибочно) именуют «распадом». Насколько мне известно, это единственная книга, в которой сделана попытка выявить, проанализировать и дать критическую оценку всех существующих на Западе и в России серьёзных объяснений конца Советского Союза. Тем более, что в отличие от большинства западных и российских авторов, пишущих по данной теме, я подошёл к вопросу без какой бы то ни было личной, политической или идеологической пристрастности — или, по крайней мере, попытался подойти. Удалось мне это или нет — решать читателю.
Вторая причина подготовить новое издание «Вопроса вопросов» заключалась в моём намерении расширить и дополнить оригинал. Оценка важнейшего поворотного момента в истории, безусловно, не может сводиться только к объяснению причин. Его последствия, в ближайшей и отдалённой перспективе, также требуют выявления и анализа. Я начал это делать в этом издании, добавив главу «Утраченное наследие Горбачёва».
Хочется подчеркнуть, что эта глава является ещё более черновым, предварительным историческим наброском, как минимум, в двух отношениях. Двадцать лет — недостаточный срок для оценки тех последствий декабря 1991 года, которые до сих пор проявляются в постсоветской России — и в мире — и будут проявляться ещё долгие годы. Другая причина ограниченности этой главы в том, что в ней наследие ассоциируется с правлением Михаила Горбачёва. Это объясняется, главным образом, тем, что именно горбачёвскую перестройку я наблюдал с наиболее близкого расстояния, часто бывая в Москве в те годы, и именно её изучил с тех пор наиболее полно. Однако я понимаю, что в 1991 году существовали и другие альтернативы, не связанные с последним советским президентом, которые тоже требуют серьёзного рассмотрения. Надеюсь, всё же, что пристальное внимание, уделённое в этой главе концу горбачёвских реформ в стране и в мире, внесёт свою лепту в эту более широкую дискуссию.
Наконец, это издание даёт мне возможность высказать несколько замечаний по поводу значительной части моей интеллектуальной автобиографии, которая так долго и так тесно связана с Россией. Некоторые читатели справедливо отмечают, что тема исторической альтернативности является сквозной для всех моих книг: биографии Николая Бухарина, нелегально ходившей по Союзу в тамиздатовском переводе в начале восьмидесятых годов и переизданной затем несколько раз легально, большими тиражами, на рубеже восьмидесятых и девяностых; «Переосмысливая советский опыт», выпущенной лишь небольшим тамиздатовским тиражом в 1986 году; «Провал крестового похода: США и трагедия посткоммунистической России» и даже «Жизнь после ГУЛАГа: Возвращение сталинских жертв», изданных в Москве соответственно в 2001 и 2011 годах. И, конечно, альтернативность занимает центральное место в «Вопросе вопросов».
Как хорошо известно читателям доперестроечной советской эпохи, официальное отрицание наличия альтернатив в прошлом (и, следовательно, в настоящем) является опорой политической диктатуры. Иногда, впрочем, подобное мышление если не отрицается, то не слишком приветствуется и в демократических странах. Например, советские власти долгое время на корню пресекали идею существования альтернатив сталинизму после Октября 1917 года, и, одновременно, та же самая ортодоксия, только в антисоветском варианте, господствовала в исследованиях о России в Соединенных Штатах. Так, покойный Виктор Петрович Данилов, крупнейший российский историк сталинской коллективизации, подвергавшийся гонениям как «альтернативщик Данилов», однажды заметил в мой адрес: «А ты, Стив, альтернативщик Коэн». (Меня, разумеется, гонениям никто не подвергал.)
В одном отношении мы с Даниловым не были из ряда вон выходящими. Многие писатели, особенно, пожалуй, романисты и историки, однажды понимают, что снова и снова возвращаются к той или иной большой теме, которая пленила их в юности. Для меня это — политические альтернативы в истории, дороги избранные и неизбранные, особенно в России, хотя началось всё дома, в Америке.
Выросший на Юге, в Кентукки, в маленьком городке, разделённом на белых и чёрных — в системе американского апартеида — я, как все дети, воспринимал окружающий меня мир как норму. Но когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, в моей жизни произошли события, заставившие меня понять, что сегрегация — это ужасная несправедливость, и задуматься, была ли в истории Кентукки какая-то альтернатива, хотя самого слова я тогда ещё не употреблял. К примеру, мне было любопытно, как мой штат мог стать родиной обоих президентов периода Гражданской войны — Союза и Конфедерации, Авраама Линкольна и Джефферсона Дэвиса.
Несколькими годами позже, когда я начал изучать Советскую Россию в соседнем Индианском университете, профессор Роберт Такер, ставший моим наставником — а впоследствии, до самой своей смерти в возрасте 92 лет в 2010 году, ещё и близким другом и коллегой по Принстонскому университету — посоветовал мне выбрать тему, которая представляла бы для меня особый интерес в истории России. Видя моё затруднение, он спросил, есть ли какие-то исторические и политические вопросы, которые интересуют меня помимо России. Не оторвавшись еще в полной мере от дома, я ответил: «Была ли в истории Кентукки альтернатива сегрегации». Тогда Такер и дал мне путевку в мою интеллектуальную жизнь: «Хорошо. Вопрос об альтернативах — очень большая и малоизученная тема в советской истории». Такой эта тема стала и остаётся для меня.
Я должен также пояснить, что именно я понимаю под историческими альтернативами. Это не воображаемые или гипотетические конструкции типа «что, если…», не выстроенная от противного контрфактическая история или то, что отметается многими авторами как «не существующее в истории сослагательное наклонение». Меня интересуют альтернативные возможности, которые реально существовали в конкретные переломные моменты советской и постсоветской истории, имели под собой реальную почву, были представлены реальными лидерами и пользовались достаточной политической и социальной поддержкой, чтобы иметь шанс на реализацию. Можно спорить о том, что касается их шансов, но не о том, что реальные люди боролись — и умирали — за них.
Не нужно никаких «что, если» или прочих выдумок, чтобы понять, что бухаринская оппозиция сталинскому политическому и экономическому курсу представляла иной советский путь развития, путь, имевший широкую поддержку в коммунистической партии и в обществе. Что реформы Хрущёва, с энтузиазмом воспринятые молодым поколением, интеллигенцией и далеко не отдельными представителями партийно-государственного аппарата, могли привести к более существенным изменениям в советской системе ещё за двадцать лет до перестройки. Или что призыв Горбачёва к полномасштабной советской реформации, или перестройке, имел значительную поддержку элиты и народа, и пока личная популярность Горбачёва не рухнула под тяжестью предлагаемой им альтернативы, даже Борис Ельцин заявлял, что одобряет её.
Почти семилетняя драма горбачёвской перестройки вывела идею политической и исторической альтернативности на передний край теоретических рассуждений о Советском Союзе как в России, так и в Америке. (Горбачёв, как я покажу позже, был своего рода еретиком, а еретикам свойственно верить в альтернативы.) Но после конца Советского Союза эта идея альтернатив в истории всё больше утрачивала популярность, и вновь возобладала вера в историческую неизбежность. Сегодня всё большее число российских и американских историков (и политиков) опять утверждают, что была некая неизбежная, предопределённая одним или несколькими необоримыми факторами, «прямая линия», ведущая от Октября к сталинизму и распаду.
Но история, написанная без учёта проигранных альтернатив и упущенных возможностей, не будет ни полным изложением событий прошлого, ни настоящим объяснением того, что произошло. Это всего лишь история победителей, задача которой — выглядеть предопределённой. Такая история может обслуживать существующую власть или служить каким-то другим политическим целям, но вряд ли может чему-нибудь нас научить.
* * *
Это новое издание также предоставляет мне шанс выразить мою огромную благодарность двум людям, сделавшим возможной публикацию в России всех моих книг и большинства брошюр и статей с начала девяностых годов. Мой переводчик Ирина Давидян дала русским читателям возможность читать мои работы на языке куда лучшем, чем тот, которым я в действительности говорю и пишу. А историк Геннадий Бордюгов всегда был преданным своему делу редактором и неизменно мудрым советчиком.
Стивен КОЭН Нью-Йорк, июль 2011 г.ПРЕДИСЛОВИЕ
[Это] вопрос вопросов.
Леон ОпиковНереформируемых общественных систем не бывает: иначе не было бы вообще прогресса в истории.
Михаил ГорбачёвИз всех российских «проклятых» вопросов XX века один продолжает терзать нацию и в XXI веке: Почему погиб Советский Союз, или, как иногда называют его националисты, «Великая Россия»? С декабря 1991 г. российские учёные, политики и общественность не перестают спорить по этому вопросу, в то время как у большинства западных комментаторов уже готов ответ: Советская система была нереформируема и, следовательно, обречена из-за присущих ей неисправимых дефектов.
Но, учитывал те исторические перемены в сторону демократии и рынка, которые произошли за шесть лет правления Михаила Горбачёва в 1985–1991 тт., была ли система действительно нереформируемой? Разумеется, в то время такой единодушной уверенности в этом не было. Западные правительства, включая США, практически до самого конца думали и надеялись, что руководство Горбачёва может привести к реформированию Советского Союза. В то время как учёные «пессимисты», вслед за большинством советологов, твердили, что советскую систему невозможно реформировать и, следовательно, Горбачёва ждёт поражение, многие исследования, проводимые в годы перестройки, однозначно показывали, что «системные изменения возможны в советском контексте». Один американский экономист, которому суждено было вскоре стать главным экспертом-советологом Белого дома, выразился даже более категорично: «Можно ли реформировать советский социализм? Конечно, можно, и он уже реформируется»{1}.
Глава I. К КРИТИКЕ ТЕОРИИ НЕРЕФОРМИРУЕМОСТИ
Почему же тогда так много специалистов, принадлежащих к разным поколениям и исповедующих разные научные убеждения, твердят, начиная с 1991 г., что «СССР невозможно было реформировать», что он был «фундаментально, структурно нереформируемым», а выражение «советская реформа» вообще есть «словесное противоречие, как горячий снег», и, следовательно, Горбачёв просто «не сумел реформировать нере-формируемое»? И ещё более непонятно, почему они так настойчиво утверждают, словно не желая возвращаться к этой теме, что на этот глобальный исторический вопрос «уже дан ответ»?{2}. Понять их мотивацию непросто ещё и потому, что сама формулировка: «нереформируемость коммунизма, присущая ему изнутри», — является одной из худших в литературе. В некоторых случаях, объяснение являет собой простую тавтологию, как у того французского советолога, который не представлял, что «советская система может реформировать себя во что-то принципиально иное, не перестав при этом быть советской системой»{3}. Не принимая в расчёт подобные образцы псевдоанализа, остановимся на четырёх, слегка отличающихся друг от друга, способах аргументации, обычно используемых различными учёными для доказательства тезиса о нереформируемости советской системы.
Первый заключается в том, что первородный грех Советского Союза: его аберрантная идеология, нелегитимный способ возникновения и совершённые им преступления, — превратил его в вечное зло и лишил спасительной альтернативы в виде возможностей к развитию. Советская система, таким образом, оказалась «слишком глубоко, фатально порочной, чтобы быть реформированной». За семь десятилетий советской истории, продолжают приверженцы этого взгляда, не произошло и не могло произойти никаких коренных изменений; система так и не произвела на свет ни настоящих реформ, ни настоящих реформаторов, а только, как в случае с горбачёвской перестройкой, «иллюзию реформируемости». Положить конец советскому злу могло только тотальное разрушение системы в «экономический и социальный прах». Несмотря на видимость научной объективности, этот способ аргументации является по сути теологическим. Подобно большинству религиозных вероучений, он загоняет историю в узкие рамки манихейской интерпретации, с упорством отметая любые сведения или логические аргументы, которые в неё не вписываются{4}.
Опровергнуть этот способ аргументации можно с его же позиций. Ни одна теологическая система в мире не предполагает подобного догматизма в отношении роли, длительности и путей избавления от зла, как этот жёстко детерминированный подход к истолкованию советского опыта. Все они оставляют место для альтернатив и человеческого выбора. Более того, рассуждая исторически, если первородный грех навечно лишает политическую или экономическую систему возможности избавиться от зла, как удалось тогда рабовладельческой Америке стать, в конце концов, настоящей демократией? Можно ли с полным основанием и моральным правом утверждать, что изначальное советское зло было более масштабным и оказало большее влияние на развитие страны, чем рабство в Соединённых Штатах? Признанное законным во всех тринадцати первоначальных штатах, оно, усилиями федерального правительства, превратилось в общенациональную систему, позволявшую более двухсот лет держать от 8 до 12 миллионов душ в полной рабской зависимости, убивая, калеча и навеки разлучая с семьями. На американском Юге, как известно, сформировалось «самое мощное рабовладельческое общество, какое только видел современный мир», но и в Нью-Йорке тоже из рабства была «соткана… базовая ткань» общества. Рабство было составной частью, институтом новой американской «демократии» и, одновременно, «основой благосостояния Америки как нации», в том числе, её главного экспорта — хлопка. К началу 1860-х гг. рыночная стоимость рабов в Америке «превышала общую долларовую стоимость всех банков, железных дорог и промышленных предприятий страны»{5}.
В конце концов, пусть и с опозданием, некоторые американские историки и выдающиеся политические деятели пришли к выводу, что рабство было «злом колоссальной величины», «одним из величайших преступлений в истории» и «первородным грехом» нации. Выходит, нации и системы могут меняться. Недаром главный американский борец с советской «империей зла», президент Рональд Рейган, заявил, что она перестала быть таковой, всего через три года после начала горбачёвских реформ{6}.
Вторым и более распространённым способом аргументации является ссылка на то, что сам-де конец Советского Союза доказал его нереформируемость — довод, основанный, по всей видимости, на предположении, что всякая смерть есть результат неизлечимой болезни. Это старая привычка советологии — читать, вернее, перечитывать историю с конца, отталкиваясь от уже известного результата: «Конечно, оглядываясь назад, теперь мы понимаем, что историческая миссия Горбачёва состояла не в том, чтобы победить, а в том, чтобы проиграть». Согласно ещё одному мнению, «после краха Советского Союза кажется, что этот результат был неизбежен с самого начала». Похоже, даже искушённым специалистам трудно отказаться от убеждения, что любые эпохальные события предопределены некой железной логикой{7}.[1] Но в таком случае настоящий анализ и объяснение случившегося становятся ненужными. Если результат неизбежен, то роль исторических сложностей, случайностей, альтернатив и прочих возможностей сводится к минимуму, если не к нулю.
Даже без учёта того, что из всех «неизбежных» событий современной истории, как сказал в своё время Токвилль о Французской революции, распад СССР был, возможно, наименее предвидимым, ошибочность «ретроспективного детерминизма», или «склонности к запоздалым суждениям», также может быть доказана его собственными методами{8}. Многие из «детерминистов» подчёркивают «ошибочность» тех или иных действий Горбачёва, тем самым, подразумевая, что советская реформа была бы успешной, действуй Горбачёв по-другому или будь на его месте другой лидер. Подобная критика в адрес Горбачёва неконструктивна, поскольку предлагаемые рецепты слишком противоречивы. Одни полагают, что ему следовало проводить реформу быстрее, другие — медленнее; одни говорят, что он был недостаточно демократичным, другие — недостаточно авторитарным. Но все эти «если бы да кабы» по сути являются негласным признанием существования альтернатив, а значит, правомерности контрфактических вопросов типа «что, если бы…», опровергающих их собственные выводы о нереформируемости советской системы и неизбежности её краха.
Рассмотрим несколько таких контрфактических вопросов по поводу случайностей и альтернатив горбачёвской реформы — способ анализа, широко применяемый в других областях исторического знания, но редко воспринимаемый серьёзно в советологии{9}. По мнению большинства авторов, горбачёвская политика ускоренной демократизации сделала его руководство более уязвимым, не способным противостоять растущим экономическим трудностям и националистическим беспорядкам. Его ошибка 1990 г., когда он не стал проводить общенародные выборы президента СССР, а ограничился решением съезда, впоследствии лишила его легитимности, что особенно проявилось в 1990–91 гг., когда он столкнулся с ростом популярности Ельцина как претендента на пост президента РСФСР. А сочетание антикремлевской политики Ельцина и августовского путча 1991 г. привело к тому, что все усилия Горбачёва удержать Союз от распада оказались тщетны.
Но что, если Горбачёву удалось бы провести рыночные реформы до или вообще без всякой демократизации — эдакая версия китайской модели, которая, как до сих пор полагают многие российские реформаторы, была бы наилучшим вариантом — и если бы чернобыльская катастрофа 1986 г. и армянское землетрясение 1988 г. не опустошили союзный бюджет, а мировые цены на советскую нефть не упали так резко? Что, если бы уже позже, как союзный президент, неважно, избранный всенародно или нет, Горбачёв применил силу — а он легко мог это сделать — чтобы пресечь национально-сепаратистскую деятельность в одной-двух республиках? И что, если бы он в 1987 г., после снятия Ельцина с руководящего поста, отправил его в посольскую ссылку в далекую африканскую страну? Или в 1990–91 гг. перекрыл ему доступ к государственному телевидению, как позже поступил сам Ельцин по отношению к своему коммунистическому сопернику на выборах 1996 г.?
С другой стороны, покусился бы Ельцин на союзное правительство, если бы сам был избран президентом СССР, а не Российской республики, что было вполне реально в 1990 г. и на что он рассчитывал после поражения августовского путча 1991 г.? А когда он вместе с двумя другими советскими лидерами в декабре 1991 г. тайком отменил Союз, что, если бы армия и другие советские силовые структуры, как и опасался Ельцин, выступили против них? Что до обречённой попытки путча в августе 1991 г., случился бы он, если Горбачёв сместил со своих постов тех высокопоставленных партийных и государственных лидеров, которые уже отметились в попытке заговора против него несколькими месяцами раньше? И если бы США и страны «семерки» оказали существенную финансовую помощь реформам в СССР, как о том просил Горбачёв летом 1991 г., осмелился бы кто-нибудь в Советском Союзе выступить против него?
Таковы лишь некоторые из вполне закономерных вопросов, которые, однако, не учитывает ещё один типичный тезис, объясняющий, почему советская система не могла измениться: «Система просто не приняла бы реформу». Ведущий своё происхождение от старой тоталитарной модели и существующий в разных версиях, этот аргумент о структурной нереформируемости системы базируется на двух главных предположениях. Монолитный правящий коммунистический класс, или бюрократическая номенклатура, никогда не допустил бы никаких изменений, угрожающих его монополистическому господству, и потому «противился любым видам реформы». А поскольку «политическая система была выстроена в соответствии с тоталитарными требованиями… её институты невозможно было приспособить для обслуживания плюралистических целей»{10}.[2]
Но эти предположения тоже оказались ложными. Все главные политические и экономические реформы Горбачёва, произошедшие в решающий период 1985–1990 гг., предлагались, обсуждались и ратифицировались высшими органами коммунистической номенклатуры: Политбюро, ЦК, всесоюзной партийной конференцией, двумя партийными съездами. Эти органы даже проголосовали за отмену практики, обеспечивавшей их номенклатурное превосходство — практики назначения на все важнейшие политические посты — в пользу выборов. И в процессе осуществления этих «плюралистических» реформ эти структуры сами раскололись, раздробились, стали плюралистическими, как и конституционная основа системы — советы.
Это замечательное достижение подводит нас к самому излюбленному аргументу тех, кто настаивает, что Советский Союз не мог быть реформирован: советская система и демократия были «взаимоисключающими» понятиями, и, следовательно, первая не могла не умереть от второго{11}.[3] Но даже если так, это не означает, что система была абсолютно не реформируема, это означает, что ей была чужда демократизация, что, впрочем, тоже спорно. Сторонники этого аргумента полагают, что разрешённая Горбачёвым ещё до 1989 г. относительная свобода слова, политической деятельности и выборов должна была заставить массовые антисоветские настроения — долгое время подавляемые и обычно считающиеся атрибутом оппозиционного системе «гражданского общества» — смести систему как незаконную и заменить её чем-то принципиально несоветским.
Неудивительно, что за это двойное объяснение (нереформируемости системы и конца СССР) ухватились Ельцин и его союзники в конце 1991 г., когда они сбрасывали с корабля истории горбачёвскую перестройку и разбирали на части Союз. В работах многих западных учёных и комментаторов, особенно американских, с тех пор утвердилось незыблемое мнение, что последние годы существования СССР были временем «нарастающей революции снизу», «подлинно народной революции», «народно-демократической революции». В соответствии с этим мнением, рядовые граждане страны Советов отвергли социализм, совершив «как бы массовое внутреннее дезертирство» и «величайшую в истории бескровную революцию с целью устранения советского режима»{12}.
На самом деле, никакой антисоветской революции снизу никогда не было, во всяком случае, в России, о которой преимущественно идёт речь в этих утверждениях. В 1989–91 гг. действительно можно было наблюдать рост народной поддержки демократических и рыночных преобразований, а также протестов против диктата КПСС, коррупции и злоупотреблений в партийно-государственном аппарате и экономического дефицита. Но объективные данные, в частности, данные опросов общественного мнения, показывают, что огромное большинство советских граждан (порядка 80%, а по некоторым вопросам ещё больше) по-прежнему было против рыночного капитализма и поддерживало основополагающие социально-экономические ценности советской системы, среди которых: государственная собственность на землю и другие экономические объекты общенационального значения, государственное регулирование рынка, контроль за потребительскими ценами, гарантия занятости, бесплатное образование и здравоохранение. Или, как выразился один российский историк, «подавляющее большинство населения разделяло идеи “социалистического выбора”»{13}.
Ещё более очевидной была общественная поддержка самого Советского многонационального государства, что подтверждается соответствующими данными. По результатам беспрецедентного референдума, состоявшегося в России и ещё восьми союзных республиках в марте 1991 г. и охватившего 93% всего советского населения, 76,4% участников проголосовали за сохранение Союза — всего за девять месяцев до его роспуска. То, что этот результат демократического голосования действительно соответствовал общественному мнению в России — центре предполагаемой народной антисоветской революции — подтверждается двумя обстоятельствами. Даже сам Ельцин поднялся к вершине выборной власти в Российской федерации на волне всеобщего ожидания реформы, а не свержения советской системы. А упразднение Союза продолжало вызывать сожаление общества всё десятилетие после 1991 г., и даже в начале XXI века от 65% до 80% российских граждан не одобряли его{14}.
Неверным является и утверждение, будто бы антисоветская «Августовская революция» 1991 г. предотвратила попытку государственного переворота, устроенного силовыми структурами с целью навести порядок в стране. Вопреки этому не менее распространённому мифу, никакого «общенационального сопротивления» путчу не было. Даже в ельцинской Москве, при всём героизме и решимости её защитников, едва ли один процент граждан активно противостоял трёхдневной танковой оккупации столицы, а в провинциальных городах, в сельской местности и за пределами Российской Федерации процент сопротивления был ещё ниже. Остальные 99%, по свидетельству авторитетного наблюдателя, «лихорадочно скупали макароны и делали вид, что ничего не происходит», или, как сообщал посол Великобритании, выжидали с намерением «посмотреть, куда кошка прыгнет». Каков бы ни был реальный процент, даже лидеры оппозиции путчу знали, «как мало народа» вышло на улицы поддержать их{15}.[4] (Так, например, призыв Ельцина ответить на путч всеобщей забастовкой практически не нашёл отклика в массах.)
Итак, у нас не осталось больше теоретических или концептуальных оснований полагать, что советская система была нереформируемой и, значит, как стало принято говорить, «обречённой» с самого начала горбачёвских реформ. На самом деле, если вопрос сформулировать должным образом, без традиционного идеологического подхода, и тщательно изучить в свете тех изменений, которые действительно произошли, особенно в период 1985–90 гг., то есть, до того как кризисы дестабилизировали страну, то окажется, что она была замечательно реформируемой. Но для того чтобы задать вопрос правильно, нам нужно точно представлять себе, что такое реформа и что такое советская система.
В универсальном понимании, реформа есть не просто изменение, но изменение, которое ведёт к улучшению жизни людей, обычно за счёт расширения рамок их политической или экономической свободы или и того, и другого вместе. (Как у Горбачёва: без реформы «не было бы прогресса в истории»{16}). Это не революция или тотальная трансформация существующего порядка, а постепенные, пошаговые улучшения в широком историческом, институциональном и культурном измерении системы. Утверждения, что «настоящая реформа» должна быть быстрой и полной, которые так часто можно встретить в работах советологов, вычёркивают из разряда «настоящих», к примеру, исторически значимое, но постепенное, в течение десятилетий, расширение избирательных, гражданских и социальных прав в Великобритании и США, а также американский «новый курс» 1930-х гг. Следует, к тому же, помнить, что реформа не всегда и не обязательно означает демократизацию и маркетизацию, хотя в настоящее время это всё чаще оказывается именно так.
В таком понимании, исторически неверно утверждать, что советская система была нереформируемой, что у неё были только «неудачные попытки реформ»{17}. Новая экономическая политика в 1920-е гг. существенно расширила экономическую и, в меньшей степени, политическую свободу большинства граждан СССР, а политика Хрущёва привела к ряду положительных и долговременных изменений в 1950–60-е гг. Многие западные специалисты явно полагают, что это был предел возможностей советских реформ, указывая на то, что даже проповедуемый Горбачёвым демократический социализм был уже не совместим с антидемократическими историческими иконами — Октябрьской революцией и Лениным.
Но этому утверждению также не хватает сравнительной перспективы. Французы и американцы со временем изменили образы своих национальных революций, с тем чтобы они соответствовали современным ценностям. Почему же российская демократическая нация не могла бы со временем простить Ленина и других основателей советской системы, которые всё-таки были приверженцами демократии, хотя и подавляли её? Простить, как продукт своей эпохи, сложившейся под влиянием беспрецедентного насилия и жестокости Первой мировой войны — ведь простили же американцы своим отцам-основателям, в числе которых были Вашингтон, Джефферсон и Мэдисон, их рабов. (Соединенными Штатами почти 50 лет руководили президенты-рабовладельцы, а не имевшие рабов сторонники рабства — и того больше; труд рабов использовался даже при строительстве Капитолия и Белого дома, а многие учебники и спустя почти сто лет после отмены рабства ещё не давали ему чёткой оценки либо считали безвредным){18}.[5] На самом деле, подобное переосмысление роли Ленина и Октября, наряду с официальным признанием преступлений сталинской эпохи, к концу 1980-х гг. уже шло в стране полным ходом — как часть более широкого процесса публичного «покаяния».
Для точного определения понятия «советская система» сначала, как и в случае с реформой, нужно отринуть все произвольные и неточные. Наиболее распространённым из них является отождествление советской системы с «коммунизмом», как, например, в известной аксиоме «коммунизм невозможно было реформировать». Фигурирующий здесь коммунизм есть недоступное восприятию, ничего не значащее, выхолощенное аналитическое понятие{19}. Ни один из советских лидеров никогда не заявлял, что такой коммунизм когда-нибудь существовал в его стране или где-либо ещё, а только социализм — впрочем, последний советский лидер сомневался даже в этом. «Коммунистический» было попросту название, данное официальной идеологии, правящей партии и заявленной цели; значение этого термина зависело от конкретного руководства и менялось столь часто и столь существенно, что могло означать практически что угодно. Так, Горбачёв в 1990 г. решил, что оно означает «быть последовательно демократическим и ставить общие ценности превыше всего». Западные обозреватели могут не понимать разницы между абстрактным «коммунизмом» и полнотой жизни реальной советской системы, или «советизма», но советским (а впоследствии российским) гражданам было ясно, и, по крайней мере, в этом они были солидарны с Горбачёвым, что «коммунизм это не Советский Союз»{20}.[6]
Чтобы дать точное определение и оценку советской системе, её, как любую другую, нужно рассматривать не как абстракцию или идеологический артефакт, а с точки зрения её работающих компонентов, в особенности базовых институтов и практик. Таковыми в западной советологической литературе принято считать шесть: официальная и непреложная идеология; сугубый авторитаризм правящей Коммунистической партии; партийная диктатура во всём, что имеет отношение к политике, с опорой на силу политической полиции; общенациональная пирамида псевдодемократических Советов; монополистический контроль государства над экономикой и всей значимой собственностью; многонациональная федерация, или Союз, республик, являвшаяся в действительности унитарным государством с доминантным центром — Москвой.
Спрашивать, была ли реформируема советская система, значит спрашивать, можно ли было реформировать, полностью или частично, эти её базовые компоненты. Если не считать, как некоторые, что система была неделимым «монолитом» или что Коммунистическая партия была её главным и основным элементом, глупо было бы полагать, что трансформация или замена некоторых компонентов привели бы к тому, что система перестала быть советской{21}.[7] Подобный логический подход не применяется в отношении реформ в других системах, и советская история также не даёт для него оснований. Первооснова системы, Советы образца 1917 г., были избранными народом, многопартийными органами и лишь позже превратились во что-то ещё. В экономике до 1930-х гг. не было монополистического контроля и существовал рынок. А когда сталинский массовый террор, бывший в течение 25 лет основополагающим признаком системы, закончился в 1950-е гг., никто не сомневался, что система по-прежнему осталась советской.
Советские концепции легитимных реформ внутри системы, возникшие к 1990 г., были весьма разнообразны, однако многие сторонники Горбачёва и Ельцина пришли к убеждению, что они могут и должны включать в себя многопартийную демократию, рыночную экономику со смешанной формой собственности, государственной и частной, и подлинную федерацию республик[8]. Эти современные убеждения, как и политическая история страны, показывают, что для того чтобы реформированная система осталась советской или считалась таковой, в ней должны были сохраниться, в той или иной форме, четыре основных элемента: национальная (хотя необязательно чётко оформленная и всеми разделяемая) социалистическая идея, которая продолжала бы чтить память о событиях 1917 г. и том изначальном ленинизме, который до 1918г. называл себя социал-демократией; система Советов как воплощение институциональной преемственности и конституционный источник политического суверенитета; государственная форма собственности в сочетании с частной в рыночной экономике и пакет социальных прав и гарантий — достаточно большой, чтобы экономика могла именоваться социалистической и при этом напоминала вэлферное государство западного образца; союз России, по крайней мере, с несколькими советскими республиками, число которых никогда не было строго установленным и с годами выросло с четырёх до пятнадцати.
Глава II. МОЖНО ЛИ БЫЛО РЕФОРМИРОВАТЬ СОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ?
Теперь, имея чёткие и непредвзятые представления о сути вопроса, мы можем спросить себя, какие из главных компонентов старой советской системы были реально реформированы при Горбачёве? Что касается официальной идеологии, которая в умах элиты претерпела значительную «эволюцию», то здесь едва ли могут быть сомнения. К началу 1990-х тт. десятилетиями царившие жесткие догмы сталинизма, а затем ленинизма в основном уступили место социал-демократическим и другим «универсальным» убеждениям западного образца, которые мало чем отличались от либерально-демократических. То, что раньше считалось ересью, стало официальной советской идеологией, одобренной недавно избранным Съездом народных депутатов и даже очередным, пусть и не вполне отказавшимся от прежней веры, Съездом КПСС[9]. А главное, правительственная идеология больше не являлась обязательной даже в таких некогда священных областях, как образование и официальная коммунистическая печать. «Плюрализм» убеждений, в том числе религиозных, был отныне официальным лозунгом момента и всё более явной реальностью[10].
Эта реформа не была поверхностной или непоследовательной. Западные специалисты всегда обращали внимание на роль идеологии в советской системе, а некоторые даже считали эту роль определяющей. Это, конечно, преувеличение, но идеология действительно имела значение. Точно так же, как горбачёвское радикальное «новое мышление» в международных делах проложило дорогу к реформированию советской внешней политики в конце 1980-х гг., снятие старых идеологических запретов было необходимым условием для осуществления глубоких преобразований внутри страны[11].
Следующей и ещё более значительной реформой стала ликвидация монополии Коммунистической партии в политической жизни, особенно в таких областях, как общественные дискуссии, подбор руководящих кадров и разработка политики. Масштаб этих демократических изменений был настолько велик уже к 1990 г., когда в результате политики Горбачёва было фактически покончено с цензурой, утвердились свободные выборы, свобода политических организаций и создан настоящий парламент, что некоторые западные учёные назвали их «революцией» внутри системы{22}.[12] Сложившаяся при Ленине диктатура партии и решающая роль, которую играли её официальные представители па всех уровнях советской системы, в течение 70 лет (за исключением, по понятным причинам, периода сталинского террора) была краеугольным камнем советской политики. В «командно-административной системе», доставшейся в наследство Горбачёву, общесоюзный партийный аппарат был главнокомандующим и всесильным администратором. Всего за пять лет картина коренным образом изменилась: советская политическая система перестала быть ленинистской или, как сказали бы некоторые, коммунистической{23}.
Это обобщение, однако, нуждается в уточнении. В такой огромной стране с её культурным разнообразием политические реформы, родившиеся в Москве, были обречены иметь самые разные результаты, от быстрой демократизации в российских столичных городах и Прибалтике до менее заметных изменений в среднеазиатских партийных диктатурах. Кроме того, уход Коммунистической партии с политической сцены, даже там, где демократизация достигла значительных успехов, не был полным и окончательным. Насчитывавшая несколько миллионов членов, имевшая ячейки практически в каждом учреждении и на каждом предприятии, обладавшая длительным опытом контроля над военными и другими силовыми структурами, огромными финансовыми ресурсами и привычным влиянием на граждан, — партия оставалась самой внушительной политической организацией в стране. И, хотя политические заключённые были выпущены на свободу, права человека набирали вес, а органы безопасности сделались предметом всё более пристального и растущего общественного интереса, КГБ также не претерпел заметных изменений и оставался практически бесконтрольным.
Тем не менее, процесс перераспределения власти, долгое время принадлежавшей КПСС, между парламентом, новым институтом президентства и ныне подлинно выборными Советами на местах зашёл достаточно далеко. Горбачёв не преувеличивал, когда заявил на съезде партии в 1990 г.: «Пришёл конец монополии КПСС на власть и управление». Процесс демонополизации покончил ещё с одной чертой старой советской системы — псевдодемократической политикой. Широкий и разноголосый политический спектр, загнанный прежде в подполье, теперь пользовался почти полной свободой слова. Организованная оппозиция, десятки потенциальных партий, массовые демонстрации, забастовки, бесцензурные публикации, — всё то, что подавлялось и запрещалось в течение 70 лет, было узаконено и быстрыми темпами распространялось по стране. И опять Горбачёв был недалёк от истины, когда с гордостью заметил, что Советский Союз внезапно превратился в «самое политизированное общество в мире»{24}.[13]
Россия и прежде бывала глубоко политизирована (судьбоносно — в 1917 г.), но никогда ещё этот процесс не происходил при поддержке правящего режима или во благо конституционного правления. Конституционализм и законность вообще были самыми характерными чертами политических реформ Горбачёва. Законов и даже конституций в России было немало (как до 1917 г., так и после), но чего действительно не было, так это конституционного порядка и реально ограниченной законом власти, которая традиционно концентрировалась в руках верховного руководства и осуществлялась посредством бюрократических указов (по некоторым подсчётам, в 1988 г. в ходу было около миллиона министерских указов){25}.
В этом состоит уникальная суть политических реформ Горбачёва. Весь процесс перехода страны от диктатуры к неоперившейся демократии, основанный на отделении бывшего всевластия Коммунистической партии от «социалистической системы сдержек и противовесов», проходил в рамках существующей и постепенно совершенствующейся конституционной процедуры. Культура закона и политические традиции, необходимые для демократического правления, не могли возникнуть в одночасье, но начало было положено. Например, в сентябре 1990 г. новоиспечённый Конституционный суд отменил один из первых президентских указов Горбачёва, и тот был вынужден подчиниться{26}.
Почему же, при всех этих очевидных успехах, так часто говорят о провале политических реформ Горбачёва? Ответ, который обычно следует за этим, заключается в том, что КПСС, этот оплот старой системы, якобы оказалась нереформируемой{27}. Это обобщение дважды неточно. Во-первых, оно приравнивает советскую систему в целом к КПСС, так что выходит, будто первое не могло существовать без второго, а во-вторых, оно рассматривает партию как единый, однородный организм.
К концу 1980-х гг. КПСС, прошедшая в своём развитии долгий и непростой путь, представляла собой огромное государство, состоящее из четырёх связанных между собой, но при этом существенно различных общностей: относительно небольшой руководящий орган — пресловутый аппарат, диктаторски контролирующий всю партию и, хотя и всё меньше, собственно бюрократическое государство{28};[14] назначаемая аппаратом, но более многочисленная и разнообразная номенклатура, представители которой занимали все важные посты в советской системе; примерно 19 миллионов рядовых членов, многие из которых вступили в партию по карьерным соображениям или из конформизма; и, скрывающиеся в тени, потенциально полноценные, но пока находящиеся в эмбриональном состоянии, политические партии — реформистская, консервативная и неосталинистская. Естественно, что все эти компоненты КПСС по-разному реагировали на реформы Горбачёва.
Был или не был реформируем партийный аппарат, а это около 1800 функционеров в центральных органах в Москве и ещё несколько сотен тысяч на других уровнях системы, — едва ли имело значение, поскольку к 1990 г., благодаря политике Горбачёва, он был лишён большинства своих прав и привилегий. (Особенно показательной в этой связи было растущая оппозиция реформам со стороны Егора Лигачёва — главного представителя партаппарата и некогда союзника Горбачёва.) Главный нервный центр аппарата, Секретариат ЦК, фактически прекратил свою деятельность, партийные комитеты в министерствах были распущены или утратили влияние, а на более низком государственном уровне их власть перешла в руки избираемых Советов. В провинции этот процесс шёл гораздо медленнее; толчком послужило обретение им официального статуса, когда полномочия, десятилетиями осуществляемые ЦК и Политбюро, торжественно были переданы новому советскому парламенту и президенту. Контроль и влияние аппарата существенно снизились даже внутри самой партии, а в 1990 г. его глава, Генеральный Секретарь, прежде выбираемый тайно партийными олигархами из своего числа, впервые был избран открыто на общесоюзном съезде партии[15].
Возможно, Горбачёв и продолжал бояться «эту паршивую взбесившуюся собаку», но аппарат по сути обернулся бумажным тигром. Столкнувшись с избирательными реформами, он пребывал «в состоянии психологического шока» и «в полной растерянности»{29}. По мере сужения его роли в системе и распада организационных структур, его представители пытались предпринимать какие-то шаги против Горбачёва, но особого эффекта это не имело. Основные антиреформенные силы были отныне сосредоточены в других местах: в экономических министерствах, в армии, в КГБ и даже в парламенте. Как ничтожно мало значил теперь партийный аппарат, со всем драматизмом продемонстрировали августовские события 1991 г. Большинство его центральных и региональных функционеров поддержали переворот, направленный против Горбачёва, но, вопреки распространённому мнению на Западе, аппарат не организовывал переворот и, возможно, даже не знал о нём заранее{30}.[16] (У него не осталось власти и воли даже для того, чтобы воспротивиться запрету и роспуску КПСС и, значит, своему собственному роспуску после провала путча).
В отличие от аппарата, порождённый им класс коммунистической номенклатуры в большинстве своём пережил Советский Союз. Уже один этот факт обесценивает любые примитивно обобщающие выводы относительно его приспособляемости. Среди миллионов номенклатурных работников по всему Союзу было много представителей административной, экономической, культурной и других профессиональных элит, а значит, значительная часть его среднего класса. Как и средний класс в других странах, этот большой слой советского общества, хотя и состоял номинально сплошь из членов Коммунистической партии и на том основании был без разбора заклеймён, имел внутреннее деление: по привилегиям, профессии, возрасту, образованию, географическому положению и политическим взглядам{31}.
Поэтому говорить о нереформируемости партийно-государственной номенклатуры в целом было бы бессмысленно. Даже представители её верхушки абсолютно по-разному отреагировали на горбачёвские реформы и разошлись в разных направлениях{32}. В 1990 г. их можно было встретить в любой части политического спектра, от левых до правых. Многие оказались в авангарде борьбы с перестройкой, но при этом и почти все ведущие советские и постсоветские реформаторы 1980-х и 1990-х гг. также вышли из номенклатурного класса, в том числе Михаил Горбачёв, Борис Ельцин и многие из их окружения. После 1991 г. выходцы из старой советской номенклатуры составили основу политической, административной и собственнической элиты посткоммунистической России; некоторые из них — в ранге так называемых «радикальных реформаторов»{33}. А представитель её более молодого поколения, Владимир Путин, стал впоследствии первым президентом России в XXI веке.
Ещё более неправомерно называть «нереформируемыми» 19 миллионов рядовых членов Коммунистической партии. Большинство из них по своему положению в обществе и политическим взглядам мало чем отличалось от беспартийных советских граждан, и так же по-разному они вели себя в перестроечные годы. К середине 1991 г. около 5 миллионов человек вышли из партии, в основном из-за того, что членство утратило всякий смысл. Среди оставшихся было «молчаливое большинство», но были и активные сторонники политики Горбачёва, которые поддержали его с самого начала и вели на местах борьбу против партаппарата{34}. Многие другие составили социальную базу для антиперестроечного движения, формирующегося внутри партии и за её пределами.
Действительно важным вопросом по поводу реформируемости Коммунистической партии и в связи с горбачёвской политикой демократизации является вопрос о том, могла ли из КПСС или на её основе возникнуть полноценная, конкурентоспособная парламентская партия как часть реформированной советской системы. То, что мы называем широким понятием «партия», в разные периоды своей 80-летней истории означало разные вещи: подпольное движение в царской России; успешная, пользующаяся поддержкой избирателей организация в революционном 1917 г.; диктатура, но с элементами открытой фракционной борьбы по вопросам политики и власти в годы НЭПа; изрядно поредевшая в результате репрессий, запуганная бюрократия в сталинские 1930-е; милитаризованная структура, инструмент борьбы с немецкими захватчиками в годы войны; набирающий силу орган олигархического правления в послесталинские 1950–60-е гг. и, наконец, неотъемлемая часть бюрократической государственной системы к началу 1980-х гг.{35}.
И теперь, после всех этих трансформаций, Горбачёву понадобилась ещё одна: чтобы партия или значительная часть её стала «нормальной политической организацией», способной побеждать в выборах «строго в рамках демократического процесса»{36}. Достижение этой цели повлекло за собой последствия, которых он, возможно, не вполне предвидел, но, в конце концов, принял их. Оно означало политизацию (или реполитизациго) советской компартии, что Горбачёв и начал делать в 1987 г., когда призвал к демократизации КПСС, сделавшей возможным возникновение и развитие в её недрах зародышей других, возможно, оппозиционных партий. Оно означало конец мифа о «монолитном единстве» и риск вступления в «эру раскола»{37}. Неожиданно прерванный событиями конца 1991 г., процесс этот, тем не менее, протекал бурно и стремительно.
Уже в начале 1988 г. раскол в партии зашёл так далеко, что вылился в беспрецедентную полемику между двумя наиболее влиятельными периодическими изданиями ЦК, «Правдой» и «Советской Россией». Защищавшая фундаменталистские, в том числе неосталинистские «принципы», «Советская Россия» опубликовала большую статью, содержавшую резкий протест против перестройки Горбачёва. «Правда» ответила не менее решительной контратакой в защиту антисталинистской и демократической реформы{38}. На всесоюзной партийной конференции, состоявшейся два месяца спустя, делегаты впервые после партийных дискуссий 1920-х гг. публично спорили между собой. Заседания ЦК превратились теперь «в поле битвы между реформаторами и консерваторами». В марте 1989 г. коммунисты по всей стране боролись друг с другом за делегатские мандаты на Съезд народных депутатов. И хотя 87% делегатов съезда были членами одной и той же партии, политические взгляды их были настолько различны, что Горбачёв заявил, что единой партийной линии больше не существует{39}.[17]
К 1990 г. углубляющийся раскол принял территориально-организационные формы, когда региональные партии начали выпрыгивать из КПСС, как матрёшки. Три прибалтийских компартии вышли из КПСС, чтобы попытаться конкурировать с другими политическими силами внутри своих республик, всё больше оказывавшихся во власти национализма. Между тем, аппарат и другие консерваторы от номенклатуры вынудили Горбачёва пойти на создание Российской Коммунистической партии — номинально в составе КПСС, но фактически под их контролем. Формально объединяющая более 60% всех советских коммунистов, РКП тоже практически сразу раскололась, когда сторонники реформ создали свою конкурирующую организацию — Демократическую партию коммунистов России{40}.
Все стороны отныне понимали, что «КПСС “беременна” многопартийностью» и что политический спектр нарождающихся партий простирается «от анархистов до монархистов»{41}.[18] Никто не знал, сколько партий может появиться на свет (Горбачёв полагал, что только среди 412 членов ЦК в 1991 г. было «две, три или четыре» партии[19]), но только две, крупнейшие из них, имели значение: выступавшее за реформы и вплотную приблизившееся к социал-демократии радикально-перестроечное крыло КПСС во главе с Горбачёвым и сплав различных консервативных и неосталинистских сил, отвергавших реформы и сохранявших преданность традиционным коммунистическим убеждениям и устоям.
Возможность формального «размежевания» и «расставания» вовсю обсуждалась уже в 1990 г., но тогда ни одна из сторон не была к этому готова[20]. У консерваторов не было достаточно сильного лидера, способного объединить их в масштабах всей страны, и они опасались Ельцина с его растущим после выхода из КПСС в середине 1990 г. влиянием — почти так же (но не совсем), как они ненавидели Горбачёва. Некоторые из советников Горбачёва подталкивали его выйти вместе со своими сторонниками из КПСС или исключить из неё оппозиционеров и создать таким образом откровенно социал-демократическое движение, но лидер КПСС колебался — во-первых, боясь остаться без союзного партийного аппарата с его связями с органами безопасности и, возможно, даже без президентского поста, которые могли перейти к его противникам, а во-вторых, как всякий лидер, не желая раскалывать собственную партию. Только летом 1991 г. стороны «созрели» для официального «развода». Он должен был состояться на внеочередном съезде партии ближе к концу того же года, но пал очередной жертвой августовского путча{42}.
Раскол гигантской Коммунистической партии на две оппозиционных, как ещё в 1985 г. втайне полагал и до конца остался в этом убеждён сподвижник Горбачёва Александр Яковлев, был бы самым надёжным и быстрым способом создания в СССР многопартийной системы, причём более прочной и подлинной, чем та, что существовала в постсоветской России в начале XXI века{43}. При «цивилизованном разводе», подразумевавшем разное голосование по принципиальным вопросам, круг которых был определён горбачёвской социал-демократической программой, стороны разошлись бы, сохранив за собой значительную долю членства, местных организаций, печатных органов и другого «общего имущества» КПСС. Обе партии немедленно стали бы крупнейшими и единственными общенациональными советскими партиями, чьё влияние многократно превышало бы влияние дюжины тех «карликовых “партий”», которые испещрили российский политический ландшафт в последующие годы и которые, во всяком случае, многие из них, по размерам и влиянию едва ли выходили за рамки тех московских квартир, в которых они были созданы. (Опираясь на данные одного закрытого исследования, Горбачёв был уверен, что в новую партию за ним бы последовало, по меньшей мере, 5–7 миллионов членов КПСС){44}.[21]
Нет сомнения и в том, что оба крыла бывшей КПСС стали бы влиятельными структурами, которые могли бы рассчитывать на значительную поддержку избирателей на грядущих выборах как на местном, так и на региональном и общенациональном уровне. В то время как существующую Коммунистическую партию большинство советских людей считали виновной во всех прошлых и нынешних бедах страны, обособившись, обе половины могли бы снять с себя часть ответственности, перекладывая её друг на друга, чем они и так уже занимались.
Обе унаследовали бы избирательные преимущества КПСС, как-то: организационный опыт, подготовленные кадры, опыт использования СМИ, финансовые ресурсы и даже приверженность избирателей. По данным исследований, проведённых в 1990 г., 56% советских граждан не доверяли КПСС, но другим партиям не доверяло ещё больше — 81%, и 34% всё ещё предпочитали компартию всем остальным{45}. Учитывая растущую поляризацию общества, обе производные КПСС имели все шансы наращивать свой электорат.
Избирательная база социал-демократической партии под руководством Горбачёва объединила бы миллионы советских граждан, которые желали политических свобод, но при этом предпочитали смешанную или регулируемую рыночную экономику, сохранявшую социальные гарантии граждан и другие элементы старой системы. Скорее всего, туда вошли бы профессиональные и другие слои среднего класса, квалифицированные рабочие, интеллигенция прозападной ориентации и вообще все те, кто остался социалистом, но при этом не считал себя коммунистом[22]. Как показали результаты выборов в России и в странах Восточной Европы в конце 1980-х — 1990-х гг., коммунисты-демократы и бывшие коммунисты — потенциальное ядро социал-демократической партии — оказались вполне способны организовать избирательную кампанию и выиграть выборы.
В этом случае, ретроспективный анализ был бы полезен для оценки реальных возможностей. То, что Горбачёв не сумел создать или вычленить из КПСС то, что могло бы стать президентской партией, было его крупнейшей политической ошибкой{46}. Если бы он воспользовался удобным моментом и сделал это на уже расколовшемся (и, по сути, многопартийном) XXVIII съезде КПСС в июле 1990 г., он не оказался бы в политической изоляции впоследствии, в конце 1990–1991 гг., когда страну охватил кризис, а его популярность резко упала. В частности, если бы он не побоялся проявить инициативу и совершить такой шаг, серьёзно изменивший бы советский политический ландшафт, многие из его бывших сторонников, возможно, даже Ельцин, не покинули бы его{47}.
Оппоненты Горбачёва, ортодоксальные коммунисты, вопреки большинству западных оценок, также обладали значительным избирательным потенциалом. Отстаивая идеи «здорового консерватизма», они вполне могли рассчитывать на поддержку миллионов чиновников, заводских рабочих, колхозников, интеллигенции антизападной ориентации и других традиционалистов, обиженных и недовольных горбачёвскими политическими и экономическими преобразованиями{48}. Число таких недовольных, непрерывно растущее с 1985 г., должно было только увеличиваться, по мере того как реформы «размывали» социальные гарантии и иные устои. Был у коммунистических консерваторов и ещё” один «козырь»: государственнический, или «патриотический» национализм, присущий консервативному коммунизму со времён Сталина, становился всё более мощным идеологическим оружием в стране, особенно в России[23]. (Причём за пего ухватились и коммунистические противники Горбачёва, и антикоммунистические сторонники Ельцина).
Не следует также думать, что антиреформенное крыло компартии было не способно адаптироваться к демократической политике. После шока и раздражения, которые вызвало у них поражение на выборах на Съезд народных депутатов в марте 1989 г. нескольких десятков «аппаратных» кандидатов, коммунисты-консерваторы начали формировать корпус своих собственных избирателей[24]. К 1990 г. в РСФСР они уже представляли собой крупную, полноправно участвующую в выборах, парламентскую партию. Каковы бы ни были их тайные амбиции, в целом коммунисты вели себя вполне конституционно, даже тогда, когда на выборах главы исполнительной власти в республике победил Ельцин, и компартия впервые в советской истории оказалась оппозиционной партией.
Об избирательном потенциале горбачёвского крыла КПСС, которое рассеялось вместе с роспуском Союза, можно только догадываться, но зато его консервативные оппоненты вскоре продемонстрировали свои возможности. В оппозиции они, как выразился один российский обозреватель, «обрели второе дыхание». В 1993 г. ими была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, быстро превратившаяся в крупнейшую и наиболее успешную в избирательном отношении партию постсоветской России. К 1996 г. коммунисты стояли во главе руководства многих российских городов и областей, имели много больше своих представителей в парламенте, чем любая другая партия, и во время президентской кампании официально набрали 40% голосов (а по мнению некоторых аналитиков, даже больше) против Ельцина, который так и не сумел сформировать массовую партию{49}. И до 2003 г. процент набранных коммунистами голосов неуклонно рос от выборов к выборам. Всё это говорит о том, что если судить о реформируемости старой советской Коммунистической партии по её избирательным возможностям, оба её крыла были реформируемы.
Рассмотрим теперь два других главных компонента советской системы — государственную экономику и Союз. При пристальном рассмотрении, в специализированной литературе невозможно найти ничего, что говорило бы, что советская экономика была нереформируемой. Существует общая, почти единодушная уверенность в том, что экономические реформы Горбачёва «полностью провалились», но даже в этом случае, это относится к его руководству и политике, но не к самой экономической системе{50}. Как уже отмечалось ранее, многие западные специалисты не только допускали, что советская экономика могла быть реформирована, но и предлагали свои собственные рецепты преобразований{51}. Утверждения о нереформируемости были ещё одной позднейшей выдумкой российских политиков (и их западных покровителей), решивших нанести фронтальный удар по старой системе с помощью «шоковой терапии».
И снова мы должны обратиться к понятию «реформа». Если оно означало, в данном случае, переход к полностью приватизированной и стопроцентно рыночной капиталистической экономике, то тогда советская экономическая система, конечно, была нереформируемой; её можно было только полностью заменить. Некоторые самозванные западные советники ещё в 1991 г. настаивали на необходимости сделать это и потом не могли простить Горбачёву, что он к ним не прислушался{52}. Но среди советских политиков и политических аналитиков, включая радикальных реформаторов, в то время было очень мало сторонников такой идеи. Подавляющему большинству из них гораздо ближе была цель, провозглашённая Горбачёвым и всё более настойчиво им повторяемая: «смешанная экономика» с «регулируемым», но при этом «современным полнокровным рынком», которая предоставила бы «экономическую свободу» гражданам и «равные права» всем формам собственности, но по-прежнему могла называться социалистической{53}.[25] Разногласия, возникавшие в этой связи между советскими реформаторами, в большинстве своём, касались темпа и методов преобразований.
Предложенная Горбачёвым идея смешанной экономики стала предметом многочисленных насмешек на Западе, а замечания типа сделанного Ельциным о том, что советский лидер хочет соединить несоединимое, или, как выразился один западный историк, «скрестить кролика с ослом», вызывали аплодисменты{54}. Такое отношение, однако, тоже было несправедливым. Все современные капиталистические экономики были и остаются в разной степени смешанными и регулируемыми, сочетающими в себе частную и государственную собственность, рыночные и нерыночные методы регулирования, соотношение которых со временем неоднократно меняется. Ни в одной из них никогда не было действительно полностью «свободного рынка», идею которого проповедуют их идеологи. Кроме того, сочетание в экономике крупных государственного и частного секторов было традиционным для России — как царской, так и советской, за исключением периода после окончания НЭПа в 1929 г.
С политической и экономической точки зрения, внедрение «капиталистических» элементов в реформированную советскую систему было более трудным делом, чем привнесение «социалистических», скажем, в американскую экономику 1930-х гг. Но серьёзных причин, по которым рыночные элементы: частные фирмы, банки, сервисные предприятия, магазины и сельскохозяйственные фермы (наряду с государственными и коллективными), — не могли быть добавлены к советской экономике и получить возможности для развития и конкуренции, не было. В коммунистических странах Восточной Европы и Китае нечто подобное произошло в условиях куда больших политических ограничений. Нужно было только твёрдо следовать горбачёвскому принципу постепенности и решительного отказа навязывать людям образ жизни, пусть даже реформированной жизни. Причины, по которым этого не произошло в советской или постсоветской России, были в первую очередь и в основном политическими, а не экономическими.
Мы должны также задаться вопросом, действительно ли экономические реформы Горбачёва «полностью провалились», поскольку это означало бы, что советская экономика не отреагировала на его инициативы. Как и во многих других случаях, это утверждение также является плодом более поздних измышлений. Даже в 1990 г., когда уже было очевидно, что политика Горбачёва породила грозный букет обстоятельств: растущий бюджетный дефицит, растущая инфляция, растущий недостаток потребительских товаров и растущее падение производства, — некоторые западные экономисты, тем не менее, полагали, что он движется в правильном направлении. Один из них, к примеру, писал, что «последовательное проведение экономических реформ разумно: у Горбачёва отличное чувство стратегии»{55}. Нас, однако, в этом случае интересуют более глобальные вопросы.
Если экономическая реформа есть «переход», состоящий из нескольких обязательных этапов, то Горбачёв к 1990 г. запустил весь этот процесс в четырёх важных отношениях. Он добился принятия почти всего необходимого для всесторонней экономической реформы законодательства{56}.[26] Он привил значительной части советской элиты рыночное мышление, причём настолько крепко, что даже главный кандидат-неосталинист на выборах президента России 1991 г. признал: «Только сумасшедший сегодня может отрицать необходимость рыночных отношений»{57}. Кроме того, как уже было отмечено, Горбачёв в значительной степени освободил экономику от тисков запретов и ограничений, которыми её сковал партийный аппарат. И, как непосредственный результат этих перемен, начались процессы маркетизации, приватизации и коммерциализации советской экономики.
Последним следует уделить особое внимание, так как позднее их будут в основном связывать с Ельциным и постсоветской Россией. К 1990 г. количество частных предприятий, называемых кооперативами, уже насчитывало 200 тысяч, на них работало почти 5 млн. чел., и они давали от 5% до 6% валового национального продукта. Вне зависимости от того, к чему это привело, уже шёл процесс приватизации государственной собственности номенклатурными чиновниками и другими частными лицами. Во многих городах открывались коммерческие банки; возникли первые биржи. Параллельно с рыночными структурами формировались и новые бизнес- и финансовые элиты, включая будущий «Клуб молодых миллионеров». Один американский корреспондент в середине 1991 г. подготовил и опубликовал целую серию репортажей о «советском капитализме»{58}. Западные комментаторы могут не считаться с политикой Горбачёва, видя в ней неудавшиеся полумеры, но многие российские экономисты убеждены: «именно в годы его пребывания у власти зародились все основные формы экономической деятельности в современной России»{59}. И, что ещё более важно, они родились внутри советской экономики, что явилось свидетельством её реформируемости.
Последний вопрос касается крупнейшего и наиболее существенного компонента старой советской системы — Союза, или собственно многонационального государства. Горбачёв не сразу осознал, что его политические и экономические преобразования могут негативно сказываться на способности Москвы удерживать вместе пятнадцать республик, но к 1990 г. он уже твёрдо знал, что от судьбы Союза будет зависеть и результат всех его реформ, и его собственная судьба{60}. Последние два года у власти он, подобно Линкольну, был исполнен решимости «сохранить Союз» — но, в его случае, не силой, а переговорами добиваясь превращения дискредитировавшего себя «сверхцентрализованного унитарного государства» в настоящую добровольную федерацию. Когда в декабре 1991 г. Советский Союз прекратил своё существование, а входившие в него республики стали самостоятельными и независимым государствами, это означало и конец эволюционных преобразований, названных Горбачёвым перестройкой{61}.
Можно ли было реформировать Союз, на чём настаивали Горбачёв и многие российские политики и интеллектуалы как до, так и после 1991 г.? Западная литература по этому «вопросу вопросов» находится в плену двух предубеждений{62}. Антисоветизм, присущий большинству западных, особенно американских, оценок, убеждает их, вне зависимости от степени «склонности к запоздалым суждениям», что Советский Союз как государство был обречён. Другое предубеждение, возможно, ненарочитое, опять-таки связано с языком, или формулировками. Почти всегда говорится (возможно, по скрытой аналогии с концом царской России в 1917г.), что Союз потерпел «крах», «лопнул» или «распался» — термины, подразумевающие наличие внутренних причин, неизбежно ведущих к такому результату, и, тем самым, практически исключающие возможность реформирования Советского государства. Но если сформулировать вопрос по-другому: как и почему Союз был упразднён, распущен или его попросту не стало, — мы получим возможность допустить, что основной причиной могла оказаться случайность или какие-то субъективные факторы, и, следовательно, был возможен иной исход{63}.[27]
Расхожий западный тезис о том, что Союз нельзя было реформировать, в значительной степени базируется на одном концептуальном заблуждении. Оно предполагает, что общенациональный партийный аппарат, с его вертикальной организационной структурой и принципом безоговорочного подчинения нижестоящих органов вышестоящим, был «единственным [фактором], удерживающим союзную федерацию вместе». А поскольку Коммунистическая партия, в результате горбачёвских реформ, лишилась своих прав и влияния, не осталось сплачивающих факторов, которые могли бы противостоять центробежным силам, и «распад Советского Союза был неизбежен». Короче говоря, «нет партии — нет Союза»{64}.[28]
Конечно, роль компартии не стоит преуменьшать, но были и другие факторы, поддерживающие единство Союза, в том числе другие советские структуры. В частности, союзные экономические министерства, с управленческим аппаратом в Москве и подразделениями по всей стране, во многих отношениях, были таким же важным фактором, как и партийные организации{65}. Не следует также недооценивать объединяющую роль общесоюзных военных структур с их дисциплиной и собственными методами ассимиляции. Ещё более важное значение имела сама общесоюзная экономика. За многие десятилетия экономики пятнадцати республик стали, по сути, единым хозяйством, поскольку зависели от одних и тех же, общих, естественных ресурсов, топливных и энергетических сетей, транспортной системы, поставщиков, производителей, потребителей и источников финансирования. В итоге, по общему признанию, сложилось «единое советское экономическое пространство».
Человеческий фактор также не следует сбрасывать со счетов. Официальные лозунги, прославлявшие «советский народ» как единую нацию, преувеличивали, но они, как заверяют серьёзные источники, не были просто «идеологическим артефактом»{66}. Хотя в состав Советского Союза входили десятки и сотни различных этнических групп, миллионы людей состояли в смешанных браках, и примерно 15 миллионов граждан — около трети населения — проживали за пределами своих этнических территорий, из них 25 миллионов русских. Объединяющим фактором служил и совместный исторический опыт, такой как тяжесть потерь и радость победы во Второй мировой, или, в советской интерпретации, Великой Отечественной войне. Более 60% нерусского населения Союза свободно говорило по-русски, а большинство остальных владели основами русского языка и культуры, благодаря единой образовательной системе и союзным средствам массовой информации. По сути, начиная с 1950-х гг., в стране наблюдалась общая «тенденция к ассимиляции»{67}.[29]
При условии правильной реформенной политики и наличии других необходимых обстоятельств, этих многочисленных интеграционных элементов вкупе с привычкой жить вместе с Россией, сложившейся до и после 1917 г., хватило бы, чтобы и без диктатуры КПСС сохранить единство большей части Союза. Недаром один американский историк, путешествующий десятилетие спустя после конца СССР по его бывшей территории, находил признаки «советскости чуть не на каждом углу»{68}.[30] Даже без учёта других последствий резкой дезинтеграции, десятки миллионов советских граждан многое теряли в случае распада Союза. Понимание этого, без сомнения, помогает объяснить результат мартовского референдума 1991 г., представлявший собой, по определению одного американского специалиста, «голосование подавляющим большинством за Союз»{69}.
Следует признать, что добровольная федерация, предложенная Горбачёвым вместо СССР, объединила бы меньше 14 нерусских республик. Горбачёв надеялся, что будет иначе, но, тем не менее, был готов к подобной перспективе, подтверждением чему стал принятый в апреле 1990 г. закон о выходе из СССР. Не вызывало почти никаких сомнений, что три небольшие прибалтийские республики, Литва, Латвия и Эстония, аннексированные сталинской Красной Армией в 1940 г., пожелают вернуть себе независимость, а Западная Молдавия захочет воссоединиться с Румынией (правда, после 1991 г. она передумала){70}.[31] Выйти также могли бы одна-две из трёх закавказских республик — в зависимости от того, стали бы вечные враги, Армения и Азербайджан, искать у России защиты друг против друга, и понадобилась бы Грузии помощь Москвы в сохранении единства её собственного полиэтнического государства.
Но даже если так, все эти небольшие республики находились на советской периферии, и их выход не стал бы слишком заметным, поскольку на оставшиеся 8–10 приходилось более 90% территории, населения и ресурсов бывшего Союза. Этого было более чем достаточно, чтобы сформировать новый жизнеспособный Советский Союз. Хватило бы даже нескольких республик, объединившихся вокруг России. Как сказал один из национальных лидеров, принимавший участие в упразднении СССР несколькими месяцами позже, новый Союз мог бы «состоять из четырёх республик»{71}.[32]
Каким бы «просоюзным» ни было мнение подавляющего большинства населения, после весны 1990 г., когда в результате состоявшихся региональных выборов значительная часть власти перешла от Москвы к регионам, судьбу республик уже решали их лидеры и элиты. Существует объективное свидетельство в поддержку того факта, что большинство из них желало сохранить Союз. Свою позицию они ясно продемонстрировали во время переговоров о новом Союзном договоре, начатых Горбачёвым с лидерами девяти советских республик: России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении, — в апреле 1991 г. (Этот период, когда страна была охвачена кризисом, несколько выходит за рамки анализируемого, но оттого не становится менее значимым.)
Результатом переговоров, известных как «новоогарёвский процесс», стало создание нового Союза Советских Суверенных Республик. Под договором, официальное подписание которого было намечено на 20 августа 1991 г., поставили свои инициалы все девять республиканских лидеров, в том числе те двое, усилиями которых, главным образом, всего несколько месяцев спустя и будет упразднен Союз, — Борис Ельцин и Леонид Кравчук{72}.[33] Горбачёв был вынужден уступить республикам больше власти, чем он хотел, но общесоюзное государство, выборный президент и парламент, а также вооружённые силы и экономика в Договоре сохранились. Всё было продумано до конца: за церемонией подписания Договора должны были последовать новая Конституция и выборы, даже споры вокруг того, кто где должен сидеть во время церемонии подписания, были благополучно разрешены и согласие по поводу специальной бумаги для текста, ручек и памятных марок достигнуто{73}.
Всё это говорит о том, что распространенный аргумент, будто провал новоогарёвской попытки спасти Союз доказал его нереформируемость, не имеет смысла. Переговоры были успешными; они проходили, как и другие реформы Горбачёва, в рамках советской системы, имели легитимный статус и полномочия, делегированные им народным выбором на референдуме в марте, и велись признанным многонациональным руководством большей части страны. «Новоогарёвский процесс» нужно рассматривать как разновидность «консенсуса элит» или пример «договорной практики», столь необходимой, по мнению многих политологов, для успешной демократической реформы политической системы{74}. Даже известный демократический политик из окружения Ельцина предвосхищал, что подписание Договора станет «историческим событием», которое будет жить так же долго, как американская Декларация независимости, и служить такой же надежной политической и правовой базой обновленного Союза{75}.
Иными словами, Договор не состоялся не потому, что Союз был нереформируемым, а потому, что небольшая группа высокопоставленных чиновников в Москве организовала 19 августа вооружённый переворот с целью помешать его успешной реформе. (Да и сам вооружённый переворот вовсе не был неизбежным, но это уже другая история[34]). Хотя путч быстро провалился, и, прежде всего, потому что его руководителям не хватило решимости использовать военную силу, которую они стянули в Москву, его последствия нанесли тяжёлый удар по «новоогарёвскому процессу». Они существенно ослабили Горбачёва и его центральное правительство, усилили политические амбиции Ельцина и Кравчука и заставили других республиканских лидеров опасаться непредсказуемого поведения Москвы. По мнению большинства западных специалистов, путч уничтожил все оставшиеся возможности спасти Союз. (Подобные оценки выпускают из внимания осторожную, выжидательную позицию, занятую некоторыми республиканскими лидерами во время танкового путча в советской столице, которая даёт основания полагать, что даже в августе 1991 г. простой угрозы применения Москвой силы хватило бы, чтобы удержать этих «коммунистических начальников, обернувшихся националистами» в рамках Союза{76}).
На самом деле, даже провалившийся, но имевший губительные последствия августовский путч не погасил ни политического импульса, направленного на сохранение Союза, ни ожиданий ведущих советских реформаторов на то, что он может быть сохранён. В сентябре около 1900 депутатов от 12 союзных республик вернулись к участию в сессиях внеочередного Съезда народных депутатов СССР. В октябре было подписано соглашение о новом экономическом союзе, а Ельцин ещё в ноябре 1991 г. заверял публику: «Союз будет жить!»{77}.[35] Семь республик, включая Россию — большинство, если не считать ставшие независимыми прибалтийские республики — продолжали переговоры с Президентом Горбачёвым, и 25 ноября была, похоже, достигнута договорённость о новом союзном Договоре. Он был больше конфедеративным, чем федеративным, но всё ещё предусматривал союзное государство, президентство, парламент, экономику и армию{78}. Две недели спустя, он также пал жертвой переворота, осуществленного на сей раз даже меньшим числом заговорщиков во главе Ельциным, но куда более решительно и успешно.
Вывод, который нельзя не сделать, заключается в том, что для утверждения о нереформируемости советской системы не было ни концептуальных, которых мы так и не нашли, ни эмпирических оснований. Как показывают заново проанализированные здесь исторические события и факты, к 1991 г. большая часть системы была охвачена процессом глубоких демократических и рыночных преобразований. Конечно, Советский Союз при Горбачёве не был полностью реформирован, но он находился в «переходном» состоянии — термин, обычно приберегаемый для характеристики постсоветского периода. Всё, что остаётся от «аксиомы нереформируемости», это безапелляционный вывод, что поскольку реформы Горбачёва официально считались просоветскими и просоциалисти-ческими, они были не более чем «фантазией» или «химерой»{79}.[36] Это ещё одно политическое предубеждение, названное российским историком «чисто идеологическим подходом» и не имеющее ничего общего с историческим анализом{80}.
Почему же, вопреки многолетним заверениям многочисленных специалистов, система оказалась замечательно реформируемой? Было ли в этом действительно некое «политическое чудо», как написал впоследствии один американский историк?{81}. Для объяснения этого необходимо учесть такие немаловажные факторы, как длительное воздействие идей антисталинизма, уходящего корнями в 1920-е и даже в 1917 г.; политическое наследство Никиты Хрущёва, в том числе зарождение в недрах КПСС протореформенной партии; растущая открытость советской элиты по отношению к Западу, расширявшая её представления об альтернативных путях развития (как социалистического, так и капиталистического); глубокие изменения в обществе, совершившие десталинизацию системы снизу; рост социально-экономических проблем, стимулировавший прореформенные настроения на всех ступенях общества, и, наконец, незаурядное во всех отношениях руководство самого Горбачёва, которое не стоит недооценивать. Однако был ещё один, не менее значимый, фактор.
Большинство западных специалистов долгое время было убеждено, что базовые институты советской системы были чересчур «тоталитарными» или иначе устроенными, чтобы быть способными к фундаментальному реформированию. На самом деле, в системе с самого начала была заложена двойственность, делавшая её потенциально реформируемой и даже готовой к реформам. С формальной точки зрения, в ней присутствовали все или почти все институты представительной демократии: конституция, предусматривавшая гражданские свободы, законодательные органы, выборы, органы правосудия, федерация. Но внутри каждого из этих компонентов или наряду с ними присутствовали «противовесы», сводившие на нет их демократическое содержание. Наиболее важными из них были политическая монополия Коммунистической партии, безальтернативное голосование, цензура и полицейские репрессии{82}. Всё, что требовалось, чтобы начать процесс демократических реформ, это желание и умение устранить эти противовесы.
Горбачёв, как и его ближайшие помощники, осознавал эту двойственность, которую он характеризовал как «демократические принципы на словах и авторитарность на деле». Для того чтобы демократизировать систему, отмечал он позднее, «не пришлось ничего придумывать», только, по словам одного его советника, превратить демократические компоненты Союза «из декорации в реальность». Это относилось почти ко всем горбачёвским реформам, но самым выдающимся примером была, как он подчёркивал, «передача власти из рук монопольно владевшей ею Коммунистической партии в руки тех, кому она должна была принадлежать по Конституции, — Советам через свободные выборы»{83}.[37] Но двойственность институтов советской системы не только делала её в высшей степени реформируемой. Без неё, скорее всего, невозможна была бы мирная демократизация и другие преобразования эпохи Горбачёва, во всяком случае, они не были бы столь стремительными и исторически значимыми{84}.
Глава III. ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ СССР?
Большинство версий, объясняющих, почему Советский Союз прекратил своё существование в декабре 1991 г., так или иначе предполагают, что он был нереформируем. А если это не так, то почему же тогда это огромное государство, долгие годы слывшее «второй сверхдержавой», пережившее за свою 74-летнгого историю многочисленные испытания и потрясения, внутренние и внешние, и в результате только окрепшее, вдруг внезапно исчезло? За ответом, или в поисках ответа, мы должны, в первую очередь, обратиться к историческому контексту данного события.
Летом 1990-го года, шестого года горбачёвских реформ, Советский Союз находился в состоянии дестабилизации, вызванной нарастающим кризисом практически во всех областях: экономической, социальной и политической. В течение следующих полутора лет размер государственного бюджетного дефицита и внешнего долга резко увеличился. Из-за ослабления контроля за ростом заработной платы и денежной массы подскочила инфляция. В то же время финансовые ресурсы государства, существенно сократившиеся с 1985 г. в результате падения мировых цен на советскую нефть, были практически исчерпаны. Начавшееся падение производства привело к тому, что к 1991 г. почти все основные потребительские товары исчезли с полок государственных магазинов. Экономические трудности — в ряде регионов на самые необходимые товары было введено талонное распределение — уничтожили остатки социального консенсуса вокруг горбачёвской перестройки. Многие советские граждане не хотели больше никаких реформ и даже выступали за отмену уже принятых; влиятельное меньшинство призывало к более глубоким и быстрым экономическим преобразованиям — рыночной реформе и приватизации; прочие же, по старой русской традиции, «ждали Мессию»{85}.
Наиболее серьёзным из всех был политический кризис, угрожавший дестабилизацией всего советского государства снизу доверху. Принятые Горбачёвым меры по демократизации страны создали общественное пространство для проявления всех возможных форм недовольства: как старых, долгие годы подавляемых, так и недавно возникших. В 1991 г. это пространство было щедро заполнено, помимо повсеместных выборов, националистическими требованиями большего суверенитета во многих республиках, вплоть до откровенных призывов к отделению (в Прибалтике и на Кавказе) и даже этнических погромов; массовыми политическими забастовками шахтеров угольных бассейнов России и Украины и всесоюзной «митинговой стихией», отличительной чертой которой стали многолюдные анти- (и, часто не замечаемые, про-) коммунистические демонстрации на улицах Москвы и других крупных городов{86}.
Между тем, парламентские выборы в РСФСР в 1990 г. породили движение так называемых «радикальных реформаторов», сплотившихся вокруг оппозиционной и неординарной фигуры бывшего кандидата в члены Политбюро Бориса Ельцина. Практически все лидеры этих новых «радикальных реформаторов», или, как они ещё себя называли, «радикальных демократов», начинали как коммунисты и горячие сторонники Горбачёва. Летом 1990 г. они, вслед за Ельциным, стали один за другим выходить из КПСС, разом отвергнув и её роль в современной жизни страны, и всю историю, начиная с Ленина.
Глубокий кризис переживало и само политическое руководство Горбачёва. Его популярность, неизменно высокая в течение пяти лет, во второй половине 1990 г. резко упала — в отличие от Ельцина, чья популярность росла день ото дня{87}. Авторитет Горбачёва ещё больше сократился в июне 1991 г., когда Ельцин был всенародно избран президентом Российской Федерации: на этом фоне президентство Горбачёва, избранного президентом СССР на съезде народных депутатов годом раньше, выглядело гораздо менее легитимным. То же касалось его репутации «освободителя», которой он ранее пользовался в глазах, возможно, самой главной своей опоры — перестроечной интеллигенции. Не видя больше в нём самом или в его идее социалистических преобразований сплачивающего начала, некоторые из наиболее известных представителей этой группы, его «прорабы гласности и перестройки», покинули его и примкнули к Ельцину.
Но ещё более опасной для Горбачёва в той ситуации политической неопределенности, где-то между уже ликвидированной диктатурой и демократией, была утрата поддержки со стороны партийно-государственной элиты. Осенью 1990 г. перестроечная коалиция с умеренно-реформаторским крылом номенклатуры, позволившая ему осуществить все те крутые перемены, которые произошли после 1985 г., окончательно распалась. С точки зрения наиболее влиятельных её представителей, таких как Егор Лигачёв или Николай Рыжков, политика Горбачёва оказалась не просто слишком радикальной, а откровенно деструктивной, ведущей страну «к гибели». Даже ближайшие сподвижники больше не могли поддерживать его. Как пояснял позже его главный военный советник: «Горбачёв мне дорог, но Отечество дороже»{88}. И хотя пока ни Лигачёв, ни Рыжков ещё не перешли в открытую оппозицию, они уже не защищали его от бюрократического гнева, направленного на его руководство.
Открыв для себя всю пользу гласности, лидеры всех влиятельных советских институтов: партийного аппарата, министерств, армии, КГБ, — и даже голосовавшие за него народные депутаты теперь открыто ополчились против Горбачёва. Они обвиняли его в том, что своими реформами он «уничтожил КПСС, разложил Союз, потерял Восточную Европу, ликвидировал марксизм-ленинизм… нанёс удар по армии, опустошил прилавки, развёл преступность» и т. д. Насколько сильно было их недовольство, говорило брошенное в сердцах обвинение в том, что Горбачёв поставил страну «перед опасностью более грозной, чем даже в 41-ом году». Сначала в кулуарах, затем всё более публично зазвучали угрозы сместить Горбачёва, если он немедленно не «наведёт порядок». Вовсю муссировались слухи об антигорбачёвском перевороте{89}.
Это были не пустые угрозы. Антигорбачёвские настроения были чрезвычайно сильны среди военных и других силовиков — «людей с оружием», как напомнил наблюдателям один из его советников{90}.[38] Особенно их раздражала его внешняя политика, в том числе сделанные им серьёзные уступки Соединенным Штатам в области разоружения, вывод советских войск из Восточной и Центральной Европы, воссоединение Германии на западных условиях и отказ воспротивиться войне США против вторгшегося в Кувейт Саддама Хусейна. Горбачёв настаивал, что все эти беспрецедентные шаги были необходимы для завершения «холодной войны» и гонки вооружений с Соединёнными Штатами, налаживания связей с объединённой Европой и, в конечном счёте, упрочения безопасности страны. Противники же его считали их «преступными», видели в них «советский Мюнхен», «предательство всего того, что было достигнуто послевоенным поколением», «катастрофу», равную «последствиям поражения в третьей мировой войне»{91}.
На рубеже 1990–1991 гг., оказавшись под перекрёстным огнем, с одной стороны, реакционных угроз, с другой — требований более радикальных преобразований, а также призывов к наведению «твёрдого порядка в стране», разделяемых тремя четвертями общественного мнения, Горбачёв совершил отчаянный политический манёвр, значение которого большинством наблюдателей так и осталось не понятым{92}. Известный как «правый поворот» Горбачёва, манёвр этот заключался в том, что он публично дистанцировался от нескольких самых известных своих сподвижников-реформаторов и произвёл ряд перестановок в правительстве, которые выглядели так, словно он намеренно решил отдать его «в руки злостных противников реформ». Создавалось впечатление, что он полностью превратился в «консерватора» и даже «главу возрожденного авторитаризма»{93}. Многие бывшие сторонники обвинили его в предательстве идей перестройки, а ближайший союзник в правительстве, министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе, подал в отставку.
На самом деле, Горбачёв, который всего несколькими месяцами ранее говорил о готовности принять «более радикальные» меры в политике и экономике и не переставал считать себя «демократом, склонным к радикальным взглядам», пытался спасти свои реформы путём создания новой коалиции из числа тех высокопоставленных функционеров, которых он, и небеспочвенно, считал умеренными в условиях 1990–1991 гг. Свою новую позицию он называл «центризмом» и защищал её от того, что он считал растущим «экстремизмом» слева и справа{94}.[39] В течение этих нескольких месяцев Горбачёвым действительно был принят ряд жёстких мер во имя «порядка и стабильности», но при этом он заверил своих сторонников, что это лишь «тактический манёвр», что его реформы это «вечные ценности» и что он никогда не «повернёт назад». Он и на самом деле не отступился ни от одного из своих демократических преобразований и даже продвинулся вперёд, проведя беспрецедентный референдум о судьбе Союза. Как отмечал в своё время один из его «радикальных» критиков, «то, что Горбачёв внезапно стал правым… это абсурд». Позже эту же мысль высказали два исследователя, пришедшие к выводу, что Горбачёв «не думал поворачивать назад, он просто пошел вперёд более осторожно»{95}.[40]
Как бы то пи было, манёвр очень скоро обернулся политическим провалом. В тех условиях крайней поляризации общества в нём просто не оказалось устойчивого центра. Разрываясь между стремлением сохранить свой статус отца советской перестройки и пониманием необходимости стабилизировать ситуацию в стране и своё положение в руководстве, Горбачёв колебался между ельцинскими радикалами и собственным правительством, а его новые министры, между тем, готовили против него заговор. И когда в апреле 1991 г. он пригласил Ельцина и других республиканских лидеров в Ново-Огарёво обсудить план радикальной децентрализации Союза, в правительстве был запущен механизм подготовки августовского переворота, нацеленного на его устранение.
Несмотря на всю серьёзность этих кризисов, они не могут служить объяснением конца Советского Союза. Кризисная ситуация явилась результатом, в первую очередь, отмены «командных» элементов прежней административной системы в политике и экономике, в то время как новые демократические и рыночные процессы в них не успели набрать полную силу. Дальнейшее развитие новых институтов вкупе с предложенными Горбачёвым и другими лидерами антикризисными мерами были в тот момент разумным и реальным выходом. На самом деле, советскому режиму доводилось переживать и худшие периоды дестабилизации, например, во время коллективизации и голода в 1929–33 гг. или германского вторжения в начале 1940-х. Более того, глубина кризисных процессов в 1990–91 гг. зачастую преувеличивалась комментаторами-современниками — а их оценки сильно повлияли и на более поздние исследования — отчасти по политическим мотивам, отчасти потому, что стало «модно говорить и писать о кризисе», но, главным образом, из-за того, что для Советского Союза, в отличие от других стран, политические и экономические беспорядки были беспрецедентным явлением и имели поэтому чрезвычайный психологический эффект{96}.[41]
Но даже при этом мало кто (если вообще кто-нибудь) из информированных наблюдателей в то время видел в кризисе предвестие краха советской системы. Большинство, напротив, рассматривало его как «кризис выздоровления» — совокупность симптомов, свидетельствующих об идущей полным ходом трансформации, или «переходе», страны в новое качество{97}. И в этом отношении они были согласны с Горбачёвым: «Логика и ценности стабильности… не совпадают с логикой и ценностями реформаторских прорывов». Или, как выразился он в другой раз, «если стабильность, то конец перестройке», а значит, «не надо бояться хаоса»{98}. Очевидно, так же полагали и все ведущие разведки мира: во всяком случае, ни одна из них, судя по донесениям 1991 г., не предвидела конца самого Советского Союза, речь шла лишь о форме его прежнего существования{99}.[42]
Как же тогда объяснить то, что случилось в итоге? Вопрос этот чрезвычайно важен. Вполне естественно, что для многих россиян, может быть, даже для большинства из них конец Советского Союза остаётся «вопросом века», вызывающим страсти сродни тем, что присущи «религиозным фанатикам», вопросом, на который «никто толком народу не ответил» и который «чем больше пройдёт лет, тем труднее будет понять»{100}. Но и для нас вопрос об исчезновении этого огромного, ставшего эпохой государства и о том, почему это произошло, имеет жизненно важное значение. Это событие, как никакое иное в современной истории, явилось определяющим для мира, в котором мы все живём после 1991 г.
Читателей уже не должен удивить тот факт, что большинство версий ответа на этот вопрос, которые можно найти в обширной специализированной литературе, как и множество интерпретаций советской истории вообще, изобилует ошибочными оценками, заблуждениями и идеологической предвзятостью, свойственными ретроспективному подходу. Так, один учёный муж убеждает нас, что «в ретроспекции» конец Советского Союза «легко объясним и вовсе не удивителен», хотя в своё время он ничего подобного не предвидел, да и сейчас не даёт убедительного объяснения{101}. Удивить читателей, однако, может то, что, несмотря на обилие в литературе подобных решительных утверждений, согласия по поводу того, какие конкретно факторы или фактор привели к концу Советского Союза, нет и в помине.
Вместо этого существует, как минимум, десять различных версий объяснения{102}. Некоторые из них, типа рассуждений о пресловутой нереформируемости советской системы, слишком необоснованны, чтобы представлять серьёзный интерес. Другие, по замечанию одного российского исследователя, «чрезвычайно импрессионистские и поверхностные», не более чем «сборник банальностей» и «стереотипов». А третьи, хотя и отличаются серьёзным и обстоятельным подходом, называют так много самых разных, порой противоречивых, факторов, что никак не способствует формулированию внятного ответа на вопрос{103}.[43]
Отбросив эти версии и сгруппировав ряд наиболее часто называемых в литературе факторов по признаку сходства, мы получим шесть разных объяснений конца Советского Союза, которые заслуживают нашего внимания:
— Конец Советского Союза был «неизбежен», поскольку был «предопределён» неким неисправимым генетическим или врожденным дефектом.
— Система пала жертвой антисоветской народной революции снизу — демократической (в России) и/или национальной (в других советских республиках).
— Основание советской системы оказалось подточено неработающей экономикой, что привело к экономическому коллапсу.
— Постепенные преобразования (перестройка), которые попытался проводить Горбачёв, вышли из-под контроля и, как не раз уже случалось в российской истории, пали жертвой национальной традиции максимализма, или экстремизма, разрушившей основания системы.
— Исчезновение Советского Союза — это классический пример решающей роли лидеров в истории, в данном случае, сначала Горбачёва, затем Ельцина.
— Распад Союза был «элитным» деянием, и, значит, объяснение нужно искать в поведении номенклатуры или отдельных её сегментов в конце 1980-х и начале 1990-х гг.
Начнём с неизбежности. Тезис о том, что Советский Союз был с самого начала обречён, есть, как не раз отмечали российские учёные, упрощенческая разновидность исторического детерминизма, весьма схожая с вульгарным марксизмом, некогда преподаваемым в советских школах{104}. Кроме того, это чрезвычайно характерный пример предопределения «постфактум». Вот перед вами красноречивые образцы западного научного мышления, взятые из работ трёх ведущих специалистов. В 1990 г., по мнению первого, конец Советского Союза «казался абсолютно немыслимым». А в 1998 г., констатирует второй, «никто не выражает ни малейшего удивления по поводу того, что Советский Союз рухнул». И, наконец, в 2002 г., считает третий, мнение о том, что «распад был неминуем», являлось «преобладающим»{105}. Что это было: концептуальное открытие, склонность мыслить «задним умом» или дань политической моде, — превратившее «немыслимое» в экспертной оценке в «неминуемое»?
Что касается фатального дефекта, якобы предопределившего гибель Советского Союза, то обычно, так или иначе, говорят о трёх. Все они, естественно, исходят из аксиомы о нереформируемости системы. С первым мы уже сталкивались и отвергли как теологический: первородный грех советской власти, или изначально присущее ей зло. В качестве второго называют «издержки социализма», под которыми понимается неестественная идеология, уничтожившая систему. Этот тезис также в основном есть проявление идеологической неприязни к иной идеологии{106}. Несколько сложнее обстоит дело с третьим свойством системы, часто называемым в качестве фактора её обречённости: Советский Союз был «империей», а все «многонациональные империи обречены»{107}.[44]
С этим распространённым утверждением связан ряд серьёзных проблем. Во-первых, сторонники его зачастую путают или не разделяют конец собственно Советского Союза в 1991 г. и падение советской империи в Восточной Европе двумя годами ранее, а это разные вещи. (Впрочем, это не значит, что те события не имели глубоких последствий для Восточной Европы, хотя о степени их значимости можно спорить{108})[45]. Во-вторых, оно также почти полностью основано на ретроспективном анализе. Многие западные учёные впоследствии решили, что «Советский Союз был явной империей», но до 1991 г. мало кто из них действительно считал это многонациональное государство империей{109}.[46] В-третьих, этот тезис тоже сильно попахивает идеологией, поскольку определение «империя» здесь носит отчётливо негативный оттенок. В итоге, это объяснение утратило часть своей аналитической целостности (и идеологической убедительности) после 11 сентября 2001 г., когда широкий спектр американского политического мнения решил, что существует или должна существовать американская империя — и, разумеется, никак не связанная с понятиями «зло» или «обречённость»{110}.
Главный вопрос, однако, состоит в том, был ли Советский Союз внутри себя империей и, если так, является ли это достаточным объяснением его исчезновения? Исследователи часто утверждают, что «СССР распался, потому что был империей», но при этом три ведущих западных авторитета считают, что его конец не был неизбежным, ещё один специалист сомневается, а другой отрицает, что СССР был империей, и так же думают очень многие учёные и мыслители в постсоветской России{111}. Впрочем, даже сторонники «имперского» тезиса признают, что Советский Союз был «империей особого рода» и «отличался… по ряду важных признаков» от традиционных империй{112}.[47] Так, несмотря на всё многолетнее политическое давление, там не существовало экономической эксплуатации союзных республик со стороны российского центра. Напротив, отсталые республики подверглись при советской власти существенной модернизации — во многом за счёт экономики России[48].
И закончил своё существование Советский Союз не как традиционные империи, в том числе его предшественница, царская Россия, которые разваливались под тяжестью войн и политической оппозиции со стороны колониальных окраин. В советском случае войны не было, а перед самым концом семь республик даже вели с Москвой переговоры о заключении нового союза. Среди этих семи были и пять центральноазиатских республик, которые якобы больше всех пострадали от «колонизации», но при этом меньше всего хотели расставаться с Союзом. А разрушил Советский Союз, главным образом, его собственный «имперский» центр, Москва, перешедший под контроль Ельцина. Так что, если в Советском государстве и были какие-то имперские аспекты, их было, по мнению самых авторитетных исследователей, явно недостаточно, чтобы означать, что «он был обязательно обречён на распад»{113}.
Не менее распространённый тезис о том, что Советский Союз был разрушен мощным революционным движением снизу, звучит столь же неубедительно. Существуют две версии этих, как их окрестил один российский специалист, «популистских интерпретаций» и «политических мифов»{114}. Первая особого внимания не заслуживает: как мы успели убедиться ранее, никакой народной антисоветской революции в самой России не было. Не существует, как мы тоже убедились ранее, и реальных доказательств того, что советская система пала жертвой «кризиса легитимности» и, прежде всего, «делегитимизации» социалистической идеологии, главную роль в которой сыграли разоблачения периода горбачёвской гласности{115}. Возможно, россияне и оценили свои новые политические свободы и выступили против Коммунистической партии, но «подавляющее большинство», как припомнят читатели, оставалось просоветским и просоциалистическим.
Вторая версия тезиса о «революции снизу» помещает эту революцию в основном за пределы России, в другие советские республики. В соответствии с этим выспренним и обобщенным объяснением, порой смыкающимся с «имперским тезисом», Союз был опрокинут «народами… всех республик», «восстанием [советских] наций», «замечательной национальной мобилизацией», поднявшей «повсюду волны национально-освободительного протеста». Иными словами, в том была «воля народов… что Советский Союз должен умереть»{116}.
Это объяснение плохо стыкуется с реальными фактами, не самую последнюю роль среди которых играют те 76% голосов, отданных за Союз на референдуме, состоявшемся всего девятью месяцами ранее. Противоречит ему и несамостоятельное, послушное поведение лидеров большинства союзных республик, от Средней Азии и Закавказья до Украины, во время событий августа 1991 г. Пока они думали, что ГКЧП в Москве может победить и восстановить власть центра во всей стране, они либо демонстрировали лояльность, либо помалкивали{117}.[49] По этим и другим причинам, некоторые западные и российские аналитики высказывают совершенно иное мнение относительно конца Советского Союза: была «лишь ограниченная мобилизация масс», так что Союз «развалили не толпы народа, который вышел на улицу под националистическими лозунгами». А группа российских (некоммунистических) экспертов пять лет спустя пришла к выводу, что распад Союза произошёл «вопреки воле его народов»{118}.
Главная ошибка, влекущая за собой прочие заблуждения сторонников тезиса о «национально-освободительной революции снизу», состоит в том, что во всех или почти во всех из тысяч этнических протестов горбачёвской эпохи они видят требования отделения и полной независимости{119}. Па самом деле, в огромном большинстве случаев протесты были вызваны желанием восстановить ту или иную попранную справедливость в рамках Союза и до конца 1991 г. были «не борьбой против СССР», а борьбой между этническими группами, или, как отмечают некоторые российские наблюдатели, «некой декорацией» для прикрытия своекорыстных политических интересов местных элит{120}. К этому важному вопросу мы ещё вернёмся.
Ошибочность данного тезиса усугубляется ещё и той путаницей, которая возникла и до сих пор существует между понятиями «суверенитет» и «независимость». В соответствии с доперестроечной советской конституцией, все союзные республики были «суверенными». В начале 1990 г. Горбачёв призвал недавно избранные республиканские съезды народных депутатов подтвердить свой суверенитет, в качестве подготовительного этапа к заключению нового союзного Договора{121}. Практически все сделали это, и никто, если не считать прибалтийские республики, не счёл тогда, что суверенитет должен означать независимость от Союза. Даже роковая резолюция о суверенитете, принятая Съездом народных депутатов РСФСР в июне 1990 г., несмотря на позднейшие утверждения, «на самом деле не имела ничего общего с независимостью». Именно поэтому за неё проголосовали 927 из 929 делегатов съезда, включая убеждённых сторонников Союза — коммунистов{122}.[50] И именно поэтому собравшиеся весной 1991 г. в Ново-Огарёво лидеры девяти республик, включая Россию, и Михаил Горбачёв смогли подписать соглашение, призвавшее к созданию нового «Союза Суверенных Советских Республик».
И всё-таки толкование суверенитета как полной независимости сыграло важную роль в конце Советского Союза. Частично это произошло из-за неоднозначного смысла самого слова, по-разному толкуемого в разных языках СССР, но, главным образом, потому что это отвечало политическим амбициям ряда республиканских лидеров и стоявших за ними элит. В особенности это касалось российского лидера Ельцина и украинского лидера Кравчука. В конце 1991 г. слова «суверенитет» и «независимость» то и дело звучали в ходе многочисленных политических баталий по всей стране, но даже опытный специалист по советским СМИ не мог бы сказать с уверенностью, что имелось в виду в каждом конкретном случае.
Это позволяет объяснить неожиданный результат декабрьского референдума 1991 г. в Украине, который обычно приводят в качестве решающего довода в пользу версии о народной национально-освободительной революции. Тогда 90% участников референдума проголосовали за «независимость», хотя всего девятью месяцами ранее, на всесоюзном референдуме в марте, 70% украинцев (и 80% при дополнительном голосовании) проголосовали за сохранение Союза. Украина, наряду с Россией, Белоруссией и Западным Казахстаном, составляла славянское ядро Советского Союза. И когда, спустя несколько дней, Ельцин, Кравчук и следовавший за ними лидер сравнительно небольшой Белоруссии отменили Союз, они использовали декабрьский референдум как оправдание.
Но неужели действительно так много украинцев, столетиями связанных с Россией и едва ли отличимых от своих славянских соседей, проголосовали за выход из Союза? В Украине была уже «значительная путаница» в словах «суверенитет» и «независимость», и ими вовсю манипулировала обернувшаяся националистами бывшая коммунистическая элита во главе с Кравчуком, используя их практически как синонимы{123}. Как «в общем-то, справедливо», по словам одного американского учёного, указывал Кравчуку Горбачёв, выступивший против использования тем результатов референдума, другие республики провозгласили независимость, не означавшую «обязательного выхода из Союза». Более того, как утверждает ещё один американский учёный, основываясь на данных голосования, вопрос референдума был сформулирован неопределённо; от участников просто требовалось ответить, хотят ли они «независимости Украины». Если бы было сказано, что это означает выход из Союза, итог голосования мог бы быть принципиально иным{124}. Десять лет спустя 60% украинцев желали бы иметь, в той или иной форме, союз с Россией, и только 46,5% проголосовали бы на референдуме за независимость{125}.
Каким бы ни оказался итог событий, Украина, как и большинство других республик, не пережила народной революции во имя освобождения от Союза. Там, как и везде, рост антисоюзных настроений имел место «больше в политике элит, чем в массовом общественном мнении», то есть, «сепаратизм шёл… сверху»{126}.[51] Оглядываясь назад, на события 1990–91 тт., один российский специалист пришёл к выводу о «почти полном отсутствии во всех советских республиках (за исключением Прибалтики и Грузии) сколько-нибудь серьёзных сепаратистских настроений». К такому же выводу, предупредив попутно об опасности ретроспективного подхода, пришёл и известный британский учёный. «Только в Прибалтике (и, возможно, в Закавказье), — пишет он, — национальный вопрос принял форму требования безотлагательной независимости»{127}.
Третья распространённая версия объясняет конец Советского Союза «принципиально неработающей» экономикой: мол, это сделало всю систему «нежизнеспособной» и привело, в конечном итоге, к «полному и окончательному краху». (Некоторые сторонники данной версии приписывают определённую заслугу в этом Рейгану, полагая, что наращивание военной мощи в начале 1980-х гг. приблизило или ускорило экономический коллапс.) В качестве доказательства обычно приводится экономический кризис 1990–91 гг., который якобы поставил страну на грань катастрофы и даже голода{128}. Это объяснение, среди убежденных сторонников которого есть как антимарксисты, так и некоторые марксисты, но очень мало экономистов, также не свободно от идеологических акцентов: «обречённую» советскую экономику представляют то как извращённо-социалистическую, то как фатально антисоциалистическую{129}. Свою лепту в формирование данной версии внесли и самооправдания ельцинских «радикальных реформаторов». При всем том, что их «шоковая терапия» обернулась для России 1990-х гг. ещё большей катастрофой, они настаивали, что «крах советской экономики» не оставил им выбора{130}.[52]
Это объяснение не более убедительно, чем первые два. Экономики «со стажем» обычно не терпят внезапный «крах» и не приводят к гибели собственные государства. Этого не случилось, к примеру, ни в более ранние периоды советской истории, хотя среди них были и более трудные в экономическом отношении, ни во время разрушительной «великой депрессии» 1930-х гг. в США, ни позднее в России, когда её постсоветская экономика оказалась охвачена куда более серьёзными кризисами{131}. Более того, кризис 1990–91 гг. на самом деле не был кризисом советской экономики, которая демонстрировала рост ещё в 1985–89 гг., — это была уже постсоветская, или переходная экономика{132}. К 1990 г., благодаря реформам Горбачёва и другим изменениям, элементы партийно-государственного командования и контроля, являвшиеся характерной чертой и движущей силой советской экономики в течение десятилетий, были в основном устранены или ослаблены.
Да и сам экономический кризис, несмотря на всю его серьёзность, не был действительно «крахом». (Как убедился позднее, изучив новые данные, один американский экономист, «советская экономика была гораздо более прочной, чем предстает в ретроспекции».) Граждане продолжали работать и получать зарплату, и экономика в целом, несмотря на растущий беспорядок, продолжала функционировать, время от времени даже демонстрируя некоторые признаки выздоровления{133}. В 1990 г. промышленное производство начало резко падать, но сельскохозяйственные показатели оказались одними из самых высоких за десятилетия. Конечно, кризису способствовало то, что на руках у граждан оказалось гораздо больше свободных средств, чем когда-либо раньше: «слишком много рублей», на которые можно было купить «слишком мало товаров», поскольку большинство предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания, исчезло с прилавков.
Этот товарный дефицит способствовал распространению мифа о тотальном экономическом крахе, но проблема заключалась, прежде всего, в кризисе распределения. В ожидании неминуемого роста государственных цен и потребители, и поставщики припрятывали товары до лучших времён: первые, из страха перед ростом цен, делали запасы дома, а вторые, надеясь впоследствии получить большую прибыль, придерживали товары на складах{134}.[53] (Недаром прилавки так быстро вновь заполнились товарами, причём не только импортными, стоило Ельцину отпустить цены и девальвировать рубль.) Впрочем, значение даже этого кризиса снабжения было преувеличено. Советские люди не впервые столкнулись с проблемой дефицита. Но, хотя и раньше они периодически испытывали недостаток тех или иных товаров, панические разговоры о нависшей катастрофе и, в том числе, об угрозе общенационального голода, зазвучали только теперь и стали частью общей «истерии» 1990–91 гг. (Панически раскупать товары первой необходимости, как только возникают слухи о дефиците, и, тем самым, создавать этот дефицит по-прежнему является российской традицией. В 2006 г., например, она проявилась в «соляной лихорадке» и была правильно расценена как «психологический» феномен, не имеющий «ничего общего с реальной экономикой»){135}.[54]
Пустые полки государственных магазинов, несмотря на яркость образа, не означали массового голода. Деревенские жители во все времена питались в основном тем, что вырастили сами, но даже многие горожане не были полностью зависимы от государственных прилавков. Существовали, пускай более дорогие, негосударственные — колхозные и кооперативные — рынки и магазины, существовали личные дачи с огородами, а, кроме того, существовала система общественного питания: почти все работающие и учащиеся советские граждане традиционно обедали в столовых по месту работы или учебы, откуда они также могли брать продукты домой. Эта устоявшаяся система продолжала действовать и в 1990–91 гг., хотя, без сомнения, качество такого питания заметно снизилось{136}.
Впрочем, каким бы серьёзным ни был данный кризис, его главная причина была не экономическая. Как говорят в один голос многие западные и российские экономисты, «СССР убила… политика, а не экономика»{137}. С конца 1980-х гг. и по 1991 г. следующие одно за другим политические решения и события непрерывно ослабляли и расшатывали старую советскую экономическую систему, не оставляя при этом времени для развития на её месте новой. И, как результат, — экономический кризис. Между тем, присущая советской бюрократической системе проблема претворения в жизнь новых политических решений, только обострилась. (К лету 1990 г. Горбачёв, несмотря на свои новые президентские полномочия на бумаге, на деле был не в состоянии осуществить ни одной крупной экономической инициативы. Как сетовал один из его помощников, «самые реформаторские решения повисают в воздухе»){138}.
Начало череде политических факторов, дестабилизировавших экономику, было положено принятием Горбачёвым реформ, направленных на демократизацию и децентрализацию власти. Это привело к сокращению партийно-государственного контроля над предприятиями, ресурсами, заработной платой, денежной массой и, в конечном итоге, собственностью. Затем последовали «парад суверенитетов» (причём в суверенитете многие республики и регионы всё больше видели экономическую автономию), стихийная «приватизация» без оглядки па производство и целый ряд заявлений правительства — сначала горбачёвского, затем ельцинского — о грядущем повышении цен, спровоцировавших покупательский и «запасательский» ажиотаж. Негативное воздействие на экономику оказали даже некоторые аспекты внешней политики Горбачёва: так, для вывоза военной техники и оборудования из Восточной Европы потребовалось задействовать значительные железнодорожные мощности, что также способствовало перебоям в продовольственном снабжении. В ответ на растущий спрос и дефицит товаров, региональные власти — и, похоже, не без участия недругов Горбачёва — начали придерживать свою продукцию, саботируя общенациональный рынок и, тем самым, нанося ему ещё больший ущерб{139}.
И здесь также свою разрушительную роль сыграл августовский путч 1991 г. Ещё более ослабив центральную власть Горбачёва и союзного правительства, он усугубил экономическую ситуацию и, в конечном счёте, привёл к расчленению единой союзной экономики. К концу года Ельцин, от имени РСФСР, не только отказался платить налоги в союзный бюджет, но и присвоил себе ряд экономических и финансовых активов Союза{140}. Экономика, жаловался Горбачёв, стала «заложницей политики»{141}. И, по мере того как политика становилась всё более радикальной и экстремальной, те же черты приобретал и экономический кризис.
Политический радикализм, поразивший страну и особенно столичные Москву и Ленинград в 1990–91 тт., является центральным пунктом четвёртой версии распада СССР. Представляя российскую историю как «цикличный» процесс{142}, её сторонники утверждают, что перестройка потерпела крах по тем же самым причинам, что и все предыдущие попытки модернизации страны путём постепенных, эволюционных преобразований: пала жертвой полного драматических страстей и предельно деструктивного экстремизма.
В соответствии с этим «трагическим» взглядом на давнюю российскую традицию неудачных реформ и упущенных возможностей, «с её жуткими гримасами и жестокой иронией», итогом всегда была либо революция, либо реакция, либо и то, и другое{143}. Так, реформы Александра П, предпринятые им в 1860-е гг. с целью либерализации российского общества, привели к его убийству радикалами, политике «закручивания гаек» со стороны его наследников и революционному взрыву в 1905 г. Модернизация земельных отношений, начатая премьер-министром Петром Столыпиным в 1907 г., закончилась его убийством и, в конечном счете, крахом царизма в ходе Февральской революции 1917 г. Возникшее в результате тех февральских событий, демократически настроенное центристское правительство было сметено большевистским переворотом в октябре 1917 г. Эволюционный ленинский НЭП 1920-х гг. пал жертвой сталинской «революции сверху». Даже ограниченные, направленные на десталинизацию, реформы Хрущёва 1956–64 гг. привели к его свержению и двум десятилетиям реакционного «застоя»[55].
Главным проводником идей деструктивного радикализма при царизме было, как считается, экстремистское крыло русской интеллигенции: образованные, оппозиционно настроенные молодые люди, часто с характерным комплексом вины перед простым народом, — возникшее во второй половине XIX века. Эта радикальная русская интеллигенция, отличавшаяся, как принято считать, политическим нетерпением, максимализмом и нигилизмом, постоянно стремилась свергнуть существующий режим во имя некоего нового порядка, навеянного западными теориями, самой роковой из которых оказался марксистский социализм{144}. Согласно данной версии, нигилистическая традиция интеллигенции XIX века вновь возобладала при Горбачёве, когда ряд представителей советской партийной интеллигенции, проникшись идеями свободно-рыночного капитализма и назвав себя «радикальными демократами», принялись подрывать основы эволюционной перестройки нещадной критикой и всё более антисоветскими требованиями.
В работах западных авторов эта трактовка конца Советского Союза встречается не часто и не в полном объёме — возможно, потому что большинство из них с симпатией относятся к этому самому антисоветскому «экстремизму». Зато она очень популярна в России, где ведущая роль интеллигенции считается «непреложным законом всех русских революций»{145}. Как недвусмысленно пишет известный российский историк, «нет сомнения, что именно интеллигенция явилась главной силой, расшатывавшей советский строй». Другой учёный также уверен, что именно эти «политические противники Горбачёва и его осторожного, эволюционного курса» задушили перестройку и уничтожили Советский Союз. Некоторые авторы ещё более категоричны в своих обвинениях и «на сакраментальный вопрос “кто виноват?”» отвечают однозначно: «интеллигенция»{146}.
В отличие от некоторых других версий развала Советского Союза, эта не является плодом позднейших умозаключений. Начиная с 1988 г. и по 1991 г. более умеренно настроенная часть советской интеллигенции, озабоченная «пресловутыми» прецедентами, предупреждала «сверхрадикалов» об опасности «большевизма наизнанку», который вновь «разрушит всё до основания». Они боялись, что традиционно присущие интеллигенции «нетерпение и экстремизм» и новое попадание «в плен максимализма» приведут к «очередным историческим потрясениям», вновь оставив нераскрытыми «эволюционные возможности отечественной цивилизации»{147}. Страх того, что традиция возобладает над начавшейся советской перестройкой, был настолько велик, что сторонники реформ, от так называемых «умеренных демократов» до самого руководства во главе с Горбачёвым, всерьёз заговорили о грозной аналогии: «Нашу перестройку… постигнет трагическая судьба НЭПа»{148}.
Традиция российской интеллигенции действительно сыграла важную роль в событиях последних лет существования Советского Союза. Она проявилась в поведении многих коммунистов среднего возраста, которые так быстро и круто развернулись и против своей прежней идеологии (в том числе, вдохновивших перестройку идей антисталинизма), и, в духе «своеобразного эдипова комплекса», против недавно освободившего их советского лидера. Как и в случае с их предшественниками из царской России, подобный интеллигентский радикализм часто выглядел как «личное покаяние» за «стыдный факт» предшествующей привилегированной жизни — на сей раз, партийных интеллектуалов-конформистов{149}.[56] Неудивительно, что они с таким энтузиазмом, в соответствии с ещё одним характерным аспектом данной традиции, восприняли новую максималистскую «сказку» — о возможности одним революционным скачком, всего за «500 дней», достичь полностью приватизированной рыночной экономики. (Даже несмотря на то, что МВФ и другие западные финансовые организации также выступили против «500 дней», когда Горбачёв в 1990 г. отверг этот первый вариант «шоковой терапии» как нереалистический, болезненный в социальном отношении и небезопасный для существования Союза, ненависть к нему радикальной интеллигенции только возросла){150}.[57]
Другой чертой, унаследованной перестроечной интеллигенцией от предшественников, от революционеров-подпольщиков ХТХ века до Ленина, стала страсть к политике. (Один интеллигентный наблюдатель пришёл в «ужас» от «революционной толпы, состоящей из докторов наук и академиков»){151}.[58] Доверенные им Горбачёвым важнейшие средства массовой информации они всё больше использовали для поляризации политической атмосферы. Уже к 1990 г. они стояли в первых рядах самых радикальных движений своего времени, променяв Горбачёва на более «максималистского» героя («Самые умные — за Ельцина»), о чём впоследствии некоторые из них будут глубоко сожалеть{152}. Но тогда, в ноябре 1990 г. и особенно после официального применения вооружённой силы в Латвии и Литве в январе 1991 г., ответственность за которое они возложили на Горбачёва, даже «прорабы перестройки», которых он выдвигал и поддерживал с 1985 г., выступили с требованием его отставки{153}.
Однако, в конечном счёте, радикальная интеллигенция не была главной причиной развала Союза. Она много сделала, для того чтобы сфокусировать общественное недовольство на политике Горбачёва и поддержать Ельцина, но никакой реальной власти, помимо этих двух руководящих фигур, у неё не было. Несмотря на весь свой вес в обществе и громкие голоса, радикальная интеллигенция пользовалась небольшим авторитетом у простых россиян, по большей части недолюбливавших её. Кроме того, радикалы представляли далеко не всю интеллигенцию даже Москвы и Ленинграда, не говоря уже о провинции, где их почти не было. Как и на протяжении большей части российской истории, интеллигенция оказалась второстепенным, а отнюдь не главным действующим лицом.
Это вплотную подводит нас к проблеме роли лидеров: Горбачёва, Ельцина или обоих, — в исторической драме 1985–91 тт. Рассматриваемый в контексте событий, этот «субъективный» фактор был первой и основной причиной конца Советского Союза, или того, что некоторые русские называют «навязанным роспуском»{154}. Многие западные специалисты (в отличие от большинства российских) с этим решительно не согласны. Советологи, подобно большинству современных интерпретаторов истории, а также по собственным, советологическим, резонам, не любят объяснять важные исторические события поведением отдельных личностей, пусть и очень влиятельных. Они предпочитают говорить об «объективных процессах» — в данном случае, тех, что были связаны с важнейшими, определяющими элементами советской системы, якобы сделавшими её гибель неизбежной{155}.[59]
Однако «решающая роль субъективного фактора» в развале СССР становится очевидной из простого контрфактического примера: стоит убрать двух этих главных протагонистов, особенно Горбачёва, и становится почти невозможно представить, чтобы события 1985–91 гг., приведшие к печальному итогу, развивались именно таким образом. Зато, считает известный американский учёный, легко представить себе Советский Союз, «продолжающий идти своим путём в условиях относительной стабильности. Вот единственно возможный вывод»{156}. И с ним согласны не только очень многие российские авторы, пишущие на эту тему, но и большинство российских граждан, о чём говорят регулярные опросы общественного мнения, и, по крайней мере, несколько западных специалистов. Все они тоже «не видят каких-то мощных объективных экономических, социальных и политических причин, способных разрушить столь сильное и большое государство»{157}.
Однако и среди сторонников «лидерской» версии имеются существенные разногласия. Споры (особенно в России) вокруг характера руководства в те годы, как то: двигали ли им благие намерения или оно изначально не несло ничего, кроме вреда; отличалось мудростью или непрофессионализмом; достойно или не достойно уважения; насколько преднамеренными или непреднамеренными оказались его итоги, — представляют интерес, но для нас важно другое. Нас больше интересует, кто из лидеров несёт главную ответственность за исчезновение Советского государства. Одни «субъективисты», как западные, так и российские, кивают на Горбачёва, другие на Ельцина, а некоторые возлагают вину на обоих лидеров.
На первый взгляд может показаться, что больше виноват Ельцин. Это он 8 декабря 1991 г. тайно встретился в Беловежской Пуще с лидерами двух других советских республик, чтобы подписать соглашение об упразднении Советского Союза. Однако вклад в этот роковой исход отсутствующего Горбачёва был более значительным — даже несмотря на то, что он изо всех сил старался предотвратить его. Без тех политических перемен, которые Горбачёв осуществил в предыдущие шесть лет, ни Ельцин, ни любой другой из тех факторов, которые называют в качестве причины распада Союза, не смогли бы сыграть сколько-нибудь значительной роли, по крайней мере, в обозримом будущем.
В конечном итоге, именно горбачёвская политика демократизации предоставила интеллигенции свободу открыто говорить о «грехах» прошлого и настоящего, позволила общественному недовольству принять легальные и организованные формы, способствовала развитию национализма и формированию националистических движений, а также, ослабив центральный контроль над экономикой, приблизила её кризис. Что касается Ельцина, то он, как никто другой, выиграл от горбачёвских реформ, оказавшись в 1989 г. делегатом первого всесоюзного съезда народных депутатов, в 1990 г. — первого съезда народных депутатов РСФСР, а в 1991 г. — первым всенародно избранным президентом России. Таким образом, какую бы роль в конце СССР ни сыграли те или иные явления и события, «важнейшим ускоряющим фактором» явилось руководство Горбачёва. Неслучайно американский автор заключил: «Без Горбачёва до сих пор был бы Советский Союз»{158}.
Суждения о том, к каким последствиям привело горбачёвское руководство, существуют самые разные, как в России, так и на Западе. Одни говорят, что он «вывел [Россию] из рабства» и, как «освободитель такой страны», является «единственным великим русским реформатором, которому реформа удалась». Другие, что его «невероятное политическое невежество» сделало его «одним из самых ярких примеров провального руководства в истории». Третьи и вовсе обвиняют Горбачёва (и Ельцина) в том, что они явились вольными или невольными участниками американского заговора с целью уничтожения Советского Союза{159}. (По сути, широко распространённые в России теории заговора и популярные в США триумфаторские утверждения, что это американский президент или какая-то тайная служба «покончили с коммунизмом», — одного поля ягоды. Ни в тех, ни в других нет ничего достойного внимания, так что рассматривать их здесь мы не будем){160}.
Но, каким бы ни оказался вердикт знающих комментаторов, ни у кого из них нет сомнений в том, что в 1985 г. Горбачёв был единственным человеком в руководстве правящей Коммунистической партии, кто хотел и мог начать подобные реформы, а в последующие нескольких лет, когда политический класс перерос рамки КПСС, единственным, кто хотел и мог пойти на ещё более радикальные меры, даже перед лицом растущей оппозиции. Вот почему некоторые американские и российские учёные утверждают, что Горбачёв был чрезвычайно редкой фигурой в истории — лидером, «делающим события», или, как было сказано по поводу его не менее значительной роли в окончании «холодной войны», «исторически роковой личностью»{161}.
Именно в результате способности Горбачёва «делать события» и Ельцин, прежде мало кому известный провинциальный партийный руководитель, после его назначения по личной рекомендации нового генсека в Москву, также превратился в «роковую личность». («Не было бы Горбачёва, — заверяет нас знающий человек, — не было бы Ельцина»{162}). К 1991 г., будучи президентом единственной действительно неотъемлемой республики Союза — России, лидером растущего легиона «радикальных реформаторов» и народным «мессией», он определял судьбу начатых его патроном и оказавшихся в кризисе реформ, а значит, и непосредственно судьбу Союза. До провала августовского переворота он ещё колебался, не зная, поддержать ему Горбачёва или выступить против него. Но сразу после путча Ельцин, словно совершая свой собственный маленький путч, повёл наступление на и без того ослабленного противника, систематически, один за другим ликвидируя союзные институты власти и добиваясь передачи в пользу своей РСФСР практически всех политических и экономических полномочий союзного правительства{163}.
Последним шагом стало уничтожение того, что ещё оставалось у Горбачёва-президента: его государства. И если формально отменившее Союз Беловежское соглашение подписали три человека, по сути это сделал один. Без Ельцина, как говорил потом один из бывших республиканских лидеров, «не было бы Беловежского документа»{164}. Что касается двух других лидеров, то глава советской Белоруссии (вскоре ставшей Белорусью), верный традиционному статусу «младшего славянского брата», беспрекословно последовал за российским лидером, а глава Украины Кравчук, хотя и демонстрировал склонность к «независимости», тоже попал под влияние Ельцина{165}.[60]
Вслед за Ельциным, оправдывавшим Беловежье его «неизбежностью»{166}, большинство западных авторов также уверовали в то, что к декабрю 1991 г. союзная альтернатива окончательно исчерпала себя. Но это было не так. Как признавался всего месяцем ранее сам Ельцин, а впоследствии подтвердил один из его главных советников на Беловежской встрече, она продолжала существовать{167}. Об этом свидетельствовали не прекращавшиеся переговоры между Горбачёвым и рядом республиканских лидеров и опросы общественного мнения, демонстрировавшие неизменную поддержку Союза. Более того, Союз из семи-восьми оставшихся республик, поддержи его Ельцин, мог бы, с учётом его размеров и ресурсов, подтолкнуть к возвращению остальных, в том числе Украину. Проблема заключалась в другом. В том, что, даже формально продолжая переговоры с Горбачёвым, Ельцин уже решил, что союзная альтернатива его больше не устраивает{168}.[61]
Что же заставило двух этих лидеров сделать то, о чём ещё несколькими месяцами ранее практически никто не мог подумать — уничтожить супердержаву XX века? Очевидно, что оба были людьми незаурядной политической воли, но не менее очевидно и то, что воля была у них разная: у Горбачёва воля к реформам, а у Ельцина воля к власти. Различие это не означает автоматического осуждения того или другого: последствия горбачёвской тяги к реформам могут быть так же неоднозначны, как и последствия тяги его противника к власти. Но при этом несомненно то, что эти двое сыграли взаимосвязанную роль в событиях, которые за какие-то шесть лет привели к исчезновению государства, ещё в 1985 г. казавшегося нерушимым.
Это примечательное стремление Горбачёва реформировать унаследованную им советскую систему и неразрывно, в его представлении, связанный с ней международный порядок, основанный на состоянии «холодной войны» между СССР и США, часто упускают из вида те, кто упрекает его в отсутствии энтузиазма и слишком медленном темпе реформ. На самом деле, страстная, безоглядная преданность реформам, названным им перестройкой, была главной чертой горбачёвского руководства, и, по мнению знающих наблюдателей, она обусловила, напротив, слишком быстрый темп нововведений. Имея в виду именно эту почти христианскую приверженность идее реформ, один бывший критик позднее назвал Горбачёва «апостолом Михаилом», подчеркнув при этом, что он использовал власть «не ради власти», а будучи «озабочен… судьбой начатого им переустройства жизни». Мало кто из наблюдателей сомневался, что «все произошедшие [к 1990 г.] титанические сдвиги» произошли благодаря «политической воле Горбачёва»{169}.[62]
Только этой всепоглощающей волей к реформам можно объяснить те фатальные шаги, которые Горбачёв сделал — или не сделал. Этим объясняется то, что он шёл, перепрыгивая через тотемы и табу, на еретические изменения, даже не заручившись поддержкой собственной перестроечной коалиции, а затем и на ещё более радикальные шаги — перед лицом растущей угрозы оппозиции. «Никто не знает, как далеко я пойду», — сказал он помощнику ещё в самом начале пути и так и сделал: пересекая один политический рубикон за другим, ликвидировал диктатуру Коммунистической партии в стране и советскую империю за рубежом и ни разу при этом не повернул назад{170}.
Этим же, что не менее примечательно, объясняются и две характерные черты горбачёвского руководства, которые были и остаются беспрецедентными в российской политической истории. Первая состояла в пренебрежении, буквально разбазаривании огромной личной власти, унаследованной им вместе с должностью генерального секретаря ЦК КПСС. Как он сам неоднократно и без сожаления признавался: «Я бы работал так, как до меня работали, правили. Как Брежнев… как император». И, чтобы подчеркнуть, добавлял: «А есть ли ещё другой случай в истории, чтобы человек, получив власть, сам же её и отдал?»{171}.[63] Результатом было его растущее политическое бессилие.
Второй уникальной чертой правления Горбачёва была его «глубокая неприязнь к использованию силы». Можно спорить о том, как часто он реально прибегал к использованию вооружённой силы — многие русские до сих пор жалеют, что он делал это не так часто и эффективно, как мог, — но, учитывая суровое прошлое страны и масштаб изменений, произведённых под его руководством, на его руках действительно осталось мало крови, можно даже сказать, «ни капли»{172}. За этим стоит его приверженность тому беспрецедентному для России типу реформ, которому он пообещал следовать в 1987 г., — «революции без выстрелов». Этому своему «кредо реформ» и «принципиальному ненасилию», которые для него были «не просто слова, а твёрдое убеждение, жизненная идея», Горбачёв в основном остался верен до конца — «в отличие от Линкольна», мог бы он добавить. Во имя своей реформаторской миссии, отмечает российский автор, Горбачёв «готов был отдать всё — и корону, и державу, и союзников»{173}.[64]
Но если горбачёвская воля к реформам порой и подвергалась сомнению, то воля к власти его соперника, Ельцина, никогда. (Горбачёв, подчёркивая разницу между собой и Ельциным, говорил, что «царь Борис», как он насмешливо называл его, «боготворит власть»){174}. С момента появления Ельцина на советской политической сцене его все воспринимали как человека, убеждённого в том, что его судьба — править. У него, пишет британский корреспондент, была «огромная жажда власти и чутьё на то, где её можно найти», а российский журналист, некогда бывший почитателем Ельцина, назвал его позже «алкоголиком власти». Не отрицал этого и сам Ельцин. «Быть “первым” — наверное, это всегда было в моей натуре», — говорил он, а один из его бывших пресс-секретарей подтвердил: «Власть — его идеология»{175}.
Но дело, конечно, было не только в этом. Ельцин, как и многие его поклонники, видел себя героическим «отцом независимой демократической России»{176}. Но неотступная погоня за властью, осложнённая «патологической, всеуничтожающей, сжигающей его самого ненавистью к Горбачёву»{177},[65] оказывалась, в конечном счёте, определяющей для его политической позиции. В разное время Ельцин побывал и «за», и «против» почти всех обсуждаемых в те годы инициатив: по поводу перестройки, «шоковой терапии» и свободного рынка, парламентаризма, коммунистической номенклатуры, Союза, — а также «ни за капиталистическую, пи за социалистическую» Россию. Даже поддержка независимости Прибалтики, которую так часто ставят ему в заслугу, воспринималась как «способ противопоставить себя Горбачёву». Действительно, очень многие из его политических взглядов, отличавшихся растущей радикальностью, похоже, имели смысл «не сами по себе, а, главным образом, как средство достижения личных политических целей». Это, по мнению американского посла в России, заставляло Ельцина «говорить людям то, что они хотят услышать, и он делал это не задумываясь», или, как метко выразился один российский автор, «ради власти он может стать кем угодно, хоть мусульманином»{178}.[66]
Крайним проявлением ельцинской воли к власти стал исторический Беловежский coup d'etat, низвергнувший то, что, несмотря на все кризисы и потери, всё ещё оставалось ядерной сверхдержавой с населением около 250 миллионов человек. Ельцин и его соавторы неизменно отрицали то, что Беловежское соглашение было переворотом, настаивая на том, что после провала августовского путча «Советский Союз фактически прекратил своё существование, и нужно было об этом заявить де-юре». (На самом деле, гораздо больше их беспокоило наметившееся политическое возвращение «хитрого Горбачёва» и то, что его просоюзная позиция набирает голоса){179}. Но если было так необходимо формально прекратить существование Советского Союза, Ельцин мог бы сделать это открыто, обратившись с соответствующим предложением к лидерам или законодательным собраниям оставшихся республик — или даже напрямую к народу, путём референдума, как это сделал девятью месяцами ранее Горбачёв{180}.[67]
Но Ельцин предпочёл отмахнуться от предусмотренных действующей конституцией законных методов и действовать нелегально, в обстановке, как он сам признавал, «сверхсекретности» и, что говорит само за себя, страха перед возможным арестом. (Чтобы обезопасить себя, беловежские конспираторы устроили встречу в надёжно охраняемом месте вблизи польской границы, причём первым человеком, которого они поставили в известность о результатах встречи и заверили в сохранении высшего военного поста, был советский министр обороны.) Результатом, по единодушному мнению самых разных независимых обозревателей, включая посла Великобритании, стал переворот, или, учитывая провалившийся августовский путч против Горбачёва, — «второй переворот». В нём, как признавал позднее один весьма уважаемый сторонник Ельцина, не было ничего «ни легитимного, ни демократического»{181}.[68]
На этот роковой шаг, как уверены многие российские и западные авторы, Ельцин пошёл, прежде всего, чтобы полностью избавиться от Горбачёва{182}.[69] Для того чтобы быть «первым», недостаточно было быть президентом одной из союзных республик, пускай даже самой важной; ему нужен был горбачёвский Кремль — средоточие и символ верховной власти. Ни у одного другого противника Горбачёва — из числа «радикальных реформаторов» или тех, кто стоял по другую сторону политической баррикады, — не было такой воли к власти. Путчисты в августе 1991 г. сосредоточили в центре Москвы внушительную военную силу, но не смогли воспользоваться ею, даже не попытались арестовать Ельцина или кого-то из его сторонников. Причины назывались разные, но все они сводились к одному: «фатальному отсутствию воли»{183}.
Таким образом, именно противоположные, но симбиотически связанные воли двух экстраординарных политиков — экстраординарных ещё и в том, что появились они в один и тот же исторический момент, и, в отдельности, судьба каждого из них могла сложиться иначе — и привели к концу Советского Союза. Возможно, читателям сложно поверить, что столь эпохальное событие явилось делом рук двух личностей, но это вполне соответствовало российской традиции лидерской политики. Два крупных специалиста по этой традиции, русский и американец, не сомневаются в той роли, которую сыграли Горбачёв и Ельцин. Первый выразил своё понимание этой роли при помощи российской исторической аналогии: «Горбачёв наша Февральская революция, а Ельцин — Октябрьская». Американский автор прибег к устойчивому западному образу: «Соперничество между Ельциным и Горбачёвым, похоже, содержало в себе все элементы шекспировской трагедии»{184}.
Это объяснение выявляет главную, сущностную причину исчезновения Советского Союза и означает, что такой итог вовсе не был неизбежен. Но является ли это объяснение исчерпывающим? До сих пор остаётся непонятным, как Ельцин, не имея за собой ни армии, ни даже политической партии, сумел, фактически единолично, покончить с огромным, пускай и ослабленным государством, имеющим 74-летнюю историю, и никто: ни рядовые граждане, ни парламент, никакие другие силы, хотя бы в РСФСР, — даже не попытался воспротивиться этому'?
Отсутствие общественного сопротивления беловежскому демаршу Ельцина (при том, что идея Союза и в 1991 г., и после пользовалась широкой поддержкой населения), возможно, объяснялось тремя факторами. Во-первых, пассивность русского народа в моменты судьбоносных схваток политических лидеров — неважно, чем она была обусловлена: покорностью, страхом, равнодушием или надеждой, — была ещё одной устойчивой традицией. Так что в декабре 1991 г. «народ безмолвствовал» — по расхожему выражению из пушкинского «Бориса Годунова», — не впервые{185}.[70] Второй фактор был более современным. К 1991 г. общественное мнение было уже настолько резко настроено против Горбачёва, что, без сомнения, увидело в Беловежском соглашении не конец советского государства, а желанное избавление от его непопулярного президента{186}.
Третий и, по-видимому, главный фактор был тесно связан с предыдущим. На Беловежской встрече Ельцин и другие аболиционисты заявили, что вместо Советского Союза немедленно образуется Содружество Независимых Государств, которое позволит сохранить единство большинства бывших союзных республик, а также их населения, хозяйства и вооружённых сил. На бумаге это очень напоминало тот «мягкий» вариант союза, который незадолго до того предлагали Горбачёв и Ельцин. В этом смысле, как пишет российский историк, Беловежское соглашение «было преподнесено не как ликвидация, а как трансформация ранее существовавшего государства»{187}.[71] Неизвестно, было ли Содружество, со стороны Ельцина и Кравчука, действительно подлинным чаянием или «обманом своих народов», но очевидно, что сразу после подписания соглашения они повели Россию и Украину прочь от какого бы то ни было союза. (Сообщения о том, что в ночь подписания документа участники встречи много пили, особенно Ельцин, помогают объяснить, почему, по крайней мере, один из подписантов впоследствии чувствовал себя запутанным или «обманутым» в том, что там происходило){188}.[72]
Гораздо менее очевидно, почему Верховный Совет РСФСР — этот российский парламент, всенародно избранный в 1990 г. гражданами Российской республики, несколькими месяцами позже проголосовавшими также за сохранение Союза — практически единодушно (188 голосов «за», 6 «против», 7 воздержавшихся) и без обсуждения (менее часа формальной дискуссии) ратифицировал Беловежские соглашения{189}. Ведь это был тот же самый парламент, который спустя всего два года не побоялся в открытую пойти против Ельцина, вплоть до вооружённого столкновения. Для некоторых российских демократов эта ратификация «навсегда останется несмываемым позором и виной российского парламента». А для Горбачёва, направившего тогда депутатам отчаянное обращение с мольбой о сохранении Союза, останутся необъяснимыми причины их внезапного «сумасшествия»{190}.
Самым необъяснимым выглядит поведение депутатов-коммунистов. Составлявшие внушительную фракцию в парламенте, в большинстве своём поддержавшую августовский путч именно ради «спасения Союза», они либо не глядя, автоматически «подмахнули» ельцинский документ о ликвидации Союза, либо просто не явились на то историческое заседание 12 декабря. (В зале наглядно пустовали места почти трети депутатского корпуса.) Частью коммунистов, без сомнения, двигала нелюбовь к Горбачёву. Один из них, перед тем как отдать свой голос, даже воскликнул: «Слава Богу, эпоха Горбачёва на этом закончилась»{191}. Кроме того, многие из них, подобно большинству избирателей, верили или надеялись, что, голосуя за новое Содружество, они голосуют за «обновление, возрождение Союза» — во всяком случае, так следовало из пояснений Ельцина на заседании, и некоторые обозреватели позже это подтвердили{192}.[73]
Но была и другая, более убедительная причина, заставившая депутатов-коммунистов, а возможно, и других сторонников Союза проголосовать за его отмену, — «боязнь репрессий». После августовского путча, за который КПСС подверглась грозным обвинениям и запрету, антикоммунизм стал политическим девизом нового ельцинского режима, провоцирующим новую «охоту на ведьм». Будучи «дезориентированы и подавлены», а также памятуя о репрессиях, совершённых их партией в прошлом, коммунисты опасались, что теперь пришёл их черед. И, подобно тому, как когда-то миллионы людей подчинились воле их предшественников, теперь они сами, под гнётом «страха, генетически захваченного из прежних эпох», склонились перед волей Ельцина{193}. Фактически беспрекословно, коммунистические депутаты проголосовали за ликвидацию государства, являвшегося воплощением их идей, истории и нынешних амбиций — и об этом им напомнят семь лет спустя, когда они, в составе уже другого парламента, попытаются объявить импичмент Ельцину за это «преступление».
Но даже эти факторы не объясняют в полной мере видимого безразличия, с которым другие, более влиятельные советские элиты, такие как верхушка бюрократической номенклатуры, восприняли ликвидацию Ельциным государства, породившего их и наградившего ни с чем не сравнимыми властью, статусом и привилегиями. Проще всего, пожалуй, объяснить молчание военной элиты — верхушки армии и КГБ. После неудачной попытки антигорбачёвского переворота, в которую они оказались втянуты тремя месяцами ранее, военные были деморализованы и опасались быть вовлечёнными в очередной конфликт между политическими лидерами. Кроме того, они давно разочаровались в Горбачёве и понимали, что теперь только Ельцин мог гарантировать им их зарплаты, чины и звания{194}.
Более сложным является вопрос о молчаливом согласии советской административно-хозяйственной элиты, которая, по мнению большинства обозревателей, «продолжала держать под неослабным контролем гигантскую государственную машину»{195}. И здесь мы вплотную подходим к последней версии конца Советского Союза, трактующей события следующим образом: на рубеже 1980-х и 1990-х гг. небольшой, но занимающий стратегически выгодную позицию сегмент номенклатуры был занят тем, что вовсю «приватизировал» огромные богатства СССР, «плохо лежавшие» в результате экономических реформ Горбачёва. Представители этого сегмента, по общим оценкам, «превращали власть в собственность», а значит, потенциально, в ещё большую власть. Следовательно, они были мало или вовсе не заинтересованы в защите государства, чьи активы они растаскивали.
В многочисленных российских и даже в значительно более редких западных исследованиях, представляющих эту версию распада СССР, можно встретить самые разные трактовки «номенклатурной приватизации». Одни видят в ней закономерный итог длительного исторического процесса борьбы советской номенклатуры за превращение в самостоятельный правящий класс, по праву владеющий гигантской госсобственностью, которой они всегда только управляли, но не могли ни извлекать из неё прибыль, ни передавать по наследству. Другие считают лихорадочную приватизацию спонтанной, незапланированной реакцией на утрату номенклатурой её доминирующих позиций в результате горбачёвских политических реформ и на изменение экономической ситуации в Восточной Европе — своего рода «выходным пособием», или, по-английски, «золотым парашютом» для прыжка в новую систему{196}. Для одних это был естественный (в советских условиях) путь возникновения российского капиталистического класса; для других — «преступное» разграбление страны{197}.
Но какими бы ни были корни и суть данного явления, оно имело исключительное значение. Когда в 1985 г. Горбачёв пришёл к власти, почти вся гигантская советская экономика была государственной, на 90 или более процентов контролируемой из центра, московскими министерствами и их общесоюзной номенклатурой. По мере того как, под воздействием прорыночных мер Горбачёва, происходила всё большая либерализация прав собственности, верхушка номенклатуры, особенно управленческая элита и все те, кто имел прямой доступ к государственным (и партийным) активам, стали искать пути — легальные, полулегальные или нелегальные — присвоения этой собственности, в той или иной форме{198}.
К 1991 г. процесс этот распространился вширь: за пределы Москвы, в провинцию и республики, — и вглубь: от отдельных конфискаций к приватизации нефтяных и прочих ископаемых ресурсов, крупных промышленных предприятий, банков, экспортно-импортных и торговых сетей, а также недвижимости. Характерно, что министры, как правило, приватизировали и коммерциализировали свои отрасли промышленности, руководители финансовых учреждений — свой капитал, директора заводов — свои предприятия, а партийные функционеры — огромные активы компартии{199}.[74] (Сегодня невозможно сказать, какое количество приватизационных сделок было совершено с участием «криминальных» элементов, вышедших из недр «теневой» экономики, или экономики «чёрного рынка».) И хотя официально приватизация была объявлена позже, при Ельцине, в постсоветские 1990-е гг., уже к концу 1991 г. «стихийные» захваты собственности, как их называли, поглотили значительные участки советской экономики стоимостью в миллиарды долларов и грозили вылиться в «подлинную вакханалию перераспределения»{200}.
Мощные политические амбиции были неотъемлемой частью номенклатурной «прихватизации», как не замедлили окрестить этот процесс, особенно среди руководства союзных республик. К концу 1980-х гг. республиканские лидеры, следуя примеру Горбачёва и памятуя о судьбе восточноевропейских товарищей, принялись перемещать центр тяжести своей власти со стремительно теряющей вес компартии в новые национальные парламенты и президентства. (Этническая природа советского федерализма и официальная политика поддержки национальных элит сделали такое, потенциально центробежное, смещение возможным){201}.
Советские элиты инстинктивно понимали — и отчасти, без сомнения, благодаря своему марксистскому образованию — что собственность есть лучший способ обеспечить власть без авторитета и ресурсов партийного аппарата. Но так как под непосредственным контролем республик находилось менее десяти процентов советской экономики, национальные лидеры начали требовать «суверенитета», то есть полного права распоряжаться теми активами Союза, которые располагались на их территории. К 1990 г. фактически все споры, возникавшие между союзным правительством Горбачёва и республиками, касались борьбы за «перераспределение собственности и власти»{202}, особенно когда речь заходила о новом союзном договоре.
Это новое явление было главной движущей силой многих националистических и сепаратистских движений, охвативших страну в 1990–91 гг. Эти движения часто называют «народными» и видят в них проявление «революции снизу», но на самом деле в большинстве из них бал правила элита, «номенклатурные националисты»{203}.[75] Ошибиться невозможно: это были те же самые бывшие партийные боссы, которые быстренько сменили имидж и поспешили объявить себя главными националистами в своих республиках: от Ельцина и Кравчука в России и Украине до коммунистических царьков центральноазиатских республик и Азербайджана, один из которых теперь утверждал, что, на самом деле, всегда был «тайным мусульманином» и «антикоммунистом»{204}.[76]
В этом новом обличье республиканские элиты играли очень важную роль в последние годы существования Советского Союза, причём гораздо более важную, чем роль «народа» (везде, за исключением, может быть, Прибалтики и части Кавказа), но её следует понимать правильно. Их настойчивое стремление обрести власть, опирающуюся на собственность, в конечном итоге, определило форму распада Союза, при которой все его пятнадцать республик стали независимыми государствами. Так что иногда, глядя на активную приватизацию ими государственных богатств, могло показаться, что распад Союза был актом «самороспуска», или «самоубийства»{205}.
Однако авторы, делающие упор на стихийной приватизации, ошибаются, полагая, что к распаду привели действия элит, а номенклатура была главным «катализатором»{206}. Главная роль в 1991 г., как уже говорилось, принадлежала Ельцину. Неубедительным является и связанное с предыдущим утверждение, что систему сгубил институт национальных республик, поскольку поведение институтов обычно определяется поведением руководящих ими элит{207}. А в истории и современном поведении большинства советских республиканских элит мало что предполагало возможность несогласия с Москвой вплоть до отделения. Они не возмущались, когда в 1980-е гг. продемократические реформы Горбачёва постепенно подрывали их власть, и молчали, когда в августе 1991 г. московские путчисты грозили вернуть республики под жёсткий контроль центра. (А некоторые из лидеров «суверенных» республик даже звонили путчистам в Кремль, чтобы обсудить своё место в «новом порядке»[77]). На путь независимости они ступили лишь после того, как Ельцин в Москве проложил им дорогу.
Иными словами, хотя жаждущая собственности номенклатура и выиграла больше всех от распада Союза{208}, она не была главным причинным фактором происшедшего, даже в центре своей бюрократической власти в России. Но она, без сомнения, была главным вспомогательным фактором, обеспечившим саму возможность подобного исхода. В этом смысле, можно сказать, что «никакая сила не развалила бы Советский Союз, если бы этого не захотела российская элита»{209}. Но, с точки зрения причинности, номенклатура была индифферентна. Целиком сконцентрировав внимание на огромных богатствах страны, она всего-навсего, как горестно заметил Горбачёв, «промолчала» в тот момент, когда подлинный «катализатор»{210} 7 Ельцин, ликвидировал СССР.
Нетрудно понять, почему советские элиты, занятые растаскиванием собственности, которая для них была «важнее идеологии», и отныне предпочитающие хоть какой-нибудь капитализм любому социализму, выбрали Ельцина, а не Горбачёва. Они прониклись антипатией к советскому лидеру ещё во время перестройки, когда «слово «номенклатура» стало бранным»{211}, но к 1991 г. у них появилась более веская причина: принципиально социалистический характер проводимых Горбачёвым преобразований. Вопреки всем новым политическим веяниям и охватившей страну жажде обогащения, Горбачёв оставался верен выбранной цели: социал-демократический Советский Союз со «смешанной» (государственной и частной) экономикой и «регулируемым» рынком, позволяющими сохранить социальные достижения старой системы.
Эта «социалистическая идея» стала причиной, подтолкнувшей оппозицию к мысли о необходимости быстрой и всеобщей приватизации, которая была сформулирована в плане «500 дней» и других «шокотерапевтических» предложениях. Горбачёв был готов «идти смелее» по пути «разгосударствления», но при условии, что «собственность, созданная целыми поколениями», не попадёт «в руки ворюг», и не окажется так, «что над нами будет кто-то стоять». Как часто подчёркивали в окружении Горбачёва, «перестройка не создавалась, чтобы конвертировать власть в собственность». Предупреждая об опасности советского «Клондайка», он хотел, чтобы приватизация была постепенной и частичной, осуществлялась в соответствии с «высшими юридическими и политическими стандартами» и «в интересах трудящихся»{212}.[78] Западные авторы обычно с насмешкой относятся к вере Горбачёва в «социализм с человеческим лицом», однако советские элиты знали, что его намерения серьёзны и, следовательно, он является главным препятствием на их пути к захвату собственности[79].
Ельцин был совсем другое дело. Как популярный политик он возник благодаря выступлениям против привилегий номенклатуры, однако уже летом 1990 г. и особенно год спустя, став президентом РСФСР, он начал вовсю апеллировать к недовольным советским элитам в своей кампании против Горбачёва{213}. «Радикальное реформаторство» Ельцина основная масса его электората восприняла как популизм, но для номенклатуры оно послужило одобрением и даже стимулом к беспорядочной и бесконтрольной приватизации, или, как выразился известный реформатор, «стремлению урвать» — взять хотя бы демонстративную поддержку Ельциным «рыночной» программы «500 дней» или его фантастический призыв к региональным элитам: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите»{214}.[80]
Всякая двусмысленность, если она ещё и оставалась, исчезла, когда осенью 1991 г. Ельцин принялся конфисковывать в пользу России находящиеся на её территории союзные экономические объекты — от природных ресурсов до банков. Номенклатура всего Советского Союза, как вспоминают наблюдатели, «следила за поведением Ельцина» и «лишь имитировала» его. (Некоторых, в том числе его соавтора по Беловежскому договору Кравчука, он просто подкупал с помощью собственности)[81]. К моменту беловежского вояжа Ельцина советские элиты, которым очень скоро предстояло стать постсоветскими, знали: вот лидер, который узаконит их приватизированные владения, который, как выразился один из его ближайших помощников, «будет играть первую скрипку в этом историческом дележе. Это — главное»{215}.
Глава IV. УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРБАЧЁВА
Говоря обычным для политики языком, Горбачёв потерпел поражение и поражение катастрофическое: «демократическая реформация», которую он пытался провести в Советском Союзе, закончилась распадом страны и государства[82]. Но это не все, что можно сказать о шести с половиной годах его лидерства, которые были отмечены двумя беспрецедентными достижениями Горбачёва. Он подвёл Россию (тогда еще советскую Россию) к реальной демократии ближе, чем когда-либо в ее многовековой истории. И совместно с партнёрами, которых он нашел в лице американских президентов Рональда Рейгана и первого Джорджа Буша, ближе, чем кто-либо до него, подошёл к окончанию многолетней холодной войны.
Бессмысленно, впрочем, полагать, что Горбачёв должен был непременно завершить свои начинания. Немногие реформаторы, даже «выдающиеся исторические деятели», способны увидеть свою миссию во всем объёме, от и до. Особенно это касается зачинателей больших перемен, характер и длительность которых порождают больше препятствий и проблем, чем их авторы (если только это не Сталин) могут или успевают преодолеть. «Новый курс» Франклина Рузвельта, эта перестройка американского капитализма, продолжался, с отступлениями, еще много лет после смерти автора. Большинство таких лидеров только открывают политические двери, оставляют после себя не существующие прежде альтернативные пути и надеются, как Горбачёв, который не раз заявлял, что то, что начато, будет «необратимо»{216}.
Исторические шансы модернизировать Россию постепенно и на основе всеобщего согласия и положить конец холодной войне составили наследие Горбачёва. То, что оно оказалось утрачено или разбазарено, было виной элит и лидеров, пришедших после него, как в Москве, так и в Вашингтоне. В результате, эти шансы вскоре получили неверное представление и были полузабыты. Несмотря на демократические прорывы, имевшие место при Горбачёве, роль «отца русской демократии» вскоре была отдана его преемнику Борису Ельцину. Ведущие американские журналисты, как и представители вашингтонского политического истеблишмента, теперь заявляют своим читателям, что это именно Ельцин начал «переход России от тоталитаризма», он «поставил Россию на путь демократии», и при нем случились «первые проблески демократической гражданственности»{217}.[83] «Демократия возникла в России после краха советского коммунизма в 1991 г.»{218}. В итоге, горбачёвская модель эволюционной демократизации была вычеркнута из истории и, следовательно, из политики.
Как можно объяснить подобную историческую амнезию? В постсоветской России главная причина заключалась в политической целесообразности. Опасаясь народного возмущения по поводу их роли в развале Советского Союза и не стихающей популярности Горбачёва за рубежом, Ельцин и его ближайшее окружение заявили, что именно новый российский президент, несомненно, был «отцом русской демократии», а Горбачёв всего лишь неуверенным реформатором, который надеялся «спасти коммунизм»{219}. Поначалу даже некоторые русские сторонники Ельцина понимали, что это не отвечает действительности и опасно для будущего страны. Один деятель, который, оценивая роль Горбачёва, назвал его «освободителем», написал: «Чудес не бывает: люди, не способные оценить великого человека, не могут успешно руководить государством»{220}.
На Западе и особенно в Соединенных Штатах пересмотр истории определялся идеологией. Исторические реформы Горбачёва, как и прежние надежды Вашингтона на то, что они состоятся, оказались моментально забыты после 1991 г., когда крах Советского Союза и мнимая победа Америки в холодной войне положили начало новой американской идеологии триумфализма. Вся история «побежденного» советского врага отныне преподносилась в американской прессе как «семь десятилетий жёсткого и безжалостного полицейского государства», как «рана, причинённая народу» и мучившая его «большую часть столетия», как опыт, оказавшийся «насквозь даже большим злом, чем мы предполагали». Брошенное Рейганом в адрес Советского Союза обвинение — «империя зла», — которое он, под воздействием горбачёвских реформ, сам с радостью забрал назад всего тремя годами раньше, вновь получило признание. А один влиятельный американский колумнист даже заявил, что «фашистская Россия» была бы «гораздо лучше»{221}.
Сходным образом реагировали и американские ученые, часть которых также подверглась влиянию «триумфалистской веры». За небольшим исключением, они предпочли вернуться к старым советологическим аксиомам, согласно которым советская система всегда была нереформируемой, а её судьба — предопределённой. Мнение о том, что в ее истории были многообещающие, по «неизбранные дороги», вновь было отвергнуто как «невероятная идея», основанная на «сомнительных допущениях». Предложенный Горбачёвым «эволюционный средний путь… был химерой», такой же, как в свое время НЭП, попыткой «реформировать нереформируемое», так что Советский Союз скончался из-за «недостатка альтернатив». В связи с этим, большинство учёных, даже в свете череды последовавших бедствий, уже не задавались вопросом: а, может быть, реформированный Советский Союз был бы лучшим будущим для посткоммунистической России или любой другой из бывших союзных республик?{222}. Напротив, они настаивали, что всё советское «должно быть отброшено» за ненужностью, а «всё здание политико-экономических отношений полностью разрушено» — убеждение, которое вылилось в американскую энтузиастическую поддержку тех крайних мер, которые проводил Ельцин в 1990-е годы{223}.
Пересмотр истории Советского Союза потребовал пересмотра взгляда и на его последнего лидера. Некогда признанного «радикалом № 1» Советского Союза, которому рукоплескали за его «смелость», Горбачёва теперь обвиняли в недостатке «решительности и продуктивности», как и в недостатке «радикализма»{224}. Лидер, который, будучи у власти, говорил о себе: «Всё стоящее в философии появилось сначала как ересь, а в политике как мнение меньшинства», — и которого за «ересь» в политике ненавидели собственные коммунистические фундаменталисты, был презрен как человек «без глубоких убеждений» и даже как «ортодоксальный коммунист»{225}. Вера Горбачёва в «социализм с человеческим лицом» порождала упорную идеологическую реакцию, которая также способствовала утверждению мысли о том, что рынок и демократию в Россию принёс Ельцин{226}.
Представление о том, что продемократические меры Горбачёва и другие его реформы были недостаточно радикальны, препятствует пониманию фатальной разницы между его подходом и подходом Ельцина. От Петра I и до Сталина главным методом властных преобразований в России была «революция сверху», которая навязывала болезненные изменения обществу путём государственного принуждения. Если вспомнить историю, то в России всегда было немало тех, кто, приветствуя реформы, отвергал подобные методы «модернизации через катастрофу» за их чрезвычайно высокую цепу, материальную и человеческую, и за то, что они закрепляли за русскими людьми статус подданных государства вместо того, чтобы освободить их и сделать демократическими гражданами. Ельцинские меры начала 1990-х годов, получившие название «шоковая терапия», несмотря на преследуемую им принципиально иную цель, продолжили эту порочную традицию{227}.
Горбачёв же категорически отвергал эту традицию. Он был с самого начала решительно настроен провести страну — впервые в её многовековой истории — через поворотный момент без кровопролития. Перестройка, заявлял он, это «исторический шанс модернизировать страну путём реформ, то есть мирными средствами», процесс «революционный по содержанию, но эволюционный по методам и форме перемен». Это означало, что, инициированное сверху, «дело перестройки» передавалось «в руки народа» путем «демократизации всех сфер жизни советского общества». Известно, какую цену Горбачёв заплатил за выбранную им «демократическую реформацию» (для человека у власти — уже своего рода ересь) как альтернативу русской истории насильственных трансформаций{228}.[84]
В условиях политических и социальных потрясений ельцинских постсоветских 1990-х годов, российские историки и другие интеллектуалы, в отличие от их американских коллег, начали переосмысливать последствия советского распада. Всё больше людей приходило к выводу, что определённая форма горбачёвской перестройки, или «некатастрофичной эволюции», пусть даже без него, была шансом демократизировать и маркетизировать страну менее травматичными и затратными, а значит, более эффективными, методами, чем те, что были выбраны при Ельцине. На эту тему российские историки (и политики) будут спорить еще долгие годы, но судьба демократизации страны показывает, почему некоторые из них уже сейчас убеждены, что подход Горбачёва был «упущенной альтернативой»{229}.[85]
Рассмотрим вкратце «траекторию», как говорят специалисты{230}, четырёх основных компонентов любой демократии, по которой они развивались в России до и после конца Советского Союза в декабре 1991 г.:
Без значительного числа независимых средств массовой информации другие элементы демократии, от честных выборов и механизмов ограничения власти до системы правосудия, не могут существовать. В 1985–86 гг. Горбачёв, в качестве первой важной реформы, ввёл «гласность», что означало постепенное уменьшение официальной цензуры. Результатом стало появление к 1990–91 гг. огромного количества независимых публикаций и, что было более важным для того времени, в значительной мере свободных от цензуры государственных телевидения, радио и газет. Последнее явилось заслугой руководящих усилий Горбачёва, продолжающегося государственного финансирования центральных СМИ и отсутствия других сил, которые могли бы использовать эти инструменты для формирования общественного мнения в своих целях.
Обратный процесс начался после победы Ельцина над ГКЧП в августе и отмены СССР в декабре 1991 г. В обоих случаях им были закрыты несколько оппозиционных газет и восстановлена цензура Кремля на телевидении. Это были временные меры; более продолжительный контроль над постсоветскими российскими СМИ был установлен после вооружённого уничтожения Ельциным российского парламента в 1993 г. и его «приватизационных» указов, сделавших узкую группу людей, известных как «олигархи», собственниками главных богатств страны, в том числе СМИ.
Президентские выборы 1996 г., которые Ельцин едва не проиграл кандидату от Коммунистической партии, ознаменовали конец подлинно свободных и независимых общенациональных СМИ в постсоветской России. Несмотря на то, что некоторый плюрализм и независимый журнализм в СМИ продолжали сохраняться, — что было, в основном, следствием междоусобных войн между их олигархическими владельцами и остаточным эффектом горбачёвской гласности — они неуклонно деградировали. Как позже подчёркивал редактор одного из ведущих перестроечных и постсоветских изданий, «в 1996 г. российская власть и … крупнейшие бизнес-группы … совместно использовали СМИ, в первую очередь, телевидение, для целенаправленного манипулирования поведением избирателей — и добились осязаемого успеха. С этих пор ни власть, ни олигархи уже не выпускали этого оружия из своих рук»{231}.
Другие российские журналисты, сравнивая свой опыт работы при Горбачёве и при Ельцине и Путине, отдавали предпочтение первому. Вот, однако, мнение осведомленного американца, главы международной мониторинговой организации, высказанное им в 2005 г.: «В годы гласности храбрая журналистика вышибала закрытые двери в историю, разжигала жаркие дебаты о многопартийной демократии и вдохновляла советских граждан на свободные речи… По в сегодняшней России храбрые журналисты в опасности… Репортажи на общественно значимые темы подвергаются всё более жёсткому контролю, и публика остается в неведении относительно коррупции, преступности и нарушений прав человека»{232}.[86]
По той же «траектории» развивались и российские выборы. Первые в советской истории общенациональные выборы на альтернативной основе на Съезд народных депутатов СССР состоялись в марте 1989 г. И, хотя половина депутатов были избраны от организаций, а не народным голосованием, это был исторический прорыв, ознаменовавший горбачёвскую кампанию демократизации. Вскоре последовали и другие. Выборы в соответствующий законодательный орган РСФСР в начале 1990 г. остаются до сих пор самыми свободными и честными парламентскими выборами, когда-либо проводимыми в России{233}. То же можно сказать и о новых для страны выборах президента Российской Федерации в 1991 г., на которых мятежный Ельцин с большим отрывом победил кремлёвского кандидата.
Больше в России до распада Советского Союза ни парламентских, ни президентских выборов не было, а те, что имели место после, хотя и сохраняли безопасную степень конкуренции, раз от раза были все менее свободными и честными. К 1996 г. было наработано достаточное количество «политических технологий» для «управляемой демократии», позже связанной с именем Владимира Путина: максимально широкое использование денежных средств, контроль над СМИ, урезание в правах независимых кандидатов и партий и фальсификация итогов голосования, — чтобы гарантировать сохранение эффективной власти независимо от того, кто конкретно правит Россией. Даже результаты референдума, призванного, как говорили, ратифицировать новую ельцинскую Конституцию в 1993 г., были — в отличие от горбачёвского референдума по Союзу 1991 г. — почти наверняка сфальсифицированы{234}.
Самое показательное, что выборы Ельцина президентом РСФСР в 1991 г. были первым и последним случаем, когда исполнительная власть свободно перешла от Кремля к оппозиционному кандидату. В 2000 г. Ельцин передал власть Путину уже посредством «управляемых» выборов, а Путин в 2008 г. аналогичным путём сделал своим преемником Медведева. Даже без симпатии относящийся к горбачевским реформам американский специалист пришел к выводу, что «при Горбачёве выборы были менее фиксированными и лживыми, чем большинство постсоветских парламентских и президентских кампаний в России». Российский комментатор выразился яснее: «Пик выборной демократии в нашей стране пришёлся на конец перестройки»{235}.
Но ни одно из демократических достижений эпохи Горбачёва не имело большего значения и не претерпело более фатальной деградации, чем всенародно избранные, с его подачи, в 1989–1990 гг. советские законодательные органы. Демократия может существовать без независимой исполнительной власти, но она невозможна без суверенного парламента или его эквивалента — единственно незаменимого института представительной власти. От царей до генсеков, русский авторитаризм отличался безусловным преобладанием исполнительной власти при отсутствии или незавидной участи представительного собрания, будь то царская Дума предреволюционного периода, Учредительное собрание 1917–1918 гг. или всенародно избранные Советы.
В этом контексте, Съезд народных депутатов СССР, состоявшийся в 1989 г., и его российский республиканский аналог 1990 г., каждый из которых избрал свой собственный Верховный Совет в качестве постоянно действующего парламента, были самым исторически значимым итогом продемократических мер Горбачёва. Первый действовал как всё более независимый конституционный конвент, принимая законы для дальнейшей демократизации Советского Союза путём разделения полномочий, ранее являвшихся монополией царей или комиссаров, а также создавая всевозможные комиссии по расследованию и выступая как источник оппозиции Горбачёву. Второй делал то же самое в Российской республике, причем самым важным законодательным нововведением его стало учреждение выборной президентской власти для Ельцина. Между тем, Горбачёв был настолько привержен реальной законодательной власти как неотъемлемому компоненту демократизации, что с неохотой согласился в 1990 г. принять исполнительный пост президента, опасаясь, что это может ограничить независимость Верховного Совета, а затем, со всей горечью, терпел растущие нападки депутатов в адрес своего руководства{236}.[87]
Двадцать лет спустя постсоветский российский парламент, переименованный в Думу, стал почти точной копией своих слабых и послушных предшественниц царского времени, а президентская власть обрела почти всевластные полномочия. Путь к этому фатальному изменению отмечен двумя поворотными событиями. Первое произошло в конце 1991 г., когда советскому парламенту выпало сыграть лишь незначительную роль в событиях, предшествовавших роспуску Советского Союза, и вовсе никакой — в самом роспуске. Второе случилось осенью 1993 г., когда Ельцин силой прекратил деятельность российского парламента 1990-го г. созыва и ввёл в действие суперпрезидентскую конституцию. С тех пор каждый следующий парламент (как и выборы в него) был всё менее независимым и влиятельным, превращаясь, в итоге, в глазах своих критиков, в «декоративный» орган или «имитацию» законодательной власти — как и постсоветская демократия вообще.
Наконец, жизнеспособная демократия нуждается в правящих элитах, доступ в которые открыт, по крайней мере, время от времени, для представителей других партий, негосударственных структур и гражданского общества. К моменту начала перестройки самоназначенная советская номенклатура сосредоточила в своих руках всю политическую власть и даже само участие в политике. Нарушение этой монополии путём обеспечения возможности появления новых политических фигур из разных социальных и профессиональных слоев — так, мэрами Москвы и Петербурга были избраны доктор экономических наук и профессор права — было ещё одним демократическим прорывом времени Горбачёва. В 1990 г. такие люди уже составляли значимое меньшинство в союзном и большинство — в российском парламенте.
После 1991 г. это достижение тоже было свернуто. Постсоветская правящая элита вскоре превратилась в узкую группу, состоящую, по большей части, из личного окружения лидера, финансовых олигархов и их представителей, государственных чиновников и силовиков (людей из структур вооружённых сил и госбезопасности). Рост числа последних на высших уровнях власти, к примеру, обычно связывают с приходом Путина, бывшего полковника КГБ, но этот процесс начался уже вскоре после советского распада. До 1992 г., т. е. при Горбачёве, силовики составляли 4% от правящей элиты; при Ельцине их численность увеличилась более чем в четыре раза — до 17%, а при Путине еще утроилась — почти до 50%{237}.
Ситуация с гражданским обществом развивалась соответственно. Что бы там ни говорили люди, называющие себя «промоутерами» гражданского общества, оно всегда существует, даже в авторитарных системах. Но в постсоветской России большинство его представителей к концу 1990-х гг. вновь впали в доперестроечную пассивность, предпочитая действовать спорадически или вовсе бездействовать. Такой поворот был вызван несколькими факторами, в том числе, усталостью, разочарованием, государственной реоккупацией политической сферы, а также нокаутирующим воздействием ельцинской «шоковой терапии» начала 1990-х., выбившей из рядов некогда широких и профессиональных советских средних классов, считавшихся предпосылкой стабильной демократии, каждого десятого. Александр Яковлев, партнёр Горбачёва по демократизации, произнес накануне двадцатой годовщины перестройки «кощунственную фразу: такого разрыва между правящей верхушкой и народом не было в истории России»{238}. Это было существенным преувеличением, но всё же выражало судьбу того, что они с Горбачёвым когда-то начали.
Короче говоря, эти четыре признака свидетельствуют, что российская демократизация после конца Советского Союза развивалась по нисходящей траектории. Другие политические процессы двигались в том же направлении. Конституционализм и главенство закона были руководящими принципами горбачевских реформ. Они не всегда доминировали, но являли резкий контраст с ельцинскими методами, которые уничтожили в 1993 г. весь сложившийся конституционный порядок, от парламента и только набиравшего форму Конституционного суда до возрождённых советов на местном уровне управления. Затем, до конца 1990-х гг., Ельцин правил в основном при помощи указов, издав 2300 только за один год. Взлёт и падение наблюдались в это время и в официальном отношении к правам человека, что всегда служит чувствительным индикатором степени развития демократии. По этому поводу в одном западном исследовании, опубликованном в 2004 г., говорилось: «Количество нарушений прав человека в России впечатляющим образом возросло с момента краха Советского Союза»{239}.[88]
Вывод кажется очевидным: Советская демократизация, какой бы диктаторской ни была предыдущая история системы, была для России упущенной демократической возможностью, непройденной эволюционной дорогой. В контексте американского триумфализма и его политической корректности, этот вывод звучит еретически, но не в постсоветской России. Даже прежние сторонники Ельцина и критики Горбачёва позже переосмыслили свои позиции, занимаемые ими в 1990–1991 тт. Оглядываясь назад, один из них признал: «Горбачёв … подарил нам политические свободы — бесплатно, без крови. Свободу печати, слова, митингов, собраний, многопартийной системы». Другой уточнил: «То, как мы воспользовались этими свободами — это уже наша, а не его проблема и ответственность». А третий, политически поддержавший Ельцина в решении об отмене Союза, задался вопросом: «Как пошло бы развитие страны?» — продолжи она существовать{240}.
Двадцать лет спустя после прекращения существования советского государства большинство западных наблюдателей сошлись во мнении, что в России идёт глубокий процесс «де-демократизации». Попытки объяснить, когда и почему он начался, вновь выявляют принципиальные различия между мышлением западных, особенно американских, специалистов и самих русских.
В отличие от американцев, большинство русских сожалели о конце Советского Союза, но не потому, что они скучали по «коммунизму», а потому что лишились привычного государства и стабильного образа жизни. Даже заключённый постсоветский олигарх, подобно многим соотечественникам, рассматривал это событие как «трагедию» — взгляд, породивший афоризм: «Тот, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца»{241}.[89] Уже хотя бы по этой причине российские интеллектуалы и политические деятели были в меньшей степени, чем американцы, связаны идеологией и политикой, когда объясняли причины де-демократизации. Росло число тех, кто, наряду со сторонниками Горбачёва, был уверен в том, что конец перестройки, отменённой вместе с Советским Союзом, был «упущенным шансом» и «трагической ошибкой»{242}.[90]
Большинство американских комментаторов настаивали и настаивают на ином объяснении. Вычеркнув реформы Горбачёва из «злодейской» истории Советского Союза и приписав заслугу демократизации Ельцину, они обвинили Путина в том, что он «повёл Россию в противоположном направлении». Непосредственными инициаторами этого объяснения выступили комментаторы из политических, академических и журналистских кругов, которые ранее громко рукоплескали «демократии ельцинской эпохи», но оно стало расхожей истиной: «Демократизирующаяся Россия, которую унаследовал Путин», пала жертвой его «антидемократической повестки дня» и «проекта [построения] диктатуры»{243}. Только считанные американские специалисты не разделили этот взгляд, возложив вину за начало «отката демократических реформ» не на Путина, а на его предшественника Ельцина{244}.
Ещё меньше в Америке — видимо, из-за боязни усомниться в «одном из великих моментов в истории»{245},[91] — тех, кто спрашивает, а не начался ли «откат» ещё раньше, собственно с распадом советского государства. То, что журналисты и политические деятели не рассматривают такую возможность, ещё можно понять. Но даже солидные учёные, которые впоследствии сожалели о своем «оптимизме» в отношении ельцинского руководства, не берутся пересмотреть свою позицию по поводу конца Советского Союза{246}. А им следовало бы это сделать, поскольку то, как произошел его распад — в обстоятельствах, которые стандартные западные оценки в основном замалчивают или мифологизируют — явно не предвещало ничего хорошего для российского будущего. (Один из мифов — миф о «мирном» и «бескровном» роспуске Союза{247}. На самом деле, в разразившихся вскоре этнических конфликтах в Средней Азии и на Кавказе были убиты или насильственно лишены родины сотни тысяч граждан, и постсоветские последствия того ядерного взрыва до сих пор дают себя знать, что показала война 2008 г. в Грузии).
В самом общем смысле, существовали грозные параллели между распадом Советского Союза и крахом царизма в 1917 г. В обоих случаях способ, которым было покончено со старым порядком, вызвал почти тотальное разрушение русской государственности, что надолго ввергло страну в хаос, конфликт и бедствие. (Термин «Смута», которым русские называют то, что последовало, наполнен страхом перед будущим, страхом, вытекающим из прежнего исторического опыта и не передаваемым традиционным английским переводом — «Time of Troubles». В этом смысле, конец Советского Союза был связан не столько со спецификой советской системы, сколько с повторяющимися сломами государства в российской истории.)
Последствия 1991 г. и 1917 г., несмотря на важные различия, были схожи. Вновь надежды на эволюционный прогресс в направлении демократии, процветания и социальной справедливости были разбиты; небольшая группа радикалов навязала нации экстремальные меры; активная борьба за собственность и территорию, раздробив, подорвала основы многонационального государства, на этот раз ядерного, а победители разрушили устоявшиеся экономические и другие важные структуры, чтобы создать абсолютно новые, «как будто не имея прошлого»{248}. Вновь элиты действовали во имя идей и лучшего будущего, но оставили общество резко расколотым по отношению к очередному «проклятому вопросу»: почему это произошло?[92]. И вновь обычные люди расплачивались за все, в том числе катастрофическим падением уровня и продолжительности жизни.
Все перечисленные процессы разворачивались, на фоне взаимных (и долго не стихавших) обвинений в предательстве, в течение трех месяцев, с августа по декабрь 1991 г., когда был произведён «демонтаж союзной государственности». (Горбачёв ощущал себя преданным участниками августовского путча и Ельциным, Ельцин — его партнером по беловежскому соглашению Кравчуком, а миллионы россиян — беловежским роспуском Советского Союза, который побудил одного иностранного корреспондента назвать постсоветскую Россию «страной нарушенного слова»){249}. Этот период начался и кончился переворотами в Москве и Беловежье, а его кульминацией стала «революция сверху», направленная против реформирующейся советской системы и совершённая её собственными элитами — аналогичная той (опять же, при всех значимых расхождениях), что совершил в 1929 г. Сталин, отменив НЭП. Впоследствии, оглядываясь назад, россияне различных политических взглядов пришли к выводу, что именно в эти три месяца политический экстремизм и безудержная жадность лишили их шанса на демократический и экономический прогресс{250}. Некоторые думали, что это случилось десятилетием позже, при Путине.
Безусловно, трудно себе представить политический акт, более экстремальный, чем ликвидация государства с 280-миллионным населением и бессчетными запасами ядерных и прочих средств массового уничтожения. И всё-таки Ельцин сделал это, как признали даже его сторонники, сделал безоглядно, способом, который не был «ни легитимным, ни демократическим»{251}. Принципиально отличный от горбачевской приверженности постепенности, социальному консенсусу и конституционализму, это был возврат к «необольшевистской» и более ранним российским традициям насильственных изменений, как считают многие русские и даже некоторые западные авторы{252}.[93] Последствия его неизбежным образом поставили под угрозу демократические достижения предшествующих шести лет перестройки.
Ельцин и его ставленники, к примеру, обещали, что принимаемые ими крайние меры будут «чрезвычайными», т. е. временными, но, как это уже не раз бывало в России (предыдущий — при Сталине в 1929–1933 гг.), они разрослись в систему правления{253}. (Следующей, уже запланированной, мерой была «шоковая терапия».) Эти начальные шаги были продиктованы следующей политической логикой. Покончив с Советским государством недостаточно легитимным, с точки зрения закона и народной поддержки, способом, правящая группа Ельцина вскоре стала опасаться реальной демократии. В частности, свободно избранный, независимый парламент и возможность в любой момент лишиться власти порождали страх «пойти под суд и в тюрьму»{254}.[94]
Экономические последствия Беловежского соглашения были не менее угрожающими. Ликвидация Союза, без какой бы то ни было предварительной подготовки, разрушила высокоинтегрированную экономику страны. Помимо того, что это способствовало уничтожению огромного государства, это стало основной причиной краха производства на всех бывших советских территориях, сократившегося в 1990-е гг. почти наполовину. Падение производства, в свою очередь, вело к массовой бедности и сопутствующим ей социальным патологиям, от сокращения продолжительности жизни до масштабной коррупции, которые оставались «главным фактом» российской жизни даже в начале двадцать первого века{255}.[95]
Экономическая мотивация, стоявшая за поддержкой Ельцина элитами в 1991 г…. была еще более злокачественного свойства. Как написал тринадцать лет спустя один бывший сторонник Ельцина, «почти всё происходившее в России после 1991 г. в значительной мере определялось дележом собственности бывшего СССР»{256}. И здесь тоже были свои зловещие исторические прецеденты. В России двадцатого века уже дважды имели место конфискации собственности в масштабах страны: в 1917–1918 гг., когда в ходе революции были экспроприированы помещичьи владения и промышленные предприятия и другая крупная собственности капиталистов, и в 1929–1933 гг., когда 25 миллионов крестьян лишились земли в ходе сталинской коллективизации. Негативные последствия обоих эпизодов ещё долгие годы терзали страну{257}.
Значительная доля огромных богатств страны, которые в течение десятилетий считались — законодательно и идеологически — «собственностью всего народа», перекочевала в руки советских элит, проявивших при этом не больше уважения к законности процедуры или к общественному мнению, чем большевики в 1917–1918 гг. На самом деле, по мнению одного русского интеллектуала-антикоммуниста, «большевистская экспроприация частной собственности выглядит просто верхом благочестия на фоне безумной несправедливости нашей абсурдной приватизации»{258}. Чтобы закрепить своё господствующее положение и лично обогатиться, советские элиты нуждались в том, чтобы самые ценные куски государственной собственности распределялись сверху, без участия законодательных структур и иных представителей общества. Этой цели они достигли сперва сами, с помощью «стихийной приватизации» накануне роспуска Союза, а затем, после 1991 г., с помощью указов, изданных Ельциным. В итоге, приватизацию с самого начала преследовал призрак «двойной нелегитимности» — в глазах закона … и в глазах населения»{259}.
Политические и экономические последствия было нетрудно предвидеть. Опасаясь за свои сомнительным образом приобретённые богатства, а порой и за свою жизнь и жизнь своих близких (многие отослали свои семьи жить за границу), собственники, составившие ядро первой постсоветской правящей элиты, были не меньше Ельцина заинтересованы в ограничении или свёртывании парламентской демократии и свободы СМИ, введенных Горбачёвым. Взамен они стремились создать своего рода преторианскую политическую систему, призванную защищать их богатство и им же развращаемую.
Роль, которую в постсоветской «де-демократизации» сыграл «дележ собственности бывшего СССР» (процесс, всё ещё шедший и во время финансового кризиса 2008–2009 гг.), редко отмечается в западных оценках. Полное освещение этой проблемы лежит за рамками данной работы, но некоторые его вехи отметить стоит. «Приватизация» государственных активов стоимостью миллиарды долларов была центральным пунктом конфликта между Ельциным и парламентом в 1993 г. и танкового расстрела последнего в октябре. Она же была побудительным мотивом принятия в декабре 1993 г. суперпрезидентской конституции, а также создания коалиции Кремля с новыми олигархами с целью сохранить Ельцина у власти путём манипуляции президентскими выборами 1996 г.
Угроза благосостоянию и безопасности кремлёвско-олигархической «Семьи» способствовала затем «демократическому переходу» власти от Ельцина Путину в 1999–2000 гг. В условиях всё громче звучавших в стране и в Думе требований социальной справедливости, ответствеиности за преступления и импичмента, а также ухудшения политического и физического здоровья Ельцина, олигархи отчаянно нуждались в новом защитнике в Кремле. (По результатам опроса, проведённого в конце 1999 г., 90% россиян не доверяли Ельцину, а 53% хотели, чтобы он был привлечён к суду.) План заключался в том, чтобы назначить его преемника премьер-министром, чтобы он, согласно Конституции, занял кресло Ельцина после его отставки до новых «выборов».
В качестве кандидатов на этот пост рассматривались несколько фигур, пока выбор не пал на 47-летнего Владимира Путина, карьерного офицера КГБ и главу наследовавшего ему ведомства, ФСБ. Хотя позже он повёл себя на посту лидера не так, как рассчитывали олигархи, причина, по которой выбрали Путина, была очевидна: как глава ФСБ, он уже продемонстрировал, что «готов помочь» прежнему патрону избежать уголовного обвинения. И, действительно, первое, что он сделал, став президентом, гарантировал Ельцину, как было оговорено заранее, пожизненный иммунитет от судебного преследования. Впервые за столетия полицейских репрессий в России, таким образом, карьерный офицер тайной полиции стал её верховным лидером{260}. (Юрий Андропов перед тем, как стать генеральным секретарем ЦК КПСС в 1982 г., возглавлял КГБ, но это не была его первая или основная профессия.)
Экономические последствия «дележа» были не менее глубокими. Не зная точно, как долго они смогут на деле владеть своей огромной собственностью, новые олигархи изначально были больше заинтересованы в том, чтобы обдирать активы, как липку, нежели инвестировать в них. Отток капитала вскоре намного превысил вложения в экономику, которые упали на 80% в 1990-е гг. Это стало главной причиной депрессии, хуже той, что была на Западе в 1930-е гг.: ВВП сократился наполовину, а реальные зарплаты (там, где их ещё платили) даже больше, при этом примерно 75% граждан страны оказались за чертой бедности. В результате, постсоветская Россия лишилась многих из своих, с трудом завоёванных, достижений двадцатого века, став первой нацией в истории, подвергшейся настоящей демодернизации в мирное время{261}.
Неудивительно, что по мере того как новая элита и её бюрократическая верхушка всё больше воспринимались как алчная «оффшорная аристократия», ненависть народа к ним росла и становилась более интенсивной. По данным опроса 2005 г., россияне оценивали их ниже, чем их советских предшественников, по таким показателям, как забота о благе народа, патриотизм и моральные качества. Тот факт, что все эти процессы разворачивались под знаменем «демократических реформ», ещё больше дискредитировал демократию (именуемую теперь не иначе как «дерьмократия») в народном мнении{262}.[96] Двадцать лет спустя после начала «дележа собственности бывшего СССР», его политические и экономические последствия, наряду с убеждением, что «собственность без власти ничего не стоит»{263}, остаются главной причиной де-демократизации России и, одновременно, главным препятствием для её обратного движения.
Учитывая все эти зловещие обстоятельства, почему же так много западных комментаторов, от политиков и журналистов до учёных, приветствовали распад Советского Союза как «прорыв» к демократии и свободно-рыночному капитализму, упорствуя в этих своих заблуждениях?{264}. Там, где дело касалось России, их реакция, опять же, была основана на антикоммунистической идеологии, обнадеживающих мифах и амнезии, а не на исторических или современных реалиях. Намекая на близорукость тех людей, которые давно мечтали уничтожить советское государство и затем «ликовали» на обломках, один московский философ с горечью заметил: «Они целили в коммунизм, а попали в Россию»{265}.
Одним из наиболее идеологизированных мифов, связанных с концом Советского Союза, является миф о том, что он «был обрушен руками собственного народа» и привёл к власти в России «Ельцина и демократов» — даже «моральных лидеров» — представляющих «народ»{266}.[97] На самом деле, как я отмечал ранее, не было ни народной революции, ни общенациональных выборов, ни референдума, узаконивших или санкционировавших распад, и, следовательно, это предположение не подтверждается никакими эмпирическими данными. Напротив, всё свидетельствует в пользу совсем другой интерпретации.
Даже самые выдающиеся лидеры нуждаются в сторонниках для осуществления своих исторических деяний. Ельцин отменил Советский Союз в декабре 1991 г., опираясь на альянс сил, движимых эгоистическими интересами. Все входившие в него группы называли себя «демократами» или «реформаторами», но при этом две самые важные были явно плохими союзниками. Первая — это номенклатурные элиты, которые, как метафорически заметил ельцинский главный министр, шли «на запах собственности, как хищник идет за добычей», и жаждали собственности больше, чем любой демократии или рыночной конкуренции (многие из них выступили против горбачёвских реформ), а вторая — это нетерпеливое, откровенно продемократическое крыло интеллигенции{267}. Традиционные враги в дореформенной советской системе, они стали сообщниками в 1991 г., в основном, потому что радикальные экономические идеи интеллигенции казались оправданием для номенклатурной приватизации.
Однако самые влиятельные ельцинские сторонники из числа интеллектуалов, которые затем играли ведущие роли в его постсоветском руководстве, не были ни случайными попутчиками, ни настоящими демократами. Это, прежде всего, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс и их «команда» шоковых терапевтов. С конца 1980-х гг. Чубайс и другие настаивали, что рыночная экономика и крупная частная собственность должны быть навязаны неподатливому российскому обществу «железной рукой» режима. Этот превозносимый ими «большой скачок» потребует «жёстких и непопулярных» политических решений, что повлечёт за собой «массовое недовольство» и, в результате, сделает необходимым применение «антидемократических мер»{268}.[98] Подобно жаждущим собственности элитам, главное препятствие эти «либеральные почитатели Пиночета» видели в новых законодательных органах, избранных при Горбачёве и всё ещё называемых советами. О своём лидере Ельцине они говорили: «Пусть будет диктатором»{269}.
Что могло быть хуже для нарождающейся российской демократии в 1992 г., чем вера Кремля в необходимость лидера типа Пиночета для осуществления рыночных реформ (роль, от которой в своё время отказался Горбачёв) и команда интеллектуалов-«реформаторов», укрепляющая его в этой вере? Отсюда оставался только шаг до возврата к российским авторитарным традициям, а за ним — свержение избранного парламента, декретная приватизация, назначение Кремлём финансовых олигархов и коррупция в сфере выборов и СМИ. Российский профессор права позже так оценивала случившееся: «В итоге, так называемое демократическое движение перестало существовать уже к концу 91-го года… Одни занялись дележом собственности и первоначальным накоплением капитала, другие подрядились к новым собственникам для политического обслуживания их интересов»{270}.
Разумеется, Чубайс и его «демократические реформаторы» участвовали в этом на всех стадиях, планируя и оправдывая отказ от демократизации, включая переход власти к Путину, и одновременно продолжая скучать по российскому Пиночету{271}. Служа министрами в ельцинском правительстве, они были теперь больше (или меньше) чем интеллектуалы, особенно это касалось самого Чубайса, а также Гайдара, Альфреда Коха, Бориса Немцова и десятка других. (Следует подчеркнуть, что их деятельность в этом качестве нашла активную поддержку американских политиков, влиятельных представителей СМИ и академических специалистов){272}.
Лежавший в основе взглядов ельцинских сторонников-интеллектуалов «синдром Пиночета» был проявлением их глубокого антидемократического презрения к русскому народу. Когда результаты выборов оказались не в пользу «либералов», они усомнились в «психическом здоровье» избирателей, воскликнув: «Россия, ты сошла с ума!» и сделав вывод: «главная беда нашей демократии — народ». А когда их политика привела к экономической катастрофе, они кивали на подпорченный «национальный генофонд» и вновь обвиняли «народ», который-де заслуживает своей жалкой участи{273}. Однако, когда не стало Советского Союза, судьба страны оказалась не в руках её народа, который с радостью воспринял демократические реформы Горбачёва, а в руках тех элит, которые теперь пребывали у власти.
Политические и экономические альтернативы продолжали существовать в России и после 1991 г. Впереди были другие судьбоносные битвы и решения. И среди факторов, приведших к концу Советского Союза, не было ничего необратимого или детерминистского. Но даже если подлинные демократические и рыночные чаяния там присутствовали, то были там и властные амбиции, и политические заговоры, и алчность элит, и экстремистские идеи, и распространённое чувство несправедливости происходящего, и гнев по поводу «величайшего предательства двадцатого столетия»{274}. Все эти факторы продолжали играть свою роль после 1991 г., но уже должно было стать ясно, какие из них возьмут верх — как ясной должна была стать и судьба демократической альтернативы, завещанной России Горбачёвым.
В 2001 г., по случаю 70-летия Горбачёва, представительница советской интеллигенции, предавшая его в 1990–1991 тт., по-новому взглянула на его руководство. Признав, что демократизация России была его достижением, она добавила: «Горбачёв закончил “холодную войну”, и именно этот факт делает его одним из героев уходящего столетия»{275}. Хотя сам Горбачёв всегда отводил «ключевую роль» своим «партнёрам», Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему, мало кто из беспристрастных историков этого процесса или его участников станет отрицать, что он был главным героем{276}.
Однако и это его наследие может быть утрачено. В августе 2008 г., спустя почти ровно двадцать лет после исторической речи Горбачёва в ООН, дезавуировавшей идеологическую предпосылку участия СССР в «холодной войне», Вашингтон и Москва оказались — опосредованно — в состоянии «горячей войны» в бывшей советской республике Грузии. Суррогатные советско-американские военные конфликты в странах «третьего мира» и в других были характерной чертой «холодной войны», но на этот раз конфронтация была наполовину непосредственной. Если Вашингтон представляли вооруженные силы Грузии, щедро финансируемые им в течение ряда лет, то Москва воевала (и победила) в этой войне собственными силами. Что бы ни говорили в Америке, многие русские, грузины и южные осетины, на территории которых началась война, «воспринимали конфликт как опосредованное столкновение двух мировых держав — России и Соединённых Штатов»{277}.[99]
Война застигла большинство западных правительств и обозревателей врасплох, прежде всего, потому что они так и не сумели понять, что новая (или обновлённая) «холодная война» уже давно шла, начавшись задолго до кавказского конфликта России и США{278}. В частности, американские официальные лица и специалисты, практически без исключения, неоднократно отвергали саму возможность новой «холодной войны». Некоторые делали это особенно упорно (в ответ на предупреждения немногочисленных критиков, меня в том числе, о нарастающей угрозе), по-видимому, потому что сами имели отношение к политике, способствовавшей нарастанию этой угрозы. Госсекретарь Кондолиза Райс например, официально объявила, что все «разговоры о новой “холодной войне” являются гиперболической чушью». А колумнист из «Вашингтон пост» подверг критике само «понятие» как «наиболее опасное заблуждение из всех»{279}.
Если отбросить личные мотивы, большинство комментаторов откровенно не понимали природы «холодной войны», полагая, что та, которая последовала за Второй мировой, была единственно возможной моделью. По сути, «холодная война» это такая форма взаимоотношений между государствами, при которой в большинстве сфер преобладают всё углубляющиеся конфликты и конфронтация, обычно (хотя не всегда) без вооружённого столкновения. Если взять два крайних примера, то пятнадцатилетнее непризнание Соединенными Штатами Советской России (до 1933 г.) было разновидностью «холодной войны», но без гонки вооружений и прочих прямых угроз в адрес друг друга. С другой стороны, советско-китайская «холодная война», длившаяся с 1960-х по 1980-е гг., сопровождалась отдельными вооруженными пограничными конфликтами. Отношения «холодной войны» могут различаться по форме, причинам и содержанию, при этом последние американо-советские являлись чрезвычайно опасными, так как включали гонку ядерных вооружений.
В основе предположения о том, что американо-российская «холодная война» была невозможна после конца Советского Союза, лежали и другие заблуждения. В отличие от прежних времен, расхожим стало убеждение, что постсоветские конфликты между Вашингтоном и Москвой не были продуктом различных экономических и политических систем, не были идеологическими и глобальными, и вообще постсоветская Россия была слишком слаба для ещё одной «холодной войны»{280}. (В качестве дополнительного доказательства часто приводят «дружбу» между президентами Бушем-младшим и Путиным, забывая, что тридцать лет назад Ричард Никсон и Леонид Брежнев клялись в такой же личной дружбе.)
Все эти утверждения, которые до сих пор широко в ходу в США, базируются на неверной информации. Российский «капитализм» принципиально отличается от американского экономически и политически. Что касается идеологии, то, оставляя в стороне явную переоценку её роли в предыдущей «холодной войне», идеологический конфликт, или «расхождение в ценностях», между американским «продвижением демократии» и российской «суверенной демократией» — «автократическим национализмом», даже «фашизмом», как новые американские воины «холодной войны» клеймят её — росло в течение ряда лет, так же, как численность и известность идеологов с обеих сторон. И это расхождение, как нам говорят, «сегодня больше, чем когда-либо со времени краха коммунизма». Так что, как уверяет нас один американец, «идеология опять имеет значение»{281}.[100] Кроме того, после Второй мировой «холодная война» начиналась не в глобальном масштабе, а в пределах Восточной Европы — так же, как и нынешняя, которая теперь быстро распространяется. А что касается российской неспособности вести войну, то это убеждение было в считанные дни опрокинуто войной в Грузии{282}.
То, что люди, отрицающие новую «холодную войну», стойко заблуждаются, иллюстрируют их собственные оценки американо-российских отношений как «худших за последние 30 лет», и это итог их развития в течение первого десятилетия двадцать первого века. Несмотря на эвфемизмы, в которых это выражается, ухудшение отношений вряд ли можно принять за что-то другое, кроме новой «холодной войны». Вот, например, отрывки из первополосного «анализа новостей», опубликованного в «Нью-Йорк таймс» через неделю после начала войны в Грузии под заголовком «Не холодная война, а большое охлаждение»:
«Холодная война закончилась», объявил в пятницу президент Буш, но началась, тем не менее, новая эпоха вражды между Соединёнными Штатами и Россией… Постольку, поскольку г-н Буш заявил, что старые определения холодной войны больше не подходят, он провёл новую линию … между странами свободными и несвободными, и тут же поместил Россию по другую сторону от неё… Напряжённость уже налицо, и обе стороны сделали достаточно, чтобы разжечь пламя… Совет Безопасности ООН вновь оказался в патовой ситуации, свойственной холодной войне… Российская наступательная операция — первая после краха Советского Союза в 1991 г. совершённая за пределами её территории — зафиксировала некое перестроение, уже имеющее место в Центральной и Восточной Европе… Администрация перестала возражать против посылки ракет «Патриот», которые могли бы защитить польское место базирования [для американской ракетной обороны]… Высокопоставленный русский генерал подтвердил худшие опасения Польши, заявив в пятницу, что эта страна только что сделала себя мишенью для российского ядерного арсенала… Может показаться несовременным говорить о блоках в Европе, но они возникают сегодня столь же очевидно (пусть и менее идеологически), как те, что существовали по обе стороны от «железного занавеса»… На самом деле, отчуждение между Соединёнными Штатами и Россией редко когда (если вообще когда-то) было более глубоким{283}.
А если так, то что же случилось с «концом “холодной войны”»? Ключевой вопрос в данном случае: как и когда закончилась «холодная война»?
Когда Горбачёв пришёл к власти в 1985 г., он уже был решительно настроен добиваться не просто очередного ослабления западно-восточной напряженности, по отмены сорокалетней «холодной войны»[101]. На это у него были три причины. Он был уверен, что её наиболее опасный элемент, советско-американская ядерная гонка, представляет угрозу существованию человечества. Он хотел, чтобы Советский Союз стал неотъемлемой частью Запада, «общеевропейского дома», в который он включал и США. Кроме того, без существенного сокращения международной напряженности и экономических затрат на «холодную войну» Горбачёв едва ли мог мобилизовать в стране политическую поддержку и ресурсы, необходимые для перестроечных преобразований.
Антивоенная миссия Горбачёва была продиктована тем, что он и его помощники называли «новым мышлением». Также заклейменное коммунистическими фундаменталистами как ересь, оно совершило «концептуальную революцию» в советской внешней политике{284}. Заложенные в нём идеи, вкупе с замечательными лидерскими свойствами Горбачёва и значимым участием президента США, который тоже опасался потенциальных последствий ядерной гонки, Рональда Рейгана, быстро преобразили отношения между Востоком и Западом.
Уже в 1986 г., едва ли год спустя после прихода Горбачёва к власти, оба лидера принципиально согласились, что всё ядерное оружие должно быть запрещено — цель, которой невозможно достичь, но жизненно важно стремиться. В 1987 г. они подписали договор об уничтожении — впервые — целой категории такого оружия, чем, по сути, дали обратный ход гонке вооружений. В 1988 г., поддержав Горбачёва ещё в ряде инициатив, касающихся разоружения, Рейган официально снял с СССР клеймо «империя зла», заявив: «То было другое время, другая эпоха». И, оставляя в январе 1989 г. президентский пост, объяснил, почему теперь наступила новая эпоха: «холодная война кончилась»{285}.
Но требовалось ещё подтверждение со стороны Горбачёва и преемника Рейгана, Джорджа Буша-старшего. Что они убедительно и сделали в ноябре и декабре 1989 г.: сначала Горбачёв, когда отказался применить военную силу (как делали его предшественники в подобных ситуациях) в ответ на падение Берлинской стены и распад советской империи в Восточной Европе, а затем они оба, договорившись во время встречи на Мальте считать этот саммит началом отсчёта «качественно новой эпохи в советско-американских отношениях»{286}. Вскоре последовали и другие формальные договоры, но окончательным подтверждением наступления новой, пусть и краткосрочной, эпохи стали два примера беспрецедентного советско-американского сотрудничества, продемонстрированные миру в 1990 г.: соглашение по поводу воссоединения Германии и поддержка Москвой американской войны против Саддама Хусейна, вторгшегося в Кувейт.
В этой истории принципиально важными являются три момента. Первое, даже допуская, что Рейган и Буш играли «ключевые» роли, «холодная война» никогда бы не кончилась и, может, даже углубилась, если бы не инициативы Горбачёва. Второе, объективные историки и участники событий расходятся во мнении, когда именно закончилась «холодная война», но согласны в том, что это случилось где-то между 1988 и 1990 гг., т. е. за полтора-три года до роспуска Советского Союза в декабре 1991 г.{287}. И третье, прекращение «холодной войны» было совершено таким образом, чтобы, как сначала заверял Буш, «не было побеждённых, только победители», или, как позже написала госсекретарь Райе, «без победителей и побеждённых»{288}.[102]
С американской стороны, однако, эти исторические реалии были вскоре переписаны. Сразу после декабря 1991 г. конец «холодной войны» был привязан, сущностно и причинно, к концу Советского Союза, и роли обоих событий были переписаны в угоду новому американскому триумфалистскому сценарию. Первый вариант написал сам Буш, заявивший в январе 1992 г.: «Америка выиграла холодную войну… Холодная война не закончилась — она была выиграна». Это повторенное им заявление было отмечено и опровергнуто сторонниками Горбачёва во время его кампании по переизбранию в том же году[103].
Джордж Ф. Кеннан, которого считают каноническим авторитетом в области американо-советских отношений (но обычно не прислушиваются к нему), позже отмёл утверждение о победе США как «принципиально глупое» и «просто ребяческое»{289}, но практически все американские политики и главные СМИ пошли тогда за Бушем и продолжают идти этим путём и по сей день. Как и ведущие ученые, которые должны бы были знать лучше, как обстояло дело. (Двое из них даже заявили, что Борис Ельцин, который стал президентом РСФСР только в июне 1991 г., т. е. много позже поворотных событий 1988–1990 гг., был «катализатором окончания холодной войны»){290}.
Результатом стала «новая история», написанная, как сказал один критик, «как видится из Америки, как чувствуется из Америки, рассказанная так, чтобы это устраивало большинство американцев» — или «сказка со счастливым концом», как написал другой{291}. Когда историки будущего будут искать ответ на вопрос, когда началась новая «холодная война», они, возможно, обнаружат, что она началась в тот момент, когда американцы переписали конец предыдущей, вычеркнув оттуда наследие Горбачёва.
ПРИМЕЧАНИЯ
Список сокращённых названий периодических изданий, упоминаемых в Примечаниях
АиФ — Аргументы и факты
ВА — Вестник аналитики
ВН — Время новостей
КП — Комсомольская правда
ЛГ — Литературная газета
МН — Московские новости
НВ — Новое время
НГ — Независимая газета
НИ — Новые известия
Новая — Новая газета
ОГ — Общая газета
ОНС — Общественные науки и современность
РГ — Рабочая газета
РТ — Рабочая трибуна
СМ — Свободная мысль
СР — Советская Россия
APSR — American Political Science Review
EAS — Europe-Asia Studies
FA — Foreign Affairs
FBTS — Foreign Broadcast Information Service Daily Report: Soviet Union
FT — Financial Times
THT — International Herald Tribune
JMH — Journal of Modern Histoiy
TRL — Johnson's Russia List
MT — Moscow Times
NR — New Republic
NT — New Times
NY — New Yorker
NYRB — New York Review of Books
NYT — New York Times
PC — Problems of Communism
PPC — Problems of Post-Communism
PSA — Post-Soviet Affairs
Report — Radio Liberty Report on the USSR
RR — Russian Review
SR — Slavic Review
TLS — Times Literary Supplement
WP — Washington Post
WS — Weekly Standard
WSJ — Wall Street Journal
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ СТИВЕНА КОЭНА
Книги
The great purge trial. — New York: Grosset & Dunlap and Universal Library Paperbacks, 1965. — Соред.
Bukharin and the bolshevik revolution: A political biography, 1888–1938. — New York: Knopf, 1973. To же. — London: Wildwood House, 1974; New York: Vintage Book, 1976; Oxford University Press, 1980; в русском переводе — Royal Oak, Mich.: Strathcona, 1980; Бухарин: Политическая биография, 1888–1938 / Пер. с англ. Е. Четвергова [Е.А. Енедина], Ю. Четвергова [Ю.Н. Ларина], В. Козловского; Предисл. С. Коэна; Общ. ред., послесл. и коммент. И.Е. Горелова. — М: Прогресс, 1989. — 574 с: ил.; — М.: Прогресс; Минск: Беларусь, 1989. — 570 с: ил.; — М.: Прогресс академия, 1992.-570 с: ил.
The Soviet Union since Stalin. — Bloomington: Indiana Univ. Press; London: Macmillan, 1980. — Соред.
An end to silence: Uncensored opinion in the Soviet Union. — New York: W.W. Norton, 1982. — Ред.
Rethinking the Soviet experience: Politics and histoiy since 1917. — New York: Oxford Univ. Press, 1985; Переосмысливая советский опыт: (Политика и история с 1917 г.). — Benson, Vt.: Chalidze Publications, 1986.
Sovieticus: American perceptions and Soviet realities. — New York: W.W. Norton, 1985.
Voices of glasnost: Interviews with Gorbachev's reformers. — New York: W.W. Norton, 1989. — Соавт., соред.
Изучение России без России: Крах американской постсоветологии / Предисл. Г.А. Бордюгова. — М.: АИРО-ХХ, 1999. — 48 с. — (АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века; Вып. 4).
Failed crusade: America and the tragedy of post-communist Russia. — New York: W.W. Norton, 2000; Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России / Пер. с англ. И.С. Давидян. — М: АИРО, 2001. — 304с.
«Вопрос вопросов»: Почему не стало Советского Союза? / Пер. с англ. И.С. Давидян. — М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. — 200 с.
Soviet fates and lost alternatives: from Stalinism to the new Cold War. — Columbia University Press, 2009. — 308 p.; expanded paperback edition — 2011.
Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина / Пер. с англ. И.С. Давидян. — М.: Новый хронограф; АИРО-XXI, 2009.-144 с.
The Victims Return. Sui'vivors of the Gulag After Stalin. — Survivors a Publishing Works, Exeter, NH, 2010.-216 p.
Утраченное наследие Горбачёва / Пер. с англ. И.С. Давидян. — М.: «Новая газета»; АИРО-XXI, 2010. — 56 с. (АИРО — Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века; Вып. 27).
Жизнь после ГУЛАГа. Возвращение сталинских жертв / Пер. И. Давидян. — М.: АИРО-XXI, 2011. — 208 с.
Статьи и предисловия к книгам
Marxist theory and bolshevik policy // Political Science Quarterly — 1970. — Vol. EXXXV, № 1. — P. 40–60.
Bukharin, Lenin and the theoretical foundations of bolshevism // Soviet Studies / Univ. of Glasgow. — 1970. — Vol. XXI, № 4. — P. 436-457.
Tn praise of war communism: Bukharin's The Economics of the Transition Period // Revolution and politics in Russia: Essays in memoiy of B.T. Nicolaevsky / Ed. by Alexander and Janet Rabinowitch. — Bloomington: Tndiana Univ. Press, 1972. — P. 192–203.
Stalin's revolution reconsidered // Slavic Review — 1973. — Vol. 32, № 2. — P. 264–270.
Bolshevism and Stalinism // Stalinism: Essays in historical interpretation / Ed. by R.C. Tucker. — New York: W.W. Norton, 1977. — P. 3-27; То же // Dissent. — Spring 1977. — P. 190–205; Totalitarianism reconsidered / Ed. by E.l. Menze. — Port Washington; London: Ken-nikat Press, 1981. — P. 58–80.
Foreword // Medvedev Roi and Medvedev Zhores. Khrushchev: The years in power. — New York: WAV. Norton, 1978. — P. T-VIII.
Common and uncommon sense about the Soviet Union and American policy // The Soviet Union: International dynamics of foreign policy, present and future / Hearings in the House of Representatives. — Washington: U.S. Govt Print. Off., 1978. — P. 202–239; To же под загл.: A new look at the sources of Soviet conduct // Tnquiiy Magazine-1977. — 19 Dec.-P. 11–17.
Soviet domestic politics and foreign policy // Detente or debacle: Common sense in U.S. — Soviet relations / Ed. by F.W. Neal. — New York: WAV. Norton, 1979. — P. 11–28. To же в сокр. // Common sense in Soviet relations / Ed. by С Marcy. — Washington: American Committee on East West Accord, 1978.- P. 11–25; To же под загл.: Premonitions of Stalinism // Dissent. — 1978. — Winter. — P. 79–82.
Why Bukhai'in's ghost still haunts die Kjremlin // The New York Times Magazine — 1978.-10 Dec. — P. 79–82.
The friends and foes of change: reformism and conservatism in the Soviet Union // Slavic Review. — 1979. — Vol. 38, № 2. — P. 187–202; To же // The Soviet Union since Stalin / Ed. by Cohen, A. Rabinowitch and R. Sharlet. — Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980.-P. 11–31.
What is fundamental? // Slavic Review — 1979. — Vol. 38, №2. — P. 220–223.
The rage of heresy // The Nation. — 1979. — 29 Dec. — P. 692–694.
Stalin's afterlife // The New Republic. — 1979. — 29 Dec. — P. 15–19.
Bukharin and the idea of an alternative to Stalinism // Bukharin and the bolshevik revolution. — Oxford Univ. Press, 1980. — P. XV–XXIV.
Bukharin and the Euroconmiunist idea // Eurocommunism between East and West / Ed. by V. Aspaturian, J. Valenta and D.P. Burke. — Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980. — P. 56–71; To же // NT. Bukharin. Selected writings / Ed. by R.B. Day. — White Plains: M.E. Sharpe, 1982. — P. TX–XXV.
Essays on the history of Stalinism // Stalin L'Uomo, La Nazinoe, // Partito. — Milan: Fabbri Editori,1980.
Cold warriors of the world, unite // Inquiry Magazine — 1980. — 21 Apr. — P. 23–24.
Dissenso, democrazia e d'evoluzione dell 'autoritarismo sovietico: 1917–1979 // Dissenso e democrazia new paesi dell'est. — Florence, 1980.-P. 24–34.
La sue visione della 'construzione del socialismo' // Rinascita. — 1980. — 4 July.-P. 18–20.
II dopo Brezhnev: discuterne Josif Brodsky e Stephen F. Cohen // L'Espresso. — 1980.- 16 Nov. — P. 70–82.
Hard-line Fallacies // New York Times. — 1980. — 22 Aug.; To же // Social Education. — 1981. — Vol. 45, № 4. — P. 252–253.
The parity principle in U.S. — Soviet relations // The New York Times. — 1981.-26 June.
The survivor as historian // Anionov-Ovseyenko A. The time of Stalin. — New York: Harper and Row, 1981. — P. VII-XI.
Roy Medvedev and Political Diary // An end to silence / Ed. by St. F. Cohen. — New York: W.W. Norton, 1982. — P. 7–14.
The Stalin question since Stalin // Ibidem. — P. 22–50.
Bucharin e il bucharinismo // Bucharin tra rivoluzione e riforme. — Rome: Ed. Riuniti, 1982.-P. 19–27.
How to save the world // The New York Times. — 1983. — 13 Nov.
Andropov in mezzo al Guado // L'Espresso. — 1983. — 12 Dec.
No Andropov era // The New York Times. — 1983. — 13 Nov.
Soviet domestic politics and foreign policy // World politics debated / Ed. by H.M. Levine. — New York: McGraw-Hill, 1983. — P. 126–137.
The Stalin question // The Soviet Union today / Ed. by J. Cracraft. — Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983. — P. 21–32.
Памяти Евгения Гнедина // СССР: Внутренние противоречия. Вып. 2. — Нью-Йорк, 1984. — С. 269–273.
The friends and foes of change // The Soviet policy in the modem era / Ed. by E. Hoffmann and R. Laird. — Hawthorne: Aldine, 1984. — P. 85–104.
Soviet state and society as reflected in the American media // Nieman Reports. — 1984. — Winter. — P. 25–28; To же // The other side: How Soviets and Americans perceive each odier / Ed. by R. English and J. Halperin. — New Brunswick: Transaction Books, 1987. — P. 77–81; To же в сокр. // Bulletin of the American Society of Newspaper Editors. — 1984. — Nov. / Dec. — P. 36–37; Harper's. — 1985. — March.
Soviet domestic politics and foreign policy // Soviet foreign policy in a changing world / Ed. by R. Laird and E. Hoffmann. — New York: Aldine, 1986.-P. 66–83.
Stalin's tenor as social history // The Russian Review — 1986. — Vol. 45, №4. — P. 375–384.
A matter of global survival // Before the point of no retum / Ed. by C. Snyder. — Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1986. — P. 49–53.
The struggle for detente // East-West Tension. Nordi-Soum Conflict. — New York: Riverside Church Disarmament Program, 1986. — P. 9–13.
America's Russia: Can the Soviet system change? // Socialism and Democracy. — 1986. — № 3. — Fall/Winter. — P. 5–16; To же // Princeton Alumni Weekly. — 1986. — 30 Sept. — P. 11–15; To же в сокр. // Harper's. — 1986. — Nov.
Gorbachev's historic embattled program // TT progetto Gorbaciov. — Rome: Rinascita. — 1987. — P. 158–165.
Perestroika: Debate with Richard Pipes // Princeton Alumni Weekly. — 1987.-9 Dec. — P. 21–27.
Soviet state and society in the American media // The other side / Ed. by R. English and J. Halperin. — New Brunswick: Transaction Books, 1987. P. 77–81.
Bukharin and die Eurocommunist idea // The crucible of socialism / Ed. by L. Patsouras. — Atlantic Highlands: Humanities Press, 1987. — P. 293–307.
The U.S. press and glasnost // Deadline. — 1988. — May-June. — P. 3–4.
Centrists lack the guts to respond to Gorbachev // New York Times. — 1988. — 19 Sept.; To же // International Herald Tribune. — 1988. — 20 Sept.; Эхо планеты. — 1988. — № 33. — С. 48.
The President's historic opportunity: Will we end the cold war? // The Nation. — 1988. — 10 Oct. — P. 305–314; To же // America's transition / Ed. by M. Green and M. Pinsky. — New York: Democracy Project, 1989. — P. 120–134; To же в сокр. // The Trenton Times. — 1988. — 16 Oct.; Rinascita. — 1988. — 22 Oct. — P. 28–30.
Supporters and opponents of perestroika: A roundtable // Soviet Economy. — 1988. — Oct. — Dec. — P. 275–318.
Gorbachev and the Soviet refonnation // Voices of glasnost / Ed. by St. Cohen and K. vanden Heuvel. — New York: W.W. Norton, 1989.-P. 13–32.
Changing the image of the enemy: Dialogue with Vitaly Korotieh // Michigan Quarterly Review — 1989. — Fall. — P. 507–520.
The moderate alternative // The Stalin revolution / Ed. by R.V. Daniels. — Lexington: D.C. Heath, 1990. — P. 35–53.
Gorbachev the Great // The New York Times. — 1991. — 11 March; To же // International Herald Tribune. — 1991. — 11 March; Известия. — 1991. — 12 марта.
Gorbachev's reforms and American perceptions // Outlook. — 1990/91. — Winter. — P. 70–74.
Gorbachev's reforms after six years // Hearings before the Subcommittee on European Affairs of the Committee on Foreign Relations U.S. Senate. — Washington: U.S. Govt Print. Off. — 1991. — P. 41-47.
The friends and foes of change // The Soviet system in crisis / Ed. by A. Dallin and Gail W. Lapidus. — Boulder: Westview Press, 1991. — P. 64–80; To же // The Soviet system: from crisis to collapse / Ed. by A. Dallin and Gail W. Lapidus. — Boulder: Westview Press, 1995.-P. 57–74.
Cold dawn in Moscow // The New York Times. — 1991. — 4 Sept.; To же // International Herald Tribune. — 1991. — 5 Sept.; Советская Россия. — 1991.-7 сент.; Независимая газета. — 1991.-5 окт.
What's really happening in Russia? // The Nation, — 1992. — 2 March. — P. 259–268; To же // Annual Edtions: Comparative Politics. — Dushkin Publishers, 1993.
The election's missing issue: A cold peace with Russia? // The Nation. — 1992. — 23 Nov. — P. 622–624; To же // Information (Denmark). — 1992. — 6 Nov.; De Morgen (Belgium). — 1993. — Dec.
Ligachev and the tragedy of Soviet conseivatism // Inside Gorbachev's Kremlin: The memoirs of Yegor Ligachev. — New York: Pantheon Books, 1993. — Р. 7–37; То же. — Boulder: Westview Press, 1996. — P. VI-XXXVT.
The afterlife of Nikolai Bukharin // Larina A. This I cannot forget: The memoirs of Nikolai Bukharin's widow. — New York: W.W. Norton, 1993. — P. 13–36.
Staggering toward democracy? // Harvard International Review. — 1992/1993. — Winter. — P. 14–17, 60–62.
Can we convert Russia? // Washington Post Outlook. — 1993. — 28 March; To же // Рабочая трибуна. — 1993. — 7 апр.
American policy and Russia's future // The Nation. — 1993. — 12Apr. — p. 476-485.
U.S. policy toward post-communist Russia: fallacies, failures, possibilities // Hearings before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives. — Washington: U.S. Govt Print. Off., 1993. — P. 453^79.
Yeltsin's desperation dismantles democracy // Washington Post Outlook. — 1993. — 10 Oct. — P. 1–3. To же // Washington Post National Weekly. — 1993. — 18–24 Oct. — P. 23–24; To же в сокр. // International Herald Tribune. — 1993. — 13 Oct.; The Moscow Times. — 1993. — 14 Oct.; Рабочая трибуна. — 1993. — 18 окт.; Новая ежедневная газета. — 1993. — 29 ноября.
The last chance // The Nation. — 1994. — 24 Jan. — P. 76–77. — Соавт.: К. vanden Heuvel.
America's failed crusade in Russia // The Nation. — 1994. — 28 Febr. — P. 261–264; To же в сокр. // Los Angeles Times. — 1994. — 11 Fcbr.; Рабочая трибуна. — 1994. — 11 февр.; International Herald Tribune. — 1994. — 16 Febr.
Clinton's Yeltsin, Yeltsin's Russia // The Nation. — 1994. — 10 Oct. — P. 373–376; To же в сокр. // New York Newsday. — 1994. — 25 Sept.; International Herald Tribune. — 1994. — 26 Sept.; The Moscow Times. — 1994. — 27 Sept.; Рабочая трибуна. — 1994. — 4 окт.; Советская Россия. — 1994. — 4 окт.
If not Yeltsin, the Russian opposition // The Washington Post Outlook. — 1995. — 3 Dec.
In Russia, who is guilty now? // The New York Times. — 1995. — 11 Dec.
Russia's judgment day? // The Nation. — 1996. — 8 July. — P. 3–5. — Соавт.; То же. // Литературная газета. — 1996. — 3 июля.
«Transition» or tragedy // The Nation. — 1996. — 30 Dec. — P. 4–6; To же в сокр. // Los Angeles Times. — 1996. — 12 Dec; International Herald Tribune. — 1996. — 13 Dec; The Moscow Times. — 1996. — 17 Dec; Общая газета. — 1996. — 26–31 дек.; Завтра. — 1997. — Янв. (№ 3).
The Other Russia // The Nation. — 1997. — 11/18 Aug. — P. 24–26. — Соавт. 84. Preface // King D. The commissar vanishes. — New York: Metropolitan Books, 1997.
Bukharin's fate // Bukharin N. How it all began. — New York: Columbia Univ. Press, 1998. — P. 7–28; To же в сокр. // Dissent. — 1998. — Spring.-P. 58–68.
Why call it reform? // The Nation. — 1998. — 7–14 Sept. — P. 6–7.
Russian tragedy or transition // Rethinking die Soviet collapse / Ed. by M. Cox. — London: Cassell, 1998. — Chap. 13.
Who lost Russia? // The Nation. — 1998. — 12 Oct. — P. 5; To же // International Herald Tribune. — 1998. — 27 Oct.; Los Angeles Times. — 1998.-27 Oct.
Help Russia // The Nation. — 1999. — 11–18 Jan. — P. 6–9. — Соавт.: К. van den Heuvel; To же // The Moscow Times. — 1998. — 25 Dec; The St. Petersburg Times. — 1998. — 29 Dec; Courrier International — 1999. — 7–13 Jan.; Независимая газета. — 1999. — 26янв.
Russian studies without Russia // Post-Soviet Affairs. — 1999. — Jan.-March.-P. 37–55.
«Transition» is a notion rooted in U.S. ego // The New York Times (Ideas Page). — 1999. — 27 March.
Degrading America // The Nation. — 1999. — 24 May. — P. 6; To же // Независимая газета. — 1999. — 7 мая.
American journalism and Russia's tragedy // The Nation. — 2000. — 2 Oct. — P. 23–30.
Gorbachev as leader: Pope or Luther? // Gorbachev on his 70th birthday. — Moscow, 2001. — P. 242–246. — Англ. и рус.
Russian nuclear roulette // The Nation. — 2001. — 25 June. — P. 16.
A second chance with Russia // The Nation. — 2001. — 5 Nov. — P. 7, 23; To же // Pittsburgh Post-Gazette. — 2001. — 11 Nov.; International Herald Tribune. — 2001. — 14 Nov.; Советская Россия. — 2001. 18 окт.
Endangering U.S. security // The Nation. — 2002. — 15 Apr. — P. 5. — Соавт.; То же. // Советская Россия. — 2002. — 2 апр.; Los Angeles Times. — 2002. — I May; Newsday. — 2002. — 3 May; Chicago Tribune. — 2002. — 14 May.
Are we safer? // The Nation. — 2003. — 5 May. — P. 4; To же // International Herald Tribune. — 2003. — 23 Apr.; Известия. — 2003. — 20 июня.
The struggle for Russia // The Nation. — 2003. — 24 Nov. — P. 5–6; To же // Philadelphia Inquirer. — 2003. — 9 Nov.; Moscow Times. — 2003. — 12 Nov.; Родная газета. — 2003. — 14 ноября.
How to get out of Iraq // The Nation. — 2004. — 24 May. — P. 11; To же // The Guardian (U. К.); Родная газета. — 2004. — 14–20 мая.
Was the Soviet system reformable? // Slavic Review. — 2004. — Fall. — P. 459-488; 553–554; To же // Свободная мысль. — 2005. — № 1. — С. 136–162; Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя. — М., 2005. — С. 24–45. То же в сокр. // Политический журнал. — 2005. — 17 янв. — С. 66–70.
The media's new cold war // The Nation. — 2005. — 31 Jan. P. 18–22. To же // Гудок. — 2005. — 2 февр.; Национальные интересы. — 2005. — № 1.-С. 3–6.
103. Gorbachev's lost legacy // The Nation. — 2005. — 14 March. — P. 5. To же // Los Angeles Times. — 2005. — 27 Feb.; Политический журнал. — 2005. — 28 февр.
The new American cold war // The Nation. — 2006. — 10 July. — P. 9–17. To же // Политика. — 2006. — 28 июня.
The Soviet Union, R.I.P.? // The Nation. — 2006. — 25 Dec. — P. 14–18. To же // The Guardian (U.K.). — 2006. — 13 Dec; Новая газета. — 2006. — 21–24 дек.; Europa (Poland). — 2006. — 30 Dec.
Bukharin's fate // Bukharin N. Socialism and its culture. — London; New York; Calcutta, 2006. — P. VTT-XXXVII.
Conscience and the war // The Nation. — 2007. — 26 March. — P. 4–5.
The 15th anniversary of the end of the Soviet Union // Kennan Institute occasional paper № 299. — Washington, DC, 2008. — Соавт.
The missing debate // The Nation. — 2008. — 19 May. — P. 6–8. To же // Los Angeles Times. — 2008. — 30 Apr.; Известия. — 2008. — 30 апр.; L'Unita. — 2008. — 30 Apr.
The victims return: Gulag survivors under Khrushchev // Political violence: Essays in honor of Robert Conquest / Ed. by P. Hollander. — New York; London, 2008. — P. 90–126.
Stalin's victims return // The Nation. — 2008. — 15 Sept. — P. 27–32.
Переосмысливая советский опыт // США. — 1986. — № 2. — С. 97–104.
Возвращение Николая Бухарина // Московские новости. — 1988. — 21 февр.
Предисловие // Американцы пишут Горбачёву. — М.: Прогресс, 1988.-С. 9–35.
Страницы жизни Николая Бухарина // За рубежом. — 1988. — №15,16.
На крутом повороте: Бухарин и Сталин в канун «великого перелома» // Знание — сила. — 1988. — № 8. — С. 64–74.
Николай Бухарин: взгляд американского советолога // Эхо планеты. — 1988. — № 32. — С. 30–33.
Нэповская альтернатива // Наука и жизнь. — 1988. — № 10. — С. 60.
Бухарин, НЭП и идея альтернативы сталинизму // ЭКО. — 1988. — №9.-С. 155–167.
Дуумвират: Бухарин и Сталин // Огонёк. — 1988. — № 45. — С. 29–31.
Предисловие к советскому изданию // Бухарин: политическая биография, 1888–1938. — М.: Прогресс, 1989. — С. 3–9; То же // Огонёк. — 1988. — № 45. — С. 28.
Марксистская теория и большевистская политика: «Теория исторического материализма» Бухарина / Послесл. В.Н. Шевченко // Философские науки. — 1989. — № 1. — С. 73–87.
[Рец. на кн.: Горелов И.Е. Николай Бухарин. — М.: Моск. рабочий, 1988. — 282 с: ил.] // Проблемы мира и социализма. — 1988. — № 5. — С. 85–86. — Соавт.: С. Меньшиков.
Перестройка — это путешествие в поисках нового // Коммунист. — 1989.-№7.-С. 23–29.
Большевизм и сталинизм // Вопросы философии. — 1989. — № 7. — С. 46–72.
Предупреждение сталинизма // Огонёк. — 1990. — № 28. — С. 13–16.
Партия на перепутье // Литературная газета. — 1990. — 4 июля.
Американское восприятие и советская действительность // СССР глазами советологов. — М.: Московский рабочий, 1990. — С. 40–59.
Что же происходит в России? // Свободная мысль. — 1992. — № 8. — С. 15–23.
Американская политика и будущее России // ПОЛИС. — 1993. — №3.-С. 86–97.
Круглый стол // Что значит издать книгу в Советском Союзе. — М., 1993.-С. 6–14, 32–38.
«Let Russia be Russia» // Литературная газета. — 1993. — 23 июня.
Может ли Ельцин стать новым Ельциным? // Новая ежедневная газета. — 1994. — 4 янв.
Что Америка может дать России? // Рабочая трибуна. — 1994. — 19, 20 июля.
Куда идёт Россия? // Труд. — 1994. — 26 июля. — Соавт.: С. Бабурин.
Предисловие к изданию «Тюремные рукописи П.И. Бухарина» // [БухаринН.И.] Тюремные рукописи Н.И.Бухарина: В 2 кн. / Под ред. Г.А. Бордюгова. Кн. 1: Социализм и его культура / Публ. С.И. Гурвич-Бухариной, A.M. Лариной-Бухариной, Ю.Н. Ларина; Предисл. Б.Я. Фрезинского; Коммент., указ. имён О.Л.Сорокиной, М.Ф.Федотовой. — М.: АИРО-ХХ, 1996. — С. 14–24; То же в сокр. // Свобод, мысль. — 1995. — № 12. — С. 50–56; Независимая газета. — 1995. — 3 нояб.
Изучение России без России. Крах американской постсоветологии / Серия «АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 4 — М.: АИРО-XXI, 1999. — 48 с. То же // Свободная мысль. — 1998. — № 9/12. — С. 21–34.
Горбачёв как лидер: Папа или Лютер? // Многая лета… Михаилу Горбачёву. — М., 2001. — С. 254–259.
Предисловие // Бухарин В.И. Дни и годы / Публ. подгот.: М.В. Бухарина, Ю.Н. Гусев, Л.Н. Гусева, Г.В. Девицина; Сост., введ., коммент., послесл.: Г.В. Девицина, Л.Н. Гусева, Е.Н. Юркевич; Введ. Н.В. Тороповой. — М.: АИРО-ХХ, 2003. — С. 5–8; То же // Библиография. — 2003. — № 4. — С. 73–75.
Бухарин на Лубянке // Свободная мысль. — 2003. — № 3. — С. 58–64.
Можно ли было реформировать Советскую систему? / Серия «АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 16.-М.: АИРО-XXI, 2005. — 64 с.
Кто виноват? // Политический класс. — 2005. — № 10. — С. 60–65.
Правда ли, что «холодная война» закончилась? // Горбачёвские чтения / Под ред. О.М. Здравомысловой. — Вып. 4. — М., 2006. — С. 267–273.
Введение // Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов / Предисл. С. Бабурина. Под ред. Г.А. Бордюгова. Изд. 2-е, доп., измен, и расшир. — М.: АИРО-XXI; РГГЭУ, 2008. — С. 20–28.
Приди Бухарин к власти, в СССР было бы меньше насилия // Известия. 2008, 9 октября.
Утраченное наследие Горбачева // Новая газета. 2010, 1 марта.
Обама и российско-американская «перезагрузка»: Ещё один упущенный шанс? // Независимая газета. 2011, 12 июля.
Литература о Ст. Коэне
Лнии Д. Актуален ли Бухарин? // Континент. — 1975. — № 2. — С. 281–314.
Гефтер М.Я. Все мы заложники мира предкатастроф: Письмо американскому историку Стивену Коэну // Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. — М., 1991. — С. 85–91.
Дедков Н. Беспокойный американец // Свободная мысль — XXI. — 2001.-№4.
Согрин В. Стивен Коэн и перипетии посткоммунистической России // Обществ, науки и современность. — 2002. — № 4.
Аннинский Л. Коэн зрит в корень // Родина. — 2002. — № 7.
Junge Mark. Bucharins Reabilitiemng Hisorisches Gedachtnis in der Sowjetunion. 1953–1991. — Berlin: Basis-Druck, 1999; To же. Юнге М. Страх перед прошлым: Реабилитация Н.И. Бухарина от Хрущева до Горбачёва. — М.: АИРО-ХХ, 2003. — 336 с. — (АИРО-ХХ — первая публикация в России).
Борьба за Россию // Родная газета. — 2003. — 20 нояб.
Стивен Коэн и Советский Союз / Россия. Сост. Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов. — М.: АИРО-XXI; РГТЭУ, 2008. — 244 с.
Stephen Cohen, The Soviet Union and Russia. Tributes and Comments by Russian Colleagues. With a Foreword by Mikhail Gorbachev. Ed. by Gennady Bordyugov and Leonid Dobrokhotov. Translated by George Shriver. — Publishing Works, Exeter, NH, 2010. — 298.
* * *
Примечания
1
Один критик подобного исторического подхода назвал его «склонностью к запоздалым суждениям» («hindsight bias») (см. прим. 8). В качестве поучительной аналогии приведём мнение одного историка о связи между царскими реформами XIX века и судьбой царизма: «Крах царской монархии в 1917 г. больше не считается бесспорным доказательством окончательного и неизбежного провала этих реформ». Ben Eklojf // Ekloff, et al., eds. Russia's Great Reforms, 1855-1881. — Bloomington, IN, 1994. P. x.
(обратно)2
Саква, в частности, пишет: «Само государство было лишено способности к реформе». Другой исследователь полагает, что к гибели советского государства привела не «ригидность» его институтов, а, напротив, их «излишняя гибкость». Steven L. Solnick. Stealing the Soviet State. — Cambridge, MA, 1998. P. 223.
(обратно)3
Согласно ещё одному мнению, несколько отличному от предыдущего, но связанному с ним, демократизация была не совместима не только с советской системой, но и вообще с российскими традициями государственной власти. См., напр.: Theodore H. von Laue // Joseph L. Wieczynski, ed. The Gorbachev Reader. — Salt Lake City, 1993. P. 149–151; и Walter M. Pinter // Crammey, ed. Reform in Russia and the USSR. P. 243–256.
(обратно)4
Скрупулезную, но, тем не менее, неубедительную аргументацию в пользу революционной трактовки см. у Балцера: Harley BaJzer // Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 193–218. Сторонники этой позиции обычно считают Ельцина лидером или воплощением «Августовской революции», но сам он впоследствии гордился именно тем, что «сумел спасти Россию от революции». Цит. по: Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 226.
(обратно)5
Что и говорить, если даже в 2005 г. историк из моего родного южного штата не видел «ничего страшного» в поведении президента Конфедерации и вообще в «прошлом Юга», если рассматривать его «в контексте того времени». Bill Ellis // Kentucky Monthly. June 2005. P. 54. Как сказал ведущий американский историк об «отцах-основателях», «по крайней мере, они подбросили какие-то идеи, которые… смогли вдохновить будущих противников рабства». George M. Fredrickson // New York Review of Books. July 14, 2005. P. 42. To же самое можно было бы сказать и про Ленина с Бухариным — по отношению к реформаторам после-сталинской эпохи.
(обратно)6
Один из помощников Горбачёва позже говорил, что их целью был «СССР, порвав[ший] с коммунизмом». Ципко Александр // Литературная газета. 2001. 23 мая. Даже авторы проельцинской книги признают, что «большинство критиков режима выступали не против Советов, а против засилья КПСС». Эпоха Ельцина: очерки политической истории. Под ред. Юрия Батурина и др. — М., 2001. С. 170. Россияне выражали своё согласие с этим выводом двумя способами: сначала, на рубеже 1980–90-х гг., протестуя против господства КПСС, но поддерживая советскую систему, а позднее, сожалея по поводу конца Советского Союза и ностальгируя по советской эпохе, но при этом не желая возвращения компартии к власти. Это подтверждают и данные опросов, которые приводит Пол Гобл: Paul Goble // Johnson's Russia List. Jan. 2, 2006. О понимании коммунизма Горбачёвым в 1990 г. см.: Andrzej Walicki. Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia. — Stanford, 1995. P. 554–555, 617, n. 177.
(обратно)7
Вообще, как заметил в дискуссии по соответствующему поводу российский политик, всё «зависит от того, что мы понимаем под Советским Союзом». Арбатов Алексей // Независимая газета. 1997. 16 января.
(обратно)8
Новая концепция советской системы встречается во многих перестроечных публикациях 1988–91 гг., но один из самых ярких примеров — статья Елены Боннэр, вдовы Андрея Сахарова и человека, которого уж точно невозможно упрекнуть в просоветских симпатиях, о власти и собственности. См. Московские новости. 1990. 15 июля.
(обратно)9
По поводу «эволюции» взглядов элиты см. ниже, прим. 67. Насколько еретическими были новые воззрения, можно судить хотя бы по растущей оппозиции одного из реформаторов, бывшего помощника Горбачёва по идеологии. См.: Смирнов Г.Л. Уроки минувшего. — М., 1997. Новая идеология, разработанная Горбачёвым в конце 1989 г., в начале 1990 г. была оформлена в виде проекта новой программы партии и в июле представлена на обсуждение XXVIII съезда КПСС, одобрившего её. См.: Правда. 1989. 26 ноября; Материалы пленума Центрального Комитета КПСС. 5–7 февраля 1990 года. — М., 1990. С. 511–540; XXVTTT съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчёт. В 2-х томах. — М., 1991, особенно Т. 1. С. 55–101 и Т. 2. С. 255–268, 276–294. Помощники Горбачёва продолжили дорабатывать проект, делая его всё более либерально-демократическим. См. проект и дебаты по нему: Правда. 1991. 8 августа; Советская Россия. 1991. 27–30 июля. По поводу антикоммунистических взглядов внутри самого партийного аппарата см. Ципко Александр // Вестник аналитики. 2005. № 3. С. 213–237, а в более широком контексте см. Archie Brown, ed. The Demise of Marxism-Leninism in Russia. — New York, 2004. P. 9–1 I. Chap. 2–4.
(обратно)10
Так, один помощник Горбачёва, ответственный за разъяснение новой идеологии, в то же время, утверждал, что её роль в жизни советского общества должна быть существенно снижена. См. Шахназаров Георгий. Обновление идеологии и идеология обновления // Коммунист. 1990. № 4. С. 46–59; Литературная газета. 1990. 18 апреля.
(обратно)11
Это полностью осознавали Горбачёв и его помощники. См. Медведев В.А. Прозрение, миф или предательство: к вопросу об идеологии перестройки. — М., 1997. С. 4–5; Правда. 1990. 29 июня.
(обратно)12
Фактически, как сказал один из бывших членов ЦК, «партия… перестала быть правящей политической организацией, и работники аппарата ЦК чувствовали это лучше, чем кто-либо другой». Медведев Рой. Советский Союз: последний год жизни. — М., 2003. С. 76.
(обратно)13
По поводу последнего заявления см. также Известия. 1990. 27 февраля, где Лилия Шевцова пишет: «Мы имеем гораздо большее политическое разнообразие, чем любая страна мира».
(обратно)14
Один западный историк утверждает даже, что партия к началу 1980-х гг. уступила свою власть государственной бюрократии. — Moshe Lewin. The Soviet Century. — London, 2005. P. 348–351. Об игнорировании роли советского государства см. Huskey. «Introduction» // Huskey, ed. Executive Power. P.xii-xiii.
(обратно)15
Цифры взяты из: Оников Леон. КПСС: анатомия распада. — М., 1996. С. 75. Оников настаивает, что контроль аппарата над партией оставался незыблемым, но это не соответствует ни реальным событиям, ни другим оценкам. См., напр., Yegor Ligachev. Inside Gorbachev's Kremlin. — New York, 1993. P. 109–111.
(обратно)16
На самом деле, глава путчистов даже призывал партийных функционеров не вмешиваться: «Это дело государственное». Прокофьев Юрий. До и после запрета КПСС. — М., 2005. С. 243. В качестве примеров западных оценок см. Beissinger // Millar, ed. Cracks in the Monolith. P. 213; и Michael Dobbs. Down With Big Brother: The Fall of the Soviet Empire. — New York, 1997. Последний, в частности, назвал главу об августовских событиях «Восстание партии». В качестве примера попытки обосновать этот взгляд см. Белоусова Г.А., Лебедев В.А. Партократия и путч. — М., 1992; и Hahn. Russia's Revolution. P. 420-27.
(обратно)17
На партийной конференции Лигачёв отрицал очевидное: «У нас нет фракций, реформаторов и консерваторов», — говорил он, в то время как Горбачёв напоминал об опыте фракционной борьбы в 1920-е гг. XIX всесоюзная конференция КПСС. Стенографический отчёт. В 2 томах. — М., 1988. Т. 2. С. 88, 175.
(обратно)18
Или, говоря словами советского политолога Лилии Шевцовой, «КПСС уже являет собой многопартийность в миниатюре». См. Известия. 1990. 27 февраля.
(обратно)19
Годы спустя, Горбачёв полагал, что должно было быть «по меньшей мере, три политические партии»: социал-демократическая, коммунистическая и либеральная. Горбачёв Михаил. Понять перестройку. — М., 2006. С. 369–370.
(обратно)20
Слова «размежевание», «расставание» и даже «развод» были типичными для определения этого процесса.
(обратно)21
По мнению одного из ближайших помощников, официальный раскол был бы не в пользу Горбачёва. См. Медведев. В команде Горбачёва. С. 131. Однако другие сторонники, а также некоторые хорошо информированные наблюдатели полагали, что за Горбачёвым последовало бы большинство членов партии, как минимум, 9 млн. чел. См., напр.: Бурлацкий Фёдор. Глоток свободы. В 2 томах. — М., 1997. Т. 2. С. 189–190; Лацис О. Тщательно спланированное самоубийство. С. 345; Дилигенский Герман // Советская культура. 1990. 7 июля; Пугаев Борис // Россия. 1991. 3–9 августа. Представляется невероятным, однако, что, в случае официального раскола КПСС, какое-либо крыло набрало бы так много сторонников; многие коммунисты вполне могли предпочесть примкнуть к другим отколовшимся партиям или стать беспартийными. Но даже 1 миллиона официально зарегистрированных членов было бы более чем достаточно.
(обратно)22
По оценкам начала 1990 г., в условиях свободных демократических выборов, Коммунистическая партия набрала бы 20% голосов, националистические и патриотические партии около 30%, а социал-демократы — 50%. См. Sahva. Gorbachev. P. 189. Если бы КПСС раскололась на две партии, то резонно было бы предположить, что консервативному крылу досталась бы значительная часть голосов националистов, а крылу Горбачёва — большинство голосов социал-демократов. По поводу последнего прогноза см. White // Slavonic and East European Review. Oct. 1994. P. 663. Возражения против возможности создания такой социал-демократической партии см. Сироткин Владлен // Неделя. 1991. №9. Примечательно, что Александр Яковлев также не верил в проект такой «социал-демократизации». См. Ципко // Вестник аналитики. 2006. № 2 (интернет-версия: ).
(обратно)23
Как выразился позднее лидер постсоветской компартии, она превратилась в «партию патриотов». См. Зюганов Г.А. // Советская Россия. 1995. 24 октября. Так же считали Иван Полозков, Е. Володин и Александр Проханов. См. соответственно: Советская Россия. 1991. 28 февраля и 28 сентября; Комсомольская правда. 1991. 3 сентября.
(обратно)24
Первой их реакцией было желание заявить, что «они в такой обстановке не пойдут на эти выборы, потому что стопроцентная гарантия, что их не изберут». На что Горбачёв ответил: «Правильно?! Выходит, партия должна уклониться от участия в руководстве и в выборах?» Материалы пленума ЦК КПСС. 25 апреля 1989 года. — М., 1989. С. 91. Однако вскоре они явно поняли, что если один из пяти первых секретарей проиграл, четверо других так или иначе выиграли. См. Бойков В., Тощенко Ж. // Правда. 1989. 16 октября.
(обратно)25
Иначе говоря, «для многих советских экономистов идеалом всё ещё оставалась политика НЭПа», или «социализм с человеческим лицом». Эпоха Ельцина. Под ред. Батурина и др. С. 170.
(обратно)26
Все эти законы, принятые до 1991 г., были ещё довольно эвфемистичны в отношении частной собственности и того, что с ней связано, но их значение признает даже один из самых жестких экономических критиков Горбачёва. Aslund. How Russia Became a Market Economy. P. 30.
(обратно)27
Неудивительно, что один из ведущих советологов затруднился «даже в ретроспективе» найти ответ на неправильно сформулированный им вопрос: «Почему громадное сооружение рухнуло?». Walter Laqueur. The Dream That Failed. — New York, 1994. P. 71. В качестве иллюстрации принципиального различия в формулировках, ср.: Richard Lourie // New York Times Book Review. April 5, 1998. P. 26 («Советская Россия… рухнула под собственным весом») и тему «круглого стола» в российской Независимой газете: «Кто развалил Советский Союз: История, Запад, Ельцин, Горбачёв?» (НГ-сценарии. 1997. 1 января).
(обратно)28
Инакомыслящие встречаются и среди западных учёных. Так, Ричард Саква считает, что вышедший за рамки компартии «более широкий политический класс… в значительной мере отражал устремления большинства общества» и содержал «потенциал для существенной эволюции». Richard Sakvva // Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 266–267.
(обратно)29
В Центральной Азии русский язык и советский стандарт образования, даже спустя более десяти лет после распада, оставались влиятельными факторами. См. Zamira Eshanova // Radio Free Europe/Radio Liberty Newsline. Nov. 13, 2002. Вообще, по некоторым данным, из 142 миллионов бывших советских граждан, живших не в России, русский язык знали, по меньшей мере, 100 миллионов. См. Sergei Blagov // Asia Times. July 23, 2003.
(обратно)30
Нечто похожее по поводу бывшего Советского Союза заявил в 1996 г. Горбачёв: «Де-факто до сих пор страна живёт, хотя де-юре её уже нет». Независимая газета. 1996. 25 декабря.
(обратно)31
По мнению некоторых историков, если бы приемлемый союзный договор был предложен в начале 1989 г., даже балтийские республики не стали бы спешить с выходом. См. Сгтонян Р. X. Страны Балтии и распад СССР // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 34–37. См. также Fedor Burlatsky!! Metta Spencer, ed. Separatism. — Lanham, MD, 1998. P. 141.
(обратно)32
Ельцин в ноябре 1991 г. также заверял аудиторию: «Трудно сказать, какое число государств войдёт в Союз, но у меня твёрдое убеждение, что Союз будет». Цит. по: Медведев. Советский Союз. С. 203. Один российский специалист уверен, что не имело значения, сколько республик сразу подпишут Договор, так как другие могли бы присоединиться позже. Четко С. В. // Трагедия великой державы. Под ред. Г.Н. Севостьянова. — М., 2005. С. 465. А, значит, утверждения типа того, что в новый Союз должны были обязательно войти «все пятнадцать республик», безосновательны. Edward W. Walker. Dissolution. — Lanham, 2003. P. 186.
(обратно)33
Часто утверждают, что Украина, на самом деле, ни за что не подписала бы Договор (см. ниже, прим. 84), однако Горбачёв, а также некоторые российские специалисты и, как минимум, один американский думали иначе. См. Барсенков. Введение. С. 198; Пляйс Яков // Независимая Газета. 1994. 3 марта; Чешка С.В. (см. предыд. прим.); Hale. Ethnofederalism and Theories of Secession.
(обратно)34
Возвращаясь к уже упомянутой возможности, если бы в июле 1991 г., как считает известный российский экономист, страны «большой семёрки» предоставили Горбачёву финансовую помощь, в которой он тогда отчаянно нуждался, а не отправили его из Лондона домой «с пустыми руками», то заговора могло бы и не быть. Отказ же только «подтолкнул» заговорщиков. См. Шмелев Николай // Свободная мысль. 1996. №. 7. С. 62; 1999. №2. С. 77; Прорыв к свободе. С. 207. Действительно, в июне-июле заговорщики предпринимали шаги, направленные на то, чтобы помешать Горбачёву получить помощь Запада. См. Halm. Russia's Revolution. P. 406; Mark Kramer // Journal of Cold War Studies. Winter 2005. P. 62. По поводу отказа «семёрки» и «большом унижении» Горбачёва см. Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 178–182. Некоторые, однако, считают, что помощь западных стран не смогла бы предотвратить советского распада. Celeste Wallander // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 164.
(обратно)35
На самом деле, после августовских событий Ельцин всё ещё подумывал о том, чтобы самому стать президентом Советского Союза. См. Ельцин Б.Н. Записки президента. — М., 1994. С. 154–55. Горбачёв, естественно, продолжал настаивать, что Союз должен быть сохранен. Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 2. Гл. 44. В качестве примера другой, но близкой к данной концепции союзной альтернативы, продолжавшей существовать после 1991 г., см. Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 245–246.
(обратно)36
В другом месте Коткин заявил о бессмысленности «горбачёвских поисков несуществующего реформированного социализма». — Kotkin // East European Constitutional Review. Fall 1997. P. 118. См. также Jeffrey W. Halm // Slavic Review 52. No. 4 (Winter 1993). P. 851. Некоторые западные учёные склонны считать период горбачёвской перестройки «переходом» («transition»). См., напр.: Huber // Huber and Kelley, eds. Perestroika-Era Politics. P. 3; Archie Brown // Journal of Democracy 12. No. 4 (October 2001). P. 35; и Hahn. Russia's Revolution. Chap. 8. Как само слово («переход»), так и обозначаемое им понятие нередко использовались в отношении горбачёвских реформ советскими авторами того периода.
(обратно)37
Так, один американский советолог с большим удивлением отмечал в то время, что «оживают институты, которые большинство людей считало мёртвыми; неестественной, гротескной карикатурой на то, чем они должны были быть». Donald W. Treadgold // Wieczynski, ed. Gorbachev. P. 43.
(обратно)38
См. также откровенно антигорбачёвское «Обращение к народу» (Советская Россия. 1991. 23 июля), подписанное, в том числе, двумя действующими генералами. То, что главной целью «Обращения» была демонстрация неподчинения, позже подтвердили и один из его организаторов (Зюганов Т.А. // Там же. 2001. 26 июля), и автор (Проханов Александр // НГ-Ех Libris. 2006. 2 марта).
(обратно)39
Во многом из-за роли, сыгранной ими впоследствии в августовском путче, ведущие члены нового горбачёвского правительства прослыли законченными реакционерами, но в 1990 г. таковыми их ещё никто не считал. Даже сторонники Горбачёва не могли сказать о них ничего плохого как о людях и профессионалах ни до, ни даже после путча. О Валентине Павлове, новом премьер-министре, чьи умеренно-реформистские взгляды были изложены в газете Правда от 21 февраля 1991 г., см. Черняев. 1991 год. С. 100, 156; Лацис Отто // Литературная газета. 1991. 23 января; Головков Александр // Независимая газета. 1998. 26 сентября; Попов Г. А. // Вопросы экономики. 2005. №8. С. 139–144; а также его собственный взгляд: Павлов Валентин. Упущен ли шанс? — М., 1995. По поводу фигуры главы КГБ Владимира Крючкова см. Шеварнадзе Э.А. Правда. 1991. 22 июня; Яковлев А.Н. Труд. 1993. 23 февраля. О министре внутренних дел Борисе Пуго см. мнение Черняева, процитированное в Braithwaite. Across the Moscow River. P. 240; а также оценку самого Горбачёва, называвшего Пуго «человеком порядочным» (Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 1. С. 408). Характерно, что новый вице-президент Геннадий Янаев считал себя экономическим реформатором, не приемлющим методы «шоковой терапии»: Гласность. 1991. 3 января. См. также Hough. Democratization. Р.400, 442.
(обратно)40
В тот период Горбачёв неоднократно повторял, что он никогда не повернет назад. См., напр., FBIS. Feb. 15, 1991. Р. 27, и Feb. 27, 1991. Р. 78–79; и Правда. 1991. 2 марта.
(обратно)41
По поводу политической моды см. Бурлацкий Ф. // Литературная газета. 1990. 2 мая и Шеварнадзе Э. // Там же. 1990. 18 апреля. Последний, в частности, заметил: «Оптимизм сегодня не в моде. Напротив, многие соревнуются в пессимизме, выдвижении самых ужасных прогнозов». В качестве примера современного и ретроспективного взглядов на этот счёт см. Гусаревич Олег // Правда. 1990. 8 января, который считал, что гласность и демократизация привели к «гражданской войне» в публицистике и общественном мнении, и Beissinger. National Mobilization. P. 88, 124, который полагает, что первые, достаточно свободные, парламентские выборы в 1989 г. «потрясли страну» и заставили «советский режим… закачаться на грани». См. также Breslauer. Gorbachev and Yeltsin as Leaders. P. 123. Но почему обычные, пусть и неуправляемые аспекты демократической политической жизни нужно обязательно трактовать таким исключительным образом? На самом деле, даже в июне 1991 г., по мнению одного из самых критически настроенных советников Горбачёва, ситуация оставалась относительно стабильной. Aleksandr Yakovlev // FBIS. June 7, 1991. P. 27. Критическое отношение к «истерии» в московской интеллектуальной и западной прессе того времени см. также Hough. Democratization. P. 262–265; Moshe Lewin. Russia/USSR/Russia. — New York, 1995. P. 301; и Dallin // Dallin and Lapidus, eds. Soviet System. P. 674. Последний резонно замечает, что система переживала и худшие кризисы.
(обратно)42
Даже западные учёные, наблюдавшие «неудержимый процесс распада», не предвидели конца Советского Союза. См., напр., Peter Reddaway // Report. Aug. 25, 1989. P. 1. He предвидели этого и те, кто потом доказывал, что такой финал был неизбежен. См., напр., Martin Malia // New York Review of Books. March 29, 1990. P. 26–27. В качестве исключения см. Vladimir Kvint (русский учёный, живущий в США) // Moscow Magazine. April 1991. P. 45, а в качестве частичного исключения — Zbigniew Brzezinski. The Grand Pailure. — New York, 1989. P. 245. Бжезинский полагал, что из пяти возможных «альтернативных исходов» прекращение существования СССР было «гораздо более отдалённой» перспективой.
(обратно)43
Существуют и совсем уж несерьёзные объяснения типа предположения о том, что гибель Советского Союза «ускорила» жена президента Рейгана Нэнси. Diana McLellan // WP Book World. June 15, 2003. P. 5.
(обратно)44
По вполне объяснимым причинам версия «обреченной империи» была в ходу в ельцинском окружении, помогавшем упразднить Союз. См., напр., Nelson and Kuzes. Radical Reform. P. 10, где приводятся суждения Геннадия Бурбулиса и Сергея Васильева.
(обратно)45
Российский автор, хорошо знавший ситуацию изнутри, считает, однако, что «никто ни в ЦК, ни в руководстве страны не заметил ухода Восточной Европы» в 1989 г., так как были заняты драматическими событиями внутри страны. Ципко Александр // Вестник аналитики. 2005. № 2. С. 225. В качестве примера попытки научно объяснить связь между этими двумя событиями, которая приводит лишь к большей путанице, см. Mark R. Beissinger // Slavic Review. Summer 2006. P. 294–303.
(обратно)46
Кстати сказать, мало кто из западных учёных так ненавидел Советский Союз, как Мартин Малиа, но даже он отрицал, что тот «был империей… по крайней мере, в привычном смысле этого слова». Daedalus. Spring 1992. P. 66. Одна западная исследовательница, используя «имперскую» модель, в своё время попыталась представить сценарий неизбежной гибели СССР в столкновении с мусульманским миром. Helene Carrere d'Encausse. Decline of An Empire. — New York, 1981. P. 277–284. Российские учёные подвергли её работу острой критике. См. Исхаков С.М., Tишков В.А. // Трагедия великой державы. Под ред. Севостьянова. С. 486, 502–503, 594.
(обратно)47
Один американский учёный попытался сгладить аномалии, выдвинув понятие «сходства» Советского Союза с империей, однако оно было бы применимо и в отношении многих других многонациональных государств. Beissinger // Slavic Review. Summer 2006. P. 294–303.
(обратно)48
См. Shlapentokh. A Normal Totalitarian Society. P. 163–166; а также мнение президента Киргизии, который «благодарен советскому периоду» за индустриальный и технологический прогресс, достигнутый его республикой. Свободная мысль. 2002. № 4. С. 52. А некоторые российские интеллигенты и политики вслух заявляли, что их богатая ресурсами республика пала экономической жертвой Союза. См. различные точки зрения по этому вопросу: Hough. Democratization. P. 241–245; Fowkes. Disintegration. P. 152–156; а также, в более широком контексте: Geoffrey Hosking. Rulers and Victims. — Cambridge, MA, 2006.
(обратно)49
Даже лидеры, считавшиеся главными поборниками независимости: Звиад Гамсахурдия (Грузия), Леонид Кравчук (Украина) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан), — не выступили открыто против ГКЧП. См. Янаев Геннадий // Там же. 1996. 15–21 августа; Попцив. Хроника времён царя Бориса. С. 259–260. По поводу Кравчука и Назарбаева см. также Бутенко Анатолий // Правда. 1991. 18 сентября, а поводу Кравчука ещё и Wilson. The Ukranians. P. 166–168, и George Bush, and Brent Scowcroft. A World Transformed. — New York, 1998. P. 554.
(обратно)50
Даже Сергей Шахрай, один из авторов проекта отмены Союза, подтвердил это. Независимая газета. 2000. 16 мая. По мнению одного из главных российских демократов, резолюция означала «ничуть не более подлинный суверенитет, чем в Штатах». Sergei Stankevich // Demokratizatsiya. Spring 1994. P. 319. А Горбачёв, который впоследствии обвинил резолюцию в развале СССР, в то время, по отзывам, так не думал: «Ничего страшного не вижу, — говорил он. — Это Союзу не угрожает». Бобков Ф.Д. КГБ и власть. — М., 1995. С. 365.
(обратно)51
Бурлацкий называет украинскую элиту «главным тараном» в деле разрушения СССР, а Дебарделебен обращает внимание на «значение реальности, выстроенной элитами».
(обратно)52
По наблюдению бывшего советского диссидента и политзаключенного, только с запуском гайдаровских «реформ» в 1992 г. в стране «впервые появились голодные». — Andrei Sinyavsky. The Russian Intelligentsia. — New York, 1997. P. 29–30.
(обратно)53
Руководство понимало, что главной причиной проблемы является официальная ценовая политика. См. Лукьянов Анатолий // Комсомольская правда. 1991. 13 марта, а также Новая жизнь. 2002. 25 октября (со ссылкой на Горбачёва). Такого же рода «искусственно созданный» дефицит случился в стране в 1928–1929 гг., послужив одной из причин свертывания НЭПа — эту точку зрения озвучил Анатолий Собчак. См. Anatoly Sobchak // FBIS. Sept. 24, 1991. P. 68.
(обратно)54
Мрачные предзнаменования исходили как от противников Горбачёва, так и от его собственного окружения, которое надеялось таким образом запугать Запад и заставить раскошелиться, не то дестабилизированный Союз вконец утратит «контроль за крупнейшим в мире ядерным потенциалом». См., напр., письмо Григория Явлинского и Евгения Примакова участникам встречи «большой семёрки», New York Times, May 30, 1991; Michael R. Beschloss and Strobe Talbott. At the Highest Levels. — Boston, 1993. P. 384. По поводу «соляной лихорадки» см. Moscow News. Feb. 17 — March 2, 2006.
(обратно)55
О месте Горбачёва в этой традиции см., напр., Ципко Александр // Комсомольская правда. 1991. 16 марта; о «судьбе реформаторов» см. Бурлацкий Фёдор // Литературная газета. 1990. 27 июня; Шатров М.Ф. // Свободная мысль. 1994. № 10. С. 23; Медведев В. // Прорыв к свободе. С. 9, а также известное высказывание самого Горбачёва: «Я не знаю счастливых реформаторов». В другой раз, комментируя перечисленный здесь ряд событий, он уточнил: «Судьбы русских реформаторов трагичны». Горбачёв. Годы трудных решений. — М., 1993. С. 25; Он же // Комсомольская правда. 1993. 19 августа. См. также Перестройка. Под ред. Толстых. С. 213. Ещё более определённо выразилась однажды жена Горбачёва: «Проблема нововведений заключается в том, что они рано или поздно оборачиваются против своих авторов и уничтожают их». Цит. по: Bescshloss and Talbott. Highest Levels. P. 230. О Ленине как о «трагической фигуре» см. Буртин Юрий // Красные холмы. Альманах. — М., 1999. С. 462. В качестве примера критики подобного «детерминистского» подхода к трактовке русских реформ см. Каменский А.Б. // Вопросы философии. 2006. № 6. С. 25–26.
(обратно)56
Сам Горбачёв крайне редко публично упрекал интеллигенцию за то, что она отвернулась от него, но однажды в 1992 г. в сердцах пожаловался на «предательство интеллигенции, которой всё дал». Цит. по: Ципко // Прорыв к свободе. С. 336. Иное объяснение идейного обращения интеллигенции см. Kotz and Weir. Revolution From Above. P. 65–66, 69–70; а пример критической трактовки роли интеллигенции в советское и постсоветское время, см. Boris Kagarlitsky. Russia Under Yeltsin and Putin. — London, 2002. Chap. 2.
(обратно)57
Влиятельные западные эксперты утверждают, что отказа Горбачёва от плана «500 дней» было либо проявлением его псевдореформаторской сущности, либо «фатальной ошибкой». См., напр., Malia. Soviet Tragedy. P. 479–480; Matlock. Autopsy On an Empire. P. 419; а также Robert G. Kaiser. Why Gorbachev Happened. Exp. ed. — New York, 1992. P. 363, George Soros // Moscow News, Oct. 30 — Nov. 5, 1997. Однако даже сторонники методов «шоковой терапии» из ельцинской команды позднее признавались, что план 1990 г. был «сказкой», «утопизмом» и просто «нереалистичным». См. Гайдар Е. Дни поражений и побед. С. 68; Согрин В. // Новая и новейшая история. 1999. № 1. С. 86, а также McFaul. Russia's Unfinished Revolution. P. 100. Даже Ельцин, поддержавший план в 1990–1991 гг., позже назвал его примером «детского» отношения и «максимализма». — Московские новости. 2003. 21 октября.
(обратно)58
Ещё один представитель умеренных назвал их «партией дураков». — Петраков. Русская рулетка. С. 278–286. Более подробный анализ политики интеллигенции см. Devlin. Rise of the Russian Democrats.
(обратно)59
Самыми большими «объективистами» в России являются те, кто играл главные роли в упразднении Союза и в управлении возникшим из него постсоветским государством, но при этом отрицает свою личную, то есть субъективную, ответственность за это, о чём говорилось ещё в то время (см. Марков Сергей // Труд. 1991. 15 декабря). См. интервью Ельцина российскому телевидению 14 марта 1996 г., в котором он утверждал, что «крах» был результатом «объективного процесса» и потому «неизбежным». — FBTS. March 15, 1996. Р. 18, а также Ельцин Б.Н. Записки президента. — М., 1994. С. 152; Vladimir Май and Irina Starodubrovskaya. The Challenge of Revolution. — New York, 2001; Гайдар Егор. Дни поражений и побед. С. 148–151. Кроме того, см. русских авторов из прим. 192.
(обратно)60
По поводу белорусского лидера Шушкевича, который, по некоторым данным, был в Минске учителем Ли Харви Освальда, убийцы президента Кеннеди (Steven Lee Myers // New York Times. May 30, 2003), см. его собственное, странное и противоречивое, изложение событий в «Огоньке» — Огонёк. 1996. № 49. С. 10–14, а также Гайдар. Дни поражений и побед. С. 150. Информированный российский автор отмечает, что Ельцин и Кравчук замышляли провокацию против Союза, начиная с сентября 1991 г., и всё это время Ельцин подстёгивал сепаратистские устремления последнего. Сазонов. Предателями не рождаются. С. 120, 128. См. также George Bush and Brent Scowcroft. A World Transformed. — New York, 1998. P. 556.
(обратно)61
Горбачёв всегда был уверен, что Украина вернулась бы в Союз, и в этом с ним согласны некоторые западные специалисты. См. Gorbachev. My Country. P. 151; Пять лет после Беловежья. С. 5–10, 104–105; и, напр., Simes. After the Collapse. P. 65–66. По поводу Ельцина см. Hough. Democratization and “Revolution. P. 469; а также Gorbachev. My Country. P. 147, Ципко A. // Известия. 1991. 1 октября. См. также прим. 178.
(обратно)62
В своё время американские официальные лица не сомневались, что воля Горбачёва была решающим фактором прекращения существования советской империи в Восточной Европе. См. Don Oberdorfer. The Turn. — New York, 1991. P. 361; Beschloss and Talbott. Highest Levels. P. 92. Также см. Jacques Levesque. The Enigma of 1989. — Berkeley, 1997. Даже у противников Горбачёва не возникает вопросов по поводу того, кто положил конец «холодной войне»: «Этот деревенский дурак Миша Горбачёв победил Россию». — Вахитов Рустем // Советская Россия. 2002. 30 июля.
(обратно)63
Один из сторонников Горбачёва позже увидел в этом чудовищную ошибку российской политики. — Ципко // Литературная газета. 2005. 19 января.
(обратно)64
Отказ Горбачёва арестовать Ельцина и других заговорщиков против Союза в декабре 1991 г. — «я так не могу» — принято трактовать как результат отсутствия «политической воли», но на самом деле в нём проявилась воля человека, верного своему кредо. См. Сазонов. Предателями не рождаются. С. 132–133.
(обратно)65
Как видно из воспоминаний Ельцина (см. выше, прим. 189), его ненависть была обусловлена и подогревалась, в первую очередь, завистью к высокому посту Горбачёва, затем негодованием по поводу того, что его самого избрали, с подачи лидера, лишь кандидатом, а не членом Политбюро, а ещё позже — унижением, которое он испытал, будучи отправлен Горбачёвым в отставку. См. по этому поводу Marc Zlotnik // Journal of Cold War Studies. Winter 2003. P. 128–164. Добившись власти. Ельцин принялся, в свою очередь, по-всякому унижать Горбачёва, и даже спустя годы не преминул подчеркнуть, что не любит своего бывшего оппонента. См. интервью Ельцина российскому телеканалу ОРТ 17 октября 2000 г., Johnson's Russia List. Oct. 12, 2000.
(обратно)66
Взять хотя бы то, что «план “500 дней”, который Ельцин с таким энтузиазмом поддерживал, он даже не читал», зато Горбачёв, выступивший против, «дважды прочёл каждое слово». — Braithwaite. Across the Moscow River. P. 293. См. также Matlock. Autopsy On An Empire. P. 418. По поводу других противоречивых позиций Ельцина см.: о перестройке — FBIS. Jan. 18, 1990. P. 131, June 3, 1991. P. 72, Черняев. 1991 год. С. 39; о «шоковой терапии» — Комсомольская правда. 1990. 8 августа, Известия. 1991. 4 декабря. В одном из таких случаев Горбачёв даже заметил: «Я не понял: это один и тот же человек или нет». — Правда. 1991. 16 апреля, а также Горбачёв. Понять перестройку. С. 358, где он пишет, что Ельцин вплоть до 1991 г. присылал ему поздравления по случаю коммунистических праздников. Позже противники Ельцина подробно перечислили, сколько раз и как менялись его взгляды. См., напр., Челноков М. Россия без Союза. С. 30–33; Трушков В. // Правда. 1996. 16 марта. См. также Hough. Democratization and Revolution. P. 279, 308, 333–334, 339–340. Ельцин, похоже, позже признал обоснованность обвинений, во всяком случае, части из них. Ельцин. Записки президента. С. 32. Сходную трактовку Ельцина-политика см. Kagarlitsky. Russia Under Yeltsin and Putin. P. 77–83.
(обратно)67
Глава советского Казахстана Назарбаев, к примеру, отказался подписать Беловежское соглашение на том основании, что не может ничего подписывать «без согласия своего парламента и правительства». См. Пять лет после Беловежья. С. 157.
(обратно)68
До тех пор пока ельцинским помощникам не удалось прикрыть акт фиговым листом законодательства, они знали, что он был незаконным. См. Козырев А.В. // Пять лет после Беловежья. С. 161–162, а также дискуссию по этому вопросу, Станкевич. История. С. 299–312; Walker. Dissolution. P. 169. В 1998 г. Беловежский акт стал главной статьей импичмента, который предложила объявить Ельцину преобладающая коммунистическая фракция парламента. См. Советская Россия. 1998. 6 августа. По поводу опасения ареста см. Явлинский Григорий // Московские новости. 1996. 11–18 февраля (со ссылкой на Вячеслава Кебича); Грачев. Горбачёв. С. 409; Барсепков. Введение в современную российскую историю. С. 351; Hough. Democratization and Revolution. P. 482–83; а по поводу министра обороны — Гайдар. Дни поражений и побед. С. 150. По поводу «сверхсекретности» см. Ельцин. Записки президента. С. 150. Кравчук как-то позже заметил, что Беловежье было «не для людей со слабыми нервами». — Цит. по: Andrew Wilson. The Ukrainians. — New Haven, 2000. P. 169. Многие западные специалисты пытались оправдать или положительно истолковать ельцинский переворот, представляя его как «демократический coup d'etat» или «голосование за отставку Горбачёва». См. Hosking. The First Socialist Society. P. 498; Strobe Talbott // New York Times. Feb. 24, 2005.
(обратно)69
По свидетельству Назарбаева, на вопрос Горбачёва, что он скажет народу после Беловежья, Ельцин ответил: «Я скажу, что займу ваше место». Пит. по: Пять лет после Беловежья. С. 158.
(обратно)70
Напротив, как выразился русский политолог, чьё мнение заслуживает безусловного доверия, Беловежский акт был «захватом власти «за спиной» народа». Фурман Дмитрий // Новая газета. 2004. 7–9 июня.
(обратно)71
С самого начала российские опросы общественного мнения, демонстрировавшие поддержку населением нового Содружества независимых государств, были отражением именно этого ошибочного восприятия, а не антисоветских настроений, как иногда считают. См., напр., Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 387.
(обратно)72
Ельцин и Кравчук, как утверждают, беспокоились, что если они просто объявят народу, что Союза больше нет, и ничего не предложат взамен, неизбежен взрыв. См. Wilson. Ukranians. P. 169–170. Адвокаты Ельцина позже настаивали, что «самостийные интересы пана Кравчука» разрушили это чаяние. Леонтьев Михаил. Сегодня. 1996. 1 марта. По поводу пьянства на встрече см. Remnick // New Yorker. March 11, 1996. P. 78–79; Сазонов. Предателями не рождаются. С. 132; а по поводу ощущения «обманутости» — Огонёк. 1996. № 49. С. 10–14.
(обратно)73
Один из тех, кто голосовал против ратификации, депутат Сергей Бабурин, указывал на ошибочность подобного восприятия. Национальные интересы. 2001. №5–6. С. 3. По поводу пояснений Ельцина см. Исаков. Расчленёнка. С. 295–301.
(обратно)74
Самым известным примером и законодателем мод в этой сфере был Виктор Черномырдин, советский министр газовой промышленности, ставший главой и крупнейшим акционером приватизированного газового гиганта «Газпром». См. Marshall I. Goldman. The Piratization of Russia. — London, 2003. Chap. 6.
(обратно)75
Марк Бейсинджер, напротив, утверждает, что элиты шли вслед за народными силами, вызывающими прилив национализма, но не были его создателями. — Beissinger. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. P. 36–37 (правда, в другом месте он сам себе противоречит — ср. Р. 428-429).
(обратно)76
В этой связи Шеварднадзе призывал администрацию Буша не доверять Кравчуку. См. Bush and Scowcroft. A World Transformed. P. 554.
(обратно)77
По устному свидетельству бывшего кремлёвского сотрудника. То есть, «они вовсе не были готовы сражаться за свою независимость». — Чешка. Распад Советского Союза. С. 275.
(обратно)78
В конце концов, для того чтобы обсудить и подписать новый союзный договор, Горбачёв был вынужден идти на всё большие уступки республикам, передавая им в собственность хозяйственные объекты Союза, расположенные на их территории. См. Барсенков. Введение в современную российскую историю. С. 117; Чешко. Распад Советского Союза. С. 268, 272.
(обратно)79
Такого же мнения придерживаются Фурман. Наше светлое будущее. С. 50–54 и Kotz and Weir. Revolution From Above. Chap. 7–8. He последнюю роль в этом играли личные качества самого Горбачёва, для которого «стремление обладать собственностью не было движущей силой»: будучи у власти он даже не имел собственной дачи. См. Archie Brown and Oksana Gaman-Golutvina // Brown, ed. Contemporary Russian Politics. — New York, 2001. P. 290–291, 307; Яковлев А.Н. и Горбачёв М.С. // Московские новости. 2005. 11 марта; а также Ципко А. // Прорыв к свободе. С. 344; Сазонов. Предателями не рождаются. С. 167. Ципко также упоминает об отказе Яковлева приватизировать госдачу, хотя после 1991 г. это стало общей практикой. — Вестник аналитики. 2006. № 2. С. 217. В качестве противоположной точки зрения, утверждающей, что Горбачёв тоже отказался от социализма, см. Stanislav Menshikov // Monthly Review. Oct. 1997. P. 51–52; Boris Kagarlitsky // In These Times. April 14, 1997.
(обратно)80
Горбачёв позже заметил, что Ельцин «просто решил» проблему номенклатуры: «отдал ей всё». — Горбачёвские чтения. Вып. 1. — М., 2003. С. 163; Политический класс. 2005. № 2. С. 57. И, как вскоре заметили наблюдатели, республиканские элиты со всех ног «бросились захватывать союзную собственность и провозглашать “суверенитет” над своими ресурсами». — Serge Schmemann // New York Times. Oct. 8, 1991.
(обратно)81
Например, московскому мэру он отдал ряд важных объектов столичной недвижимости, Кравчуку — ценные владения России на Украине, а генералам — госдачи. См. David К. Shipler // New Yorker. Nov. 11, 1991. P. 50; Бутузова Людмила // Московские новости. 2005. 19 августа; Hough. Democratization and Revolution. P. 487-488. Про конфискации союзной собственности см. прим. 176. По поводу поведения элит см. Pankin. Tast Hundred Days. P. 257; Грачев. Горбачёв. С. 287; Halm // Post-Soviet Affairs. Jan.-March 2000. P. 60, 76.
(обратно)82
Или, как пишет ведущий американский горбачёвовед, «страна, которую Горбачёв оставил своим наследникам, была более свободной, чем когда-либо в российской истории». Brown Archie. Seven Years That Changed the World. — New York, 2007. P. 330. О роли Горбачёва в демократизации страны см. также Brown. The Gorbachev Factor. — New York, 1997 и его статьи в сборнике Brown and Shevtsova, eds. Gorbachev, Yeltsin, Putin. — Washington, D. C.,2001.
(обратно)83
Возглавил кампанию президент Билл Клинтон (см, спор о «демократии» и «реформе» во время его совместной пресс-конференции с Ельциным, WP, April 5, 1993). И даже позднее советник Клинтона по национальной безопасности настаивал, что Ельцин «должен остаться в памяти как отец русской демократии». Berger Samuel in WP, Nov. 15,2001.
(обратно)84
Один из ближайших помощников Горбачёва характеризовал его цель как «некатастрофическую» трансформацию. Медведев Вадим. В команде Горбачёва. — М., 1994. С. 234.
(обратно)85
Самыми твердыми приверженцами идеи о перестройке как «упущенной альтернативе» и развале Союза как «трагической ошибке» были, безусловно, сторонники Горбачёва. См., напр., четыре публикации, посвященные двадцатилетию его прихода к власти: Прорыв к свободе. — М., 2005; Перестройка в трансформационном контексте. — М., 2005; Перестройка / Под ред. В.И. Толстых. — М.7 2005; Горбачёвские чтения №3. — М., 2005. Что касается мнения самого Горбачёва, см. его работы: Понять перестройку… — М., 2006. С. 365–379; Горбачёв М.С., Славин Б.Ф. Неоконченная история. 2-е изд. — М., 2005 и двухтомные мемуары «Жизнь и реформы». — М., 1995.
(обратно)86
На то, что «журналистика стала опасным делом», сетовала и дочь Горбачёва (цит. по White Gregory in WSJ, Dec. 1–2, 2007).
(обратно)87
Странно, что при этом Стил пришел к выводу, что Горбачёв «только на словах поддержал идею парламента» (Р. 256). Опубликованные материалы заседаний высшего советского законодательного органа 1989–1991 гг. служат ярким напоминанием об уникальном и неповторимом моменте в политической истории России.
(обратно)88
В 2005 г. ведущий российский правозащитник Сергей Ковалев назвал ситуацито с правами человека в России «просто катастрофической» (Радио «Эхо Москвы». 2005. 22 сентября). Ранней стадии этого процесса, начавшегося после Горбачёва, посвящены несколько статей из сборника Saivetz Carol and Jones Anthony, eds. In Search of Pluralism. — Boulder, Colo., 1994.
(обратно)89
Продолжение этого афоризма звучит так: «А тот, кто думает, что он может быть восстановлен, не имеет головы». Существуют и более жесткие варианты: «О распаде СССР сожалеют все, кроме, может быть, либералов и других членов “пятой колонны”. Умные люди не могут по-другому» (Ивашов Л.Г. // СР. 2006. 7 декабря).
(обратно)90
С другой стороны, тем из русских, кто был непосредственно причастен к отмене советского государства и к последовавшему затем ельцинскому режиму, мешала переосмыслить случившееся политическая ангажированность. См., напр.: Эпоха Ельцина / Под ред. Батурина и др., а также двух последних авторов в книге Ostrow Joel, Saratov Georgiy and Khakamada Irina, eds. The Consolidation of Dictatorship in Russia. — Westport, Conn., 2007. И это касалось не только граждан России: Shleifer Andrei. A Normal Country. — Cambridge, Mass., 2005. Разумеется, были среди русских интеллектуалов и те, кто считал, что альтернативы перестройке не было. См., напр.: Согрин В.В. // ОНС. 2002. № 4. С. 95–100, а также ряд статей в сборнике Эпоха Ельцина / Под ред. Батурина и др.
(обратно)91
Как напоминают Реддавей и Глинский (Tragedy. P. 2), большинство западных комментаторов «были в восторге» от распада советского государства. Один американский политолог, правда, призывал опасаться тех, кто готов «простить коммунистического лидера, который думал, что [демократизация] могла быть возможна» (Dawisha Karen in APSR, June 1999. P. 476).
(обратно)92
Даже один из бывших ельцинских пресс-секретарей и спустя почти пятнадцать лет писал: «Мы никак не можем понять, что же для нас значил распад СССР» (Костиков Вячеслав // АиФ. 2005. 9 ноября).
(обратно)93
По некоторым оценкам, в России существует «почти всеобщее убеждение», что идеология постсоветского ельцинизма была «вывернутой наизнанку идеологией советского коммунизма». Kagarlitsky Boris. Russia Under Yeltsin and Putin. — London, 2002. P. 55.
(обратно)94
Даже известная своей умеренностью в оценках сторонница демократических реформ назвала Беловежье «просто актом государственной измены». Zaslavskaya Tatyana in Demokratizatsiya, Spring 2005. P. 299.
(обратно)95
О масштабах бедности велись споры. Вслед за официальной российской статистикой, многие западные комментаторы полагали, что она затронула менее двадцати процентов населения. Николай Шмелев, серьезный и уважаемый экономист умеренных взглядов, приводит цифру «семьдесят-восемьдесят процентов», которая, скорее всего, была более точной. По поводу падения производства см. Ry-urikov. Russia. P. 19.
(обратно)96
Кремлевский идеолог Сурков использует это выражение в собственных целях, но в целом правомерно, добавляя, что эта элита не видит будущего или будущего своих детей в России. По поводу упомянутого опроса см. ВН. 2005. 24 августа, а также НГ. 2005. 16 августа.
(обратно)97
Таким же большим мифом было утверждение, что распад Союза освободил «реформаторов из республик» от власти «реакционеров из Центра» (Szporluk Roman in NYT, Jan. 23, 1991). На деле, освободившись из-под влияния московских реформаторов, реакционеры захватили контроль над властью и собственностью во многих республиках.
(обратно)98
Датированный 30 марта 1990 года, этот малоизвестный документ был разработан группой под руководством А. Чубайса, позже сыгравшего в приватизационной кампании Ельцина роль главного практикующего шокотерапевта (см. Гельман В.Я. // ОНС. 1997. №4. С. 66–67; Вишневский Борис // НГ. 1998. 14 февраля). Он родился из более широкой дискуссии, начатой в 1989 г., вокруг режима «железной руки» и его необходимости для периода советской трансформации. Очень может быть, что эти интеллектуалы-антимарксисты изначально были «больше заинтересованы в свободном рынке, чем в демократии» (Reddaway and Glinski. Tragedy. P. 59), однако, оказавшись у власти, не занимались ни тем, ни другим.
(обратно)99
Генри Киссинджер и Джордж Шульц были обеспокоены тем, что война «будет воспринята как метафора более крупного конфликта» (WP, Oct. 8, 2008). И небезосновательно. См., напр., Богатуров Алексей, Фененко Алексей // СМ. 2008. №11, которые, с российской точки зрения, рассматривают войну как водораздел в российско-американских отношениях. По поводу анализа и подоплеки событий см. Friedman George in NYRB, Sept. 25, 2008. P. 24–26.
(обратно)100
В 2003 году посол США в Москве сетовал, что «расхождение в ценностях» является главным препятствием в отношениях двух стран (на эти слова посла ссылался Sestanovich Stephen in FA, Nov. — Dec. 2008. P. 12, однако здесь я цитирую Asmus Ronald in WP, Dec. 13, 2008). По поводу идеологов с американской стороны см., напр., Kagan Robert. The Return of History and the End of Dreams. — New York, 2008; Sestanovich in FA, Nov.-Dec. 2008. P. 12–28; McFaul in JRL, Sept. 9, 2008; Council of Foreign Relations. Russia's Wrong Direction. Task Force Report No. 57. — New York, 2006; отчеты о связанных с Россией многочисленных мероприятиях Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute), напр., опубликованный в JRL, Oct. 15, 2008; а в качестве англо-американского примера — Lucas Edward. The New Cold War. — New York, 2008. По поводу обвинений путинской России в «фашизме» и проведении аналогий с нацистской Германией см. Wieseltier Leon in NR, Feb. 27, 2008. P. 48; Pipes Richard in FT, July 22, 2008; Brzezinski Zbigniew at huffingtonpost. com, Aug. 8, 2008; WP editorial, Sept. 2, 2008.
(обратно)101
Почти сразу же в 1985 г., например, Горбачёв неофициально отказался от «брежневской доктрины», дававшей Кремлю право определять внутреннюю и внешнюю политику восточноевропейских соцстран, и дал ясно понять, что намерен покончить с советской оккупацией Афганистана. См. Brown. Seven Years. P. 242–243.
(обратно)102
Рейган соглашался: «Я думаю, победили обе стороны» (Matlock Jr. in Desai. Conversations on Russia. P. 33 1). To же думал и генеральный секретарь НАТО: «Здесь нет побежденных, только победители» (цит. по Lewin Flora in NYT, July 21, 1990).
(обратно)103
Позже в том же году, на съезде Республиканской партии, Патрик Бьюкенен (Patrick J. Buchanan), один из соперников Буша по выдвижению в кандидаты, поставил в заслугу, в первую очередь, Рейгану и, во вторую, Бушу «политику, позволившую выиграть холодную войну». Республиканский кандидат 2008 г. сенатор Джон Маккейн (McCain) был не менее категоричен: «Рональд Рейган выиграл холодную войну» (цит. по Cooper Michael in NYT, Feb. 24, 2008). Контуры этого пересмотренного взгляда Буш задал в декабре 1991 г., заявив, что конец Советского Союза — это «победа с точки зрения морального торжества наших ценностей» (стенограмма его речи 25 декабря, опубл. в NYT, Dec. 26, 1991). По поводу реакции Москвы см. Стеши Вячеслав // Перестройка / Под ред. В. Толстых. С. 69.
(обратно)Ссылки
1
Richard Sakwa. Gorbachev and His Reforms, 1985-1990. — N. J.: Engiewood Cliffs, 1991. P. 357; Ed A. HewetL Is Soviet Socialism Reformable? // Alexander Dallin and Gail W. Lapidus eds. The Soviet System: From Crisis to Collapse. Rev. ed. — Boulder, 1995. P. 320. В качестве примеров других работ того времени, основанных на мнении о реформируемости системы, см.: Robert V. Daniels. Ts Russia Reformable? Change and Resistance from Stalin to Gorbachev. — Boulder, 1988; George W. Breslauer, ed. Can Gorbachev's Reforms Succeed? — Berkeley, 1990; Stephen While. Gorbachev in Power. — New York, 1990; Robert T. Huber and Donald R. Kelley, eds. Perestroika-Era Politics: The New Soviet Legislature and Gorbachev's Political Reforms. — Armonk, 1991; Eugene Huskey, ed. Executive Power and Soviet Politics: The Rise and Decline of the Soviet State. — Armonk, 1992; Michael E. Urban. More Power to the Soviets: The Democratic Revolution in the USSR. — Brookfield, VT, 1990; Jerry F. Hough. Russia and the West: Gorbachev and the Politics of Reform. 2 ed. — New York, 1990. Ряд авторов упоминают в своих работах Йан Халленберг и Дэвид Роули: Jan Hallenberg. The Demise of the Soviet Union: Analysing the Collapse of a State. — Burlington, VT, 2002. P. 177-186, 195, David Rowley // Kritika 2. No.2. Spring 2001. P. 414, n.9. По поводу мнения правительства США см.: Michael R. Beschloss and Strobe Talbott. At the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War. — Boston, 1993. Chaps. 16-21.
(обратно)2
См. соответственно: Anders Aslund. How Russia Became A Market Economy. — Washington, 1995. P. 31 and Chap. 2 passim; M. Steven Fish. Democracy From Scratch: Opposition and Regime in the New Russian Revolution. — Princeton, 1995. P. 3; Michael Dobbs // Washington Post. 15 December 1991; Beryl Williams II Russian Review 56. No.l. January 1997. P. 143; и David Saunders // Europe-Asia Studies 48. No. 5. July 1996. P. 868. См. также: Martin Malia. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991. — New York, 1994; Fred Coleman. The Decline and Fall of the Soviet Empire: Forty Years that Shook the World, from Stalin to Yeltsin. — New York, 1996, p.xii, xv, xvi; Alec Nove. The Soviet System in Retrospect: An Obituary Notice. — New York, 1993. P. 7; Richard Pipes. Communism: A History. — London, 1994. P. 39; Wis la Suras ka. How the Soviet Union Disappeared. — Durham, 1998; Valerie Bunce. Subversive Institutions. — New York, 1999. P. 37; Fritz W. Ermarth // National Interest. Spring 1999. P. 5; Stephen Коtkin. Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000. — New York, 2001. P. 181; и MarkR. Beissinger. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York, 2002. P. 390. В качестве примечательных исключений см.: Alexander Dallin // Dallin and Lapidus, eds. Soviet System. Chap. 58; David M. Kotz and Fred Weir. Revolution From Above: The Demise of the Soviet System. — New York, 1997; Ronald Grigor Suny. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. — Stanford, 1993; Archie Brown. The Gorbachev Factor. — New York, 1997; Jerry F. Hough. Democratization and Revolution in the USSR, 1985-1991. — Washington, 1997; и Peter Reddaway, Dmitri Glinski. The Tragedy of Russia's Reforms: Market Bolshevism Against Democracy. — Washington, 2001. Несколько иной подход к проблеме можно встретить в более ранней работе Даллина: Alexander Dallin // Robert О. Crummey, ed. Reform in Russia and the USSR: Past and Prospects. — Urbana, 1989. P. 243-256. Интересный взгляд на проблему изнутри политической культуры коммунистической системы см.: Zdenek Mlynar. Can Gorbachev Change the Soviet Union? The International Dimensions of Political Reform. — Boulder, 1990.
(обратно)3
Martin Malia in Daedalus 121. No. 2. Spring 1992. P. 60; Alain Besangon // George R. Urban, ed. Can the Soviet System Survive Reform? Seven Colloquies About the State of Soviet Socialism Seventy Years After the Bolshevik Revolution. — London, 1989. P. 202.
(обратно)4
Malia. Soviet Tragedy. P. 5; Malia // Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 44. No. 2. November 1990. P. 8; Malia // Dallin and Lapidus, eds. Soviet System. P. 667. См. также: David Salter. The Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union. — New York, 1996; Terry McNeill // Michael Cox, ed. Rethinking the Soviet Collapse: Sovietology, the Death of Communism and the New Russia. — New York, 1998. P. 68; Daniel Chirot // Philip G. Roeder. Red Sunset. — Princeton, 1993. P. 15; соответствующие примеры из статьи Rowley // Kritika. Spring 2001. P. 400, n.ll; а также представивший взгляды Ричарда Пайпса Vladimir Brovkin // Journal of Cold War Studies. Winter 2006. P. 127-132. Даже один из поклонников Малия был смущён его склонностью всё списывать на «первородный грех библейского масштаба». Yanni Kotsonis // Russian Review 58. No. I. January 1999. P. 126. В качестве примера систематической критики трактовки Малия см.: Dallin // Dallin and Lapidus, eds. The Soviet System. Chap. 58.
(обратно)5
См. соответственно: David Brion Davis // New York Times. Aug. 26, 2001; Eric Foner // The Nation. Oct. 31, 2005. P. 26; Edward Rothstein // New York Times. Oct. 7, 2005; James Oliver Horton and Lois E. Horton. Slavery and the Making of America. — New York, 2005. P. 7, 159.
(обратно)6
См. соответственно: Richard W. Stevenson // New York Times. July 9, 2003 (по поводу Дж. Буша, цитирующего Джона Адамса); Steven Mintz // Chronicle. Feb. 7, 2003, P. В16; George M. Fredrickson // New York Review of Books. March 25, 2004. P. 34 и Steve R. Weisman (цитирует Кондолизу Райc) // New York Times. Oct. 22, 2005 (по поводу «первородного греха»). По поводу Рейгана см. Raymond L. Garthoff. The Great Transition. — Washington, 1994. P. 352.
(обратно)7
Цитаты взяты из статей следующих авторов: Michael Dobbs // Washington Post Magazine. June 9, 1996. P. 29; Dusko Doder // Washington Post Book World. March 22, 1998. См. также: Malia. Soviet Tragedy. P. 492; Michael McFaul // Andrew С. Kuchins, ed. Russia After the Fall. — Washington, 2002. P. 27; Stephen White // Slavic Review. Summer 2002. P. 421; Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 4, 341; Jack F. Matlock, Jr. Autopsy On An Empire: The American Ambassador's Account of the Collapse of the Soviet Union. — New York, 1995. P. 293; Peter Kenez // Kritika 4. No. 2. Spring 2003. P. 369.
(обратно)8
Термины принадлежат Рейнхарду Бендиксу (Reinhard Bendix). См. Dallin // Dallin and Lapidus, eds. The Soviet System. P. 688. См. также: Mark Almond // Niall Ferguson, ed. Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. — London, 1997. P. 392.
(обратно)9
Некоторые исключения из этого правила см. в работах: George W. Breslauer. Gorbachev and Yeltsin as Leaders. — New York, 2002. P. 266–270; Henry E. Hale. Ethnofederal-ism and Theories of Seccession. June 2001, неопублик. рукопись; Mark R. Beissinger // Slavic Review. Summer 2006. P. 301 и, особенно, Hough. Democratization and Revolution, где рассматривается ряд вопросов, поднимаемых здесь. По поводу других областей см.: Philip Е. Tetlock and Aaron Belkin, eds. Counterfactual Thought Experiments in World Politics. — Princeton, 1996; Ferguson. Virtual History; Robert Crawly, ed. What It? — New York, 1999; Andrew Roberts, ed. What Might Have Been. — London, 2004. По поводу пользы контрфактического подхода вообще см.: Martin Bunzl // American Historical Review. June 2004. P. 845–858.
(обратно)10
По поводу приведённых цитат см. соответственно: Carolyn McGifferi Ekedakl and Melvin A. Goodman. The Wars of Etluard Shevardnadze — University Park, PA, 1997. P. 50; Giulietto Chiesa. Transition to Democracy: Political Change in the Soviet Union, 1987–1991. — Hanover, 1993. P. 203; и Peter Rutland // Cox, ed. Rethinking the Soviet Collapse. P. 43. Различные версии этого «институционального» тезиса см.: Roeder. Red Sunset; Bunce. Subversive Institutions; и Richard Sakwa // Stephen White, et al., eds. Developments in Russian Politics 4. — Durham, 1997. P. 16.
(обратно)11
John Keep. Last of the Empires: A History of the Soviet Union, 1945–1991. — New York, 1995. P. 416 (Кип цитирует здесь Р. Карклина, с которым полностью солидарен). Такого же мнения придерживается Роберт Конквест, на которого ссылается Браун: Brown. Gorbachev. P. 252. См. также: Kotkin. Armageddon Averted, 71–73; и Anthony D'Agostino. Gorbachev's Revolution. — New York, 1998. P. 172. В явной или скрытой форме этот тезис присутствует во многих других западных работах. См., напр.: Fish. Democracy From Scratch; Nicolai N. Petro. The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture. — Cambridge, 1995; Michael Urban. The Rebirth of Politics in Russia. — New York, 1997; Malia. Soviet Tragedy; Coleman. Decline and Fall; John B. Dunlop. The Rise of Russia and the Fail of the Soviet Empire. — Princeton, 1993; и Michael McFaul. Russia's Unfinished Revolution: Political Change from Gorbachev to Putin. — Ithaca, 2001.
(обратно)12
См. соответственно: Kotz and Weir. Revolution From Above. P. 239, n.9 (цитируют Р. Карклина); Michael Wines // New York Times. Jan.9, 2000; Fish. Democracy From Scratch. P. 3, 51; Stephen Kotkin // Russian Review 61. No. 1. January 2002. P. 50; Thomas L. Friedman // New York Times. May 2, 1998 (цитирует Джорджа Кеннана). Подобных воззрений придерживаются также: Joel С. Moses // Soviet Studies 44. No. 3 1992. P. 479; Malia // Daedalus. Spring 1992. P. 57–75; Thomas F. Remington // Robert V. Daniels, ed. Soviet Communism from Reform to Collapse — Lexington, MA, 1995. P. 330–339; Leslie Holmes. Post-Communism: An Introduction. — Durham, 1997. P. 57, 130–131; D'Agostino. Gorbachev's Revolution. P. 5; Michael McFaul // San Francisco Chronicle. June 13, 2004; Graham Allison // BG. Dec. 26, 2005; авторы, о которых пишет Rowley // Kritika. Spring 2001. P. 403-406; и авторы монографий из предыдущего примечания. Оглядываясь на этот период, российский президент Владимир Путин совершенно по-другому интерпретировал события: «Давайте исходить из реальности. Демократия в России была фактически спущена сверху» (Известия. 2000. 14 июля). О «дезертирстве» из социализма см.: Aslund. How Russia. P. 51–52; и Michael McFaul // Washington Post. Sept. 22, 2001. Среди российских историков мало кто полагает, что демократизация убила систему. См. по этому поводу: Воражейкина Т. Е. // Общественные науки и современность. №5. 2005. С. 21–22. Среди тех немногих, кто так считает, см., напр.: Согрии В. В. Политическая история современной России, 1985–1994: от Горбачёва до Ельцина. — М., 1994. С. 107; Он же И Отечественная история. № 3. 2005. С. 8–9; Нихоя P. F. // Россия в XX веке. В 2-х тт. Под ред. Т.П. Севостьянова. — М., 2002. Т. 1. С. 130, 143 и Ципко Л. // Вестник аналитики. 2006. № 3. С. 209. Но и среди западных историков не все разделяют идею о революции снизу, напр.: Kotz and Weir. Revolution From Above; Hough. Democratization and Revolution; Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. Chap. 3–4; Judith Devlin. The Rise of the Russian Democrats: The Causes and Consequences of the Elite Revolution. — Brookfield, VT, 1995; Peter Rutland // Transitions. Feb. 1998. P. 16–17; Gordon M. Halm. Russia's Revolution From Above: Reform. Transition, and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime. — New Brunswick, 2002; Walter D. Connor // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 75.
(обратно)13
Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю: 1985–1991. — М., 2002. С. 326. К такому же выводу пришёл британский специалист: «Русским, похоже, нужен был социализм, который работает». Stephen White. Communism and Its Collapse. — New York, 2001. P. 75. См. также Richard Sakwa из прим. 74. По данным опроса общественного мнения, проведённого в конце 1990 г., две трети опрошенных всё ещё отдавали предпочтение социализму. Известия ЦК КПСС. 1991. № 2. С. 51. См. также: Gorshkov M.K. // Sociological Research. Nov.-Dec. 2005. P. 72. По поводу отношения к социально-экономическим ценностям системы см.: Matthew Wyman. Public Opinion in Postcommimist Russia. — New York, 1997. Chap. 7; данные социальных обследований, собранные Юрием Левадой: Есть мнение! Итоги социологического опроса. Под ред. Ю. Левады. — М., 1990; Он же. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. — М., 1993; и даже данные, представленные специалистом, близким к антисоветской команде «шоковой терапии», вскоре пришедшей к власти: Taliana Koval' // Yegor Gaidar, ed. The Economics of Transition. — Cambridge, Mass., 2003. Chap. 25. На данные социологических опросов опирались также и некоторые западные учёные, которые пришли к сходным выводам. См., напр.: Kotz and Weir. Revolution. P. 137–139; Hough, Democratization. P. 471; James R. Millar // Millar and Sharon L. Wolchik, eds. The Social Eegacy of Communism. — Washington, 1994. P. 5–7; Vladimir Shlapentokh. A Normal Totalitarian Society: How the Soviet Union Functioned and How It Collapsed. — Armonk, 2001. P. 125, 208, 281; Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 92–94, 154.
(обратно)14
Wyman. Public Opinion. Chap. 6; Radio Free Europe / Radio Liberty Newsline. March 16, 2001; Задорин И.В, // Горбачевские чтения. Вып. 3. — М., 2005. С. 39. По поводу Ельцина см. первое, просоветское, издание его автобиографии Исповедь на заданную тему. — Свердловск, 1990; его предвыборную речь, опубликованную в Foreign Broadcast Information Service Daily Report: Soviet Union (далее — FBIS), June 3, 1991. P. 71–79; Челноков Михаил. Россия без Союза, Россия без России. — М., 1994. С. 30–32; Hough. Democratization. P. 279, 308, 333–334.
(обратно)15
Alexander Lebed. My Life and My Country. — Washington, 1997. P. 321; Rodric Braithwaite. Across the Moscow River: The World Turned Upside Down. — New Haven, 2002. P. 242; Климов Элем // Общая газета. 2001. 23–29 августа. См. также: Попцов Олег. Хроника времён «Царя Бориса»: Россия, Кремль, 1991–1995. — М., 1995. С. 261; Бурбулис Г.Э. // Известия. 1991. 26 октября; Jonathan Steele. Eternal Russia. — Cambridge, Mass., 1994. Chap. 4; и Mark Kramer // Journal of Cold War Studies 5. No. 4 (Fall 2003). P. 9. Примеры расхожести утверждений об «Августовской революции» см., напр.: Peter Kenez // New Leader. Sept. 9–23, 1991. P. 15–18; Martin Malta И New York Review of Books. Sept. 26, 1991. P. 22–28; Anatvle Shub // Problems of Communism 40. No. 6. November-December, 1991. P. 20; John Gooding. Rulers and Subjects. — London, 1996. P. 337–339; Leon Aran. Yeltsin: A Revolutionary Life. — New York, 2000. Chap. 10; McFauI // Kuchins, ed. Russia After the Fall. P. 27; и Urban. Rebirth of Politics in Russia. P. 252. Последний, в частности, увидел в августовских событиях «национальное сопротивление».
(обратно)16
Горбачёв М. С. Понять перестройку… — М., 2006. С. 367.
(обратно)17
Roeder. Red Sunset. P. 5.
(обратно)18
По поводу Американской революции см. Michael Кат-теп. A Season of Youth: The American Revolution and Historical Imagination. — New York, 1978; о президентах-рабовладельцах и труде рабов см. Davies // New York Times. Aug. 26, 2001; Miniz // Chronicle. Feb. 7, 2003, p. B16; a по поводу учебников см. James Т. Campbell // Washington Post Book World. Dec. 12, 2004. P. 3.
(обратно)19
В качестве примера подобного подхода см.: John Miller. Mikhail Gorbachev and the End of Soviet Power. — New York, 1993. P. 201. Такое отождествление настолько широко распространено, что им в одинаковой мере пользуются представители противоположных политических взглядов. См.: Malia. Soviet Tragedy, passim; Chiesa. Transition to Democracy. P. 202; Jeremy Smith. The Fall of Soviet Communism. — New York, 2005. Некоторые исследователи по-прежнему используют термины «коммунизм» и «коммунистический» в качестве ярлыков в аналитических оценках: Andrew Roberts. The State of Socialism: A Note on Terminology // Slavic Review 63. No. 2. Summer 2004. P. 349–366. В качестве примера серьёзного и вдумчивого подхода к проблеме концептуализации и языка описания советской системы см. исследование российского автора: Маслов Д.В. Историографические и методологические основы исследования состояния советской системы. — Сергиев Посад, 2004.
(обратно)20
Интервью Горбачёва ВВС, 8 марта 2002 // Johnson's Russia List. March 20, 2002.
(обратно)21
См., напр.: Urban // Urban, ed. Can the Soviet System Survive Reform? P.xiii; Remington // Daniels, ed. Soviet Communism. P. 331; а также Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 401. По поводу места КПСС в советской системе один автор, к примеру, пишет: «Руководство КПСС (то есть, советская система)». Troy McGrath // Harriman Review. — Columbia University, December 2002. P. 15.
(обратно)22
См., напр.: Sakwa. Gorbachev and His Reforms. P. 192; John Gooding // Russian Review 51. No. 1. January 1992. P. 36–57; Chiesa. Transition to Democracy. P. 3. Существует и противоположное, скорее рефлексивное, чем обоснованное мнение, что «КПСС оставалась правящей партией» до августа 1991 г. Mark R. Beissinger // James Millar, ed. Cracks in the Monolith: Party Power in the Brezhnev Era. — Armonk, 1992. P. 213.
(обратно)23
Brown. Gorbachev. P. 310
(обратно)24
По поводу заявлений Горбачёва см.: XXVIII съезд. Т. 2. С. 201–202; Правда. 1990. 13 апреля.
(обратно)25
По данным В.Н. Кудрявцева. См. Труд. 1988. 11 ноября. По поводу конституционных аспектов горбачёвских реформ см. Robert Б. Ahdieh. Russia's Constitutional Revolution: Legal Consciousness and the Transition to Democracy, 1985–1996.-University Park, PA, 1997.
(обратно)26
Elizabeth Teague // Radio Liberty Report on the USSR. Oct. 19, 1990. P. 9–10. По поводу «сдержек и противовесов» см. Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи. В 7 томах. — М., 1987–1990. Т. 7. С. 161.
(обратно)27
В качестве примера взгляда, идущего вразрез общепринятому, см. Stephen White // Slavonic and East European Review. Oct. 1994. P. 644–663, и Oct. 1997. P. 683–697.
(обратно)28
По поводу растущего влияния государственных министерств, в сравнении с влиянием партаппарата, см.: Stephen White field. Industrial Power and the Soviet State. — New York, 1993; David Lane, Cameron Ross // Communist and Post-Communist Studies. No. 27 (1), 1994. P. 18–38; и Alexander Yakovlev. The Fate of Marxism in Russia. — New Haven, 1993. P. 109–111.
(обратно)29
Кадровое пополнение перестройки // Правда. 1989. 25 июня; и редакционная статья // Правда. 1989. 14 июня. По поводу опасения Горбачёва см. Черняев А. С. Шесть лет с Горбачёвым: по дневниковым записям. — М., 1993. С. 356.
(обратно)30
Graeme Gill. The Collapse of a Single-Party System: The Disintegration of the Communist Party of the Soviet Union. — New York, 1995. P. 174–175; Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. В 2 томах. — М., 1995. Т. 2. С. 575; и Boris Kagarlitsky. Square Wheels: How Russian Democracy Got Derailed. — New York, 1994, 142. Взгляд изнутри см. Чужакин Андрей // Политический журнал. 2004. № 29. С. 76–77.
(обратно)31
Если отбросить авторскую трактовку, самое лучшее краткое изложение различных аспектов, связанных с бюрократическим, или номенклатурным классом см. Hough. Democratization. P. 51–57.
(обратно)32
Это относилось даже к работникам партаппарата. См.: Оников. КПСС. С. 56; Берзин Б.Ю., Коган Л.Н. Профессиональная культура партийного работника // Социологические исследования. 1989. № 3. С. 21–22; Аппарат против аппарата? // Советская культура. 1990. 31 марта. Для представления о политических и экономических взглядах номенклатуры летом 1990 г. см. опрос, проведённый среди делегатов XXVT11 съезда партии: Социологические исследования. 1990. № 11. С. 99–104.
(обратно)33
См. об этом: Крыштановская Ольга. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 51–65; Егикова Виола // Московская правда. 1994. 26 мая.
(обратно)34
Горбачёв М.С. Размышления об Октябрьской революции. — М., 1997. С. 35; Dawn Mann // Radio Liberty Report on the USSR. Feb. 23, 1990. P. 1–6. По поводу поддержки политики Горбачёва с самого начала рядовыми коммунистами см. Гущин Виктор // Независимая газета. 2000. 9 сентября. По поводу «молчаливого большинства» см. Савельева Людмила // Известия. 1988. 3 сентября; а по поводу массового выхода из партии см. Kramer // Journal of Cold War Studies. Fall 2004. P. 13.
(обратно)35
О партии как «части государственной машины» см. Бурцев Лев // Известия. 1990. 15 июля; а также Зевелев А. // Известия. 1988. 3 ноября.
(обратно)36
Горбачёв М. С. Размышления об Октябрьской революции. С. 35; Материалы Пленума ЦК КПСС. 5–7 февраля 1990 г. С. 11–12; а также XXVIII съезд КПСС. Т. 2. С. 201–202.
(обратно)37
Салюлис Татьяна // Правда. 1991. 1 июля.
(обратно)38
Этот эпизод получил известность как «дело Нины Андреевой». См. Советская Россия. 1988. 3 марта; Правда. 1988. 5 апреля.
(обратно)39
Brown. Gorbachev. P. 191. По поводу ЦК как «поля битвы» см. Оников. КПСС. С. 90–91.
(обратно)40
Учредительный съезд Коммунистической партии РСФСР. Стенографический отчёт. В 2 томах. — М., 1991; Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. Т. 1. С. 530–539; и отчёт Elizabeth Tucker // Wall Street Journal, July 11, 1991.
(обратно)41
Яковлев Александр // Известия. 1991. 2 июля; Маляров И. // Правда. 1990. 26 сентября.
(обратно)42
По поводу позиции консерваторов см. Савишев Е. // Комсомольская правда. 1991. 15 июня; Шеньин Олег. Родину не продавал и меня обвинили в измене. — М., 1994. С. 44; Прокофьев. До и после запрета КПСС. С. 232–236. По поводу Горбачёва см. Правда. 1991. 3 и 26 июля; Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 2. С. 547, 548; его интервью // Независимая газета. 1992. 11 ноября; Грачев Андрей. Горбачёв. — М., 2001. С. 228; и Липицкий Василий // Независимая газета. 1991. 3 августа. По поводу его помощников и сторонников см. Шахназаров Георгий. Цена свободы: реформация Горбачёва глазами его помощника. — М.5 1993. С. 151; Медведев Вадим. В команде Горбачёва: взгляд изнутри. — М., 1994. С. 130–131, 185–186, 207; и Алексеев Сергей, Бурлацкий Фёдор, Шаталин Станислав // Литературная газета. 1991. 30 января. См. также мнение непосредственного участника этих событий: Лацис Отто. Тщательно спланированное самоубийство. — М., 2001. С. 349–370.
(обратно)43
Яковлев А.И. Омут памяти. В 2-х тт. — М., 2001. Т. 1. С. 505. Это мнение разделяли и в другом политическом лагере. См., напр.: Вартазарова Людмила // Завтра. 1995. №31.
(обратно)44
Hahn. Russia's Revolution. P. 375; Mikhail Gorbachev and Zdenek Mlynar. Conversations with Gorbachev: On Pere-stroika, the Prague Spring, and the Crossroads of Socialism. — New York, 2002. P. 121; Горбачёв М.С. Понять перестройку. С. 373–374. В последнем произведении он добавляет, что «большинство членов» последовало бы за ним просто из-за партийной дисциплины. См. также Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. Т. 2. С. 578.
(обратно)45
Шеболдаев С. // Правда. 1990. 26 сентября; White. Gorbachev and After. P. 256.
(обратно)46
Подобного мнения придерживаются и другие исследователи. См. Miller. Mikhail Gorbachev. P. 147–148; и Brown. Gorbachev. P. 205–207, 272.
(обратно)47
См. напр., интервью Ельцина в «Московских новостях» 14 января 1990 г.
(обратно)48
См. Miller. Mikhail Gorbachev. P. 146; и Kelley // Huber and Kelley, eds. Perestroika-Era Politics. P. 93.
(обратно)49
О компартии после 1991 г. см. Joan Barth Urban and Va-lerii Solovei. “Russia's Communists at the Crossroads. — Boulder, 1997; и Luke March. The Communist Party in Post-Soviet Russia. — New York, 2002. По поводу «второго дыхания» см. Третьяков By талий // Российская газета. 2003. 24 апреля.
(обратно)50
Joseph R. Blasi, et. al., Kremlin Capitalism: The Privatization of the Russian Economy. — Ithaca, 1997. P. 21. См. также William Moskoff. Hard Times: Impoverishment and Protest in the Perestroika Years. — Armonk, 1993. P. 6; Geoffrey Hosk-ing. The First Socialist Society, 2nd ed. — Cambridge, MA, 1993. P. 488; Miller. Mikhail Gorbachev. P. 205; Robert Strayer. Why Did the Soviet Union Collapse? Understanding Historical Change. — Armonk, 1998. P. 115, 133.
(обратно)51
И упорно продолжали это делать до самого конца. См., напр., Goldman. What Went Wrong. P. 210–11; или Джеффри Сакс {Jeffrey Sachs), которого цитируют Lynn D. Nelson и Irina Y. Kuzes. Radical Reform in Yeltsin's Russia: Political, Economic, and Social Dimensions. — Armonk, 1995. P. 22–23. To же можно сказать и о многих советских экономистах, позже превратившихся в «радикальных реформаторов». См., напр. Найшуль В.А. // Постижение: социология, социальная политика, экономическая реформа. Под ред. Бородкина Ф.М. и др. — М., 1989. С. 441–448. В качестве примеров однозначных заявлений о реформируемости экономики см. Kotz and Weir. Revolution. Chap. 5; и Michael Ellman and Vladimir Kontorovich, eds. The Destruction of the Soviet Economic System: An Insiders' Histoiy. — Armonk, 1998. Chap. 2.
(обратно)52
См., напр., Aslund. How Russia Became a Market Economy. P. 28; а также критические замечания Горбачёва в адрес иностранных советников — FBIS, Feb. 27, 1991. Р. 81.
(обратно)53
По поводу заявлений Горбачёва см. Правда. 1990. 18 сентября; а по поводу «радикальных реформаторов», напр., Шаталин С.С, Петраков Н.Я. // Правда. 1990. 26 апреля.
(обратно)54
Aslund. How Russia Became a Market Economy. P. 28; Robert Service. A History of Twentieth-Century Russia. — Cambridge, Mass., 1997. P. 492. По поводу того, как воспринял ремарку Ельцина Горбачёв, см. его Жизнь и реформы. Т. 1. С. 576; а по поводу положительной реакции на предложение Горбачёва см. Brown. Gorbachev. P. 137–140.
(обратно)55
Padma Desai. Perestroika in Perspective. — Princeton, 1990. P. 106. См. также письмо Василия Леонтьева в «Московских новостях» — Московские новости. 1990. 14 января; Ed A, Heweil // New York Times. March 25, 1990; и Richard Parker // Atlantic Monthly. June 1990. P. 68–80.
(обратно)56
См., напр., законы о земле, собственности и предпринимательстве, опубликованные в газетах: Известия. 1990. 7 марта; Правда. 1990. 10 марта; и Советская Россия. 1990. 12 июня.
(обратно)57
Макашов Альберт // Советская Россия. 1991. 8 июня. См. также: Прокофьев Юрий. От культуры схватки к культуре согласия // Коммунист. 1990. № 13. С. 7; рассказ ставшего «либеральным» Вадима Бакатина о его «метаморфозах» (Комсомольская правда. 1991. 31 мая.); рассуждения А. Д. Некипелова о его «переосмыслении теоретических воззрений» и «идейной эволюции» (Общественные науки и современность. 2005. №4. С. 10–11; Прорыв к свободе: о перестройке 20 лет спустя. — М., 2005. С. 183–185.); а также результаты опроса делегатов XXVIII съезда КПСС (Социологические исследования. 1990. № 11. С. 99–100). «Эволюцией взглядов» назвал это впоследствии Рыжков. См. Правда. 1992. 3 октября.
(обратно)58
David Remnick // Washington Post. July 7, 8, 9, 1991. В качестве примера личного опыта и мнения участника этого процесса, см. Тарасов Артем. Миллионер. — М., 2004 (особенно главы 3–6). По поводу кооперативов см. Тихонов Владимир // Аргументы и факты. 1990. 31 марта — 6 апреля и Литературная газета. 1990. 8 августа; Бороденков Андрей // Московские новости. 1990. 1 июля. По поводу других явлений см. ниже, прим. 209–212.
(обратно)59
Mikhail Berger // Moscow Times (magazine ed.). March 12, 1995. P. 35. Как заметил постсоветский министр финансов и банкир, «всё началось с Горбачёва». См. интервью Бориса Фёдорова «Голосу Америки»: Johnson's Russia List. April 6, 2004. См. также Бурмин Юрий. Две приватизации // Новое время. 1990. № 20. С. 19; Гайдар Егор. Государство и эволюция. — М., 1995. С. 150; Медведев Рой. Здоровье и власть в России. — М., 1997. С. 14–18; Головков А. // Независимая газета. 1998. 26 сентября; Нуреев Р., Рунов А. Россия: неизбежна ли деприватизация? // Вопросы экономики. 2002. № 6. С. 21. По поводу точки зрения, что Горбачёв «упустил свой шанс провести значимые экономические реформы», см. Michael Dobbs I! Washington Post, Dec. 15, 1991; а также Aslund. Gorbachev's Struggle. P. 230.
(обратно)60
Эта мысль была высказана им публично во время поездки в Литву в январе 1990 г. См. Наши общие проблемы вместе и решать: сборник материалов о поездке М.С. Горбачёва в Литовскую ССР, 11–13 января 1990 года. — М., 1990.
(обратно)61
По поводу борьбы Горбачёва за сохранение Союза см.: Союз можно было сохранить. — М., 1995; Несостоявшийся юбилей. Под ред. А.П. Ненарокова. — М., 1992. С. 331–508. О том, как Горбачёв характеризовал старое государство, см. его «Жизнь и реформы». Т. 1. С. 495–496, а также Т. 2. С. 530. По поводу сравнения с Линкольном см. Gorbachev and Mlyndf. Conversations. P. 129; а по поводу конца перестройки см. Горбачёв М. С Декабрь-91: моя позиция. — М., 1992, и Пять лет после Беловежья. Что дальше? Под ред. В.Т. Логинова. — М., 1997.
(обратно)62
Леон Оников, цит. по: Смирнов. Уроки минувшего. С. 288.
(обратно)63
По поводу проблемы терминов см. Nelson and Knzes. Radical Reform. P. 8; и Robert V. Daniels. Russia's Transformation. — Lanham, MD, 1998. P. 212–213.
(обратно)64
См. соответственно: Stephen Kotkin // New Republic. April 15, 2002. P. 27; Pipes. Communism. P. 41; и Alec Nove // Geir Lundestad, ed. The Fall of Great Powers: Peace, Stability, and Legitimacy. — Oslo, 1994. P. 144. См. также Bosking. The First Socialist Society. P. 500; Vera Tolz and Iain Elliot, eds. The Demise of the USSR: From Communism to Independence. — London, 1995. P. 21; Alalia. Soviet Tragedy. P. 488; и Випсе. Subversive Institutions. P. 19, 36–37 and passim. Справедливости ради, следует отметить, что подобный взгляд присущ и ряду серьёзных российских аналитиков. См., напр.: Согрин В. Перестройка: итоги и уроки // Общественные науки и современность. 1992. № 1. С. 147; Бурлацкий Ф. Глоток свободы. Т. 2. С. 155–156; и Мигранян Андроник // Независимая газета. 2000. 14 июня. Однако, по мнению ещё одного российского политолога, «поражение коммунистической системы не обязательно влекло за собой распад государства». Lilia Shevtsova // Anne de Tinguy, ed. The Fall of the Soviet Empire. — Boulder, 1997. P. 76.
(обратно)65
См. ранее, прим. 32.
(обратно)66
Shlapentokh. A Normal Totalitarian Society. P. 164–166. См. также Четко СВ. Распад Советского Союза. — М., 1996. С. 140–141; и Brown. Gorbachev. P. 258–259.
(обратно)67
Mark Kramer // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 21. По поводу статистики см. Барсенков. Введение. С. 132; и SMapentokh. A Normal Totalitarian Society. P. 158.
(обратно)68
Stephen Kotkin // New Republic. April 15, 2002. P. 27.
(обратно)69
Simy. Revenge of the Past. P. 150. С этим согласны даже российские антикоммунистические критики Горбачёва. См., напр.: Sergei Roy // Moscow News. Nov. 26 — Dec. 2, 1998; а также коллективное заявление, опубликованное в приложении к «Независимой газете» (НГ-Сценарии. 1996. 23 мая).
(обратно)70
По поводу закона см. Правда. 1990. 7 апреля. См. также мнение Горбачёва о «процессе развода» в его «Жизнь и реформы». Т. 1.С. 520–521.
(обратно)71
Станислав Шушкевич // FBIS. Sept. 30, 1991. P. 70.
(обратно)72
По поводу Договора см. Известия. 1991. 15 августа; а по поводу активной поддержки идеи Союза Ельциным и Кравчуком в ходе переговоров см. Национальные интересы. 2001. №2–3. С. 80, 88.
(обратно)73
Mikhail Gorbachev. On My Country and the World. — New York, 2000. P. 132; Горбачёв М. И Новая газета. 2006. 14–16 августа; Горбачёвские чтения. Вып. 3. С. 69. По поводу споров вокруг «рассадки» на церемонии подписания см. пресс-конференцию Горбачёва 16 августа 2001 т. Johnson's Russia List. Aug. 20, 2001.
(обратно)74
По поводу подобной трактовки см. Hahn. Russia's Revolution. Chap. 8; а также Нету Е. Hale. The Strange Death of the Soviet Union. — Cambridge, Mass.: Harvard University Davis Center, Ponars Series No. 12, March 1999; Feodor Burlatsky // Metta Spencer, ed. Separatism. P. 146. Ряд западных исследователей, однако, считают, что Договор не имел бы реальной силы. См., напр.: Miller. Mikhail Gorbachev. P. 198; Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 390, 422–25; и, в меньшей степени, Hough. Democratization. P. 424–28. Согласны с этим и некоторые российские исследователи: Фурман Дмитрий // Прорыв к свободе. С. 329–330; Шейнис Виктор // Свободная мысль. 2005. № 10. С. 105.
(обратно)75
Слова Анатолия Собчака цит. по: Brown. Gorbachev. P. 293. См. также Московские новости. 1996. 18–25 августа; и Hough. Democratization. P. 393 (со слов Владимира Лукина).
(обратно)76
См. ниже, прим. 129.
(обратно)77
См., напр., заявления Собчака, Шушкевича и Александра Яковлева, сделанные ими после августовских событий (FBTS. Sept. 13, 1991. Р. 33; Sept. 30, 1991. Р. 70; и Oct.2, 1991. Р. 33); оценку Роем Медведевым Съезда народных депутатов (Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 167), и его собственных ожиданий (Литературная Россия. 2003. 4 апреля). По поводу экономического союза см. Walker. Dissolution. P. 144; а по поводу заверений Ельцина — Кьеза Джульетто. Прощай, Россия! — М., 1997. С. 110.
(обратно)78
По поводу текста Договора см. Правда. 1991. 27 ноября.
(обратно)79
Martin Malia // New York Times. Sept. 3, 1998; и Stephen Kotkin // New Republic. March 31, 2003. P. 34.
(обратно)80
Чешко С. // Трагедия великой державы. Под ред. Севостьянова. С. 445.
(обратно)81
Strayer. Why Did the Soviet Union Collapse?. P. 113.
(обратно)82
Термин «противовесы» я позаимствовал у Джона Хазарда: John N. Hazard. The Soviet System of Government. 5ed. — Chicago, 1980. Chap. 13. Его книга, впервые опубликованная в 1957 г., стала первым произведением, где проблема была проанализирована именно в таком немаловажном ключе. Ещё ранее подобный подход, правда, по отношению только к официальной идеологии, предпринял Баррингтон Мур. См. Barrington Moore, Jr. Soviet Politics — The Dilemmas of Power: The Role of Ideas in Social Change. — New York, 1965. P. 28, 339 (первое издание книги вышло в 1950 г.). Ещё один взгляд на «структурный дуализм» советской системы см. Mlynar. Can Gorbachev Change the Soviet Union. P. 84–85.
(обратно)83
См. соответственно: Горбачёв. Избранные речи и статьи. Т. 6. С. 352; Он же. Жизнь и реформы. Т. 1. С. 390; Черняев А. С. //10 лет без СССР. — М., 2002. С. 8; и Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 1. С. 423.
(обратно)84
Подобного взгляда придерживается и Ригби (Т.Н. Rigby). См. Lilia Shevtsova. Yeltsin's Russia: Myths and Reality. — Washington, 1999. P. 6.
(обратно)85
Бызов Леонтий // Правда. 1991. 16 февраля.
(обратно)86
О прокоммунистической демонстрации, в которой, по оценкам, приняли участие 250 тысяч человек, см. Коммерсант. 1991. 25 февраля. По поводу «митинговой стихии» см. Правда. 1990. 26 марта.
(обратно)87
Brown. Gorbachev. P. 270–271; Медведев Рой // Отечественная история. 2003. № 5. С. 122.
(обратно)88
Слова главного военного советника Горбачёва, маршала Сергея Ахромеева, цит. по: Медведев Рой. Советский Союз. С. 152. По поводу двух бывших сторонников Горбачёва см. Ligachev. Inside Gorbachev's Kremlin; и Рыжков Н.И. Перестройка. — М., 1992. См. также Ахромеев С. Ф., Корниенко Г. М. Глазами маршала и дипломата. — М., 1992; Крючков Владимир. Личное дело. В 2-х тт. — М., 1996; Фалин Валентин. Без скидок на обстоятельства. — М., 1999. С. 380–461 и Конфликты в Кремле. — М., 2000.
(обратно)89
См., напр., Соколов Владимир // Литературная газета. 1990. 12 сентября; Сидельников Иван // Красная звезда. 1990. 4 октября; Шевцова Лилия и Гутионов Павел // Известия. 1990. 8 октября и 27 ноября. По поводу 1941 года см. Лацис. Тщательно спланированное самоубийство. С. 336 (цитирует Ивана Полозкова) и Распутин Валентин // Советская Россия. 1990. 14 декабря. По поводу обвинений Горбачёва см. Черняев Анатолий. 1991 год. — М., 1997. С. 47.
(обратно)90
Nikolai Petrakov И Financial Times. Jan 26, 1991.
(обратно)91
Громыко А.А. Андрей Громыко. — М., 1997. С. 201; Краснов А., Николаев Ю. // Советская Россия. 1991. 15 июня; Viktor Kulikov // Moscow News. Sept. 15–21, 1999. См. также отчёт о встрече Горбачёва с большой группой оппозиционно настроенных офицеров: Красная звезда. 1990. 15 ноября. Подробный анализ этих настроений см. Mark Kramer // Journal of Cold War Studies. Winter 2005. P. 3–66, который, в том числе, обращает внимание на обвинения в «предательстве» (Р.8, 25).
(обратно)92
По поводу общественного мнения см. Шпилко С., Заславская Т. // Известия. 1991. 17 и 18 января.
(обратно)93
Joseph Nogee and R. Judson Mitchell. Russian Politics. — Boston, 1997. P. 86; David Remnick // WP. Nov. 19, 1990; RichardSakwa // Russia and the World. No. 19, 1991. P. 12.
(обратно)94
См. публикации выступлений Горбачёва в Правде. 1991. 1 и 2 марта; его мемуары «Жизнь и реформы». Т. 2. С. 520–525; а также комментарии его близкого советника: Шахназаров Георгий. Цена свободы. — М., 1993. С. 147, 184. По поводу обещания Горбачёва см. Правда. 1990. 16 марта; XXVIII съезд КПСС. Т. 2. С. 203, а по поводу его склонности к радикальным взглядам — David Remnick // Washington Post. Sept. 26, 1990. По поводу «умеренных консерваторов», ещё остававшихся в ЦК, см. Медведев Рой. Советский Союз. С. 78.
(обратно)95
Слова Станислава Шаталина цит. по: Abraham Brumherg // New York Review of Books. June 27, 1991. P. 55; Michael Elhnan and Vladimir Kontorovich // Europe-Asia Studies. No. 2, 1997. P. 275. По поводу «тактического маневра» см. Georgi Arbatov. The System. — New York, 1992. P. 339, and Dimitri Simes. After the Collapse. — New York, 1999. P. 82; a по поводу «вечных ценностей» — Serge Schmemann // New York Times. Jan. 23, 1991.
(обратно)96
О последней причине в то время если и говорили, то изредка. См., напр.: Peter Rutland // Arguments and Facts International. Vol.1, No. 4 (1990). P. 1; Sergei Yastrzhemsky // Moscow News. No. 45, 1989; а также Bill Keller // New York Times. May 14, 1990 (со ссылкой на Р. Симоняна); Mary Buckley. Redefining Russian Society and Polity. — Boulder, 1993. P. 250–253.
(обратно)97
Alexei Izyumov // Moscow Magazine. April 1991. P. 28–31. См. также Кудрявцев В.Н. // Известия. 1990. 5 февраля; Баталов Е. // Там же. 1990. 26 ноября; Бурлацкий и Шеварнадзе (см. прим. 107 и 109).
(обратно)98
НГ-Сценарии. 1997. 16 января; Черняев. 1991 год. С. 20; Грачев. Горбачёв. С. 119. См. также Правда. 1991. 2 марта и FBIS. March 31, 1991. Р. 63, May 18, 1991. Р. 23, и July 22, 1991. Р. 18. Аналогичное мнение относительно экономики высказал американский экономист Эд Хьюит (Ed Hewett). См. Ben Eklof. Soviet Briefing. — Boulder, 1989. P. 99.
(обратно)99
David Arhel and Ran Edelist. Western Intelligence and the Collapse of the Soviet Union. — London, 2003.
(обратно)100
Громыко. Анатолий Громыко. С. 103; Попов Николай // Новое время. 2005. №11; Зыкин Д. Модель краха СССР // Интернет против телеэкрана. 2005. 21 октября; Бабурин Сергей // Национальные интересы. 2001. № 5–6. С. 3. См. также Уткин Анатолий // Независимая газета. 1997. 31 декабря; Кара-Мурза Сергей // Советская Россия. 2002. 8 октября; Алексеев В.В., Нефедов С.А. // Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 66.
(обратно)101
Peter Kenez // Kritika. Spring 2003. P. 369.
(обратно)102
О некоторых, хотя и не всех объяснениях дают представление следующие работы: Четко Сергей. Распад Советского Союза. — М., 1996. С. 8–19; Алексеев В.В., Алексеева Е.В. // Отечественная история. 2003. № 5. С. 4–6; Уткин Анатолий // Перестройка. Под ред. В.И. Толстых. — М., 2005. С. 126–138; Клоцвог Ф.Н. // Отечественная история. 2005. №3. С. 176–181; Медведев Рой. Советский Союз. Гл.5; Бузгалин А.В., Колганов А.И. Сталин и распад СССР. — М., 2003. Гл. 2–3; Маслов Д. В. Историографические и методологические основы… С. 183–190; Leslie Holmes. Post-Communism. — Durham, 1997. Chap. 2; Peter Rutland // Transitions. Feb. 1998. P. 14–21; David Rowley // Kritika. Spring 2001. P. 395^126; Smith. Fall of Soviet Communism; Mark Kramer // Journal of Cold War Studies. Winter 2003. P. 3–16.
(обратно)103
См., напр., соответствующие разделы в следующих книгах: Kotkin. Armageddon; Hough. Democratization; Carol Barrier-Barry and Cynthia A. Hody. The Politics of Change. — New York, 1995. Esp. P. 3, 5, 131–32; Nick В is ley. The End of the Cold War and the Causes of Soviet Collapse. — New York, 2004; Исаков В.В. Расчленёнка. — M., 1998. С 170; Пихоя Р.Г. // Россия в XX веке. Под ред Г. Севостьянова. Т. 1. С. 121–145; Алексеев В.В., Алексеева Е.В. // Отечественная история. 2003. № 5. С. 3–20; Dmitri Trenin. The End of Eurasia. — Washington, 2002. Esp. chap.2. По поводу упомянутого российского автора см. Уткин Анатолий // Независимая газета. 1997. 31 декабря.
(обратно)104
См., напр., Чешка Сергей // Независимая газета. 1997. 16 января; Биккенин Н. // Свободная мысль. 2000. № 10. С. 98. Некоторые из многочисленных работ западных авторов на тему неизбежности и обреченности см. Richard Laurie. Sakharov. — New York, 2002. P. 404; а также выше, прим. 4 и 7.
(обратно)105
Martha Brill Olcott // Slavic Review. Spring 1995. P. 207; Peter Rutland // Transitions. Feb. 1998. P. 16; и Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 3. По поводу post factum см. Симонян P.X. // Новая и новейшая история. 2003. №2. С. 57. По поводу критики «ретроспективного детерминизма» см. также Stathis N. Kalyvas // Annual Review of Political Science. Vol. 2 (1999). P. 323–343.
(обратно)106
John P. Maynard // William Barbour and Carol Wekesser, eds. The Breakup of the Soviet Union. — San Diego, 1994. P. 27. Также см. Malia. Soviet Tragedy; Kotkin. Armageddon Averted (особенно его трактовку «цивилизации»); и de Tinguy // de Tinguy, ed. The Fall of the Soviet Empire. P. 55; Pipes. Communism. P. 147–148.
(обратно)107
Wish Suraska. How the Soviet Union Disappeared. — Durham, 1998. P. 1. В качестве других примеров см.: Bohdan Nahaylo and Victor Swoboda. Soviet Disunion. — New York, 1990; Ann Sheehy // Vera Toltz and Iain Elliot, eds. The Demise of the USSR. — London, 1995. P. 3; Alexander J. Motyl. Imperial Ends. — New York, 2001. P. 10; Aron. Yeltsin. P. 478–479; Ariel Cohen. Russian Imperialism. — Westport, CT, 1996; Susanne Michele Birgerson. After the Breakup of a Multi-Ethnic Empire. — Westport, CT, 2002; Raymond Pearson. The Rise and Fall of the Soviet Empire. — New York, 1998; John L. H. Keep. Last of the Empires. — New York, 1995; а также ниже, прим. 128.
(обратно)108
Более подробно о точке зрения, согласно которой конец советской империи в Восточной Европе стал главным фактором гибели СССР, см. Kramer // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 178–256; Fail 2004. P. 3–64; Winter 2005. P. 3–96.
(обратно)109
На это указывают David Rowley // Kritika. Spring 2001. P. 418–419; и Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 5–6. По поводу разнообразных и меняющихся позиций учёных на этот счёт см. Beissinger // Slavic Review. Summer 2006. P. 294–303. Приведённая цитата взята из Anne Applebaum // New York Review of Books. Feb. 12, 2004. P. 11.
(обратно)110
См., напр., Andrew J. Baccvich. American Empire. — Cambridge, MA, 2002; James B. Rule // Dissent. Fall 2002. P. 46; Max Boot // Weekly Standard. Nov. 4, 2002. P. 26–29; Jvo R. Daalder and James M. Lindsay // New York Times. May 10, 2003; целый ряд статей в National Interest, Spring 2003; Rich Lowiy // New York Post. July 19, 2003; Niall Ferguson // Wall Street Journal. June 6, 2003; Kal Raustiala // International Herald Tribune. July 2, 2003; G John Ikenbeny // Foreign Affairs. March/April 2004. P. 144–154; Corey Robin // Washington Post. May 2, 2004; John Lewis Gaddis and Paul Kennedy // New York Times Book Review. July 25, 2004. P. 23; и David С. Henrickson // World Policy Journal. Summer 2005. Р. 1–22. О том, как российские авторы комментируют американский «путь к имперству», см. Печатнов В.О. // Новая и новейшая история. 2006. №2. С. 85–88; Самуилов С. // Свободная мысль. 2006. № 3. С. 34-44.
(обратно)111
См., соответственно, Suny. Revenge of the Past. P. 157–160; Ben Fowkes. The Disintegration of the Soviet Union. — London, 1997. P. vii; Dominic Lieven. Empire. — New Haven, 2001. P. xii; Terry Martin. The Affirmative Action Empire. — Tthaca, 2001. P. 19 и Hough. Democratization. P. 216. В качестве примеров мнения российских авторов (помимо Горбачёва), см.: Симонян Р.Х. // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 27–39; Четко. Распад Советского Союза; Кагарлицкий Борис // Независимая газета. 1997. 16 января; Sergei Roy // Moscow News. Sept. 8–14, 1999. Некоторые русские тоже утверждают, что СССР был империей. См., напр., Согрин В.В. // Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 98; A/exei Arhatov // Russia in Global Affairs. Jan.-March 2006. P. 23–34. См. также дискуссии в журнале Отечественная история. 2005. № 2 и в сборнике под ред. Севостьянова Трагедия великой державы (особенно раздел 3). По поводу цитаты см. Motyl. Imperial Ends. P. 10; а также прим. 118.
(обратно)112
Holmes. Post-Communism. P. 34; и Trenin. End of Eurasia. P. 80. См. также Nahaylo and Swoboda. Soviet Disunion. P. xii; Strayer. Why Did the Soviet Union Collapse. P. 78; Sakwa. Gorbachev and His Reforms. P. 259; Martin. Affirmative Action Empire. P. 18–19; а также Маслов. Историографические и методологические основы… С. 185, где то же было сказано относительно российских учёных.
(обратно)113
Lieven. Empire. P. xii. См. также работы Суни и Фоукса из прим. 122 и AstridS. Tuminez // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 135.
(обратно)114
Определения Чешко — см. его Распад Советского Союза. С. 6, а также Трагедия великой державы. Под ред. Севостьянова. С. 445. По поводу первой цитаты см. Malia // Daedalus. Spring 1992. P. 66.
(обратно)115
По поводу данной позиции см. Buckley. Redefining Russian Society and Polity; Caroline Ibos // de Tinguy, ed. The Fall of the Soviet Empire. P. 134–153. См. также Holmes. Post-Communism. P. 57; David Lane // Cox, ed. Rethinking the Soviet Collapse. P. 159; и Lieven. Empire. P. 335. Уайман (Wyman. Public Opinion. P. 86) тоже утверждает, что «кризис легитимности» существовал, но данные, на которые он ссылается, скорее противоречат этому.
(обратно)116
См. соответственно: Strobe Talbott // Johnson's Russia List. June 8, 2002; Helene Carrere d'Encausse. The End of the Soviet Empire. — New York, 1993. P. 219, 230, 270; Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 8, 37; Bernard Gwertzman // Gwertzman and Michael T. Kaufman, eds. The Decline and Fall of the Soviet Empire. — New York, 1992. P. x. См. также Strayer. Why Did the Soviet Union Collapse. P. 132, 149; Keep. Last of the Empires. P. 3, 333; Dina Zisserman-Brodsky. Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union. — New York, 2003. Некоторые авторы, разделяющие этот взгляд, были упомянуты выше, прим. 118.
(обратно)117
Пихоя. Советский Союз. С. 674–675. По поводу Центральной Азии и Азербайджана см., соответственно, Fowkes. Disintegration of the Soviet Union. P. 190–191 и Алиев Гейдар // Общая газета. 2001. 16–22 августа.
(обратно)118
Halm. Russia's Revolution. P. Ъ-4; Кагарлицкий Борис // Независимая газета. 1997. 16 января и НГ-Сценарии. 1996. 23 мая. См. также Astrid S. Tuminez // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 115–116; и Walker. Dissolution. P. 2, 15 n. 9. По поводу последнего вывода см. более раннее предупреждение Александра Ципко — Известия. 1991. 1 октября. В качестве более или менее типичного примера положения дел в республиках см. Martha Brill Olcott. Kazakhstan. — Washington, 2002. P. 16, 35.
(обратно)119
Самым ярким примером, по-видимому, является книга Марка Бейсинджера «Националистическая мобилизация и крах Советского государства» (см. прим. 2).
(обратно)120
Чешко // Трагедия великой державы. С. 451; Кагарлицкий // Независимая газета. 1997. 16 января, а также Boris Pankin. The Last Hundred Days of the Soviet Union. — New York, 1996. P. 266–267 и Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict In and After the Soviet Union. — London, 1997. P. 44–46.
(обратно)121
Правда. 1990. 16 марта. Более подробно см. Walker. Dissolution.
(обратно)122
Oleg Rumyantsev // Moscow Times. June 17, 1995. См. также Бодарев Виктор // Родина. 1995. № 7. С. 27; Рыжков Николай // Наш современник. 2006. №2. С. 164.
(обратно)123
По поводу путаницы в терминах см. Andrew Wilson. The Ukrainians. — New Haven, 2000. P. 165; Pankin. Last Hundred Days. P. 264; Hough. Democratization. P. 479-480; а в более широком контексте, Walker. Dissolution. P. 6, 13. Известно, что возможные интерпретации слова «суверенитет» с самого начала беспокоили членов Политбюро. — Воротников В.И. А было это так… — М., 1995. С. 282. По поводу превращений элиты см. Joan DeBardeleben. Russian Politics // Transition. 2nd ed. — Boston, 1997. P. 129–130; Roman Laba // Transition. Jan. 12, 1996. P. 13; Henry E. Hale. «The Strange Death of the Soviet Union» — Cambridge, MA: Ponars Working Paper No. 12, 1999. P. 19–27; а также ниже, прим. 138.
(обратно)124
Hale. «Strange Death». Tbid. P. 24–25. См. также Walker. Dissolution. P. 15. n.9, 153–154; Brown. Gorbachev. P. 303; а с российской стороны, Михайлов Вячеслав // Независимая газета. 2001. 12 апреля. По поводу протеста Горбачёва см. Hough. Democratization. P. 479–480, а также Грачев Андрей. Дальше без меня… — М., 1994. С. 184–185. Такое же мнение высказал позже и другой советский лидер, Анатолий Лукьянов. — Советская Россия. 1998. 30 июля.
(обратно)125
Аналитический доклад госдепартамента США, опубликованный в Johnson's Russia List Supplement. June 15, 2002; а также Roman Solchanyk // Johnson's Russia List. Oct. 18, 2004 (ссылается на данные обследования, проведённого в Киеве в 2003 г.).
(обратно)126
Hale. «Strange Death». P. 19, 24. См. также Бурлацкий Ф. Глоток свободы. Т. 2. С. 24 и DeBardeleben. Russian Politics. P. 129–130.
(обратно)127
Умнов Александр // Независимая газета. 2000. 19 января; White. Communism and Its Collapse. P. 77. См. также Медведев Рой // Отечественная история. 2003. №4. С. 113 (Медведев добавляет к этому списку Западную Украину); Rutland // Transitions. Feb. 1998. P. 17; Reddaway and Glinski. Tragedy. P. 245.
(обратно)128
См., соответственно: Phillip J. Biyson // Slavic Review. Winter 2005. P. 920; Barner-Barry andHody. The Politics of Change. P. 3; Aslund. How Russia Became a Market Economy. P. 52; M. Steven Fish // Post-Soviet Affairs. Oct.-Dec. 2001. P. 355. Также см. Malta. Soviet Tragedy. P. 464, 473, 492–493; А у on. Yeltsin. P. 481–483; и William Moskoff. Hard Times. — Armonk, 1993. P. 6–7, 233–235. По поводу несостоятельности «рейтанской» версии см. Самуилов С. // Свободная мысль. 2006. № 3. С. 42.
(обратно)129
В качестве примера антимарксистской аргументации, см. сборник статей Lee Edwards, ed. The Collapse of Communism. — Stanford, 1999; а в качестве примера марксистской — HillelH. Ticktin // Cox, ed. Rethinking. Chap. 4. См. также Кагарлицкий Борис. Марксизм: не рекомендовано для обучения. — М., 2005. С. 302. Пример марксистской критики этой версии см. Kotz and Weir. Revolution. Chap. 5 and P. 226.
(обратно)130
См., напр., Гайдар Егор. Дни поражений и побед. — М., 1996. Гл. 5; Он же. Гибель империи. — М., 2006; Gaidar, ed. The Economics of Transition. Chap. 1; а также Лацис Отто // Известия. 1996. 28 июня. В качестве примера критического отношения к их утверждениям, см. Давыдов Олег // Независимая газета. 2000. 27 января.
(обратно)131
Сходную аргументацию см. в работах: White. Communism and Its Collapse. P. 79; Kotz and Weir. Revolution. P. 74; Vladimir Tikhomirov // Europe-Asia Studies. March 2000. P. 227; Павлов Валентин // Литературная газета. 2001. 18 июля и Шляпентох В. // Вопросы Экономики. 2005. № 10. С. 153.
(обратно)132
В качестве примеров того же мнения см.: Robert V. Daniels // Сох, ed. Rethinking the Soviet Collapse. P. 122; Moskoff. Hard Times. P. 234; Kotz and Weir. Revolution. P. 74–75; Некипелов А.Д. // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 9 и Шляпентох В. // Вопросы экономики. 2005. № 10. С. 153. По поводу споров вокруг этого вопроса см. Vladimir G. Treml and Michael Ell man // Radio Free Europe / Radio Liberty. June 4, 1993. P. 53–58.
(обратно)133
По поводу американского экономиста (James Millar) см. Robert D. English // International Security. Spring 2002. P. 90, n.69; а по поводу других ревизионистских оценок ранних периодов советской экономической истории см. G.I. Khanin // Europe-Asia Studies. Dec. 2003. P. 1 187–1212 и Robert С. Allen. Farm to Factory. — Princeton, 2003. По поводу оценок, призывающих не преувеличивать размеры и значение кризиса, см. Richard Parker // Atlantic Monthly. June 1990. P. 68–80; и Peter Passell // New York Times. April 7, 1991. По поводу ярких пятен см. Lynn Turgeon // Johnson's Russia List. April 2, 1997; Павлов B.C. // Известия. 1991. 15 июня и он же // Литературная газета. 2001. 18 июля.
(обратно)134
По поводу складов см. Stephen Handelman. Comrade Criminal. — New Haven, 1995. P. 67–68; и Alexandra George. Escape from «Ward Six». — New York, 1998. P. 584.
(обратно)135
По поводу общей истерии см. выше, прим. 107.
(обратно)136
Я сам много раз обедал в таких столовых, начиная с 1970-х и до начала 1990-х гг. См. также Braithwaite. Across the Moscow River. P. 296–297; Renfrey Clarke // Johnson's Russia List. July 6, 1998. В качестве личного свидетельства человека, уверенного, что до отмены Союза ситуация с едой была лучше, чем потом, см. Sinyavsky. Soviet Intelligentsia. P. 47-48 и выше, прим. 142.
(обратно)137
Michael Ellman and Vladimir Kontorovich, eds. The Destruction of the Soviet Economic System. — Armonk, 1998. P. 26 and passim; а также Kotz and Weir. Revolution From Above, Nelson and Kuzes. Radical Reform. Chap. 1. С экономистами согласны и некоторые историки и политологи. См. Hahn. Russia's Revolution. P. 217, 228–229; Hough. Democratization and Revolution. Chap. 4, 11, 14; а также Барсенков. Введение в современную историю России. С. 182.
(обратно)138
Яковлев А.Н. // Труд. 1991. 27 сентября. По поводу Горбачёва см. Черняев. 1991 год. С. 23. См. также Gorbachev // FBIS. April 11, 1991. P. 15; Robert G. Kaiser. Why Gorbachev Happened. Exp. ed. — New York, 1992. P. 372.
(обратно)139
По поводу этих процессов см. выше, прим. 149. По поводу железнодорожного кризиса см. Kramer // Journal of Cold War Studies. Winter 2005. P. 44. О политическом саботаже см. Яковлев Л. Горькая чаша. С. 253, а также Hough. Democratization and Revolution. P. 353–354; McFaul Russia's Unfinished Revolution. P. 97, 141; Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 242, 277–278; Сазонов А.А. Предателями не рождаются. — М., 2005. С. 9–12.
(обратно)140
В качестве примера одобрительной оценки действий Ельцина см. Dunlop. Rise of Russia. P. 266–269.
(обратно)141
Горбачёв. Жизни и реформы. Т. 1. С. 583.
(обратно)142
На перепутье (Новые вехи). — М., 1999. С. 3. См. также Эйдельман Натан. Революция сверху в России. — М., 1989. Несколько иную трактовку см. Соловей Валерий // Свободная мысль. 2004. № 12. С. 38-48. См. также Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. Chap. 1.
(обратно)143
Черняев Анатолий // Свободная мысль. 2005. № 4. С. 126. По поводу трагедии см. прим. 154 и 156.
(обратно)144
Эта точка зрения является типичной и для западных исследователей. См., напр., Tibor Szamuely. The Russian Tradition. — London, 1974. Chap. 10; Richard Pipes. Russia Under the Old Regime. — New York, 1974. Chap. 10; а в качестве примера более дифференцированного подхода — Aileen M. Kelly. Toward Another Shore. — New Haven, 1998. Пример российского взгляда см. Кива Ачексей // Свободная мысль. 2005. №4. С. 170–180.
(обратно)145
Ципко Александр // Независимая газета. 1993. 13 апреля; а также Петренко Е.Л. // Отечественная история. 2002. № 4. С. 200. В качестве примеров западных работ см. Steele. Eternal Russia. P. 58, 269–273; Hough. Democratization and Revolution. P. 491–493; Lewin, Russia/USSR/ Russia. P. 3–4, 301–303; Tim McDaniel. The Agony of the Russian Idea. — Princeton, 1996. P. 3–21, 147–148; Yale Richmond. Cultural Exchange and the Cold War. — University Park, PA, 2003. Последний автор, впрочем, в отличие от других, полагает, что мягкотелая и беззубая российская интеллигенция сыграла решающую роль в «крахе коммунизма», благодаря многолетним официальным программам научного и культурного обмена с Соединёнными Штатами (P. XIII-XIV).
(обратно)146
Поляков Юрий // Свободная мысль. 1996. № 2. С. 23; Иорданский Владимир И Там же. 1997. № 8. С. 88; и Шипу нова Светлана // Советская Россия. 1995. 16 мая. По мнению ещё одного исследователя, то была не настоящая интеллигенция, а некая менее достойная «полуинтеллигенция». — Олещук Юрий // Свободная мысль. 2002. № 10. С. 27–34. В качестве других примеров см. Галкин А.А. // Перестройка в трансформационном контексте. — М., 2005. С. 72–74; На перепутье; Романовский С. И. Нетерпение мысли. — СПб., 2000. См. также Ципко А. // Независимая газета. 1993. 9 и 13 апреля; 1995. 6 апреля; Он же // Литературная газета. 2001. 21 ноября; Синявский Андрей // Там же. 1995. 16 марта; Мигранян Аидраник // НГ-Сценарии. 1999. № 7; Кара-Мурза Сергей. Антисоветский проект. — М., 2002; авторы статей, вошедших в сборник «Прорыв к свободе». С. 83, 237, 309–313, 326–329, 336–342; Коржавин Наум // Новая газета. 2005. 10–13 октября.
(обратно)147
Гинзбург В. // Известия. 1990. 17 мая; Кива Алексей // Комсомольская правда. 1991. 15 апреля; Он же // Известия. 1990. 10 декабря; 1991. 24 января и 26 февраля; Проценко Александр // Там же. 1990. 3 мая; Столяров Николай // Правда. 1991. 2 апреля. См. также Мигранян А. // Литературная газета. 1989. 27 декабря; Бурлацкий Ф. // Там же. 1990. 27 июня; Ионин Леонид // Новое время. 1990. № 27; Павловский Глеб // Век XX и мир. 1991. № 4. По поводу эволюционной альтернативы см. Кива // Известия. 1991. 26 февраля и Абалкин Леонид // Там же. 14 марта.
(обратно)148
Ципко А. // Комсомольская правда. 1991. 16 марта; Бордюгов Г. и Козлов В. // Правда. 1988. 3 октября. О НЭПе см. также Нуйкин А. И Новый мир. 1988. № 1; Ципко А. // Советская культура. 1990. 26 мая; Волжский Владимир // Неделя. 1990. 23–29 июля; Сахаров А.Н. // Коммунист. 1991. № 5; Клименко Алексей // Правда. 1991. 25 июня. По поводу опасений руководства см. Правда. 1991. 25 апреля и 26 июля, а также Яковлев А. // Известия. 1991. 26 июля и он же // Литературная газета. 1991. 28 августа.
(обратно)149
См., соответственно: Петраков Н.Я. Русская рулетка. М., 1998. С. 93; Анфилов В. // Правда. 1991. 22 февраля (о Юрии Афанасьеве) и Богословский Никита // Огонёк. 1990. № 45. С. 27 (о самом себе). По поводу конформизма и каяния см. Петраков. Указ. соч. С. 131, 279–281; Ципко // Советская культура. 1990. 26 мая; Кива // Новый мир. 1993. № 8; Devlin. Rise of the Russian Democrats. P. 16. См. также интервью Юрия Афанасьева, в котором он с сожалением признавал, что до 1985 г. жил «по уши в дерьме» (Stephen F. Cohen and Catrina vanden Heuvel. Voices of Glasnost. — New York, 1989. P. 100); Шостаковский В. // Московские новости. 1990. 22 апреля и Богомолов Олег // Огонек. 1990. №35. С. 2–3.
(обратно)150
По поводу самого плана см.: 500 Days (Transition to the Market). — New York, 1991; а по поводу позиции МВФ — Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 1 76.
(обратно)151
Фурман Дмитрий. Наше светлое будущее, или Путин навсегда. — М., 2004. С. 5.
(обратно)152
См., напр., Tatiana Zaslavskaia // Sociological Research. Jan.-Feb. 1993. P. 62; Она же // Общая газета. 2001. 8–14 марта; Независимая газета. 1994. 22 июля (ссылка на С. Говорухина); Шевцова Лилия // Десять лет без СССР. — М., 2002. С. 28–29; Она же // Прорыв к свободе. С. 350; Она же // Московские новости. 2006. 3–9 марта; Сараскина Л. И. // Горбачёвские чтения. Вып. 1. — М., 2003. С. 99–102, а также Tatyana Tolstaya. Pushkin's Children. — Boston, 2001, откуда, в частности, взята приведённая цитата (Р. 59. Ср. также Р. 27–48 и 182–183).
(обратно)153
См. Московские новости. 1990. 18–25 ноября. По поводу событий января 1991 г. см. Черняев. Шесть лет. С. 405–415; Он же. 1991 год. С. 56–57, 86.
(обратно)154
Pankin. Last 100 Days. P. 269. См. также прим. 218.
(обратно)155
John В. Dunlop // Journal of Cold War Studies. Winter 2003. P. 124. Также см. Malia. Soviet Tragedy; Rneder. Red Sunset. P. 13–14; Holmes. Post-Communism. P. 58; Согрин В. // Отечественная история. 1995. №2. С. 9–10.
(обратно)156
Соловей В. // Свободная мысль. 2001. № 7. С. 95; Dallin // Dallin and Lapidus, eds. Soviet System. P. 686. См. также Breslauer. Gorbachev and Yeltsin; Joel M. Ostrow // Europe-Asia Studies. Dec. 2002. P. 1340; Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 228; Robert V. Daniels // The Nation. Jan. 3, 2000. P. 25.
(обратно)157
Медведев P. // Отечественная история. 2003. №4. С. 112. См. также От катастрофы к возрождению. Под ред. И. П. Осадчего. — М., 1999; Чешко // Трагедия великой державы. С. 466; Станкевич Зигмунд. История крушения СССР. — М., 2001. С. 439–441; Барсенков. Введение в современную российскую историю. С. 356–357; Симонян Р. // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 57–58. По поводу общественного мнения см. Shlapentokh. Normal Totalitarian Society. P. 262, n.l; и результаты опроса ВЦИОМ от 17–21 июля 2003 г., опубликованные на сайте
(обратно)158
William E. Odom. The Collapse of the Soviet Military. — New Haven, 1998. P. 393; Joel С. Moses // Wieczymski, ed. Gorbachev. P. 141, и, почти слово в слово, Шахназаров Г. Цена свободы. С. 133. Даже те авторы, которые отдают предпочтение другим факторам, тем не менее, признают и всячески подчёркивают роль Горбачёва в исчезновении Союза. Помимо упомянутого выше Уильяма Одома, см. Kotkin. Armageddon Averted; Strayer. Why Did the Soviet Union Collapse; Hough. Democratization and Revolution; Fowkes. Disintegration of the Soviet Union. P. 196; Donald W. Treadgold. Twentieth Century Russia, 8C ed. — Boulder, 1995. P. 430.
(обратно)159
По поводу первого взгляда см., соответственно: Matlock. Autopsy On An Empire. P. 663; Самойлов Эдуард // Независимая газета. 1992. 13 октября; Шаховская Ольга // Литературная газета. 1992. 21 октября; John Lloyd // Financial Times. April 24, 1995 (со ссылкой на Ципко); и Третьяков Виталий // Перестройка. Под ред. Толстых. С. 9. По поводу второго см. Joel M. Ostrow // Europe-Asia Studies. Dec. 1997. P. 1537, and Dec. 2002. P. 1340. См. также Michael Mandelhaum // Wilham Barbour and Carol Wekesser, eds. The Breakup of the Soviet Union. — San Diego, 1994. P. 44–50; Смоляков Леонид // Независимая газета. 1997. 16 января; Зиновьев Александр. Смута. — М., 1994. С. 5–183 (глава «Катастройка»); Шогенов Асламбек // Советская Россия. 2006. 2 марта, а также критику экономической политики Горбачёва в работе: Ellman and Kontorovich, eds. Destruction. Что касается «конспирологии» (Завтра. 2003. № 26), см. Зиновьев А. Гибель русского коммуниста. — М., 2001. С. 80–87; Сизый Ф. // Комсомольская правда. 1991. 26 апреля (со ссылкой на В. Чертищева); Шевякин А.П. Разгром советской державы. — М., 2005; От катастрофы к возрождению. Под ред. Осадчего. С. 18 и Кара-Мурза С.Г. Второе предупреждение. — М., 2005.
(обратно)160
Примеры с российской стороны см. предыд. прим. Что касается американской стороны, см., напр., Peter Schwei-zer. Victory. — New York, 1994 and Reagan's War. — New York, 2000.
(обратно)161
Breslauer. Gorbachev and Yeltsin. P. 269; Vladimir M. Zuhok // William C. Wohlforth, ed. Cold War Endgame. — University Park, PA, 2003. P. 216, а также Brown. Gorbachev.
(обратно)162
Яковлев A.M. // Московские новости. 2005. 11 марта.
(обратно)163
По поводу оценок этих действий см. Dunlop. Rise of Russia. P. 267–269; Halm. Russia's Revolution From Above. P. 214–220; Станкевич. История крушения СССР. Гл.6; Барсенков А.С, Вдовин А.И. История России: 1938–2002. — М., 2003. С. 386–389. Даже Данлоп, явно симпатизирующий Ельцину, характеризует эти действия как «осенний путч» Ельцина (Р. 267). См. также Garthoff. The Great Transition. P. 479.
(обратно)164
Попович В.А. // Советская Россия. 2002. 5 октября, со ссылкой на Нурсултана Назарбаева.
(обратно)165
Simcs. After the Collapse. P. 55; Brown. Gorbachev. P. 303.
(обратно)166
См. прим. 168.
(обратно)167
По поводу Ельцина см. выше, прим. 81; а по поводу его помощника Г. Бурбулиса см. Славин Борис // Правда. 1995. 28 декабря. См. также прим. 88; а по поводу опросов общественного мнения см. Горбачёв. Понять перестройку. С. 338.
(обратно)168
Того же мнения придерживается Brown. Gorbachev. P. 307.
(обратно)169
Гельман Александр // Московские новости. 1996. 25 февраля — 3 марта; Никонов Вячеслав // Десять лет без СССР. — М., 2002. С. 36. По поводу «воли» Горбачёва см. также его собственный комментарий, Независимая газета. 1997. 16 января и Волкогонов Дмитрий. Семь вождей. В 2-х тт. — М., 1995. С. 323. По поводу отношения Горбачёва к власти см. Gorbachev and Mlynar. Conversations. P. 210; Brown. Gorbachev.
(обратно)170
Иную точку зрения на мотивацию Горбачёва, объясняющую его поступки преимущественно борьбой за власть в Политбюро, см. Anthony D’Agostino. Gorbachev's Revolution. — New York, 1998. По поводу замечания Горбачёва см. Черняев. 1991 год. С. 324.
(обратно)171
Литературная газета. 1991. 4 декабря. См. также Правда. 1990. 12 апреля; Известия. 1990. 1 декабря; FBTS. Jan. 24, 1991, and Oct. 15, 1991. P. 30; Московские новости. 1991. 3 ноября; Горбачёв. Годы трудных решений С. 288. Той же точки зрения придерживается Дмитрий Фурман. Независимая газета. 2006. 3 марта; Прорыв к свободе. С. 333.
(обратно)172
По поводу цитат см.: Zuhok // Wohlfoith, ed. Cold War. P. 229–232, и Яковлев А.И. Омут памяти. Т. 2. С. 84. По поводу отсутствия крови на руках см. Alec Adamovich // FBTS. Dec. 24, 1990. P. 61; свидетельство Виталия Kopo-тича об утверждении Горбачёва: «нет крови на этих руках, ни капли нет» — Столица. 1992. № 15. С. 7; а также Чупртин Сергей // Знамя. 1994. № 12. С. 163. По поводу уникальности горбачёвского отказа от насилия в руководстве см. Прорыв к свободе. С. 105–106, 208–209, 283, 333; Шевцова Лилия // Московские новости. 2006. 3–9 марта. По поводу утверждений, что Горбачёв должен был активнее применять силу, см., напр., Grigory Pomerants and Vladimir Lukin // Democratizatsiya. Winter 1996. P. 14–15, 24–25; Sergei Roy // Moscow News. Nov. 13–19, 1997; John Lloyd // FT. April 24, 1995 (со ссылкой на Андраника Миграняна).
(обратно)173
По поводу цитат, начиная с «кредо», см., соответственно: Горбачёв // Независимая газета. 1997. 16 января; Zubok // Wohlforth, ed. Cold War. P. 232; Как делалась политика перестройки, 1985–1991. — М., 2004. С. 9; Gorbachev and Mlynar, Conversations. P. 120; и Бурлацкий Ф. // Независимая газета. 1994. 7 июня. О том, что ненасилие Горбачёва оказалось «фатальным» для советского государства, см. Грачев А. Горбачёв. С. 443; Hough. Democratization and Revolution. P. 250, 332, 488-489, 498.
(обратно)174
Горбачёв // Новая жизнь. 2002. 25 октября и его интервью телекампании НТВ 7 марта 2004 г. // JRL. March 8, 2004. По поводу «царя Бориса» см. Боффа Джузеппе. От СССР к России. — М., 1996. С. 226.
(обратно)175
См., соответственно: Donald Murray. A Democracy of Despots. — Boulder, 1995. P. 5; Hough. Democratization and Revolution. P. 328 (цитирует Джона Ллойда); Ельцин. Записки президента. С. 269; Третьяков В. // Политический класс. 2006. № 4; Jean Mackenzie // Russia Review. Feb. 26, 1996. P. 14 (цитирует Вячеслава Костикова). См. также Murray. Democracy. P. 222; Sergei Roy // Moscow News, March 3–9, 1999; интервью Роя Медведева итальянскому журналисту Джульетто Кьеза, FBIS. Aug. 15, 1989. Р. 61; Мигранян А. // Комсомольская правда. 1991. 23 января; и Richard Sakwa // Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 261 (со ссылкой на Конрада Любарского и Андрея Пионтковского).
(обратно)176
См., напр., Ельцин. Записки президента и Boris Yeltsin. Midnight Diaries. — New York, 2000; а также Aran. Yeltsin.
(обратно)177
Егор Яковлев цитирует Ивана Лаптева — два человека, хорошо знавшие Ельцина. Общая газета. 2002. 14–20 февраля.
(обратно)178
По поводу цитат см., соответственно: Sergei Belyayev // FBIS. June 20, 1991. P. 57 (со ссылкой на самого Ельцина), а также радиообращение Ельцина. Tbid. June 3, 1991. P. 74–75, Прорыв к свободе. С. 151; Riina Kionka // Report. Feb. 1, 1991. P. 15; Robert V. Daniels // Dissent. Fall 1993. P. 493; Matlock. Autopsy On An Empire. P. 403; Фурман // Прорыв к свободе. С. 329.
(обратно)179
Шушкевич Станислав // Пять лет после Беловежья. С. 156. См. также Бурбулис Геннадий // Родина. 1995. № 9. С. 74; Шахрай Сергей // Независимая газета. 1996. 10 декабря; Эпоха Ельцина. Под ред. Батурина и др. С. 181–182; Пихоя. Советский Союз. С. 688, 718; Гайдар Егор // Новые известия. 2006. I июня. См. также прим. I 68. С этим согласны и многие исследователи на Западе. См., напр., Beissinger. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. P. 438; Aran. Yeltsin. P. 472-479. По поводу заявлений о росте возможностей Горбачёва см. Грачев. Дальше без меня. С. 184; Славин Борис // Горбачёвские чтения. Вып. 3. С. 111; Чешко. Распад Советского Союза. С. 278; Трагедия великой державы. Под ред. Севостьянова. С. 266 и Горбачёв. Понять перестройку. С. 351–355.
(обратно)180
Об этом писали самые разные авторы. См., напр., Бурлацкий. Глоток свободы. Т. 2. С. 201–202; Карпычев Анатолий // Правда. 1992. 25 января; Simes. After the Collapse. P. 65–66.
(обратно)181
Вraithwaite. Across the Moscow River. P. 266; Яковлев A. Омут памяти. Т. 2. С. 82. В числе других независимых российских обозревателей, согласных с этим, можно назвать журналиста Виталия Третьякова (см. Независимая газета. 1991. 19 декабря; Российская газета. 2004. 19 августа), демократического депутата Николая Энгвера (см. Fred Hiatt // Washington Post. Feb. 5, 1992) и поэта Наума Коржавина (см. Общая газета. 2001. 11–17 января. См. также Четко Сергей // Трагедия великой державы. Под ред. Севостьянова. С. 466 и Солженицын Александр // Московские новости. 2006. 28 апреля.
(обратно)182
См., напр., Brown. Gorbachev. P. 287; Hough. Democratization and Revolution. P. 459, 481; Brent Scowcrofi. VOA interview // Johnson's Russia List. Dec. 3, 1999; Никонов В.A. // Десять лет без СССР. С. 38 («Михаил Сергеевич освободил Восточную Европу, чтобы продолжить реформы… Ельцин отпустил другие советские республики, чтобы покончить с правлением Горбачёва».); Boris Kagarlitsky. Square Wheels. — New York, 1994. P. 174; Бурлацкий. Глоток свободы. Т. 2. С. 201; Яковлев Егор // Общая газета. 2002. 14–20 февраля (ссылка на Ивана Лаптева); Чешко. Распад Советского Союза. С. 278; Грачев. Горбачёв. С. 257; David Remnick // New Yorker. March 11, 1996. P. 78, 79 (ссылки на Сергея Пархоменко и Сергея Станкевича); Tatyana Tolstoyа // New York Review of Books. June 23, 1994. P. 3–7; Сазонов. Предателями не рождаются. С. 131; Мильштейн Илья // Новое время. 2006. № 4. С. 13; и даже один из участников беловежской сделки, Шушкевич // Огонёк. 1996. № 49. С. 13. И, конечно, в этом всегда был уверен сам Горбачёв.
(обратно)183
По выражению Леонида Шебаршина, одного из бывших руководителей КГБ. Цит. по: Milt Bear den and James Risen. The Main Enemy. — New York, 2003. P. 497; см. также Афанасьев Ю. // Свободная мысль. 2005. № 1. С. 48. Позже двое из бывших заговорщиков упрекнут других в том, что им не хватило этой самой воли. См. Шеиии Олег // Труд. 2004. 19 августа; Варенников Валентин // Завтра. 2006. 30 сентября. По поводу смысла и значения «воли к власти» в то время см. Шевцова Л. // Известия. 1991. 15 мая.
(обратно)184
Бурлацкий. Глоток свободы. Т. 2. С. 186 и George F. Kennan И New York Review of Books. Nov. 16, 1995. P. 8. По поводу аналогии с 1917 годом см. также Майданик К.Л. // Перестройка в трансформационном контексте. С. 76; Межуев Вадим // Прорыв к свободе. С. 3 13.
(обратно)185
См., напр., Серебрякова З.Л. // Пять лет после Беловежья. С. 111; От катастрофы к возрождению. Под ред. Осадчего. С. 24; Grachev. Final Hours. P. 150; Афанасьев А. // Литературная газета. 2001. 11 июля. Некоторые авторы, правда, утверждают, что за отмену Союза «проголосовало подавляющее большинство», но о подобном голосовании нигде нет ни слова. М. Steven Fish // Post-Soviet Affairs. Oct. — Dec. 2001. P. 356. См. также Согрин В. В. // Вопросы философии. 1998. № 1. С. 9; Ariel Cohen A // Washington Times. Aug. 21, 2001.
(обратно)186
См. также Барсенков. Введение в современную российскую историю. С. 353–354.
(обратно)187
Там же. С. 351, 353. Барсенков отмечает, что поначалу даже Горбачёв был в этом уверен. Также см. Кагарлицкий Б. // Свободная мысль. 2002. № 1. С. 122; Radio Free Europe/Radio Liberty. Oct. 7, 2002 (ссылка на Сергея Караганова); Еушуев В. // Свободная мысль. 2005. № 2. С. 121. Разумеется, именно так это выглядело со слов Кравчука и Шушкевича сразу после Беловежья. См. Несостоявшийся юбилей. Под ред. А.П. Ненарокова. — М., 1992. С. 490–491; см. также замечания Ельцина по этому поводу, Исаков. Расчленёнка. С. 295–301.
(обратно)188
Марков Сергей // Труд. 2001. 15 декабря; а также Кагарлицкий Б. // Свободная мысль. 2002. № 1. С. 122.
(обратно)189
Протокол заседания был опубликован в: Исаков. Расчленёнка. С. 294–364.
(обратно)190
Третьяков В. // Независимая газета. 2000. 14 июня; Горбачёв // Правда. 1995. 16 августа и он же // Новая жизнь. 2002. 25 октября.
(обратно)191
Слова В.И. Севастьянова цит. по: Исаков. Расчленёнка. С. 325. См. также Шапошников Евгений. Выбор. — М., 1995. С. 139. Об автоматическом голосовании см. Марков С. // Труд. 2001. 15 декабря.
(обратно)192
Печенев Вадим. «Смутное время» в новейшей истории России. — М., 2004. С. 88. Также см. Марков С. // Труд. 2001. 15 декабря; Gorbachev. On My Country. P. 158–159; Барсенков. Введение в современную российскую историю. С. 353–356.
(обратно)193
По поводу цитат см., соответственно, Зюганов Г. // Советская Россия. 2004. 26 июня; Kagarlitsky. Square Wheels. P. 161; Медведев Р. А. // Новая и новейшая история. 2003. №2. С. 167–169; Вартазарова Л. // Завтра. 1995. №31. По поводу страха и вообще настроения коммунистов см. также Прокофьев. До и после запрета КПСС. С. 266–268; Марков С. // Труд. 2001.15 декабря; Эпоха Ельцина. Под ред. Батурина. С. 177.
(обратно)194
По поводу военных и КГБ см. Brian D. Taylor and John В. Dunlop // Journal of Cold War Studies. Winter 2003. P. 17–66, 94–127; а также Hough. Democratization and Revolution. P. 483–489. Сожаления по поводу того, что военные так легко подчинились Ельцину, см. Ципко Ачександр // Прорыв к свободе. С. 343.
(обратно)195
Vladislav M. Zubok // Geir Lundestad, ed. The Fall of the Great Powers. — Oslo, 1994. P. 169; а также Matlock. Autopsy On An Empire. P. 400.
(обратно)196
В качестве примеров первой точки зрения см. Фурман. Наше светлое будущее. С. 47–54; Zubok // Lundestad, ed. The Fall of the Great Powers. P. 161–166; Еузгалин и Калганов. Сталин и распад СССР. — М., 2003. С. 51–56, 67–68; Зыкин. Модель краха СССР; Белоцерковский Вадим // Свободная мысль. 2005. № 10. С. 94; Evan Mawdsley and Stephen White. The Soviet Elite From Lenin to Gorbachev. — New York, 2000. P. 256–274. В качестве примеров второй см. Гайдар. Государство и эволюция. С. 135; Лисичкин Геннадий // Литературная газета. 2001. 8 августа; Крыштановская Ольга. Анатомия российской элиты. — М., 2005. С. 318; Solnick. Stealing the State. По поводу Восточной Европы см. Kramer // Journal of Cold War Studies. Fall 2004. P. 60–63. Задолго до этого процесса некоторые, некогда просоветские, марксисты были обеспокоены возможностью такого развития событий, особенно Лев Троцкий и Милован Джилас. См. Leon Trotsky. The Revolution Betrayed {впервые опублик. в 1937 г.); Milovan Djilas. The New Class. — New York, 1957.
(обратно)197
По поводу первых см., напр., Гайдар. Государство и эволюция. Гл. 4–5; Чубайс А. Б. // Приватизация по-российски. Под ред. Чубайса. — М., 1999. С. 287–288; Kotz and Weir. Revolution From Above. Part TT; Hough. Democratization and Revolution. P. 1–3. По поводу вторых — Кара-Мурза С. // Советская Россия. 1995. 30 ноября; Буртин Ю. // Октябрь. 1997. №8. С. 161–176; Жуков В.И. Реформы в России 1985–1995 годы. — М., 1997. С. 26; Колее А. Мятеж номенклатуры. — М., 1995.
(обратно)198
Более подробно об этом процессе см.: Крыштановская. Анатомия российской элиты. С. 195–201, 291–318; Радыгин А.Д. Реформа собственности в России. — М., 1994. С. 48–57; Нуреев Р. и Гунов А. // Вопросы экономики. 2000. №6. С. 18–31; Andrew Barnes. Owning Russia. — Ithaca, 2006. Chap. 3; о его особенностях в Москве см. Каgarlitsky. Square Wheels. Взгляд изнутри см. Lev Tchurilov. Lifeblood of Empire. — New York, 1996. Chap. 17.
(обратно)199
Cm. Barnes. Owning Russia. Chap. 3; по поводу комсомола см. Solnick. Stealing the State; и по поводу частичной инвентаризации партийной собственности — Комсомольская правда. 1998. 4 июня.
(обратно)200
Kagarlitsky. Square Wheels. P. 155.
(обратно)201
Ряд исследователей обращают на этот момент особое внимание. См., напр., Випсе. Subversive Institutions. По поводу республиканских лидеров, тоже желавших быть президентами, см. Воротников В.И. А было это так… — М., 1995. С. 366–67; и Грачев. Горбачёв. С. 323.
(обратно)202
Как ещё в самом начале отмечал Фёдор Бурлацкий. Известия. 1990. 10 февраля. Также см. Сазонов. Предателями не рождаются. С. 40, 69.
(обратно)203
Так считают многие исследователи. См., напр., Jeff Halm // Post-Soviet Affairs. Jan.-March 2000. P. 64–68; Tuminez // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 82, 126, 133; Барзилов С. и Черпышов А. // Свободная мысль. 2002. №4. С. 44–45; Медведев Рой // Отечественная история. 2003. №4. С. 114; Чешко. Распад Советского Союза. С. 238, 263. См. также выше, прим. 132, 135, 138.
(обратно)204
Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 428^4–29; а также Pankin. Last Hundred Days. P. 266–267.
(обратно)205
Кива А. // Парламентская газета. 2003. 4 апреля; Медведев P. // Отечественная история. 2003. № 4. С. 112. По поводу терминов см. также Pankin. Last Hundred Days. P. 269 («навязанный роспуск»), Чешко. Распад Советского Союза. С. 282 («отмена»), Josef Joffe // New York Times. Feb. 10, 2003 («суицид путём саморазрушения») и Самуилов С. // Свободная мысль. 2006. № 3. С. 42 («самоликвидация»).
(обратно)206
John Higley and Gyorgy Lengyel, eds. Elites After State Socialism. — Boulder, 2000. P. 237; So/nick. Stealing the State. P. 7. См. также Kotz and Weir! Revolution From Above; Fritz W. Ermarth // The National Interest, Spring 1999. P. 6; Фурман. Наше светлое будущее. С. 53–54; Нуреев и Рунов // Вопросы экономики. 2000. №6. С. 18–31; Гайдар. Государство и эволюция. Гл. 4. Другие аргументы в пользу мнения, что не собственность была главной причиной распада СССР, см.: Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 8; Ellman and Kontorovich, eds. Destruction. P. 3, 27; David Lockwood. The Destruction of the Soviet Union. — New York, 2000. P. 130–132; Лацис. Тщательно спланированное самоубийство. С. 461-462. Некоторые авторы, рассматривая разные факторы, даже не учитывают собственность. См., напр., Holmes. Post-Communism. Chap. 2; Smith. Fall of Soviet Communism; а также прим. 113.
(обратно)207
По поводу последнего аргумента см. Випсе. Subversive Institutions.
(обратно)208
О «номенклатурном капитализме» как основе возникшей в итоге постсоветской системы см. Буртин Юрий. Исповедь шестидесятника. — М., 2003. С. 330–371, а также Кагарлицкий Борис. Реставрация в России. — М., 2000; Меньшиков Станислав. Анатомия российского капитализма. — М., 2004. С. 21–34; Лебедь А. // Московские новости. 1996. 12–19 мая; Kotz and Weir. Revolution From Above.
(обратно)209
Слова эстонского активиста движения за независимость цит. по: Симонян Р. // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 37.
(обратно)210
Как подчёркивает Хан, хотя и в несколько ином контексте. — НаЫ // Post-Soviet Affairs. Jan.-March 2000. P. 60. Это же имеет в виду российский автор, когда пишет: «Ельцин бросил спичку». — Лисичкин // Литературная газета. 2001. 8 августа. По поводу Горбачёва см. Новая газета. 2005. 21–23 февраля.
(обратно)211
По поводу цитат см. Николаев Н. // Новая газета. 2005. 15–17 августа; Замятин Л. // Новое время. 1997. № 16. С. 17. Анализ экономических и политических предпочтений московской элиты летом 1991 г. см. Judith S. Kullberg // Europe-Asia Studies. Vol. 46. No. 6, 1994. P. 929–953.
(обратно)212
По поводу Горбачёва см, соответственно: Правда. 1991. 1 и 17 июня; FBTS. May 16, 1991. Р. 34; Sept. 19, 1991. Р. 20. По поводу перестройки см. Ципко А. // Литературная газета. 2005. 19 января; Биккетт Н. // Свободная мысль. 2000. № 1 1. С. 102; Рябое А. В. // «Перестройка» в трансформационном контексте. С. 56–60; Логинов В. Т. // Горбачёвские чтения. Вып. 3. С. 159; Горбачёв. Понять перестройку. С. 375.
(обратно)213
Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 34, 89,171–172,253.
(обратно)214
Несколько иные версии этого призыва Ельцина см. Hahn // Post-Soviet Affairs. Jan.-March 2000. P. 64; Станкевич. История крушения СССР. С. 257. По поводу реформаторства см. Fedor Burlatsky // Washington Post. Nov. 10, 1991.
(обратно)215
Слова Павла Вощанова цит. по: Исаков В. // Советская Россия. 1996. 7 декабря.
(обратно)216
См., напр.: Gorbachev Mikhail. Perestroika. — New York, 1987. P. 57; Горбачёв М.С. Избранные речи и статьи в 7 томах. — М., 1987–1990. Т. 4. С. 316; Он же И Известия. 1991. 17 апреля.
(обратно)217
Krauthammer Charles in WP, April 27, 2007; NYT editorial, May 9, 2000; Remnick David in NY, May 21, 2001. См. также Shapiro Margaret in WP, Dec. 9, 1993; Wines Michael in NYT, June 5, 2000; Rubin Trudy in Philadelphia Inquirer, Dec. 13, 2003. В качестве одного из первых примеров подобного ревизионизма см. NR editorial, Sept. 9, 1991. P. 7–9.
(обратно)218
Colton Timothy and McFaul Michael in PPC, July-Aug. 2003. P. 12. См. также McFaul, Petrov N. and Ryabov A. Between Dictatorship and Democracy. — Washington, D. C, 2004. P. 2; McFaul in The Wilson Quarterly, Spring 2000. P. 42. Эта тема является центральной в трех американских биографиях Ельцина, правда, в последней ее отличает более взвешенный подход: Aron Leon. Yeltsin. — New York, 2000; Ellison Herbert. Boris Yeltsin and Russia's Democratic Transformation. — Seattle, 2006; Colton Timothy. Yeltsin. — New York, 2008. По поводу противоположной точки зрения см. выше, прим. 1; Reddaway Peter and Glinski Dmitri. The Tragedy of Russian Reformers. — Washington, D. C, 2001; Daniels Robert in The Nation, Oct. 20, 2008. P. 30–36; а также работы ведущего российского политолога Лилии Шевцовой: Shevtsova Lilia. Yeltsin's Russia. — Washington, D. C, 1999; Russia — Eost in Transition. — Washington, D. C, 2007.
(обратно)219
См., напр.: Эпоха Ельцина / Под ред. Батурина Ю.М. и др. — М., 2001; Мороз Олег. Хроника либеральной революции. — М., 2005; а также Lipman Marsha, на чье мнение ссылается процитированный здесь Hoffman David in WP, May 8, 1999.
(обратно)220
Самойлов Эдуард // НГ. 1992. 13 октября. См. также Мотыль Владимир // Известия. 1991. 7 сентября; Чайковская Ольга // ЛГ. 1992. 21 октября.
(обратно)221
См. последовательно: Wines Michael in NYT, June 14, 2001; Shillinger Liesl in NYT Book Review, July 2, 2006; Zakaria Fareed in Newsweek, June 16, 2003. P. 33; Kristof Nicholas in NYT, Dec. 15, 2004.
(обратно)222
См. последовательно: Malia Martin. The Soviet Tragedy. — New York, 1994. P. 499; Kotkin Stephen in JMH, June 1998. P. 406; Ulam Adam in TLS, Nov. 6, 1992. P. 23; Walker Edward. Dissolution. — Lanham, Md., 2003. P. 170; Menon Ra-jan in The Harriman Forum, Spring 1997. P. 13; Beissinger Mark. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York, 2002. P. 441. См. также Fish M. Steven in Demokratizatsiya, Spring 2005. P. 241–253; Cohen Stephen. Soviet Fates and Lost Alternatives. — New York, 2009. Chap. 4. N. 85 и критические замечания по поводу этой главы — Dawisha Karen and Hansen Stephen in SR, Fall 2004. P. 527–552; о «триумфализме» среди историков — Young Glennis in RR, Jan. 2007. P. 100, 117; о «мифических» альтернативах нэпа и перестройки — D’Agostino Anthony. Gorbachev's Revolution. — New York, 1998. P. 172; Malia Martin in Daedalus, Spring 1992. P. 74. По поводу несогласных с приведенной безальтернативной ортодоксией см.: Reddaway and Glinski. Tragedy. P. 5, 9, 16, 252–255, 636–641; Nelson and Kuzes. Radical Reform; Hough Jerry. Democratization and Revolution in the USSR. — Washington, D. C, 1997; Brown. Gorbachev. Chaps. 5–9; Daniels Robert. The Rise and Fall of Communism in Russia. — New Haven, 2007. Part 4; Lewin Moshe. The Soviet Century. — New York, 2005. Chap. 27.
(обратно)223
Ericson Richard in Journal of Economic Perspectives, Fall 1991. P. 25; Huskey Eugene in APSR, Dec. 1998. P. 968. См. также McFaul Michael in FA, Jan. — Feb. 1995. P. 89; Malia Martin in Daedalus, Spring 1992. P. 69; Pipes Richard in Commentary, March 1992. P. 30–31. Подробнее об этом см. Cohen Stephen. Failed Crusade (updated ed.). — New York, 2001. P. 40–42, 293. N. 69.
(обратно)224
См. последовательно: Третьяков Виталий 1! МН. 1989. 26 ноября; Kaiser Robert. Why Gorbachev Happened. — New York, 1991. P. 171; Billington James in NYT Book Review, June 17, 1990.
(обратно)225
Черняев А. С. Шесть лет с Горбачёвым. — М., 1993. С. 345. Ссылки на слова Горбачёва о «ереси» см. Бадов Валерий // РТ. 1990. 30 августа и Стреляный Анатолий // Литературное обозрение. 1990. № 12. С. 12; Горбачёв // Известия. 1991. 25 марта; Odom William. The Collapse of the Soviet Military. — New Haven, 1998. P. 94; Price-Jones David The Strange Death of the Soviet Empire. — New York, 1995. P. 5. См. также работу Doder Dusko and Branson Louise. Gorbachev. — New York, 1990, в которой авторы уже тогда отметили, что советские фундаменталисты опасались, как бы «руководство не оказалось в руках еретика» (Р. 176).
(обратно)226
McFaul Michael in WP, Sept. 30, 2000. См. также выше, прим. 4, и Desai Padmai. Conversations on Russia. — New York, 2006. P. vii-viii, 3.
(обратно)227
По поводу подобной «модернизации» см. Фадин А.В. // Кентавр. 1993. Январь-февраль. С. 92–97, а по поводу «традиции» — Reddaway and Glinski. Tragedy.
(обратно)228
По поводу цитат см. последовательно: ЛГ. 1991. 4 декабря; Материалы объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПСС. — М., 1991. С. 8; Горбачёв М.С. Годы трудных решений. — М., 1993. С. 10; Он же. Избранные речи и статьи. Т. 4. С. 327, 360; Правда. 1991. 26 июля.
(обратно)229
По поводу «некатастрофичной эволюции» см. Ворожейкина Татьяна // ОНС. 2005. № 5. С. 17–22. См. также ниже, прим. 28.
(обратно)230
Colton and McFaul in PPC. July-Aug. 2003. P. 20.
(обратно)231
Третьяков Виталий // РГ. 2003. 19 ноября, а также Buzgalin A. in JRL, Feb. 2, 2002.
(обратно)232
Cooper Ann (исполнительный директор Комитета защиты журналистов) in MT, July 7, 2005. См. также мнение Евгении Альбац, приведенное в материале Yabloka Oksana in MT, June 7, 2006.
(обратно)233
К такому выводу пришли позднее те, кто принимал участие в избирательных кампаниях 1989 и 1990 гг. См., напр., Ярошинская Алла, Вишневский Борис // Новая. 2004. 25–28 марта; 2005. 21–23 марта.
(обратно)234
См. Выжутович Валерий // Известия. 1994. 4 мая; Любарский Конрад, Собянин Александр // НВ. 1995. № 15. С. 6–12; Shevtsova. Yeltsin's Russia. P. 96–97.
(обратно)235
Fish M. Steven in Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 248; Koлесниченко Александр // НИ. 2006. 13 ноября. См. также Kagarlitsky Boris. Square Wheels. — New York, 1994. P. 55 16; Явлинский Григорий // Итоги. 2004. 20 марта; Фурман Дмитрий // НГ. 2008. 3 марта.
(обратно)236
По поводу неохотного согласия Горбачёва см. Steele Jonathan. Eternal Russia. — Cambridge, Mass., 1994. P. 261.
(обратно)237
Kiyshtanovskaya Olga and WJiite Stephen in PSA, Oct.-Dec. 2003. P. 289–306. См. также ссылку на Крыштановскую в Ostovsky Arkady in FT, Feb. 24, 2003. Полное и подробное исследование на эту тему см. Крыштановская Ольга. Анатомия российской элиты. — М., 2005.
(обратно)238
Яковлев // НВ. 2004. №32. С. 21. Более обстоятельный анализ состояния гражданского общества во время и после перестройки см. Горбачёвские чтения № 5. — М., 2007.
(обратно)239
Weiler Jonathan. Human Rights in Russia. Boulder, Colo., 2004. P. 2.
(обратно)240
Пияшева Лариса // Правда. 1995. 21 апреля; Шевцова Лилия // Многая лета: Михаилу Горбачёву — 70 / Под ред. B. Толстых. — М., 2001. С. 453; Полов Гавриил. Снова в оппозиции. — М., 1994. С. 81.
(обратно)241
Слова Михаила Ходорковского цит. по: Корина Анастасия // НГ. 2005. 12 сентября.
(обратно)242
Галкин Александр // Прорыв. С. 86. По поводу не сторонников Горбачёва см.: Фурман Дмитрий // СМ. 2003. №11. C. 9–30; он же. Наша странная революция. — М., 1998. Ч. 1; Бурлацкий Федор // НГ. 2001. 2 марта; Shevtsova. Yeltsin's Russia. P. 14–15; Кагарлицкий Борис // СМ. 2002. № 1. С. 122; BuzgalinA. in JRL, Jan. 21, 2000.
(обратно)243
См. последовательно: Zuckerman Mortimer in US News and World Report, Feb. 26, 2007; Sestanovich Stephen in WP, March 3, 2005; WP editorial, Dec. 11, 2007; NYT editorial, Sept. 14, 2004; McFaul Michael in WS, Nov. 17, 2003. Газета «Нью-Йорк таймс» даже инициировала серию статей, посвященных «путинской контрреволюции» (nytimes.com/ world). См. также: WP editorial, Nov. 16, 2003, Feb. 8, 2007; Hiatt Fred in WP, Sept. 20, 2004; Knight Amy in TLS, May 28, 2004. P. 7; McFaul in WP Book World, Feb. 6, 2005. P. 8; Baker Peter and Glasser Susan. Kremlin Rising. — New York, 2005; Colton and McFaul in PPC, July-Aug. 2003. P. 12; McFaul, Petrov and Ryabov. Between Dictatorship, esp. 2; McFaul in The Wilson Quarterly, Spring 2000. P. 42; Aron. Yeltsin; Ellison. Boris Yeltsin; Colton. Yeltsin.
(обратно)244
См., напр.: Hill Fiona in JRL, Nov. 28, 2003; выше, прим. 260; Reddaway and Glinski. Tragedy; Daniels in The Nation, Oct. 20, 2008. P. 30–36; Shevtsova. Yeltsin's Russia. По поводу «отката» см. среди прочих Pan Philip in WP, Sept. 21,2008.
(обратно)245
Aslund Anders. How Russia Became a Market Economy. — Washington, D. C, 1995. P. 2. Среди очень немногих Reddaway and Glinski. Tragedy; Brown. Seven Years; Daniels. Rise and Fall, part 4; Nelson Lynn and Kuzes Irina. Property to the People. — Armonk, N. Y., 1994. P. 30–32, а также, возможно, единственный из американских журналистов — Pfaff William in THT, Sept. 24, 1999.
(обратно)246
См., напр., Service Robert. Russia. Cambridge, Mass., 2003. P. 4–5 and chap. 22.
(обратно)247
См., напр.: Випсе Valerie in PSA, Oct-Dec. 1998. P. 324–325, 348; Hahn Gordon and Connor Walter in Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 166, 189; Kotz David and Weir Fred. Revolution From Above. — New York, 1997. P. 6–7. По поводу российских опровержений этого «мифа» см. Ерутени Карен // СМ. 2005. № 1. С. 174; Кувалдин Виктор // 10 лет без СССР / Под ред. О. Здравомысловой. — М., 2002. С. 110; Ryurikov Dmitriy. Russia Survives. — Washington, D. С, 1999. P. 15–18; Павлов Игнат // СМ. 2006. № 7–8. С. 223.
(обратно)248
Фраза принадлежит русскому консервативному мыслителю XIX века М.Н. Каткову, которого цитирует Александров Кирилл // НВ. 2005. № 27. С. 8, а также Карпычев Анатолий // Правда. 1992. 25 января.
(обратно)249
Барсенков А.С, Вдовин А.И. История России, 1938–2002. — М., 2003. С. 382–393. По поводу иностранного корреспондента см. Lloyd John in NR, Jan. 6 and 13, 1992. P. 18.
(обратно)250
См., напр.: Shevtsova Lilia in de Tinguy Anne, ed. The Fall of the Soviet Empire. — Boulder, Colo., 1997. P. 86; Buzgalin A. in JRL, Feb. 2, 2002; Фурман Дмитрий // СМ. 2003. № I 1. С. 9–30; Ryurikov. Russia. P. 15–20; Панарин Александр // ЛГ. 2002. 20 февраля, а также Путин В.В. // kremlin.ru. 2005. 2 сентября. По поводу мнения о «революции сверху», имевшей место в России в 1991 г., но без исторических параллелей со сталинской, см. Kotz and Weir. Revolution; Hahn Gordon. Russia's Revolution from Above. — New Brunswick, N. J., 2002. В качестве примера, содержащего подобную аналогию, см. Данилов В.П. // Куда идёт Россия? / Под ред. Т.П. Заславской и Л.А. Арутюнян. Т. 1. — М., 1994. С. 125–126.
(обратно)251
См. Cohen Stephen. Soviet Fates, chap. 5, n. 100; Wishnevskv Julia in Report, Nov. 13, 1992. P. 22.
(обратно)252
См., напр.: Ципко Александр IIКП. 1991. 7 ноября; Он же // ВА. 2008. № 3. С. 29; Bwiatsky in WP, Nov. 10, 1991; Собчак Анатолий // ЛГ. 1992. 15 января; Петровский Виктор // НГ. 1993. 26 февраля; Фурман. Наша странная революция. С. 73–74; Четко СВ. // Трагедия великой державы / Под ред. Г.Н. Севостьянова. М. 2005. С. 466; Reddaway and Glinsky. Tragedy (подзаголовок этой книги звучит как «Рыночный большевизм против демократии»), а также Nelson and Kuzes. Radical Reform. P. 12–16.
(обратно)253
По поводу сходного мнения см. Hellman Joel in Kuchins Andrew, ed. Russia After the Fall. — Washington, D. C, 2002. P. 96; или, еще раньше, Липицкий Василий // НГ. 1993. 12 августа.
(обратно)254
Фурман Дмитрий // СМ. 2003. № 11. С. 12.
(обратно)255
Шмелев Николай // Труд. 2005. 13 апреля.
(обратно)256
Афанасьев Юрий // СМ. 2004. № 11. С. 3. См. также Петраков Николай. Экономическая «Санта-Барбара». — М., 2000. С. 223; Третьяков Виталий // НГ. 1999. 18 декабря; Он же // Новая. 2005. 8–10 сентября.
(обратно)257
По поводу первого эпизода см. Харченко К.В. Власть — имущество — человек. — М., 2000; по поводу второго — Трагедия советской деревни / Под ред. В. Данилова и др. В 5 тт. — М., 1999.
(обратно)258
Ципко Александр // ЛГ. 2001. 23 мая.
(обратно)259
Либман Александр // СМ. 2005. № 9. С. 54. См. также: Панарин Александр // ЛГ. 2002. 20 февраля; Каспаров Гарри // Новая. 2008. 15 декабря; Hellman in Kuchins, ed. Russia. P. 106. По поводу «нисходящего вектора» желаний номенклатуры см. Reddaway and Glinski. Tragedy. P. 34, 268, 319.
(обратно)260
Подробнее об этих событиях см. Cohen Stephen. Failed Crusade. P. 135–141, 158–177; Yeltsin Boris. Midnight Diaries. — New York, 2000. P. 232–234.
(обратно)261
Подробнее об этом см. Cohen Stephen. Failed Crusade. Part 2.
(обратно)262
Zaslavskaya in Demokratizatsia, Spring 2005. P. 312 (правда, она использует более приличный вариант перевода на англ. яз.). По поводу «оффшорной» элиты см. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. — М., 2007. С. 32.
(обратно)263
Ципко Александр // ЛГ. 2006. 20 декабря.
(обратно)264
См., напр., Billington James. Russia Transformed. — New York, 1992; Malia. Soviet Tragedy. По поводу упорства заблуждений и мотивов, лежащих в основе этой политики, см. Cohen. Failed Crusade.
(обратно)265
Зиновьев Александр // Завтра. 1993. № 2. По поводу «ликования» см. Reddaway and Glinski. Tragedy. P. 2.
(обратно)266
См. Friedman Thomas in NYT, Aug. 2, 2006; Malia. Soviet Tragedy. P. 485, 487, and in PC, Jan.-April 1992. P. 93; Carrere d'Encause Helene. The End of the Soviet Empire. — New York, 1993. P. 219, 230 (а также BiUington. Russia); Bukovsky in NR, Jan. 6 and 13, 1992. P. 44; Aron Leon in Commentary, December 2006. P. 20; Service. Russia. P. 338; Рое Marshall. The Russian Moment in World History. — Princeton, N. J., 2003. P. 89. He менее критически относится к этому мифу и Hahn Gordon in Demokratizatsia, Spring 2005. P. 167, а также Reddaway and Glinski. Tragedy.
(обратно)267
См. об этом Reddaway and Glinski. Tragedy. Chap. 5–6; Delvin Judith. The Rise of the “Russian Democrats. — Brookfield, Vt, 1995. Chap. 8. По поводу цитаты см. Гайдар Егор. Государство и эволюция. — М., 1995. С. 135.
(обратно)268
Век XX и мир. 1990. №6. С. 15–19.
(обратно)269
Shatalm Stamslav in FBTS, March 27, 1991. P. 29. См. также Adamovich Ales in FBIS, Nov. 27, 1992; Клишина Светлана // Известия. 1992. 17 апреля. По поводу предыдущей цитаты см. О стратегии российского развития / Под ред. В. Толстых. — М., 2003. С. 198; см. также Гельман // ОНС. 1997. № 4. С. 66–67. В качестве примеров ранних предупреждений о судьбе избранных советов см. Diligensky German in NT, no. 51, 1991. P. 16–17; Ворожейкина Татьяна // Век XX и мир. 1992. № 1. С. 25–30. Движимая борьбой за передел собственности кампания вокруг Московского Совета тогда уже набирала обороты. См. Каgarlitsky. Square Wheels. По поводу России и «варианта Пиночета» в международном контексте см. Klein Naomi. The Shock Doctrine. — New York, 2007. Chap. 11–12.
(обратно)270
Борова Наталья // ЛГ. 2007. 11–17 июля. Похожую, хотя и менее жесткую оценку см. Delvin. The Rise. P. 258.
(обратно)271
По поводу тоски по российскому Пиночету см. Работяжев Николай // НГ. 2000. 23 сентября. См. также: Найшуль Виталий // ЛГ. 1995. 30 ноября — 6 декабря; Вишневский Борис об Альфреде Кохе // Новая. 2002. 28 февраля — 3 марта; Рябов Андрей о Гайдаре // Новая. 2006. 16–19 февраля; Lyakhovich Oleg in Moscow News, Dec 15–21, 2006; Spector Michael (со ссылкой на Хакамаду) in NYT Magazine, Jan. 29, 2007. P. 57. Но поводу русской критики роли «либералов» в процессе де-демократизации см. прим. 39. Даже некоторые поклонники Чубайса признают, что он не был заинтересован в демократии. См., напр., Радзиловский Леонид // РГ. 2005. 31 мая; Бергер М, Проскурина О. Крест Чубайса. — М., 2008. Кое-кто из поддержавших Ельцина интеллектуалов позже сожалел об антидемократических последствиях его преобразований. См., напр., Ясин Евгений // МН. 2003. 11 ноября; Киселев Евгений // Новая. 2008. 6–8 октября. Пример вызывающе-легковесного и оскорбительного самооправдания в отношении роли, сыгранной чубайсовской командой, см. Kokh Alfred and Svinarenko Igor. A Crate of Vodka. — New York, 2009.
(обратно)272
По поводу этого печального эпизода см. Cohen. Failed Crusade.
(обратно)273
По поводу цитат после слова «либералов» см. последовательно: Геворкян Наталья // Либералы о народе. — М., 2006. С. 43; Sinyavsky Andrei (со ссылкой на Юрия Карякина). The Russian Intelligentsia. — New York, 1997. P. 20; Фурман Дмитрий // ОТ, 2001. 12–18 июля; Erofeev Viktor in NYT, Feb. 29, 2008; Shlapentokh Vladimir (со ссылкой на Альфреда Коха) in EAS, Nov. 1999. P. 1168. См. также: Старовойтова Галина // НГ. 1991. 30 июля; открытое письмо представителей интеллигенции Путину // Известия. 2000. 5 декабря; СР. 2002. 2 февраля (ссылка на Коха); Kokh and Svinarenko. Crate; Троицкий Артемий // Новая. 2003. 24–26 ноября; Gryaznevich Vladimir in St. Petersburg Times, Feb.7, 2006; Kovalev Sergei in NYRB, Nov. 22, 2007. «Либералы о народе» содержит пронизанную ненавистью, но представительную подборку высказываний подобного рода, а книга Синявского о русской интеллигенции — протест против них (см. особенно С. 16, 20–21,31).
(обратно)274
Коробов С.А. // СР. 2006. 19 августа. По поводу мнения о том, что у «шоковой терапии» в 1992 г. были постсоветские альтернативы, см. Кива Алексей // СМ. 2007. № 2. С. 64–65; Белоцерковский Вадим // там же. № 12. С. 54–55.
(обратно)275
Шевцова Л. //Многая лета. С. 453.
(обратно)276
Речь Горбачёва на церемонии вручения ему Премии свободы (Liberty Award) 2008 года, присуждаемой Американским национальным центром конституции (American National Constitution Center), 19 сентября 2008 г. (на вебсайте Центра). Более полно см. Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 2. По поводу историков и участников см. прим. 75.
(обратно)277
Bilefsky Dan and Schwirtz Michael in NYT, Sept. 8, 2008. См. также результаты опроса русских граждан (Новая. 2008. 11–13 августа); мнение осетина (Kramer Andrew and Barry Ellen in NYT, Sept. 11, 2008); русских (Schwirtz in NYT, Sept. 30, 2008); грузина (Barry in NYT, Oct. 10, 2008). См. также Трифонов В. // СР. 2008. 20 сентября, который пишет, что в Южной Осетии «Америка воевала с Россией».
(обратно)278
По поводу «застала врасплох» см., напр., отчет американского Института Центральной Азии и Кавказа (JRL, Aug. 31, 2008) и свидетельство американского офицера, отвечавшего за грузинские дела, на которого ссылаются Cooper Helene and Shanker Thorn in NYT, Aug. 13, 2008. О войне, которая стала «ударом», «встряхнувшим» администрацию Буша, см. Sestanovich Stephen in FA, Nov. — Dec. 2008. P. 12, а также репортаж Myers Stephen and Shanker Thorn in NYT, Aug. 15, 2008.
(обратно)279
Rice Condoleezza in JRL, Jan. 24, 2008; Ignatius David in WP, Sept. 4, 2008. Также см. McFaul Michael in JRL, Sept. 9, 2008; Burns William (посол США в России) in JRL, Nov. 12, 2007; Bolton John in WP, Oct 20, 2008; Asmus Ronald andHollbrooke Richard in WP, Aug. 11, 2008; Gates Robert in JRL, Oct. 24, 2007; WS editorial, Aug. 25, 2008. P. 7; Kagan Robert in NR, April 23, 2008. P. 44.
(обратно)280
По поводу последнего утверждения см., напр., Bryza Matthew (зам. госсекретаря США) in JRL, Sept. 24, 2008; по поводу идеологии см. Nichols Тот. National Review Online, Dec. 8, 2008; а по поводу всех объяснений в целом см. Baev Pavel in AAASS Newsnet, Oct. 2007. P. 1. Подобные аргументы то и дело звучат в официальных заявлениях и в печати, но в качестве серьезного обоснования этой позиции см. Brown. Seven Years. P. 240–241.
(обратно)281
Kagan Robert in WP, May 2, 2008; его поддержал Kotkin Stephen in NYT, July 6, 2008.
(обратно)282
Cm. Friedman in NYRB, Sept. 25, 2008. P. 24–26.
(обратно)283
Myers Steven in NYT, Aug. 16, 2008, а по поводу предыдущей цитаты см. NYT editorial, Aug. 27, 2008.
(обратно)284
Об истории «нового мышления» см. English Robert. Russia and the Idea of the West. — New York, 2000; о том, как оно работало, см. Brown. Seven Years, chap. 9; а в качестве примеров взгляда изнутри на новую политику см. Chernyaev Anatoly. My Six Years with Gorbachev. — University Park, PA, 2000; Grachev Andrei. Gorbachev's Gamble. — Maiden, Mass., 2008; Matlock Jack, Jr. Reagan and Gorbachev. — New York, 2004.
(обратно)285
Цит. по Graebner Norman, Burns Richard and Siracuza Joseph. Reagan, Bush, Gorbachev. — Westport, Conn., 2008. P. 142. См. также Matlock. Reagan and Gorbachev. P. xiv, а по поводу «другой эпохи» — P. 302.
(обратно)286
Слова Буша цит. по: Graebner et al. Reagan. P. 130. О встрече на Мальте, «символизирующей конец … мира холодной войны», см. Garthoff Raymond. The Great Transition. — Washington, D. C, 1994. P. 404–408.
(обратно)287
См., напр., Graebner et al. Reagan; Matlock. Reagan and Gorbachev; Grachev. Gorbachev's Gamble; Brown. Seven Years, chap. 9; Skinner Kiron, ed. Turning Points in Ending the Cold War. Stanford, Calif., 2008; Wohlforth William, ed. Witnesses to the End of the Cold War. — Baltimore, Md., 1996; Combs Dick. Inside the Soviet Alternate Universe. — University Park, Penn., 2008, chap. 9–10.
(обратно)288
Bush George and Scowcroft Brent. A World Transformed. — New York, 1998. P. xiv; ZeJikow Philip and Rise Condoleezza. Germany United and Europe Transformed. — Cambridge, Mass., 1995. P. 363.
(обратно)289
NYT, Oct. 28, 2002.
(обратно)290
McFaul in Skinner, ed. Turning Points, chap. 7; Goldgeier James and McFaul Michael. Power and Purpose. — Washington, D. C, 2003, где говорится, что ликвидация Ельциным Советского Союза привела к «мгновенному исчезновению холодной войны» (Р. 1). В качестве примера более глубокой, но столь же триумфалистской оценки см. Gaddis John. The Cold War: A New History. — New York, 2005. Прочитав эту книгу, рецензент констатировал: «Советского Союза не стало. Холодная война окончилась» (Grimes William in NYT, Dec. 18, 2005).
(обратно)291
Judt Tony (со ссылкой на Дэвида Кота (Caute) в рецензии на книгу Гаддиса о холодной войне) in NYRB, March 23, 2006. P. 11–12, 15.
(обратно)


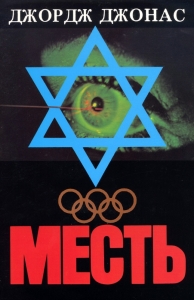
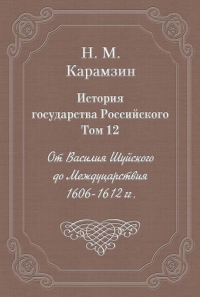
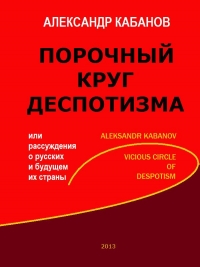
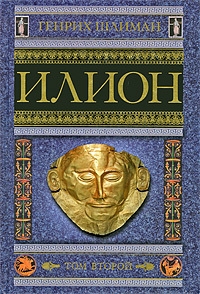

![Книга Кагала [3-е изд., 1888 г.]](https://www.4italka.su/images/articles/533362/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге ««Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза?», Стивен Коэн
Всего 0 комментариев