Иосиф Крывелев ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ Том второй
Глава первая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА
ИСТОЧНИКИ
Из трех мировых религий ислам — самая «молодая»; если первые две — буддизм и христианство — возникли в эпоху, которую принято относить к древности, то ислам появился в раннее средневековье. Это дало основание некоторым исследователям заявить, что он возник «при полном свете истории» и что жизнь его основателя так же ясна исторической науке, как жизни Лютера и Кальвина. В настоящее время все направления научного исламоведения отвергают этот взгляд, признавая сложность и запутанность проблем, связанных с критикой источников по доисламскому периоду и по первым этапам становления и развития мусульманства1.
Археологических памятников, относящихся к данной эпохе, не существует, если не считать двух-трех скупых надписей III–V вв. и «черного камня» в Мекке, который сам по себе тоже мало что говорит 2.
Для характеристики доисламского периода жизни и общественного сознания населения Аравии имеют большое значение памятники так называемой доисламской поэзии. До конца V в. это был фольклор — поэтическое творчество бедуинских племен в песнях и стихах, сочинявшихся на разные случаи жизни, отражавших ее различные стороны: труд, любовь, охоту, войну и т. д. Зачатки художественно-фольклорной прозы того времени сохранились в виде загадок и поговорок, а также рассказов-повествований о воинских подвигах и любовных приключениях. В конце V в. зарождается индивидуальное поэтическое творчество, и в течение ближайших столетий в историю литературы входят поэты Имру уль-Кайс, Антара ибн Шаддад, Зухайр ибн Аби Сульма и др.3 В течение ряда столетий доисламская поэзия бытовала лишь в устной традиции. Первые записи ее начались, вероятно, лишь в VII в., а до нас дошли в рукописях VIII–X вв. Для характеристики доисламских религиозных верований и культов здесь содержится сравнительно мало материала. Интерес доисламской поэзии сосредоточен на описании жизни и быта, социально-исторических условий и нравов, господствовавших среди арабских племен доисламской эпохи.
Основным источником для исследования и описания первоначального ислама является Коран 4. При всех критических замечаниях, сделанных в адрес этого документа исламоведами и историками арабской литературы, его подлинность и его важное значение для историографии ислама остаются незыблемыми.
Основатель ислама Мухаммед изрекал свои суждения и решения, произносил проповеди, выступал с речами и воззваниями назидательного и полемического порядка в связи с различными событиями общественной и религиозной борьбы, которую он вел. В некоторых случаях слушатели записывали (по преданию, при Мухаммеде состояли даже специальные писцы) эти откровения на пальмовых листьях, плоских костях и камнях, на обрывках папируса или кожи. Чаще же всего содержание высказываний пророка оставалось в памяти людей, которые передавали его из уст в уста, цитировали, ссылаясь на его смысл и текст. При этом, надо полагать, не обходилось и без того, что Мухаммеду приписывались заявления и высказывания, к которым он не имел отношения. Кодифицированного же текста Корана ко времени смерти Мухаммеда в 632 г. еще не было.
Когда в сражении против еретика Мусейлимы (633) погибли те из последних «хранителей Корана», которые помнили наизусть отдельные его суры, один из руководителей мусульманства, будущий халиф Омар, обратил внимание халифа Абу Бекра на опасность того, что со временем поучения пророка вообще окажутся стертыми из памяти людей. Тогда Абу Бекр счел необходимым кодифицировать Коран в одном документе и поручил это дело Зейду ибн Сабиту, состоявшему писцом еще при Мухаммеде. При содействии властей Зейд собрал отдельные зафиксированные фрагменты Корана у всех, у кого они хранились, записал многое из того, что помнили оставшиеся в живых «хранители», присоединил к ним и собственные записи и создал первый общий свод Корана.
Этот свод предназначался лишь для личного пользования Омара и Абу Бекра. Халиф Осман (644–656) решил создать новый официальный документ исламского вероучения. И вновь поручил это Зейду, в помощь которому выделил несколько писцов. При содействии властей были собраны все сохранившиеся фрагменты и рукописи; после их использования и составления канонического текста их уничтожили. Новый свод Корана был составлен в четырех экземплярах, из которых один остался в Медине (где он и составлялся), остальные были отправлены в крупные центры халифата — в Куфу, Басру и Дамаск 5.
Хотя эти рукописи до нас не дошли, есть все основания полагать, что находящийся в нашем распоряжении текст Корана соответствует тому, который был в 651 г. зафиксирован Зейдом ибн Сабитом и его соратниками. Он состоит из 114 глав (сур), каждая из которых делится на стихи (аяты)6. Логически связного изложения ни в Коране в целом, ни в отдельных его сурах нет. Не существует и хронологического порядка в расстановке сур. Единственный принцип этой расстановки заключается в объеме каждой суры — после короткого вступления, составляющего первую, все остальные расположены так, что сначала идут наиболее длинные суры, а затем все более короткие. Невозможно усмотреть какой-нибудь принцип распределения материала и внутри сур.
Поскольку разные фрагменты Корана появлялись на протяжении довольно длительного времени (около двух десятилетий), можно было бы расположить их в некоторой хронологической последовательности, но такой принцип составителями Корана не был использован. В результате чрезвычайно кропотливого труда ряда корановедов установлена относительная хронологическая последовательность сур Корана 7. Но это сделано, конечно, приблизительно и выглядит спорно, ибо критерием датировки каждой из сур служили такие неопределенные и субъективные признаки, как ее стиль, соответствие ее содержания тем или иным событиям истории первоначального ислама, наконец, «интуиция» самого исследователя. Все же, вероятно, общую линию датировки сур Корана можно считать соответствующей его действительной истории.
Основное хронологическое деление Корана идет по признаку — мекканские и мединские суры. Первые, относящиеся к периоду до переселения Мухаммеда в Ясриб (впоследствии Медина) в 622 г., составляют большую часть Корана — 90, остальные 24 датируются периодом 622–632 гг. Внутри общей рубрики мекканских сур намечено деление на три периода, причем каждый характеризуется особенностями лексики и стиля соответствующих сур: относящиеся к первому периоду рассматриваются как «поэтические», ко второму — как «рахманские» («Рахман» — Милосердный, название бога, фигурирующего наряду с именем «Аллах»), к третьему — как «пророческие»8. Исследователи отмечают эволюцию формы коранических сур — более ранние суры выглядят яркими, темпераментными, поэтически насыщенными, а чем дальше, тем изложение делается все более вялым, рассудочным и растянутым.
Неточность датировки отдельных сур и их распределения в порядке относительной хронологии подчеркивается тем фактом, что внутри некоторых из них наличествуют аяты разных периодов. Известный русский востоковед В. Бартольд приводит пример 5-й суры, в которой заметны следы трех наслоений: в 73-м аяте иудеи и христиане рассматриваются как равноправные с мусульманами претенденты на небесное блаженство, в 85-м аяте христиане ставятся в положение, близкое к мусульманскому, а иудеи — как заслуживающие ненависть, в 56-м же аяте мусульманам запрещается дружить и с иудеями, и с христианами как с людьми нечестивыми9. Ясно, что такие три различные установки не могли быть даны в одно время.
Говоря о подлинности текста Корана, надо иметь в виду, что его кодификаторы могли вносить в него исправления, вытекавшие из менявшейся обстановки и из требований тех общественных слоев, которые в данный момент занимали господствующее положение. Известно, например, что после первой кодификации Корана некто Абдалла ибн Масуд, занимавший при жизни Мухаммеда высокое положение, заявлял, что из свода Корана исчезли многие тексты, в которых подвергались критике верхушечные социальные слои Мекки. При халифе Османе некий Абу Зарр выступал против той роскоши, в которой жили сирийские Омейяды, и ссылался при этом на Коран 10, а в современном тексте соответствующих мест нет, они были впоследствии удалены. Видимо, такие купюры, а может быть, и интерполяции практиковались достаточно широко, следовательно, далеко не во всем дошедший до нас текст Корана совпадает с первоначальным «откровением» Мухаммеда.
При всем этом Коран следует считать основным источником, по которому можно судить о первоначальном исламе. Сказанное выше должно только предостерегать от некритического отношения к этому источнику.
Важное значение имеет то обстоятельство, что Коран отражает лишь первые десятилетия истории ислама. Вот что пишет по этому поводу его переводчик известный востоковед И. Ю. Крачковский: «Коран во всей истории остается основанием учения, предметом обожествления; но для понимания исторического ислама он недостаточен. Сам Мухаммад (автор так транскрибирует это имя. — И. К) под влиянием своего внутреннего развития должен был отказаться от старых откровений и заменять их новыми. Что же должно было произойти тогда, когда ислам стал делаться интернациональной силой?» 11 Действительно, в те десятилетия, в которые складывался Коран, формирование ислама как религиозной политической системы только начиналось. Поэтому источники, относящиеся к ближайшим двум последующим столетиям, приобретают наряду с Кораном большое значение.
В этой связи необходимо указать на сиру — биографическую литературу, посвященную Мухаммеду. В течение ряда столетий после возникновения ислама появились сборники произведений этого жанра — сираты, но даже наиболее древний из них, написанный Ибн Исхаком, относится лишь ко второй половине VIII в., т. е. отстает от описываемых в нем событий на полтора столетия. Это тем более существенно, что работа Ибн Исхака сохранилась не в первозданной форме, а в последующей обработке Ибн Хишама. Сират Ибн Исхака был написан в Багдаде по поручению халифа Мансура 12.
В VII в. наряду с записью коранических текстов стали появляться зафиксированные хадисы — предания, относящиеся к какому-либо историческому или вымышленному моменту жизни Мухаммеда: как он поступал в том или ином случае, что сказал или, наоборот, по какому поводу смолчал. Источниками хадисов вначале были сообщения еще живших сподвижников Мухаммеда, в дальнейшем — их преемников, а потом — «преемников преемников». При записи хадисов большое внимание уделялось указанию их источников, так что каждый хадис состоял не только из повествовательного текста, но и из так называемого иснада — перечня имен тех людей, от которых в последовательном порядке шла передача хадиса 13.
Группы хадисов соединялись в сборники, которые постепенно накоплялись во все большем количестве, так что мусульманским богословам пришлось произвести своего рода отбор тех из них, которые могли быть признаны заслуживающими особого почитания. Отобранные в IX в. шесть таких сборников составили Сунну — Священное предание ислама14, занимающее в нем такое же место по отношению к Писанию — Корану, какое в иудаизме занимает Талмуд относительно Библии, а в христианстве — Священное предание относительно Священного писания.
Исламоведы XX в. придают Сунне в качестве исторического источника гораздо меньшее значение, чем Корану. В. Бартольд писал: «Недостоверность хадисов, как исторического источника, в настоящее время вполне установлена наукой; вместе с хадисами падает и сира; в противоположность мнению Ренана, современный итальянский исследователь ислама Каэтани приходит к выводу, что все известия о деятельности Мухаммеда до его бегства в Медину более относятся к области легенды, чем к области истории. При установлении фактов жизни Мухаммеда теперь необходимо как можно меньше пользоваться преданиями, по возможности довольствуясь теми местами Корана, которые ясны без комментариев, и теми немногими сведениями о жизни Аравии в VII в., которыми мы располагаем» 15. Скептицизм Бартольда совершенно оправдан, но он относится лишь в фактам биографии Мухаммеда в ее мекканский период. Значение же и сиры и хадисов как источников, характеризующих современную им эпоху, не может быть оспариваемо. А эта эпоха тоже является периодом оформления ислама как религии и его широкого распространения по тому обширному географическому ареалу, в котором он утвердился в первые столетия своего существования.
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ МУХАММЕДА. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ РАННЕГО ИСЛАМА
Историчность личности Мухаммеда не вызывает сомнений. Он действительно был основателем ислама, признание чего ни в коей мере не снимает проблемы решающего значения тех социально-исторических условий, в которых его деятельность могла оказаться столь существенной и результативной.
Биография Мухаммеда, изложенная в известных нам источниках, выглядит в достаточной мере правдоподобно, и если отказаться не только от тех сообщений о чудесах, которые нагромождены в мусульманской религиозной литературе, но и от произвольных измышлений В. Ирвинга и других беллетристов от науки 16, то можно в общих чертах историю жизни и деятельности Мухаммеда реконструировать 17. Труднее это сделать в отношении мекканского периода; более твердую почву мы обретаем, подходя к мединскому периоду, составлявшему последнее десятилетие жизни Мухаммеда.
В отношении мекканского периода можно считать не подлежащими сомнению следующие факты: рождение в начале 70-х годов VI в., происхождение из второстепенного рода хашим знатного и богатого племени курейш, жизнь в бедности до женитьбы на Хадидже, сама женитьба, начало проповеди в 610 или 612 г., враждебное отношение к ней и к самому проповеднику со стороны правящих кругов Мекки, переселение или, как это чаще именуется, бегство в Ясриб (Медину) в 622 г. Достоверной выглядит и картина оформления первоначальной группы мекканских приверженцев Мухаммеда во главе с Абу Бекром и Омаром, так же как и отношение к Мухаммеду его родичей, не принявших ислама. Смерть богатой и влиятельной в Мекке Хадиджи и последовавшая за ней смерть дяди Абу Талиба, обеспечивавшего Мухаммеду поддержку, покровительство и защиту со стороны рода, сделали его дальнейшее положение в Мекке настолько рискованным, что переселение в Медину выглядит в тех условиях неизбежным.
Проповедническая и военная деятельность Мухаммеда в Медине, его личная жизнь там, состояние его здоровья, смерть в 632 г. описаны достаточно подробно. Главные события указанного периода — сражения при Бедре и Оходе, «войну у рва», набеги мусульман на другие арабские племена и территории, перипетии мирных взаимоотношений с Меккой, включая паломничество в 630 г. и окончательную ее капитуляцию в том же году, — следует считать историческими фактами, знаменовавшими этапы развития и победы первоначального ислама. И нет оснований отрывать их от личности человека, который был их инициатором и в известной мере руководителем.
Необходимо учитывать и те особенности личности Мухаммеда, которые не могли не оказать известное влияние на самый ход событий. В научной литературе долгое время бытовал взгляд, приписывающий основателю ислама эпилептическую болезнь. Один из крупных исламоведов прошлого века, А. Шпренгер, имевший и медицинское образование, отверг этот диагноз и признал болезнью Мухаммеда «мускулярную истерию» 18. В. Бартольд счел и такую болезнь не соответствующей характеру поведения Мухаммеда, так как «эпилептические и истерические натуры не могут быть свободны от болезненных колебаний и увлечений…» 19. Поведение же Мухаммеда было якобы последовательным и целеустремленным, а его учение — простым и ясным, может быть, слишком трезвым. Приведенные соображения не представляются убедительными, ибо и в поведении Мухаммеда, и в его учении было достаточно обстоятельств, могущих иллюстрировать склонность этого человека к «болезненным колебаниям и увлечениям». К тому же многочисленные сообщения свидетельствуют о часто происходивших у него припадках с частичной и даже полной потерей сознания.
Этот факт дает материал к установлению генетического родства пророческой функции Мухаммеда с шаманством. Как известно, это явление — более или менее универсальное в истории религий — связано с тем, что при своем служении (камлании) шаман впадает в транс, а иногда просто теряет сознание, находясь в это время, как считают верующие, в непосредственном общении с миром духов. В доисламской Аравии зафиксировано широкое распространение деятельности шаманов, известных там под именем кахинов 20.
К кахинам люди обращались за советами в критические моменты своей жизни. Но, чтобы иметь возможность дать такой совет, кахин должен был дождаться озарения, транса, приступа. Влияние кахинов в доисламской Аравии было так велико, что иногда они становились влиятельными общественными руководителями и своего рода вождями. Мухаммед явно унаследовал в своей деятельности исторически сложившуюся кахинскую практику в плане как чисто культовом, так и общественно-политическом. Приступы транса были лишь внешним выражением этого факта.
Характерно в этом отношении, что религиозно-политические вожди, выступавшие как конкуренты Мухаммеда у разных арабских племен, особенно сразу после его смерти, также претендовали на достоинство кахинов. М. Б. Пиотровский говорит в этой связи о Мусайлиме в Йемене, ал-Асваде в Йемене, Саджжахе в Тулайхе в Центральной Аравии, Ибн Сайаде в Медине. Он приводит материал, свидетельствующий о том, что все они в какой-то мере претендовали на основное качество кахинов — способность впадать в транс, открывавший перед ними возможность общения со сверхъестественным миром. Не следует при этом упускать возможность в некоторых случаях имитировать это состояние, чем, вероятно, иногда пользовался и Мухаммед.
Он активно использовал кахинскую форму культовой и общественно-политической деятельности. В то же время следует указать на то новое, что он внес в ее содержание и форму. Мухаммед занимался делами и заботами не отдельных личностей, какими бы высокопоставленными они ни были, а общества в целом — конечно, в масштабе племени и группы племен. Притом, как пишет М. Б. Пиотровский, «религиозные и социальные идеи, которые проповедовал Мухаммед, служили изменению общества, а не сохранению этого общества, что было социальной задачей и сутью деятельности кахинов» 21. При этом и сам Мухаммед старался отмежеваться от них и показать, что он выступает в новом, несравненно более высоком качестве, чем кахины.
Такая тенденция нашла свое выражение и в Коране. «…Это, — говорится там о Мухаммеде по отношению к кахинам и заодно к поэтам, — слова посланника благородного! Это не слова поэта… не слова прорицателя» (69, 40–42). «Напоминай же! Ведь ты по милости твоего Господа не прорицатель и не одержимый» (52, 29). Главное же, что отделяет Мухаммеда и его проповедь от «теории» и практики кахинства, заключается в том, что в основе этой проповеди лежит идея единобожия, в то время как кахинство основано на представлении об общении с миром бесчисленного множества демонов, составляющих мир сверхъестественного.
В общем же Мухаммед остался в истории не просто пророком, его деятельность была несравненно сложнее и многограннее. М. Б. Пиотровский пишет об этом: «Он был одновременно и племенным вождем — сайидом, и походным предводителем — акидом, и племенным арбитром — хакамом, и оратором — хатибом и даже племенным поэтом — шайиром» 22. Один из источников его силы заключался именно в том, что он сумел использовать традиционные формы деятельности функционеров арабского общества того времени. И что еще важнее, он и содержание своей проповеди не отрывал решительным образом от распространенных в доисламской Аравии представлений и верований, он их ставил на службу своей проповеди, в нужной ему степени преобразуя их и сливая с ней. Таким образом, предания, связанные с личностью Мухаммеда и нашедшие свое выражение, в частности, в Коране, рисуют достаточно логично образ основоположника ислама.
Правдоподобными выглядят и другие персонажи, связанные с биографией Мухаммеда и с историей первоначального ислама, психологически вероятны их характеристики. Умный и осторожный, но последовательный и целеустремленный купец Абу Бекр, неукротимо азартный и энергичный силач Омар, ловкий и двуличный Аббас, купец и воин Абу Суфьян, долгое время возглавлявший мекканскую антиисламскую оппозицию, жены Мухаммеда, и прежде всего живая и резвая, ревнивая и хитрая Айша, сыгравшая большую роль в развитии движения после смерти Мухаммеда, — все это живые люди, а не продукты мифотворческой фантазии. Но, чтобы эти личности могли сыграть предложенную религией роль, нужны были соответствующие исторические условия.
Огромная территория Аравийского полуострова (около территории Европы) характеризуется большим разнообразием природно-географических и климатических зон. Но особенно важное значение имело то разнообразие уровней исторического развития, которое было характерно в рассматриваемый период для населения полуострова.
Южная часть Аравийского полуострова знает рабовладельческие государства, существовавшие еще во времена глубокой древности. Сохранились сведения о трех из них: сабейском (вспомним библейскую «царицу Савскую»), минейском, химьяритском. На севере Аравии также существовали сложившиеся государства во главе с династиями Лахмидов, Гассанидов и Киндитов. Наличие государства со всеми его институтами свидетельствует о классовой структуре общества, конкретной формой которой было рабовладение. В силу ряда причин к периоду возникновения ислама южноарабские государства развалились, а общество деградировало как в материальной и духовной культуре, так и в социальном плане; основным направлением этой деградации было воскрешение условий и порядков первобытнообщинного строя в период его разложения. Что касается североарабских царств, то они еще сохраняли свое существование, хотя и попали в зависимость от великих держав того времени — Ирана и Византии; сохраняли они и достигнутый уровень культурного и социального развития.
Центральная же часть полуострова, в которой и возник ислам, значительно отстала в своем развитии от южного и северного районов. Хозяйственно-технической основой общества было кочевое скотоводство. Помимо него преимущественно в оазисах практиковались и довольно примитивные земледелие, садоводство, виноградарство. Важное хозяйственное значение для тех городских центров, в которых первоначально возник ислам, имел проходивший через всю Аравию караванный путь, составлявший один из главных отрезков торгового пути между Индией, Западной Азией и Юго-Восточной Европой. Такие города, как Мекка и Ясриб, были промежуточными пунктами указанного маршрута, и население этих городов, в особенности Мекки, жило в основном за счет обслуживания верблюжьих караванов и участия в транзитной торговле.
Достигнутая к рассматриваемому периоду ступень социальной эволюции может быть охарактеризована как период разложения первобытнообщинных отношений в последней стадии. Общество делилось на племена и роды, не зная еще классового деления. Тем не менее внутри племен и даже родов шел процесс имущественной дифференциации: выделялась племенная знать, обогащались наиболее активные и удачливые участники караванной торговли, приобретавшие и эксплуатировавшие рабов, владельцы крупных стад и участков обработанных плодородных земель; на другом полюсе оказывались обедневшие соплеменники, бедняки, потерявшие связь со своим родом и племенем, а стало быть, и их покровительство, и, конечно, рабы. Тем не менее завершившейся классовой дифференциации к данному времени еще не произошло, хотя движение в этом направлении было достаточно интенсивным, особенно в районах Мекки и Ясриба. Замедленно проходил этот процесс в пустынно-степной части Центральной Аравии, где среди скотоводов-бедуинов родоплеменные отношения сохранялись особенно прочно.
В советской исторической литературе одно время велись споры по вопросу о том, в условиях какой общественно-исторической формации возникла и прошла первые этапы своего развития религия ислама. С точки зрения одних исследователей, в Аравии рассматриваемого периода уже существовал рабовладельческий строй, по мнению других, следует говорить о раннефеодальном обществе. Одно время пропагандировалась и такая концепция, по которой общественный строй Аравии времени возникновения ислама следовало определять как торгово-капиталистический. В соответствии с тем или иным решением данной проблемы указывалась и та социально-классовая группа, идеологию и интересы которой выражал первоначальный ислам. Существует так называемая бедуинская теория, согласно которой ислам явился идеологическим выражением борьбы бедуинов против городов Хиджаза. Ей противопоставляются другие концепции, выдвигающие в качестве основных либо торгово-капиталистические элементы, либо рабов, либо формировавшиеся классы рабов или крестьян 23.
Что касается дискуссий о характере формации, в которой произошло возникновение и развитие ислама, то нам представляется правильным решение этого вопроса советским исламоведом Г. М. Керимовым. «В период возникновения ислама, — пишет он, — общинный строй в Аравии переживал свой распад, а рабовладельческая формация еще не стала господствующей, тогда как в Египте, Сирии, Месопотамии, Иране в период завоевания их арабами и распространения здесь ислама уже существовал развитый феодальный строй» 24.
Поиски же одной какой-либо общественной группы, интересам которой соответствовало возникновение и распространение ислама, представляются нам односторонними. И на самой ранней стадии развития ислама, и на последующих его ступенях в движении участвовали практически все слои населения Центральной Аравии, хотя массы бедуинов примкнули к нему несколько позже. Каждая из участвовавших в движении социальных группировок преследовала свои цели, но для того, чтобы все эти разнородные стремления могли получить общее направление, должны были существовать такие стимулы социального действия, которые были бы в одинаковой мере притягательны для всех групп участников. Они нашлись далеко не сразу, чем, видимо, и объясняется затяжной характер завоевания Мухаммедом признания среди своих соотечественников.
Процесс выдвижения таких социальных идей можно проследить, если расположить суры Корана в том хронологическом порядке, который выработали исследователи.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ КОРАНА И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ
Легко предвидеть возражение, направленное против самого метода относительно-хронологического анализа, который, конечно, не может претендовать на точность, здесь возможны ошибки как в отношении целых сур, так тем более применительно к отдельным аятам внутри сур. Это возражение не имеет, однако, решающего значения, ибо общая тенденция может быть установлена даже при наличии ошибок в частностях. Поэтому вполне допустим анализ социальных идей Корана в историко-хронологическом плане, исходящий из принятой относительной датировки.
Первые по времени своего появления суры — 96-я и 74-я — призывают людей признать Мухаммеда пророком Аллаха. Имя бога Аллаха не было новым для мекканцев, ибо оно обозначало племенного бога мекканских курейшитов. Новым вначале было лишь требование признания Мухаммеда посланцем, пророком Аллаха. У мекканцев не было никаких оснований к такому признанию. Сам Мухаммед происходил из рода, не пользовавшегося особым уважением среди своих земляков. Чудес или «знамений» он показать не мог. Единственное, на что он ссылался, — его видения и «откровения», но мекканские купцы были деловыми людьми, не склонными верить богословским россказням. Что же касается социальных низов мекканского общества, то и для них первоначальная проповедь Мухаммеда не содержала в себе ничего соблазнительного и мобилизующего.
Наряду с абстрактным призывом «уверовать» в ранних сурах Корана встречаются требования творить добрые дела, за что пророк сулит награду неисчислимую (95, 6). В числе перечисленных добрых дел пока фигурирует лишь одно — «накормить бедняка» (69, 33–34). Помимо туманного обвинения в «погрязании» грешнику вменяется в вину отсутствие молитвенного усердия и неверие в день суда. В этих требованиях не содержится ничего социально значительного.
На самой ранней ступени развития откровения появляется идея единобожия, играющая в дальнейшем центральную роль во всем мусульманском вероучении: «…нет божества, кроме Него…» (20, 7), «…нет божества, кроме Меня!» (20, 14), — говорит Коран об Аллахе, и он сам о себе. Особо регламентировался в Коране вопрос о том, каково должно быть поведение верующих в отношении тех, которые отказываются верить в единого бога. В этом вопросе Мухаммед мекканского периода еще не выработал какой-либо позиции.
Одно время он даже колебался в своем непримиримом отношении к многобожию. Коран содержит текст, в котором недвусмысленно отвергается независимое от Аллаха существование языческих богинь: Лат, Уззы и Манат (53; 19–23). Известно, однако, что эта сура была дана Мухаммедом на следующий день после того, как он в собрании курейшитов высказался доброжелательно в отношении культа указанных выше богинь. Это был, возможно, тактический маневр, в целесообразности которого Мухаммед тут же разочаровался.
Тем не менее определенность в отношении сомневающихся в существовании единого бога была необходима и в дальнейшем была достигнута. Но эта определенность в течение всего мекканского периода не привела пророка к призыву вести войну с многобожниками.
Пророк требовал веры и покорности под страхом грядущей эсхатологической катастрофы, оперируя угрозами адских мук и посулами райских наслаждений. Чтобы выяснить то социально-практическое значение, которое имели для мекканцев того времени эти угрозы и посулы, важно установить, какого рода жизненное поведение могло с точки зрения Корана дать людям надежду на райское блаженство и внушить им страх перед угрозой адских мук. Иначе говоря, речь идет о том, какого поведения в их практической жизни требовал пророк от своих последователей.
Вначале, как уже говорилось, эти требования были неопределенными и немногочисленными — добрые дела фактически сводились к мелкой благотворительности. В дальнейшем нравственные предписания делаются более сложными и многообразными. К требованию подкармливать бедняков присоединяется почитание сирот (90, 14–16), хорошее отношение к родителям, особенно престарелым: «Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им — тьфу! и не кричи на них, а говори им слово благородное» (17, 24). Мерзостью объявляется прелюбодеяние. Мекканские суры содержат одно запрещение, которое выглядит весьма гуманным и прогрессивным: пророк требовал отказаться от практики убийства новорожденных девочек 25.
Многие историки, особенно арабского происхождения, настаивают на том, что такого обычая у арабов, современных Мухаммеду, не существовало. Было бы невозможно в этом случае объяснить появление такого запрета. Похоже на то, что в древности обычай закапывания в песок пустыни «лишних» новорожденных девочек бытовал у народов Аравии и, вероятно, ко времени Мухаммеда он сохранился лишь у некоторых бедуинских племен; во всяком случае для горожан и жителей оазиса столь варварский обычай отошел в прошлое.
Более жизненное значение имели требования, обращенные к торговцам: не обмеривать и не обвешивать. «Горе обвешивающим» (83, 1), — грозит пророк мекканским торговцам. «О, народ мой! — взывает он к ним. — Поклоняйтесь Аллаху; нет у вас божества, кроме Него. Не убавляйте меры и веса» (11, 85). Если не принимать во внимание общей бессвязности коранического текста, то можно было бы подумать, что запрещение обвеса и обмера становится здесь по своему значению в один ряд с основополагающим монотеистическим догматом вероучения. В следующем аяте Коран опять возвращается к тому же: «О, народ мой! Полностью соблюдайте верность в мере и весе…» (11, 86). Было бы ошибкой считать это требование Корана только выражением претензии бедняков к обманывающим их мекканским торговцам. В то же время вряд ли эта проповедь практически затрагивала интересы торговцев, ибо каждый из них, обманывая других, был против того, чтобы его самого обманывали.
Робость Мухаммеда в отношении установившихся к его времени социальных порядков и отношений была настолько ярко выражена, что он не посягал даже на кровную месть. «…Если кто был убит несправедливо, — гласит Коран, — то Мы его близкому дали власть…»; он только советует некоторую умеренность в применении этой власти: «…но пусть он не излишествует в убиении» (17,35).
Коран мекканского периода не выступает ни против племенного разделения, ни против имущественного неравенства. Богатство и бедность признаются уделом, предоставленным людям Аллахом по ему одному ведомым предначертаниям: «…Мы одним дали преимущества над другими…» (17, 22); «Мы разделили среди них их пропитание в жизни ближней и возвысили одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услужение» (43, 31). Правда, стремление к богатству не признается чертой, угодной богу, любить «богатство любовью упорной» (89, 21) отнюдь не рекомендуется. Тем не менее должны оставаться неприкосновенными порядки, разделяющие людей на богатых и бедных. Аллах даже готов «для тех, кто не верует в Милосердного», устроить «у домов крыши из серебра и лестницы, по которым они поднимаются, и у домов их двери и ложа, на которых они возлежат, и украшения» (43, 32–34). В то же время Коран подчеркивает, что все это только для земной жизни, в будущей же все может перемениться. Здесь примерно тот же мотив, который более конкретно выражен в евангельской притче о Лазаре. Но и тут и там проповедь не касается реальной жизни людей, разговоры преимущественно ведутся «для души», а не для руководства в действительном общественном бытии.
Понятно, таким образом, почему в мекканский период деятельности Мухаммеда его проповедь была в значительной мере бесплодной и возбуждала общественное движение только в порядке противодействия. Пророку удалось привлечь на свою сторону в этот период лишь несколько десятков человек. Положение изменилось лишь после того, как основная база движения была перенесена в Ясриб.
Удачным оказался выбор этой базы. Медина была исконным конкурентом и противником Мекки во многих отношениях, и прежде всего в торговле. К тому же мединские земледельцы и ремесленники, постоянно пользовавшиеся кредитом мекканских ростовщиков, часто находились в кабале у них, что отнюдь не способствовало добрым взаимоотношениям. Происходили и военные столкновения между жителями этих крупных центров Хиджаза. Уже одно это должно было обеспечить мекканскому изгнаннику не только хороший прием в Ясрибе, но и благожелательное отношение к его проповеди. Реальные интересы людей определили идеологическую атмосферу, в которой нашла поддержку проповедь новой религии. Сказалось и то, что в Ясрибе был распространен иудаизм с его формальным монотеизмом. В общем этот город очень скоро стал резиденцией пророка.
Сразу изменились и содержание и тон коранических откровений. Мединские суры исполнены уверенности и категоричности: они не столько увещевают и уговаривают, сколько настаивают и изобличают. Появляется новая забота: среди тех, кто теперь в больших количествах стал примыкать к лагерю мусульман, отличить поистине уверовавших от притворяющихся и лицемеров. «…Некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в последний день». Но они не веруют» (2, 7). «…Когда они встречают тех, которые уверовали, они говорят: «Мы уверовали!» А когда остаются со своими шайтанами, то говорят: «Мы ведь — с вами, мы ведь только издеваемся»» (2, 13). Знамением времени было уже то, что появилось много людей, которым было нужно и выгодно симулировать присоединение к исламу.
Хотя с обычным для всякой религии лицемерием и теперь провозглашается: «Нет принуждения в религии» (2, 257), но в отношении тех, кто упорствует в своих старых верованиях, проповедуется и практикуется иная линия поведения, чем та, которая проповедовалась в Мекке. Их рекомендуется убивать. Мединские суры преисполнены священной ярости в отношении всех, кто оказывает сопротивление обращению в ислам, и призывов к тому, чтобы сражаться с ними и убивать их: «…сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет принадлежать Аллаху» (8, 40). Никакой вины за убийство неверных на мусульман не возлагается: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их…» (8, 17). Не стоит даже тратить силы на уговоры и проповеди: «…когда вы встретите тех, которые не уверовали, то — удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы» (47, 4).
Если раньше проповедническая активность Мухаммеда и его помощников была направлена против неверующих, то теперь она устремлена на самих верующих, чтобы постоянно поддерживать в них воинственный дух и побуждать их всегда стремиться к войне с «многобожниками». В различных текстах однообразно повторяется мотив: «Сражайся же на пути Аллаха!» (4, 86); «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь будущую!» (4, 76); «Сражайтесь с ними, — накажет их Аллах вашими руками…» (9, 14); «…избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!» (9, 5). Коран убеждает верующих в том, что они всегда будут побеждать, ибо Аллах и его ангелы им помогают. А кто погибнет в войне с неверными, тот-де должен считаться не побежденным, а победителем. Они даже не умерли: «…никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел» (3, 163). Погибшим обеспечено место в раю сразу после того, как душа их покинет тело; в этом их преимущество перед остальными верующими, которым придется ждать райских блаженств до светопреставления. Что же касается тех, кто уклоняется от участия в войнах и под различными предлогами пытается остаться дома, когда рать Мухаммеда уходит в священный поход, то Коран находит для них самые презрительные эпитеты и унизительные клички.
Разумеется, воинственная активность борьбы за веру питалась не только побуждениями благочестия и ставкой на награду в потусторонней жизни. Верующие должны рассчитывать на воздаяние не только после смерти, но и при жизни: «Кто желал награды ближайшего мира, то ведь у Аллаха — награда и ближайшего и будущего мира» (4, 133). Эта награда «ближайшего мира» заключается в военной добыче. Пророк ведет верующих в бой, вдохновляя их той обильной добычей, которую они возьмут, ибо «обещал вам Аллах обильную добычу, которую вы возьмете, и ускорил Он вам это…» (48, 19, 20). Имеется в виду не какой-нибудь беспорядочный грабеж — раздел добычи поставлен на организованную почву: «…если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху — пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику…» (8, 42).
При распределении добычи учитывался и внутренний социальный фактор, по меньшей мере в проповедническом плане. Подчеркивается, что прежде всего надо учитывать интересы бедняков, сирот, путников. Коран предостерегает: «…чтобы не оказалось это распределение между богатыми у вас» (59, 7). Заодно тут же благочестивый воитель получает предупреждение о том, что он не должен брать из добычи сверх положенного ему: «…что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь» под угрозой кары господней: «…бойтесь Аллаха, ведь Аллах силен наказанием!» (59, 7). На деле грабеж и распределение добычи далеко не всегда происходили по правилам и наставлениям; известны даже случаи, как, например, в сражении при Оходе, когда именно необузданная жадность участников, занявшихся стихийным грабежом добычи, приводила к поражению 26. Но вероучение вносило все же известный порядок в богоугодное дело ограбления неверующих. И прежде всего сама идеологическая оболочка стремления к завоевательным и грабительским войнам имела своим источником новую религию, что делало ее притягательной в глазах тех, кого соблазняла перспектива завоевательных войн.
Разложение порядков родовой общины в сравнительно передовых областях Аравийского полуострова порождало кризисы, которые могли найти свое решение только на путях внешних завоевательных войн. Обострялись противоречия между разбогатевшей знатью и все более бедневшими рядовыми членами общины. Взаимоотношения между рабовладельцами и растущими количественно массами рабов также служили источником постоянного социального напряжения. Выход мог быть найден в завоевательных войнах, которые должны были обогатить всех их участников и тем сглаживать нараставшее имущественное неравенство. Ислам давал религиозное оформление стремлению к таким войнам.
К. Маркс писал: «Коран и основанное на нем мусульманское законодательство сводят географию и этнографию различных народов к простой и удобной формуле деления их на две страны и две нации: правоверных и неверных. Неверный — это «харби», враг. Ислам ставит неверных вне закона и создает состояние непрерывной вражды между мусульманами и неверными» 27. Такая «этнография» идеологически обосновывала и стимулировала завоевательные войны, которые приобретали священное значение. Именно эта идеология могла претендовать на успех в деле сплочения массы различных социальных группировок в дисциплинированный лагерь единомышленников, под общим религиозным лозунгом устремившихся в завоевательные экспедиции.
Следует, однако, считать неправильным распространенный взгляд, по которому ислам навязывался всем народам лишь при помощи джихада. Р. Дози пишет по этому поводу: «…священная война вменяется в обязанность (в исламе. — И. К.) только в том единственном случае, когда враги ислама оказываются нападающими; если кто-нибудь понимает предписания Корана иначе, то виновато в этом произвольное толкование богословов. Точно таким же ошибочным является мнение, будто ислам распространился в мире насильно.
Политическое могущество ислама — это да; но не религия… халифы и вовсе не желали, по соображениям денежного свойства, создавать прозелитов и смотрели с большим неудовольствием на обращение покоренных народов»28. При всем этом необходимо учитывать происходившую в исламском учении эволюцию, в основе которой лежал ход самой истории. «Произвольное толкование богословов», о котором говорит Дози, обычно определялось складывавшейся политической и военной обстановкой и могло в случае надобности санкционировать как наступательную, так и оборонительную войну.
Сплочение арабов под религиозным знаменем должно было неминуемо нанести сильный удар по родоплеменному делению общества. Составив сплошной массив мусульман, арабы все более отходили от этого деления. Как в Коране, так и особенно в практической деятельности Мухаммеда и его преемников красной нитью проходит стремление к объединению верующих независимо от их национальной и племенной принадлежности. Существует документ, иллюстрирующий эту важную сторону религиозно-политической практики ислама. Имеется в виду составленный Мухаммедом вскоре после его обоснования в Медине договор между различными группами населения этого города.
Населявшие Медину племена ауса и хазрадж, перейдя в ислам, составили категорию так называемых ансаров — приверженцев новой религии. Мекканские мусульмане, переселившиеся в Ясриб вместе с Мухаммедом, стали именоваться мохаджирами — переселенцами или беглецами; это была самая знатная группа в мединской мусульманской общине. Но кроме указанных двух категорий в городе жили племена, именующиеся в литературе еврейскими, но на самом деле в значительной части состоявшие из арабов, исповедовавших иудаизм. Отношения между всеми этими группами мединского населения и были формально урегулированы при помощи составленного Мухаммедом договора. Вот некоторые из наиболее характерных его положений: «Они (фактически почти все население Медины. — И. К.) составляют один народ, отделенный от всех людей»; «Верующие не должны оставлять в своей среде без помощи ни одного обремененного долгами, даже если это касается уплаты цены крови или выкупа пленных»; «Кто убьет верующего (и это будет доказано), должен быть убит (если только ближайшие родственники убитого не согласятся удовлетворить себя другим образом), и мусульмане должны сообща подняться против убийцы»29. Существенным для характеристики этого документа является то, что он перелагает на общину верующих все те обязанности в отношении каждого из ее членов, которые раньше выполняло племя, в частности и обязательство кровной мести.
По той же линии идут и установленные Кораном законы, регулировавшие имущественно-правовые отношения между мусульманами. Фигурирующие в Коране законы о праве наследования игнорируют традиционные порядки родового строя, и прежде всего власть старшего в роде над младшими. В равных долях наследуют имущество все дети мужского пола независимо от возраста; право наследования предоставляется и женщинам, хотя и в половинном размере в сравнении с мужчинами; владелец имущества получает право завещать его по своему желанию. Последнее знаменовало право индивидуума распоряжаться своим имуществом и потерю этого права родом, к которому он принадлежит (2, 176–178; 4, 8, 12–13; 175). Конечно, это было сильным ударом по родоплеменному делению общества.
Поселение мохаджиров в Медине привело к важным последствиям и в рассматриваемом здесь отношении. Каждый из них должен был выбрать себе побратима из коренных мединцев, причем связь между побратимами устанавливалась примерно такого же порядка, что ранее существовала между родичами и членами одного и того же племени. В частности, каждый из побратимов получал право на наследство другого. И здесь родоплеменные связи заменялись религиозной общностью30.
В ходе экономического и социального развития родоплеменное деление постепенно стиралось, уступая место делению по имущественным и классовым признакам. Ислам шел в русле тенденции, соответствовавшей назревшим интересам общественного развития. Правда, новое деление осуществлялось не по имущественно-классовому, а по вероисповедному признаку. Ислам находил, однако, возможность совместить эти два принципа: участвуя в военных экспедициях, формальным назначением которых было обращение неверных, верующие обогащались за счет военной добычи и независимо от своего прежнего имущественного положения занимали позицию в рядах складывавшегося правящего класса. По мере того как ислам выходил за пределы Центральной Аравии и в завоевываемых странах сталкивался с более передовыми общественными порядками, наметившаяся ранее тенденция к оформлению рабовладельческого общества уступала место развитию феодальных отношений. Прежние мекканские торговцы и караванщики, мединские земледельцы и ремесленники, а также примкнувшие к движению бедуины превращались в феодалов, живших за счет населения покоренных ими стран.
Отмирание родо-племенных отношений, несмотря даже на тот стимул, который был дан ему исламом, проходило не без борьбы. Сознание своей родовой и племенной принадлежности не одно столетие определяло в известной степени жизненное поведение арабов. Это сказалось в особенности на той борьбе за халифат, которая развернулась в середине VII в. между прямыми потомками Мухаммеда и другими претендентами.
Еще до возникновения ислама шел процесс объединения племен и зарождения тех элементов государственности, которые в процессе дальнейшего классового расслоения общества могли оформиться в централизованное государство. И в Центральной Аравии, отставшей в этом отношении от Юга и Севера, уже намечалась перспектива объединения племен с последующим перерастанием в государство. Ислам не только был в русле этой перспективы, но и сообщил ей ускорение. Возникший на мусульманской идеологической почве халифат и явился тем государством, которое возникло в ходе исторического развития арабов Хиджаза.
Это было феодальное государство, но его господствующий класс возник в ходе образования самого государства, притом его создали разнородные в социальном отношении группы населения. Сложилось так, что чуть ли не целый народ устремился в завоевательные экспедиции, которые превратили его в дальнейшем в господствующий класс огромного государства, созданного им не столько даже на своей, сколько на завоеванной территории. Поэтому представляется беспредметной постановка вопроса в плоскости того, идеологию какой именно отдельной социальной группировки выражал ислам при своем возникновении.
Если и верно то, что вначале здесь главную роль играли интересы мединских земледельцев, то уже меньше чем через десятилетие после того, как к движению примкнула Мекка, интересы ее торговцев и ростовщиков тоже вплелись в общую религиозно-идеологическую систему ислама. Третий элемент движения составили массы бедуинов, идеологию и интересы которых также нельзя игнорировать при анализе социального содержания раннего ислама. Все это нашло воплощение и реализацию в политике и практике завоевательных войн против неверных.
При этом оставались в силе и оказывали влияние на ход движения и на эволюцию его идеологии противоречия между разными социальными группами внутри его. Даже после того, как Мекка стала мусульманской, противоречия и борьба между нею и Мединой, точнее, между ее социальной верхушкой и группировками, правившими в Медине, еще долго оказывали влияние на положение в мусульманском мире. То же следует сказать и об отношении бедуинов к ставшим их единоверцами горожанам. Исконная неприязнь полудиких жителей степей к горожанам, которых они считали изнеженными и трусливыми, осложнялась и дополнялась теперь противоречиями по такому серьезному вопросу, как дележ военной добычи. Внутренние противоречия в мусульманском мире принимали особую остроту с усилением в его среде, несмотря на наличие общего внешнего источника обогащения для всех мусульман, имущественного и классового расслоения. Противоречия между знатью и народными массами нередко выливались в открытую борьбу, принимавшую иногда формы религиозно-догматических разногласий.
То обстоятельство, что общая внешнеполитическая и военная устремленность всего движения не снимала внутренних социальных противоречий в среде его участников, явилось основой распространения в исламе уже на самой ранней ступени его существования различных ответвлений и сект.
РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ РАННЕГО ИСЛАМА
В момент возникновения ислам был синкретической религией, впитавшей в себя элементы верований и культа ряда религий, распространенных среди населения Аравийского полуострова 31. Можно выделить четыре группы влияний, оказавших воздействие на первоначальный характер ислама: доисламские древние верования и культы, иудаизм, христианство и маздеизм.
Доисламские языческие верования и культы представляли собой довольно хаотическое соединение элементов фетишизма и тотемизма, поклонения явлениям и силам природы, особенно небесным светилам, и полидемонизма. Фетишизм выражался в почитании камней, особенно метеоритного происхождения, а также в поклонении идолам, изображавшим тех или иных богов или демонов. Элементы тотемизма, являвшегося к моменту возникновения ислама уже пережитком, сказывались в названиях племен — лиса, медведь, верблюжонок, собака и т. д. Фетишизм и полидемонизм сливались и в культе бетилов — сооружений, названия которых означают в семитских языках «дом бога».
Нередко бетил находился в так называемом химе, небольшом оазисе, служившем местопребыванием почитаемого в данном племени идола. К святилищу совершались регулярные паломничества его почитателей, а помимо них к нему собирались и люди других племен, стремившиеся использовать скопление паломников для торговли. В частности, святилища приобретали важное значение как пункты, где велась торговля между кочевыми и оседлыми племенами. Одним из таких святилищ была Мекка, в силу географического, экономического и религиозного положения приобретшая особое значение в качестве общехиджазского религиозного и торгового центра.
Разнородные верования арабов доисламского периода были связаны с полидемонизмом. Именовавшиеся джиннами демоны представлялись антропоморфными и антропопатическими существами двух полов, дававшими потомство; этому не мешало даже то представление о джиннах, по которому они состояли из огня и воздуха.
В религиозной фантазии арабов одни джинны представлялись не имеющими специального отношения к тем или иным людям или их группам, другие — покровителями отдельных племен или даже родов. Племена, поклонявшиеся одним джиннам и изображавшим их идолам, не имели оснований отрицать реальность других джиннов, связанных союзом с чужими племенами. Такая разновидность религии носит в научной литературе название энотеизма.
Наглядный образец подобного религиозного явления представляла собой мекканская Кааба 32. Это было небольшое кубической формы каменное сооружение, в котором помимо почитавшегося мекканцами «черного камня» стояло более 300 идолов, каждый из которых служил объектом поклонения того или иного племени и рода, регулярно собиравшихся в Мекке для паломничества и торговли. Терпимость мекканцев по отношению к культам чужих богов была необходима в интересах торговли. Мекка, став при помощи Каабы с ее идолами чуть ли не общеарабским святилищем, получала большие доходы как от торговли с паломниками, так и от их обслуживания, что и в дальнейшем сыграло свою роль в сохранении городом значения общемусульманского центра. С другой стороны, до тех пор пока для мекканцев не обозначились с должной ясностью выгоды их присоединения к мусульманскому лагерю, они болезненно воспринимали нападки Мухаммеда и его приверженцев на поклонение идолам, ради которого арабы совершали паломничество в Мекку.
Для племени курейшитов, жившего в Мекке, божеством, воплощенным в «черном камне», был Аллах. Это домусульманское и вообще очень древнее имя бога связано своим корнем (Илляха) с общесемитским Эл, Элоха, во множественном числе давшим библейское Элохим. Мухаммеду не пришлось даже придумывать нового имени для того бога, пророком которого он себя считал. Кааба именовалась «домом Аллаха», а город был расположен вокруг нее, так что мекканцы имели некоторые основания считать себя «соседями Аллаха». Объектом почитания был и расположенный в Мекке источник воды — колодец Земзем 33.
Некоторые из богов-джиннов имели широкое межплеменное распространение. Это в особенности относится к женским божествам, олицетворявшим астральные тела: почитались, в частности, богини Лат, Узза и Манат. Есть основание предполагать, что Аллах пользовался почитанием и у других племен помимо курейшитов, но, конечно, в качестве не единственного, а особо сильного бога, может быть даже верховного. Таким образом, в ходе религиозного развития созревала та стадия, которую мы именуем супремотеизмом: политеистический пантеон возглавляется, по этим представлениям, главным верховным богом.
Доисламская обрядность была в общем такой же, как и в других древних культах. Практиковались паломничества к бетилам. Вокруг святилищ и идолов совершались ритуальные процессии, каждый из участников которых стремился прикосновением к статуе своего племенного бога осуществить личное общение с ним и впитать в себя элемент его силы. Идолам приносили жертвы, обычно скотом. Некоторое религиозное значение имели места погребений; проезжая или проходя мимо такого места, араб, как правило, бросал на него камень, что символизировало жертвоприношение и должно было служить изъявлением уважения к духу покойника 34. Со временем из таких камней возникали целые кучи, становившиеся своего рода бетилами, в этом случае погребенный приобретал статус бога-предка.
Молитвенный ритуал не был разработан в доисламском культе арабов. В какой-то степени играли роль молитв стихи, складывавшиеся поэтами (шаирами), обычно проживавшими при вожде племени (сеиде). Дар стихотворчества рассматривался как результат благожелательного отношения к его обладателю со стороны одного или целой группы джиннов; считалось поэтому, что у шайра имеются личные связи в мире сверхъестественных существ, а соответственно его произведения могут оказывать влияние на отношение джиннов к людям. В тех случаях, когда племя имело своего идола, в его составе должен был существовать жрец (кахин), в обязанности которого входили обслуживание божка и руководство ритуалом жертвоприношения.
Перед Мухаммедом и другими деятелями раннего ислама стоял вопрос, что из доисламских языческих верований и культов можно включить в новую религию. После некоторых колебаний был избран путь решительной борьбы с почитанием всех других божеств, кроме курейшитского Аллаха. Коран приводит жалобу Нуха (Ноя) на неких оппонентов, которые уговаривали людей: «Не оставляйте никаких ваших богов, не оставляйте никак Вадда, и Суву, и Йагуса, и Йауку, и Насра». Жалоба не осталась без последствий: «От прегрешений их были они потоплены и введены в огонь» (71, 22–23, 25). Отметим, что первое из указанных имен богов означает мужчину, другое — женщину, остальные три — льва, лошадь и орла 35. В другом месте выпад Корана против языческих богов женского пола аргументируется в духе, соответствующем арабским нравам и представлениям того времени. Если считать богинь Лат, Уззу и Манат дочерьми Аллаха, то это бросает тень на его репутацию: неужели он не мог создать себе сыновей и вынужден был довольствоваться дочерьми? «Неужели у вас — мужчины, а у него — женщины? Это тогда — разделение обидное!» (53, 21–22).
Арабские племена весьма неохотно расставались со своими старыми богами. Известен случай, когда племя, населявшее город Таиф, даже в условиях изоляции среди племен, примкнувших к исламу, пыталось получить у Мухаммеда разрешение еще хоть год иметь возможность поклоняться своей богине Лат. В ходе переговоров о заключении договора Мухаммед был даже склонен удовлетворить просьбу таифцев, но вмешательство Омара побудило его отказаться от компромисса: при всеобщем плаче женщин и детей статуя богини была уничтожена.
Решительно обошелся Мухаммед и с более чем тремя сотнями идолов, пребывавших в Каабе. Во время своего прощального паломничества в Мекку он велел разбить всех идолов, кроме Аллаха, воплощенного в «черном камне» 36. Это явилось своего рода символическим действием. Племенной бог курейшитов возводился в ранг общего бога всех арабов, и не только верховного, но и единственного божества. Известно, с какой настойчивостью Коран и ислам в целом подчеркивают свой монотеизм, именуя всех иноверцев многобожниками — мушрикун. И все же, выступив против политеизма, ислам остался такой же супремотеистической религией, как иудаизм и христианство. Ангелы и джинны составили в нем пантеон младших богов.
Из старого культа ислам сохранил то большое значение, которое придавалось в нем паломничеству к святилищам и прочим почитаемым местам. Мекка с ее Каабой и Земземом осталась в исламе тем же святым городом, каким она была до него, и тем же местом общеарабского, а в дальнейшем общемусульманского паломничества. В ее пользу был решен и вопрос о кыбле, т. е. о том направлении, к которому должен обращаться правоверный во время молитвы. После короткого перерыва, когда Мухаммед в Медине, пытаясь найти общий язык с иудаизмом, установил было кыблу в направлении Иерусалима, вопрос был пересмотрен, и с того времени каждый молящийся мусульманин становится лицом в направлении Мекки.
Влияние иудаизма на первоначальный ислам было не меньшим, а, может быть, в некотором отношении еще большим, чем влияние древних арабских верований и культов 37. В Аравии проживало немало приверженцев иудаизма. В IV в., как известно, Йемен официально принял иудаизм. В Медине постоянно проживало несколько племен, исповедовавших эту религию. Через иудейских купцов-караванщиков ее влияние распространялось по всем торговым путям, пересекавшим Аравийский полуостров. Еще в мекканский период своей жизни Мухаммед, вероятно, встречался с иудеями как в Мекке, так и во время своих путешествий с караванами своей хозяйки, потом жены Хадиджи. Их рассказы о содержании Ветхого завета могли остаться в его памяти и в более или менее измененном виде войти потом как в текст Корана, так и в вероучение новой религии. Ветхозаветные персонажи Ной — Нух, Авраам — Ибрахим, Моисей — Муса заняли в нем место пророков, предшествовавших Мухаммеду. Нашел свое место в Коране и ряд ветхозаветных легенд и мифов — о сотворении мира, о грехопадении прародителей, об Иосифе и его братьях, о египетском плене и т. д. Правда, как уже говорилось, Мухаммед узнавал об этом в устной беседе, так что мог воспроизвести услышанное лишь в модифицированном виде. Так, советник персидского царя Артаксеркса из Книги Есфирь оказался в Коране чиновником фараона, сестра Моисея Марьям совмещена с Богородицей Марией, засуха в Египте оказывается вызванной отсутствием дождей, как это было в Аравии, а не недостаточным разливом Нила и т. д. В Коране фигурируют и талмудические сюжеты, но нередко столь же измененные, как и библейские.
Мухаммед, поселившись в Медине, пытался ориентироваться вначале на жившие в ней богатые и влиятельные иудейские племена и первое время чуть ли не отождествлял проповедуемую им религию с иудаизмом. Но иудеи не шли на вероисповедные контакты. К тому же скоро они установили, что новоявленный пророк обнаруживает невежество в содержании Библии. Когда они указывали на это мусульманам и самому Мухаммеду, тот обвинял своих оппонентов в том, что они пользуются искаженными книгами и что вообще богооткровенное содержание Библии и Талмуда подверглось в иудаизме извращению. Контакт не удался, но в содержании нового вероучения значительные следы иудаизма сохранились и в дальнейшем.
Сказалось и влияние христианства, хотя и в меньшей мере 38. Арабские племена, жившие в Месопотамии, Ираке, Сирии и Палестине, были в значительной своей части к этому времени христианизированы, причем исповедовали христианство в несторианской и монофизитской формах. В Северной и Западной Палестине также жили христиане-арабы, при встречах с которыми Мухаммед и его будущие последователи могли ознакомиться с некоторыми идеями этой религии. То, что это было христианство не основного православно-католического, а еретического толка, способствовало усвоению его идей, ибо оно было лишено тех парадоксальных усложнений вероучения, которые были связаны с двойственной трактовкой личности Христа, а также с тонкостями в толковании «нераздельности и неслиянности» Троицы. Иисус Христос под именем Исы занял свое место среди пророков в качестве непосредственного предшественника Мухаммеда. Некоторые новозаветные эпизоды также нашли отражение в Коране. Но и здесь не обошлось без искажений, свидетельствующих о том, что составители Корана не имели в своем распоряжении письменного текста Нового завета. Есть признаки знакомства первых мусульман и с содержанием апокрифических евангелий.
Некоторые авторы высказывают предположение, что неиудейское население Медины до поселения там Мухаммеда исповедовало христианство в одной из его сектантских разновидностей, приверженцы которой рассматривали Иисуса не как бога, а как человека-пророка 39. Для такой религии переход к исламу должен был быть последовательным шагом, так как в ней ничто не препятствовало учению о том, что вслед за пророком Иисусом появится новый пророк Мухаммед, продолжающий его дело. Однако достаточных оснований для признания этой концепции не существует.
Влияние христианства на ранний ислам сказалось, но не в представлениях о боге. Для новой религии, прокламировавшей свое воинствующее единобожие, больше подходил ветхозаветный Яхве, чем новозаветная Троица. Но учения о близком конце света, о воскресении мертвых и страшном суде, конечно, носят на себе следы христианского происхождения.
Иудейско-христианские и, может быть, в какой-то мере зороастрийские влияния частично воспринимались исламом через так называемый ханифизм. Сущность и формы существования этого религиозного явления остаются, однако, пока весьма туманными.
Даже то значение, которое имело слово «ханиф» у арабов, расшифровывается разными авторами по-разному. А. Мюллер считает его прозвищем, обозначавшим «на еврейском и сирийском диалектах безбожника или еретика» 40. Подтверждения такого толкования этого термина ни в источниках, ни в исследовательских работах нет. В Коране слово «ханиф» имеет противоположный смысл. Оно встречается там 12 раз и всегда в положительном значении41.
Ханифом именуется библейский Авраам. Это обозначение применяется также для противоположения понятию «многобожник». И наконец, оно обозначает человека, обратившегося к богу или к истинной религии. Исследовавшая вопрос о значении термина «ханиф» в Коране К. С. Кашталева приходит к выводу о таком его значении: «…обратившийся от язычества к богу» 42. Речь идет во всяком случае не о безбожниках, а, наоборот, о людях, проявляющих особое благочестие, близкое по своему содержанию к исламу и, может быть, даже совпадающее с ним. Остается неясным вопрос о том, имело ли ханифитство какие-нибудь организованные формы.
В вероучении ханифизма можно считать установленными единобожие и требование аскетической жизни. Очевидно, последнее дало основание Е. А. Беляеву признать ханифизм «религиозно-моральным учением». Он считал его вполне оформившимся в земледельческой Йемаме 43 и придавал ему решающее значение в возникновении ислама. «…Мекканский ханифизм, — писал он, — перешел в следующий этап развития, который уже можно рассматривать как возникновение новой религии, получившей название «ислам»» 44. Если это так, то нельзя все же не видеть того, что сам ханифизм не был совершенно новым религиозным явлением, — он впитал в себя влияние иудаизма, христианства и парсизма, явившись своего рода посредствующим звеном между этими религиями и исламом.
ВЕРОУЧЕНИЕ РАННЕГО ИСЛАМА
Во многом сказанное выше предвосхищает характеристику основных положений догматики первоначального ислама. Все же представляется целесообразным дать обобщенное описание того, как выглядела эта догматика в системе верований, основанных на Коране.
Первым пунктом ее было требование единобожия. Наиболее ярко оно выражено в формуле: «Он — Аллах — един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!» (112, 1–4). Уже здесь проявилась полемическая тенденция в отношении христианского учения о боге-Сыне. Неоднократно в Коране говорится, что у Аллаха «нет товарищей» и что всякий, кто приписывает ему товарищей, даже рожденных им, многобожник. Утверждения этих нечестивцев Коран считает настолько вопиющими, что усматривает в них опасность стихийных бедствий: «Небеса готовы распасться от этого, и земля развергнуться, и горы пасть прахом от того, что они приписали Милосердному сына» (19, 92–93). И дальше следует установка, которая подчеркивает исключительное положение Аллаха во Вселенной в сравнении как с людьми, так и с ангелами и бесами: «Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному только как раб…» (19, 94). Это положение выглядит вполне монотеистически.
Тем не менее и к исламу относится общий тезис, касающийся монотеизма всех догматических религий: его надо понимать условно, а не абсолютно. Из всех этих религий ислам в наибольшей мере приблизился к монотеизму, хотя и не достиг его полностью.
Как и в других религиях, в исламе наряду с существом, которое именуется богом и представляется как добрый бог, людям предлагается верить в реальное существование противостоящего ему злого бога, именуемого в Коране либо Шейтаном (сравни древнеевр. Сатана), либо Иблисом (сравни греч. Диаболос). И конечно, не обходится без меньших добрых богов (ангелов) и меньших злых богов (демонов, джиннов). Правда, одно место в Коране можно истолковать так, что ангелы и джинны, как и люди, должны будут умереть в день светопреставления, но это весьма натянутое толкование. Сказано: «И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, и те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Потом протрубят вторично, и вот — они стоя смотрят» (39, 68). В дальнейшей процедуре страшного суда ангелам, как и джиннам, предстоит так много работы, что их «поражение» может быть лишь кратковременным.
К тому же из массы сверхъестественных существ ангельского чина Коран выделяет четырех «макрибун» — ангелов высшей категории, соответствующих иудейско-христианским архангелам даже по именам: Джабраил (Гавриил), Микаил (Михаил), Азраил и Исрафил 45. Джабраилу присвоено наименование «рух аль коде» — святой дух, что приближает его, во всяком случае по имени, к третьему лицу христианской Троицы.
Чтобы подчеркнуть принципиальное различие между богом и ангелами, иногда указывают на то место Корана, в котором людям якобы запрещается поклоняться ангелам. Оно выглядит так: «И не прикажет Он (Аллах. — И. К.) вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами. Разве же Он прикажет вам неверие после того, как вы — предавшиеся?» (3, 74). В старом переводе Корана, сделанном А. Николаевым с французского перевода, эта фраза сформулирована более определенно: «Бог не разрешает вам избирать своими владыками ни ангелов, ни пророков». Больше того, по Корану, после сотворения Адама ангелам было приказано поклоняться ему, и только Иблис отказался сделать это, за что и был проклят. Таким образом, можно считать, что в раннем исламе ангелы занимают принципиально иную позицию, чем Аллах, а это подкрепляет положение о весьма строгом монотеизме данной религии. Тем не менее остаются в силе те характеристики ангелов и джиннов, которые позволяют рассматривать их как сверхъестественные существа, наделенные силой, ставящей их в один ряд с богами. Сохраняет, следовательно, свое значение положение об условном характере монотеизма в исламе, хотя в последнем его следует признать несколько более строгим и более соответствующим своему названию, чем в других «высших» религиях.
Требуя верить в Аллаха, Коран не может не говорить о свойствах и характере этого наивысшего существа. Прежде всего возникает вопрос о его имени. Одного старомекканского Аллаха оказывается мало, богу приписывается большое количество разных имен, но те из них, которые приводятся в Коране, являются лишь эпитетами, характеризующими те или иные его свойства: «…милостивый, милосердный… царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный… творец, создатель, образователь», а в общем «у Него самые прекрасные имена» (59, 22–24).
Аллаху приписываются те же свойства, которыми наделяют своих богов иудейство, христианство и зороастризм: всеведение, всемогущество, высочайшая творческая активность, абсолютная праведность и т. д. И столь же наивными и антропоморфными выглядят эти коранические характеристики бога. Так, желая подчеркнуть его могущество, Коран сообщает, что после сотворения им Вселенной его не коснулась усталость (50, 37), да и вообще «не овладевает Им ни дремота, ни сон…» (2, 256).
Араб VII в. наделяет своего бога теми характеристиками, которые присущи ему самому. Аллах мстителен, повторяется во многих местах Корана, он — «обладатель мщения» (3, 3). Неприглядные нравственные качества, приписываемые Ветхим заветом Яхве, в не меньшей мере присущи и Аллаху. Его действия по существу не могут быть разумно мотивированы. Он, например, желает, чтобы люди воевали друг с другом: «…если бы Аллах захотел, то не сражались бы… но Аллах делает то, что пожелает» (2, 254). Он мог бы сделать так, чтобы все люди исповедовали истинную веру, но в его намерения входит, чтобы некоторые совращались в неверие: «Если они отвратятся, то знай, что Аллах хочет поразить их за некоторые их грехи» (5, 54). Одних людей он направляет по праведному пути, других — по ложному: «Аллах сводит с пути, кого пожелает, и ведет, кого желает» (14, 4). Трудно представить себе тот принцип, которым руководится всевышний, выделяя людей, получающих от него вместо откровения ложные ориентиры. Это — отверженные, созданные специально для ада: «Мы сотворили для геенны много джиннов и людей…» (7, 178). Бог сводит с истинного пути плохих людей, а хорошим дает свое откровение. Но плохими люди становятся в силу того, что были введены в заблуждение богом, праведными же делаются именно в результате того, что получили откровение. Этот порочный круг в более широком плане фигурирует в учении ислама, связанном с предопределением.
Аллах тщеславен и славолюбив, он создал людей и джиннов только для того, чтобы они ему поклонялись (51, 56). Он хитер: «…Аллах — лучший из хитрецов» (3, 47); «…у Аллаха— вся хитрость» (13, 42). В чем, однако, бог стоит неизмеримо выше всех остальных живых существ, будь то люди или джинны, что обеспечивает ему исключительное положение — это то, что он первотворец, он создал Вселенную. В сравнении с Ветхим заветом здесь сравнительно мало нового: в частности, фигурирует тот же шестидневный «производственный цикл». Подчеркивается, правда, что небеса созданы без каких бы то ни было опор, которые были бы видны людям, сообщается, что он «распростер землю и устроил на ней прочно стоящие (горы) и реки и из всяких плодов устроил там пары по двое» (13, 3). На построение неба и земли богу понадобилось по два дня; с небом дело оказалось довольно сложным, ибо его пришлось делить на семь небес, а ближайшее к земле — разукрасить «светильниками и для охраны» (41, 11).
Аллах не только сотворил мир, но непрестанно управляет им.
Так же как иудаизм и христианство, ислам стоит на той позиции, что все происходящее в мире предопределено волей бога и, как уже говорилось, все направление деятельности людей предумышлено им. Невозможно даже допустить, чтобы предопределение божие было исправлено в лучшую сторону. Но в Коране же можно найти и такие тексты, согласно которым от Аллаха исходят только добрые дела, а злые — от людей. Иногда противоположные решения вопроса о предопределении и свободе воли даны чуть ли не в одном стихе Корана. Вот, например: «…если постигнет их (людей. — И. К.) хорошее, они говорят: «Это — от Аллаха», а когда постигнет их дурное, они говорят: «Это — от тебя». Скажи: «Все — от Аллаха». Почему же эти люди никак не могут понять рассказа? Что постигло тебя из хорошего, то — от Аллаха, а что постигло из дурного, то — от самого себя» (4, 80–81).
Французский исламовед А. Массэ пишет, что вопрос о свободе воли очень неопределенно и противоречиво изложен в Коране. В данной связи он ссылается на И. Гольдциера, который считал, что нет вопроса, который был бы в Коране изложен более противоречиво 46. Это верно, но вряд ли из такой констатации можно извлечь основания к тому, чтобы, как это делает Гольдциер, находить в раннем исламе тонкое сочетание фатализма с учением о свободе воли. С его точки зрения, те стихи Корана, в которых прокламируется предопределенность заблуждений грешника, на самом деле имеют в виду предоставление богом человеку свободы заблуждаться или идти истинным путем 47. Если это было бы даже так, то все равно требовало бы объяснения, почему Аллах одних людей обеспечивает своим руководством, а других оставляет на произвол. Но в данном случае дело обстоит проще: в Коране нет той стройной системы взглядов по рассматриваемому вопросу, которую пытаются найти в нем Гольдциер или апологеты ислама. Противоречия в Коране по вопросу о свободе воли и предопределении имеют своей основой влияние различных периодов формирования исламского вероучения. В мекканский период преобладало учение о свободе, соответствовавшее тактике Мухаммеда в его борьбе за распространение ислама; в то время такая установка могла быть более действенной для вербовки верующих, чем фаталистическая. В дальнейшем историческая обстановка более содействовала учению об абсолютном предопределении.
С этим, правда, плохо согласуется тот факт, что в мире существует колоссальное количество зла и греха, творимых людьми. Чем в самом деле можно объяснить, что бог специально предопределил такую массу людей к тому, чтобы творить зло? Ответ на это — в традиционноалогичном религиозном духе — дает учение о дьяволе (шайтане, иблисе), много раз в одних и тех выражениях сформулированное в Коране.
Оно заключается в том, что, когда Аллах сотворил человека, он велел всем ангелам поклониться ему. Все согласились, кроме Иблиса, который отказался, мотивируя этот отказ тем, что человек сотворен из такой презренной материи, как глина (17, 63 и др.). Иблис пригрозил богу, что если он прогонит его, то он, Иблис, «погубит его (Адама) потомство, кроме немногих» (17, 64). Бог разрешил ему это: «Соблазняй, кого ты можешь из них» (17, 66). После этого Иблис занялся делом совращения людей с праведного пути, притом явно с полным успехом. Расплата же наступит на страшном суде.
Эсхатологическое учение занимает в исламе не меньшее место, чем в остальных мировых религиях. С буйной восточной фантастичностью расписывается в Коране, Сунне и в мусульманской богословской литературе картина грядущего конца света и ожидающего людей Страшного суда.
Сроки наступления этих последних событий мировой истории не связываются в исламе с приходом мессии, — когда и по какому поводу они наступят, никому неизвестно. Но это будет более чем страшно. Западный автор так суммирует учение Корана о механике страшного суда: «Перед Страшным судом произойдет ужасное землетрясение. Мать забудет своего младенца, а зверь забросит своих детенышей. Люди будут шататься как пьяные… Небо будет как расплавленная медь, горы будут подобны шерсти, носимой ветром… После первого звука трубы все, что есть на небе и на земле, за исключением немногих избранников божиих, падет замертво. После второго звука все мертвые, ожидающие своей судьбы, воскреснут. И земля засияет от света ее Господа, и раскроется книга, и приведут пророков и мучеников, и тогда будет произнесен над всеми справедливый приговор» 48. Воскресшие отправятся бесконечными толпами к месту суда, т. е. в район четырех гор — Халим, Ливан, Синай и Арарат. По дороге они должны будут проходить через мост (сират), тонкий, как лезвие меча или даже как паутина. Отягченные грехами бывшие покойники будут срываться с этого моста и падать в адскую бездну, остальные будут благополучно переходить и следовать на суд. Здесь не обходится, правда, без непонятного: если заранее известно, кто грешен и кто свободен от грехов, если к тому же приговор выносится и приводится в исполнение, так сказать, автоматически, то какой смысл имеет дальнейшее судопроизводство?!
Обстановка, в которой должен будет происходить страшный суд, изображается исламскими источниками в грандиознейших масштабах 49. Явившиеся на суд будут состоять из 120 отрядов, численность которых такова, что каждый такой отряд займет в длину расстояние 40 тысяч лет пешего пути. Над «залом заседаний» суда будет реять знамя, древко которого составит в длину 1000 лет пути. Самый этот зал составит территорию, во много раз большую, чем площадь всей нашей Земли. И в то же время он уместится в одном лишь Иерусалиме, а, по другим данным, в пространстве указанных выше четырех гор. Творить суд будет сам Аллах, для чего он спустится на облаках с неба на землю. Каждому из подсудимых будет вручена книга, где детально описаны все деяния, совершенные им при жизни. Процедура вручения этой книги сама по себе даст знать получившему ее, чего ему следует ждать от суда: если книгу вложат в правую руку, он предназначен к оправданию и райскому блаженству, если в левую — к осуждению со всеми вытекающими последствиями.
Очень обстоятельно разработаны в исламе картины ада и рая, причем имеется в виду, что эти учреждения предназначены не только для воскресших, прошедших страшный суд, а и для покойников, прошедших некий предварительный суд и ожидающих окончательного расчета после воскресения.
Адская каторга расположена под семью землями. Сам ад также состоит из семи этажей; чем больше провинился грешник, тем в более глубокий этаж ада он отправляется, причем каждое такое передвижение занимает десятки лет. Есть и такое представление, по которому грешники в аду заточены в зобах неких зловещих черных птиц. По другим представлениям, ад вообще — не какая-то территория с соответствующими сооружениями и приборами для истязания, а пасть дракона или другого чудовища, в которой и пребывает положенное время осужденный.
В остальном ассортимент адских мучений состоит из всех возможных неприятностей, которые знакомы человеческому воображению на основе реальной практики жизни человека на земле, но усугубленных в немыслимо интенсивных степенях: жара и холод, зубная боль, чесотка, укусы неких особо зловредных червей и т. д. Чтобы усилить действие этих мучений, милосердный Аллах «приспосабливает» к ним тело (душу?!) умершего: сгорающую кожу он тут же заменяет новой (до 70 000 раз в сутки), болящий зуб заставляет вырасти до размеров горы Оход.
Столь же гиперболичны все параметры, относящиеся к месту, где вознаграждаются праведники за свои добрые дела. Рай — это сад или, вернее, вертикально расположенные семь разных садов, каждый из которых отделен от ниже- и вышестоящего на сотни ступеней, расстояние же между каждой из них составляет не меньше чем 50 лет пешего пути. Все сооружения в каждом из райских садов сделаны из драгоценных металлов и столь же драгоценных камней. Всюду текут прохладные реки, состоящие не только из воды, но и из вкуснейших напитков, вплоть до вина, от которого, впрочем, его потребители не слабеют и не страдают головной болью (47, 16–17). И само собой разумеется, главная утеха праведников — гурии, прелести которых расписаны в Коране самым соблазнительным образом, и прислуживающие раежителям «вечно юные» мальчики, обносящие их немыслимо вкусными яствами и питиями.
Наряду с верой в то, что единственным богом является Аллах, в исламском вероучении с самого начала фигурировало требование верить в то, что Мухаммед — его пророк, посланец, апостол. Признается, что в разное время к разным народам приходили многие пророки. Из них выделяются шесть самых выдающихся: Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед 50. Иисус ставится Кораном на очень высокое место в ряду пророков, причем, конечно, отрицается его божественная природа, хотя признается чудесный характер всех обстоятельств, связанных с его рождением (непорочное зачатие), признаются также чудеса, творившиеся Иисусом.
Знакомство первых мусульман не только с каноническими, но и с апокрифическими новозаветными произведениями нашло свое выражение в том, что они знали о некоторых чудесах, фигурировавших в апокрифах; среди них — миф, повествующий, как Иисус в детстве оживил вылепленных им из глины птиц 51. Видимо, мусульманам показалось зазорным считать, что пророк мог претерпеть на земле постыдную казнь, так что, по их версии, вместо Христа был по ошибке властей распят кто-то другой52, а сам он продолжал выполнять порученную ему богом миссию.
Высочайшим из всех пророков — «печатью пророков» был признан, конечно, Мухаммед (33, 40). Правда, он не творил чудес. За ним признаются лишь такие чудеса, в которых он играл своего рода пассивную роль: получение Корана от архангела Гавриила и мгновенное овладение способностью читать это никем не сотворенное произведение, путешествие в течение одной ночи в Иерусалим и обратно, вознесение на небо и т. д. Чудесами были и все акты откровения, преподанные ему в видениях.
Пророк широко пользовался возможностью обосновывать любое свое действие не только политического и религиозного, но и интимного характера откровением, полученным им в видении. Такое чудо можно было легко устроить и продемонстрировать — стоило лишь стимулировать в себе самом возбуждение, ведущее у истерика к приступу, или даже просто симулировать последний, чтобы иметь возможность после его окончания возвестить правоверным о полученном пророком откровении.
Вера в единственность Аллаха и в пророческую миссию Мухаммеда являлась первой из обязанностей мусульманина, первым из пяти «столпов ислама». К остальным четырем относятся: молитва, пост, «милостыня» (закят) и паломничество в Мекку (хадж) 53.
Регулярное молитвенно-словесное служение божеству было неизвестно доисламским арабам. В мекканский период истории ислама оно, видимо, не фигурировало в религиозной практике приверженцев Мухаммеда. В Медине, столкнувшись ближе с жизнью ее иудейских общин, Мухаммед имел возможность оценить то значение, которое имеет в религиозной жизни магия слова. Был установлен ритуал трехразового «салата» — молитвы, ставшей впоследствии известной под персидским названием «намаз»; в дальнейшем установленная Кораном для суток трехкратная молитва была заменена пятикратной 54.
С самого начала исламская молитва была формализована до таких пределов, что приобрела ярко выраженный характер магического заклинания. Надо произнести определенное количество раз совершенно точные молитвенные формулы в закрепленной последовательности. Каждой из них соответствуют предписанное положение тела и определенные телодвижения. Цикл таких формул и положений именуется ракатом (кругом), а каждая из молитв должна составлять сумму ракатов, но не меньше двух. В ракат входят: заявление о количестве всех ракатов, которые молящийся собирается произнести; 1-я и обычно 112-я суры Корана; отдельные строки из других сур; периодическое повторение формулы «Аллаху акбару» — «бог велик»; телодвижения, предусмотренные исламским культом 55. Если молитва происходит в мечети, то все операции производятся синхронно всеми присутствующими по примеру руководящего богослужением муллы. Молитве должно предшествовать омовение. Понятие ритуальной нечистоты вошло в ислам также из иудаизма и было в нем столь же многообразным: состояние нечистоты вызывалось и прикосновением к трупу или к нечистому животному, и физиологическими отправлениями и многими другими обстоятельствами, которых в повседневной жизни человека так много, что его нечистота к моменту совершения молитвы практически всегда должна предполагаться наличествующей. Само омовение вскоре потеряло свое гигиеническое значение и стало лишь формально-магическим актом. Ритуальный эффект стал достигаться простым смачиванием концов пальцев или тем, что молящийся тер руки песком.
Насколько формальное значение имеет обряд омовения в исламе, показывает то обстоятельство, что вместо воды для этого обряда позволяется употреблять песок, а также землю, алебастр, глину, известь. А как же быть, если под рукой и этих материалов нет? Шариат находит приемлемый выход и из этой ситуации: можно собрать пыль с одежды или с ковров и «омыться» ею 56. Гигиеничность такого приема «омовения» вполне смехотворна.
Пост в течение месяца рамадан был предписан Мухаммедом в Медине, но не исключено, что подобный обычай был известен и мекканским арабам до ислама. Под влиянием мединского иудаизма вначале был установлен однодневный пост (ашура) через каждые десять дней, но после разрыва Мухаммеда с иудейскими племенами Медины он реконструировал и этот унаследованный им ранее иудейский обычай, превратив однодневный пост в месячный. Коран подробно регламентирует правила и процедуру поста: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться пред вами белая нитка и черная нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи» (2, 183). Строгость поста облегчается для больных и находящихся в пути, допускается даже замена его выкупом — накормлением бедняка (2, 180). Помимо месячного поста в рамадан предусматривались еще эпизодические добровольные посты в разные дни и месяцы года.
Обязанность помогать бедным входила в самые первоначальные предначертания ислама. Но скоро слово «милостыня» стало приобретать другой смысл. Регулярное внесение тех или иных сумм или отчисление определенного процента своего дохода стали означать для мусульманина обязательство уплаты налога в пользу религиозной общины, по сути дела — в пользу государства. Слово «закят» буквально означает «очищение»; уплата налогов в пользу казны была превращена исламом таким образом в религиозно-очистительное действие, а сама религия оказалась удобным средством поддержания фискальной дисциплины.
Последний из «столпов ислама» — паломничество — имел глубокие корни в доисламском религиозном быту арабов. Как говорилось выше, Мекка являлась привычным для арабов объектом паломничества, где каждый мог поклониться не только общеарабскому «черному камню», но и своему племенному идолу. Для ислама было важно сохранить центральное значение Мекки в качестве объекта почитания и паломничества, тем более что этим закреплялось ее положение не только религиозного, но и политического и торгового центра Аравии и всего мусульманского мира. В святилище был оставлен в новом качестве мусульманского символа лишь «черный камень», причем понадобилось новое этиологическое объяснение его святости.
Церемониал паломничества в Мекку был почти полностью позаимствован исламом из доисламской культовой практики. Паломник должен одеться в специальный костюм (ихрам), состоящий из двух несшитых кусков ткани, на ноги надеть сандалии. До прихода в Мекку надо посетить другие места, где следует совершить установленные церемонии: долину Мина, холм Арафа. В долине Мина паломник должен бросить определенное количество камней (трижды по семь) по разным целям: в два жертвенных столба и в стену. По смыслу произносимой при этом молитвы бросаемыми камнями паломник поражает дьявола и его присных. В Мекке совершаются семикратный обход «черного камня», лобызание его при каждом туре или по меньшей мере прикосновение к нему, жертвоприношение и т. д. Затем полагается молитва у «места Авраама», питье воды из колодца Земзем, семикратная пробежка с холма Сафа на холм Марва. Ко всем этим доисламским обрядам присоединяется обильное молитвословие по ракатам, в чем по существу и заключается вклад ислама в церемониал мекканского паломничества.
Формальный характер всего ритуала подчеркивается тем, что ислам разрешает заместительство — каждый мусульманин имеет право нанять вместо себя человека, который совершит за него хаджж. Суть дела заключается, таким образом, в совокупности определенных магических действий, а кто их совершит и каково будет при этом его внутреннее состояние, значения не имеет.
Особое место в культовой системе ислама занимает обряд обрезания. В Коране он не фигурирует, так что в самый ранний период существования ислама он, видимо, не практиковался. В дальнейшем обязанность для мусульманина совершать обрезание провозглашается Сунной и закрепляется в шариате, так что его исполнение постепенно становится непременным внешним признаком принадлежности данного субъекта к исламу. Совершается этот обряд над мальчиками в возрасте от семи дней до пятнадцати лет, причем, если и после достижения этого возраста человек остался необрезанным, совершение этого обряда становится уже его собственной заботой.
Обряд обрезания ни в коей мере нельзя считать специфически мусульманским. Он имеет древнее происхождение и зафиксирован не только у древних египтян, но и у аборигенов Австралии. Обрезание обязательно и у иудеев. Вероятно, в раннем исламе этот обряд постепенно проникал в быт арабов, будучи заимствован как у еврейских общин, проживавших в Аравии, так и у ряда народов, с которыми арабы соприкасались в процессе завоевательных походов. Во всяком случае теперь совершение обрезания считается непременным условием признания мусульманином.
Помимо требований, которые предъявил ислам к своим приверженцам в религиозно-культурном отношении, имеет, конечно, значение та этика, которую провозгласила новая религия.
Как и в любой другой религии, здесь не могло появиться ничего того, что не созрело в общественных отношениях и в быту людей. Так как ислам распространялся в различных социальных средах, нравственные понятия которых не совпадали, то по ряду этических проблем ему приходилось принимать компромиссные решения, удовлетворяющие как земледельцев Медины, как торговцев Мекки, так и кочевников-бедуинов. Ислам давал этим решениям не только религиозную санкцию, но и религиозное направление.
У доисламских арабов, в особенности бедуинов, такая черта характера человека, как воинская доблесть, считалась представляющей наибольшую нравственную ценность. Ислам сохранил это представление, но трансформировал его в религиозном направлении — доблесть должна проявляться в борьбе за торжество веры, в войнах с неверными. Высоко ценилось у всех арабов такое свойство человека, как верность близким, готовность заступиться за любого из них в любых обстоятельствах. Речь при этом шла о племенных и родовых общностях, и защищать надо было своего родича, что, кстати сказать, и делал весьма последовательно в отношении Мухаммеда глава его рода Абу Талиб, несмотря на то что проповедь ислама не вызывала у него сочувствия. В новой религии такая солидарность приняла вероисповедный характер и составила один из элементов ее этической системы. Вообще вопрос об отношении человека к другим людям, составляющий по существу основу всего нравственного поведения, не получил в исламе однозначной разработки. То, что сказано по этому вопросу в Коране, противоречиво, как, впрочем, и в любом другом религиозном документе мировых религий. Не обходится, в частности, без призывов к гуманности и милосердию.
В исламоведческой литературе нередки ссылки на тексты Корана, во многом повторяющие евангельскую проповедь непротивления злу. А. Крымский приводит такую цитату из Корана: «Старайся делать добро за зло, и тогда тот, у кого была вражда с тобою, сделается твоим другом-защитником». Правда, он тут же ослабляет эффект цитаты тем, что приводит ее продолжение: «Однако этого совершенства достигают только те, которые терпеливы — достигают только большие счастливцы» 57. В переводе А. Николаева это место выглядит еще более выразительно: «Воздай добром за зло, и ты увидишь, как враг твой обратится тебе в друга и покровителя… Но только человек настойчивый достигнет такого совершенства: только тот достигнет его, кому оказывается особое благорасположение» 58. Можно указать в этой связи и на такой коранический текст в переводе А. Николаева: «Воздай им добром за зло» (XXIII, 98) 59. Казалось бы, перед нами клише евангельской Нагорной проповеди. Однако в новейшем переводе Корана, сделанном И. Крачковским, эта фраза выглядит значительно более неопределенно: «Отклоняй зло тем, что лучше» (23, 98). Как известно, Крачковский в своем переводе придерживался принципа буквальной точности, нередко в ущерб литературности изложения и даже понятности текста. Надо полагать, что и в данном случае этот высококвалифицированный арабист передал смысл текста во всей его неопределенности; прежние же переводчики не столько переводили эти слова, сколько интерпретировали, вкладывая в них свое понимание того, что мог бы сказать в данном случае Мухаммед. Тем не менее тенденция к кротости и доброте здесь обнаруживается. Можно привести еще одну цитату того же порядка, которая, по переводу И. Крачковского, сулит небесную награду «для богобоязненных… сдерживающих гнев, прощающих людям». Продолжение этого аята гласит: «Поистине, Аллах любит делающих добро!» (3, 128). Добро здесь идентифицируется с прощением обид.
Как и во всех религиях, с самого начала практика деятельности мусульман и Мухаммеда представляла собой разительный контраст с проповедью не только всепрощения, но и элементарной гуманности. После сражения при Бедре Мухаммед обнаружил среди пленных поэта Надр ибн Хариса. Поэт еще в Мекке обидел его тем, что чтением своих стихов привлек внимание людей, которым пророк хотел читать проповедь. Как только Мухаммед узнал пленника, он мгновенно изрек свой приговор: «Голову долой!» 60 Известно, с какой беспощадностью Мухаммед после «войны у рва» истребил всех мужчин иудейского племени Бену Корейза за то, что они не поддержали его в этой войне61.
Было бы неправильно усматривать здесь лишь противоречие практики и религиозной теории. Для коранической теории не характерна проповедь прощения и кротости. А. Крымский пишет по этому поводу: «Восхваляется (в Коране. — И. К.) доброта и снисхождение, например, к бедным должникам, вдовам, сиротам, рабам и т. п.; но нарушением доброты не считается самое-то рабовладельчество (оно последовательно проходит по всему Корану) и месть» 62. Можно было бы привести немало коранических текстов, узаконивающих месть, в том числе кровную, призывающую к кровавой расправе с обидчиками, с отказывающимися покориться, с неверными и т. д.
Небезынтересны следующие предписания Корана: «Прелюбодея и прелюбодейку — побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний день. И пусть присутствует при их наказании группа верующих. Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а прелюбодейка — на ней женится только прелюбодей или многобожник. И запрещено это для верующих» (24, 2–3). Можно понять эту непримиримость к греху, которую обнаруживает здесь Мухаммед: эта сура Корана преподана им верующим сразу после неприятного казуса с одной из его жен, Айшей, заподозренной в измене, так что еще не успел улечься гнев оскорбленного собственника. Важно, однако, другое: все филиппики Корана против прелюбодеяния должны рассматриваться в свете того несомненного факта, что сам Коран в ряде других текстов узаконивает весьма вольное поведение.
Как и в древних религиях, прелюбодеянием считается сожительство лишь с женой или рабыней, принадлежащими другому. Каждому мусульманину разрешается иметь одновременно четыре законные жены. При этом можно в любое время развестись с любой из них и взять вместо нее новую. Процедура развода предельно проста: надо лишь трижды произнести формулу: «Ты разведена». Этой возможностью широко пользовались многие высокопоставленные мусульмане.
Предусмотрены Кораном и некоторые запреты, относящиеся к пище и питью63. Пищевые запреты распространяются преимущественно на те продукты, которые, и помимо ислама, были непопулярны у арабов, например, на свинину. Вряд ли есть основания усматривать здесь влияние Ветхого завета, ибо, например, конина, запрещенная в употреблении иудеям, исламом приемлется. Очевидно, религия в данном случае возводила в ранг божественного установления именно то, что складывалось в ходе реальной жизни народа. Особо следует сказать о запрещении Кораном вина (5, 92–93). Но вопрос этот довольно неопределенен: неясно, идет ли речь об употреблении лишь пальмового или виноградного вина или вообще опьяняющих напитков. Не исключено, что употребление крепких напитков в целом не возбранялось. Важно, что в истории ислама данная моральная норма всегда оставалась лишь благим пожеланием, как, впрочем, и большинство других религиозных нравственных предписаний.
Ислам унаследовал от иудаизма запрещение изображать живые существа. Но здесь было не простое заимствование, а повторение исторического опыта в аналогичных условиях. Как и иудаизму, исламу пришлось преодолевать политеистические культы, в которых большую роль играло поклонение и плоскостным, и в особенности рельефным изображениям богов-«идолов». Запрещение изготовлять любые изображения живых существ было наиболее радикальной формой борьбы с теми культами, которые предстояло вытеснить вновь возникшей религии. Надо все же отметить, что, как и в случае с запретом вина, исламский поход против изобразительных искусств остался лишь пожеланием, ибо художественные потребности людей оказались сильнее религиозного запрета. Искусство исламских народов оставило образцы высокого художественного мастерства в изображениях животных и человека.
Соответствие или противоречие жизненного поведения мусульманина всем требованиям и предписаниям Корана, по учению Мухаммеда, вознаграждается или, наоборот, наказывается в будущей жизни. Для некоторых умерших предполагалось воздаяние или возмездие в индивидуальном порядке сразу после смерти. Воины, павшие на поле брани за веру, попадали сразу после своей гибели в рай 64; видимо, такой же участи должны были удостаиваться и иные заслуженные и благочестивые мусульмане. С другой стороны, в раннем исламе бытовали представления о том, что расправа с грешниками начинается уже через короткое время после смерти: два специальных ангела-мучителя являются для исполнения своих обязанностей к могиле и воздают покойнику предварительную порцию страданий в возмездие за совершенные им при жизни грехи. Главная же расплата предполагалась после вселенской драмы, связанной с неизбежным светопреставлением.
Эсхатология занимала в раннем исламе одно из центральных мест. Некоторые исследователи даже колеблются в вопросе о том, что было главным в первоначальной исламской проповеди — единственность Аллаха или возвещение грядущего конца света. Очевидно, противопоставлять эти две идеи нет надобности, так как в идеологии раннего ислама они сочетались достаточно органично. Неверие в «последний день» рассматривается в Коране как столь же тяжкий грех, что и неверие в Аллаха и его пророка.
Первоначальная проповедь Мухаммеда повторяла основной мотив призывов и предупреждений Иоанна Крестителя в Новом завете: «…покайтесь, ибо приблизилось царство небесное» (Матф., III, 2). Мекканский период формирования Корана изобилует страшными описаниями неизбежных космических потрясений: «…когда звезды померкнут, и когда небо расколется, и когда горы развеются…» (77, 8—10); «…задрожит земля и горы и станут горы холмом сыпучим!» (73, 14); «…сотрясется земля своим сотрясением…» (99, 1); «когда небо раскололось, и когда звезды осыпались, и когда моря перелились, и когда могилы перевернулись…» (82, 1–4). Светопреставление явится катастрофой для одних и началом блаженной жизни для других. После него все люди получат окончательное устройство своей судьбы; неуверовавшие окажутся в аду, мусульмане — в раю.
В отличие от Нового завета эсхатологическая проповедь Корана не говорила о близости сроков светопреставления, она лишь возвещала неизбежность такой перспективы. И эта перспектива увенчивала все здание исламского вероучения, оставляя простор для активности правоверных в их земной жизни, стимулируя последнюю учением о наградах и наказаниях, уготованных для них в потустороннем бытии после страшного суда.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИСЛАМА ДО СЕРЕДИНЫ VIII в.
К концу жизни Мухаммеда образовалась исламская теократическая держава, охватывавшая почти весь Аравийский полуостров. Формально все население полуострова было мусульманским; фактически дело обстояло далеко не так. Лишь меньшинство племен исповедовало ислам, многие даже не имели представления о том, чего от них требует эта религия, так что их подчинение пророку было только политическим и фискальным. Были и такие группировки, которые составляли оппозицию исламу как в вероисповедном, так и в политическом отношении: ханифиты в Йемаме, а также те, кто сохранил верность христианству и иудейству. Среди приверженцев пророка тоже не было полного единодушия. Имело место постоянное соперничество между мекканскими переселенцами-мохаджирами и примкнувшими к ним в Медине ансарами, волновались все время бедуины, составлявшие наименее влиятельный элемент движения.
Форма религиозно-политического правления во вновь возникшем общеарабском государстве была предопределена тем, что вся светская и религиозная власть (эмират и имамат) находилась в руках Мухаммеда. Это оправдывалось его личным статусом пророка. После его смерти положение в этом отношении оставалось тем же, ибо его преемники стали халифами, т. е. преемниками пророка, исполняющими его должность. В религиозном отношении менялось лишь то, что если пророк рассматривался как руководимый непосредственно божественным откровением, то халифы такого источника безошибочных решений были лишены. Благоприятным для укрепления и распространения ислама явилось то обстоятельство, что первые два халифа — Абу Бекр (632–634) и Омар (634–644) — оказались талантливыми государственными деятелями и полководцами.
И новой религии, и государству, идеологическим знаменем которого она явилась, после смерти Мухаммеда пришлось выдержать сильные испытания. Почти вся Аравия была в короткий срок охвачена восстаниями и другими актами «отпадения» (ар-рида). Формально все это движение, разнообразное по составу участников и идеологической направленности, шло по религиозному руслу: ханифитские, христианские, языческие и иудейские племена заявляли о своем отпадении от учения Мухаммеда: одни — с требованием более последовательного монотеизма, другие — под влиянием христианской и иудейской антиисламской пропаганды. По существу этой религиозной оболочкой прикрывалось стремление к выходу из общеарабского государства и к восстановлению племенного сепаратизма. Во главе многих из восставших племен оказывались свои пророки и пророчицы, на примере Мухаммеда научившиеся черпать истины религии в видениях откровения.
Наиболее сильные группировки «отпавших» сосредоточились в трех областях: Йемаме — к востоку от Медины, Йемене — на юге и области племени Бену Асад — на северо-востоке полуострова. Самым мощным из этих движений было йемамское, связанное с именем Масла-мы, или Мусейлимы, стоявшего во главе племени Бену Ханифа 65.
Еще при жизни Мухаммеда Мусейлима обратился к нему с посланием, в котором претендовал на полную религиозно-политическую самостоятельность для своего племени, обосновывая ее тем, что он, Мусейлима, является таким же пророком, как и Мухаммед. Реагировать на эту претензию пришлось уже преемнику пророка — Абу Бекру. К Мусейлиме и его ханифитам присоединились и другие племена с их руководителями, из которых выделялась пророчица Саджах. Видимо, главным религиозным лозунгом движения было более строгое единобожие, чем то, которое совмещалось с поклонением ангелам и джиннам; играла также некоторую роль и проповедь аскетизма.
Трудно воспроизвести всю пеструю картину образовавшихся союзов восставших племен, их распадения, временного возврата некоторых из них к исламу с дальнейшим новым отпадением. В течение полутора лет вся Аравия буквально кипела. Начало хаоса можно усмотреть еще в последние месяцы жизни Мухаммеда. Видимо, вскоре после того, как новая религия утвердилась не только в Медине, но и в Мекке, что знаменовало неизбежность жесткой политической централизации всей Аравии, вольнолюбивые сепаратистские традиции массы бедуинских племен должны были сказаться в борьбе против нового для них политического и экономического уклада, наиболее ощутимым выражением которого явилась регулярная уплата подати.
Основные три очага «отпадения» были подавлены в ходе жестоких и кровопролитных войн, которые вел со стороны халифата «меч ислама» Халид ибн аль-Валид, известный не только своей жестокостью и нравственной разнузданностью, но и равнодушием к вопросам вероучения, а также невежеством в этой области.
Вначале возникла опасность для самой Медины. Группа северо-восточных племен, объединившихся вокруг «пророка» Тулейхи, оказалась в непосредственной близости от столицы ислама. Племена абс и зубьян нашли путь для усовершенствования религии ислама и послали гонца в Медину с предложением об изменении того «столпа ислама», которым устанавливалась регулярная десятина — закят. Мятежные племена соглашались вновь присоединиться к исламу, если их освободят от закята. Несмотря на тяжелое положение, в котором находилась Медина, халиф Абу Бекр отклонил советы своих приближенных, в том числе и Омара, пойти навстречу предложениям восставших, признав их богохульными: «Отменить десятину, введенную пророком по настоятельному повелению бога! Да что вы, с ума что ли сошли?!» 66 Восставшим же он сообщил, что если они осмелятся недодать из полагающейся подати хотя бы один верблюжий недоуздок, то он будет воевать против них. В дальнейшем этот спор был решен оружием. Военное счастье было на стороне правоверия. Осенью 632 г. Абу Бекр разгромил восставшие племена, а Халид завершил этот разгром, после чего устремился против ополчения Мусейлимы.
Когда «меч ислама» нагрянул на территорию «отпавших», главный союзник Мусейлимы Малик заявил о своем отказе сопротивляться исламу, распустил ополчение и вернулся к мирной деятельности. Это не помешало Халиду взять его в плен и обезглавить так же, как и многих других причастных к этому делу.
К рассматриваемому времени другие исламские военачальники потерпели ряд поражений в борьбе с войском ханифитов. Под командованием Халида правоверные нанесли ополчению Мусейлимы решительное поражение в ставшем после этого знаменитым «саду смерти», погиб и сам Мусейлима. Правоверие восторжествовало.
Было ликвидировано антиисламское движение и в Йемене. Определенную роль сыграли и внутренние противоречия в лагере восставших, искусно разжигавшиеся агентами халифата. В итоге ядро повстанческого лагеря, племя Бену Кинд, оказалось окруженным со всех сторон и было истреблено, чему помогло предательство его руководящей верхушки, в частности зятя Абу Бекра — Аль Ашаса.
После того как вся Аравия оказалась вновь покоренной, перед халифатом встал вопрос о дальнейших завоеваниях. Дело было не только в том, чтобы начать реализацию программы пророка в отношении распространения единоспасающей веры ислама. Важно было найти применение активности племен, только недавно утихомирившихся и с трудом поддававшихся введению в общее религиозно-политическое русло; надо было объединить все эти племена не только принципом единой веры, но и объектом действия. Разумеется, идеологически это выглядело как проповедь богоугодного дела обращения неверных. Началась эпопея завоевательных войн, которые меньше чем за одно столетие позволили халифам создать государство, превосходившее по своим размерам древнюю Римскую империю.
Первые четыре халифа принадлежали к плеяде именуемых в мусульманской историографии «праведными», законными. Это были сподвижники и родственники Мухаммеда. Из них лишь Абу Бекр умер своей смертью, остальные были убиты. Омара зарезал при выходе из мечети некий крестьянин, на просьбу которого халиф ответил насмешкой. Воцарившийся после него старик Осман (644–656) стал жертвой недовольства, которое было вызвано в различных слоях населения его алчностью. В Медину собрались большие группы недовольных, осадивших дворец халифа и убивших его там. Османа сменил двоюродный брат и зять Мухаммеда — Али (656–661), через пять лет убитый фанатиком из возникшей к тому времени секты хариджитов. Тогда троном халифов овладела династия Омейядов, занимавшая его до 750 г. Первый же ее представитель Муавия (661) перенес столицу халифата в Дамаск. На этом кончился тот период, когда Мекка и Медина были политическими центрами государства, они остались, однако, в дальнейшем религиозными объектами почитания и паломничества.
Халифат столкнулся с рядом военно-политических противников, с которыми ему пришлось вести вооруженную завоевательную борьбу. Для идеологических условий этой борьбы имеет серьезное значение вопрос о том, какую позицию ранний ислам занимал в отношении других современных ему религий и их приверженцев.
И Коран, и Сунна различают две основные категории немусульман. С одной стороны, это «идолопоклонники», «многобожники», окончательно заблудшие и погибшие, если не перейдут в истинную веру. С другой стороны, «люди Писания» — иудеи и христиане, почитающие Библию, в какой-то мере заблуждающиеся, но все же близкие к истине; они получили свое Писание от бога, но не сумели правильно им воспользоваться. К первой категории Коран относится непримиримо-враждебно, он рекомендует их просто истреблять и оставлять в живых только при том условии, если они обратятся в ислам. «…Убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас… убивайте их, таково воздаяние неверным» (11, 187). И верующий не должен считать себя виновным в убийстве, поскольку дело касается войны во имя ислама. Именно на непримиримой вражде к «многобожникам» и основано учение ислама о джихаде — священной войне во имя Аллаха.
Что касается «людей Писания», то при общем более миролюбивом отношении к ним оно все же в достаточной мере противоречиво. В одних сурах Корана об иудеях и христианах говорится довольно дружественно, в других — неприязненно. В большинстве случаев взаимно противоречащие высказывания по рассматриваемому вопросу относятся к различным периодам истории раннего ислама, но в логическом плане они, будучи собраны вместе, представляют собой изрядную разноголосицу. Для практической политики исламских руководителей это обстоятельство создает известные выгоды, ибо позволяет в зависимости от конкретных условий момента использовать то или другое решение вопроса, прямо противоположное первому.
Проповедь джихада занимала важное место в вероучении раннего ислама. И в Коране, и в Сунне большое количество текстов говорит о величии и богоугодности участия в священной войне за веру. В ходе самих этих войн их участники-мусульмане быстро входили во вкус тех материальных выгод, которые им приносили победы. Ограбление побеждаемых народов постепенно все больше оказывалось главной, если не единственной целью джихада. Но само собой разумеется, благочестивая мотивировка соответствующих войн усиливала воинский дух их участников. К тому же и сама религиозная идеология включала в себя признание правомерности захватнических целей джихада. Так, в Коране имеется сура под выразительным заглавием «Добыча» (8) с указанием насчет дележа захваченного имущества. Прежде всего в ней подчеркивается благочестивый характер самого дележа: «Они спрашивают тебя о добыче: «Добыча принадлежит Аллаху и посланнику»» (1). Это не значит, что вся она должна передаваться духовенству. Принцип дележа, в общем довольно туманный, гласит так: «Если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху — пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику…» (42). Значит ли это, что себе участники джихада ничего не должны оставлять из добычи? Нет, говорит им Коран: «Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим…» (70). Похоже на то, что пятая часть добычи шла духовенству, остальное доставалось самому воину, который мог уделять известную долю «сиротам и бедным», если он считал это нужным.
Халифат столкнулся с двумя серьезными противниками: с Византийской империей и с Иранским царством Сасанидов. Удача была на стороне молодого государства арабов. Уже в 30-х годах и Византии, и Ирану были нанесены сокрушительные поражения.
Пала столица сасанидского Ирана Ктесифон, а потом была покорена вся страна. В 639 г. начался поход в Египет, завершившийся полным его завоеванием, после чего осуществлялось продвижение на запад вдоль южного побережья Средиземного моря. К моменту воцарения Омейядов халифат распространил свои владения также на восток, завоевав помимо всей территории Ирана вплоть до Мервского оазиса и Закавказье. Омейяды после некоторого перерыва, вызванного внутренней борьбой в самом халифате, продолжали политику завоеваний. Была захвачена вся Северная Африка вплоть до берегов Атлантического океана67. Оттуда в 711 г. была совершена переправа через Гибралтар, и меньше чем через три года почти весь Пиренейский полуостров оказался в руках арабов; только в попытках дальнейшего продвижения по материку на север они потерпели поражение в битве под Пуатье 732 г. и вынуждены были остановиться.
Завоевание Аравийского полуострова арабами имело весьма серьезные последствия для всей истории европейской материальной и духовной культуры. Сочетание культур, существовавших в христианской и исламской идеологических формах, неожиданно дало весьма плодотворные результаты. На причинах этого мы здесь не можем останавливаться. Укажем только на несостоятельность расхожих утверждений о том, что именно христианство явилось в средневековой Европе носителем и двигателем культуры. Вплоть до XIV в. именно арабские элементы составляли ее авангард. Одной из причин этого была большая терпимость к развитию научного мировоззрения, которую проявлял ислам в сравнении с христианством. Нельзя сказать, что эта терпимость была абсолютной, — известны те преследования, которым подвергались Ибн Рошд (Аверроэс) и другие деятели арабской философии. Но до ужасов христианской инквизиции дело, конечно, здесь не доходило.
На востоке халифата продолжалось продвижение в сторону Индии, так что в руках арабов вскоре оказались весь бассейн Амударьи вплоть до Аральского моря, среднее течение Сырдарьи со значительной частью современной Средней Азии, территория современного Афганистана и, наконец, прямые подступы к Индии. Чего не удалось добиться халифату — это окончательного сокрушения Византийской империи; несколько раз арабы осаждали Константинополь, но взять его они не сумели. Тем не менее общие итоги завоевательных устремлений исламского теократического государства были колоссальны.
Чем обусловливались эти военные победы? Долгое время как в арабской, так и в европейской историографии они объяснялись религиозным подъемом, воодушевлявшим арабов, их фанатическим рвением в борьбе за обещанные пророком райские блаженства. Но эта точка зрения подверглась в исторической литературе пересмотру и теперь мало кем разделяется. Уже А. Крымский привел ряд фактов, опровергающих ее. Он утверждает, что из халифов только первые четыре были по-настоящему верующими мусульманами, что же касается халифов омейядских, то они были «в общем или безразличными, или — пожалуй — прямо неверующими» 68.
А. Крымский пишет, что Велльхаузен и Гольдциер не разделяют такого мнения об Омейядах. В частности, последний приводит примеры того, как они активно заботились о поддержании религиозности в народе. Тут же, однако, Крымский вполне резонно говорит по этому поводу, что данные примеры «свидетельствуют скорее о политичности отдельных Омейядов, которые мудро помнили, что они как-никак обязаны своей халифской властью принципу теократическому, религиозному» и что «остальное их поведение говорит о другом, и верующие мусульмане недаром их ненавидели и величали нечестивцами» 69. Показательны слухи, которые распространялись по поводу нечестия верхов, независимо даже от того, в какой мере эти слухи были справедливы. Так, о халифе Валиде II (743–744) рассказывали, что вместо себя он посылал в мечеть какую-нибудь из своих наложниц, одетую в священное платье, а в качестве мишени при стрельбе из лука использовал книгу Корана, обращаясь при этом к ней с такими словами: «В день обещанного тобою Страшного суда можешь явиться перед своим Господом и сказать: Господи, меня продырявил Валид!» 70
Главное, однако, в рассматриваемом вопросе заключается не в большей или меньшей степени религиозности правящей верхушки, а в состоянии религиозного сознания народных масс, ибо фанатизм мог играть роль стимулятора их военной доблести. Что же касается верхушки, то она могла добиваться нужной ей реакции со стороны масс только при условии господства среди них соответствующей идеологии.
Факты свидетельствуют о том, что основные контингенты арабских завоевателей не были подвержены интенсивным религиозно-мусульманским переживаниям. В своей массе участники исламских ополчений, особенно из бедуинов, имели отдаленное представление о Коране и его содержании, а также об основных догматах ислама. Известно, что после кадисийской победы над персами в 637 г. халиф Омар предписал разделить добычу между теми участниками сражения, которые продемонстрируют наилучшее знание Корана. Когда были созваны особо отличившиеся в бою воины, то оказалось, что подавляющее большинство их не может процитировать ни одной строчки и только некто Бишр сумел произнести формулу «Во имя бога милосердного, милостивого»71. Видимо, рядовые участники движения знали о его религиозном содержании только то, что надо следовать Мухаммеду, поскольку он был пророком Аллаха. Само по себе это вряд ли могло вызывать и поддерживать у кого бы то ни было религиозный фанатизм, кроме, может быть, лично знавших пророка и общавшихся с ним.
Показательно, что перенос Омейядами столицы халифата в Дамаск не вызвал отрицательной реакции среди массы мусульман, хотя именно Мекка и Медина должны быть связаны в их сознании с пророком и с самыми священными для каждого мусульманина переживаниями. Больше того, в дальнейшем выяснилось, что арабские воины вообще не питают никакого уважения ни к Мекке и Медине, ни к их святыням. Во время междоусобной войны 683 г. между халифом Йезидом I и претендентом на халифский трон Абдаллахом ибн Зобейром приверженец первого — Хосайн приказал бомбардировать Каабу камнями из баллист, вследствие чего обрушились колонны всего сооружения; потом он велел поджечь все святилище, и «черный камень» раскололся в огне на четыре части. В 692 г. во время такой же внутренней войны осаждавший по приказанию халифа Абдальмалика Мекку полководец Хажжаж также велел метать камни из баллист в Каабу. Однажды в разгар бомбардировки разразилась гроза, и молнией убило двенадцать человек из осаждавших. Это, конечно, вызвало страх у солдат, обслуживавших метательные приборы. Но Хажжаж громко заявил: «Пустяки! Я родился в этой стране, знаю ее и знаю, что грозы тут очень часты». После этого он собственноручно заложил камень в машину и возобновил обстрел святилища 72.
Если не религиозный фанатизм объединил завоевателей, то во всяком случае здесь играло роль сознание принадлежности к одному религиозному сообществу приверженцев пророка, позволявшее завоевателям противопоставлять себя завоевываемым. Последние ставились в такое положение, которое давало возможность мусульманам чувствовать свое превосходство над ними. Показательны в этом отношении ограничения, установленные халифом Омаром для жизни и поведения иноверцев в Иерусалиме.
Им запрещалось осмеивать пророка и мусульманский культ, совращать мусульманина в свою веру, а тем более покушаться на его имущество или жизнь; им запрещалось даже заниматься толкованием Корана. Помимо того, устанавливались ограничения бытового порядка. Иноверцу запрещалось: прикасаться к женщине-мусульманке, носить такую же одежду, какую носят мусульмане, строить дома выше тех, в которых живут мусульмане, читать вслух свое Писание, совершать торжественные похороны, носить оружие, ездить верхом, хотя дозволялось употребление лошаков и ослов, и т. д. И не меньшее значение, чем эти ограничения, имели подати, наложенные на неверных: поземельная (харадж) и поголовная (джизья)73. Завоеватель-мусульманин избавлялся от забот по организации производства на новых землях, так как земля оставалась в распоряжении ее прежних владельцев, а завоевавшие ее мусульмане пользовались доходами с нее через казну, в которую поступали подати. В разное время в разных завоеванных странах регламентированные мусульманами-завоевателями условия жизни «зиммия» (немусульман) варьировались в зависимости от того, сопротивления какой силы можно было ожидать от покоренного народа тем или иным ограничениям его прав. В некоторых случаях устанавливалось, что зиммия должен носить одежду и обувь только черного цвета и чтобы он красил свое жилище только в черный или в темно-коричневый цвет. Помимо того, такое жилище должно было еще обозначаться особым знаком во избежание того, чтобы нищие обращались в такой дом за милостыней. Последнее было непозволительно, ибо, получив милостыню, нищий благодарил подателя и этим испрашивал на него благословение Аллаха. При встрече с мусульманином зиммии запрещалось произносить обычное приветствие «Салям алейкум» (Мир вам), очевидно, имелось в виду, что в принципе состояния постоянного мира между мусульманином и неверным быть не может. По существу, однако, большинство таких ограничений оказывалось нежизненным, в ходе повседневной жизни и систематического взаимного общения народов они стирались.
Помимо сознания религиозной обособленности и избранности завоевателей объединяло чувство их национального и расового единства, чему способствовало установившееся в халифате привилегированное положение арабов по происхождению. Став мусульманином, иноплеменный все же не мог занять одинаковое положение с арабом. Он был мавла — клиент, покровительствуемый тем или иным арабом, от какового положения его не избавляли даже особые заслуги перед халифатом и высокое место в иерархии властей. Примером здесь может служить бербер Тарик, под командованием которого был форсирован Гибралтар (название пролива произошло от имени Тарика) и были выиграны основные сражения, предопределившие покорение Испании. Будучи крупным военачальником, Тарик оставался мавла чистокровного араба Мусы, от которого иногда даже претерпевал телесные наказания 74.
И если вначале главной целью считалось распространение ислама и обращение неверных, то довольно скоро обнаружилось, что эта идея противоречит тем интересам, которые вдохновляют массы. Переход неверных в ислам означал их изъятие из той среды, которая поставляла завоевателям материальные блага, и тем уменьшал количество этих благ. Нетрудно было представить себе, что в случае реализации цели, выдвинутой пророком в начале движения, некому будет содержать правоверных. Халифат вступил поэтому на путь все более последовательного ограничения и усложнения процесса перехода из других религий в ислам. Потом был найден другой выход из положения: в 700 г. издается закон, по которому переход в ислам не избавлял бывших иноверцев от причитавшихся с них податей 75. Материальный стимул к исламизации у покоренного населения был таким образом подорван.
Причины военных побед мусульман заключались не только в их силе, но и в слабости противника. В многонациональных иранском и византийском государствах не прекращались движения, находившие свое выражение, в частности, в борьбе различных религиозных групп и толков внутри христианства, а также между христианством и иудейством и остатками древних культов. Население этих государств было раздроблено, поэтому организовать общее сопротивление исламским завоеваниям было невозможно. Наоборот, в ряде мест завоеватели принимались населением как освободители. Даже подати, накладываемые на неверных и иноплеменных, были, как правило, меньше тех тягот, которые несло население Иранской и Византийской империй от своих угнетателей.
Население завоеванных мусульманами территорий сравнительно легко принимало новую веру. В большинстве случаев она была не так уж нова для покоренных жителей. Здесь играл роль эклектический характер ислама, дававший возможность как поклонникам древних политеистических культов, так и иудеям и христианам находить в этой религии знакомые мотивы и образы вероучению, привычные формы культа. А легкость одержанных мусульманами побед могла наводить на мысль о том, что ее причиной является истинность самой веры, содействие Аллаха и его пророка победам своих поклонников.
К середине VIII в. ислам стал государственной религией огромной державы. Замена Омейядов Аббасидами на халифском троне явилась предвестником разделения этой державы на отдельные мусульманские государства, игравшие в дальнейшем немалую роль в истории как Европы, так и всего мира. В какой-то мере эта дифференциация была связана и с религиозными разделениями внутри ислама, которые начались уже в первые десятилетия его существования.
НАПРАВЛЕНИЯ В РАННЕМ ИСЛАМЕ
Уже в первое столетие существования ислама в нем возник ряд сектантских направлений. В их числе было одно ответвление, которое по числу приверженцев и по влиянию на ход истории соответствующих народов соизмеримо с основной линией ислама — суннитской: имеется в виду шиитский ислам.
Социально-историческая почва появления различных направлений в раннем исламе и их борьбы между собой заключается прежде всего в том, что войны не только не ликвидировали социальную дифференциацию общества, но и усилили ее.
Родовая арабская аристократия, занимавшая командные посты в ополчениях завоевателей, получала большую долю военной добычи. Что же касается низов, то хотя их материальное положение в ходе войн резко улучшалось, но жизненный уровень все же не шел ни в какое сравнение с тем, которого достигали новоявленные арабские полководцы и феодалы. В таких культурных странах, как Сирия, привилегированные слои исламского государства усваивали нормы и привычки жизни в роскоши, низы же могли лишь осуждать их, исходя из учения пророка и духа Корана.
Способствовало появлению в исламе новых веяний и направлений и распространение этого учения среди племен и народов, ранее исповедовавших христианство и иудаизм. Неофиты привносили в новую для них религию элементы тех верований и обрядов, к которым они привыкли в своем прежнем религиозном состоянии. Нередко следствием этого была внутренняя борьба в новом религиозном организме, находившая свое выражение в появлении ересей и сект.
Первыми сектантами в исламе явились хариджиты. Незадолго до этого возникло направление шиитов, которое впоследствии разрослось в мощное движение и стало основой одного из двух главных вероисповеданий ислама. Хариджиты в свою очередь распадались на ряд ответвлений, из которых известны ибадиты, азракиты и суфриты. Возникли еще секты под названием мурджиты и кадариты.
История появления первых мусульманских сект связана с борьбой за власть в халифате, развернувшейся во второй половине 50-х годов VII в. Престарелый халиф Осман был представителем самых богатых группировок омейядской аристократии. Вокруг него сгруппировались родичи и единоплеменники, которым он без особых ограничений раздавал владения, наместничества, высшие командные посты. В народе росло недовольство, находившее выражение в требовании замены Османа на посту халифа двоюродным братом и зятем пророка — Али. Вокруг Али сгруппировались многочисленные приверженцы. После убийства ими Османа Али вступил на трон халифов. Но это явилось лишь началом борьбы.
Сирийский наместник Муавия, как и Осман, происходивший из знатной омейядской верхушки племени курейшитов, не признал Али халифом и провозгласил лозунг мщения за убитого Османа, претендуя вместе с тем на халифский трон. Появились и другие претенденты — Тальха и Ибн аз-Зубейр, также обосновывавшие свои претензии, конечно, не властолюбием и алчностью, а вполне благовидными и благочестивыми аргументами от Корана и воли пророка. Вопрос решался, однако, не словами и цитатами из Корана, а силой. Образовались две военные коалиции, из которых одну возглавлял Али, другую — Муавия. На стороне первого были войска, относившиеся преимущественно к племенам и народам Аравии, Египта и Ирака, главные силы Муавии составили сирийцы. В лагере Али воевали отряды набожных «чтецов» Корана, относившихся с фанатичной враждой к «безбожнику» Муавии, зато на стороне последнего была «мать правоверных», вдова Мухаммеда Айша, ненавидевшая Али за его враждебное к ней отношение.
Первое сражение между войсками Али и ополчением двух других претендентов на трон — Тальхи и Ибн аз-Зубейра произошло в ноябре 656 г. Оно вошло в историю под названием «верблюжьего» 76 — Айша в ходе боя с высоты верблюжьего горба непрестанно взывала к воинству противников Али, вдохновляя его на подвиги во имя Аллаха и Мухаммеда. Этим же именем оперировали и сторонники Али. Дело кончилось, однако, в пользу последних. Сама Айша даже попала в плен, но, несмотря на исступленную брань ее по адресу «отступников веры», была с почетом отпущена. Оба претендента погибли, и перед зятем пророка остался один противник — Муавия. Решающее столкновение между двумя правоверными ратями произошло летом 657 г. на южном берегу Евфрата, в местности, именуемой Сиффин.
Длившаяся уже два дня кровопролитная битва, казалось, подходила к концу, так как определился успех войск Али. В это время над неприятельскими рядами поднялся ряд копий с вздетыми на них листами Корана. Одновременно раздались голоса, предлагавшие прекратить бой, с тем чтобы решить спор о троне халифа мирным путем при помощи третейского суда, ибо только такой путь решения споров между правоверными соответствует духу Корана и ислама. Трудно сказать, насколько это предание соответствует исторической действительности, во всяком случае предложение о решении конфликта мирными средствами вряд ли могло быть сделано, а главное, услышано и принято в разгар боя. После прекращения сражения была попытка решения вопроса третейским судом, но она ничего не изменила: остались два претендента на халифский трон, из которых Али погиб от рук убийц в 661 г., предоставив трон своему сопернику Муавии из династии Омейядов.
Наиболее последовательные и благочестивые сторонники Али сочли его согласие на прекращение битвы и на третейский суд не только ошибочным, но и богоотступническим. Около 12 тыс. человек покинули боевые порядки и организованно навсегда ушли от Али не только в военно-политическом, но и в религиозном смысле. Они и стали именоваться хариджитами, т. е. вышедшими, отошедшими. В дальнейшем эта многочисленная группа оформилась в одну из сект ислама 77.
Хариджиты расселились по разным областям и провинциям халифата. Они разрослись численно и в дальнейшем разделились на более мелкие группы. Вначале, однако, всех их объединяли общие взгляды, касавшиеся насущных политических, социальных и религиозных проблем.
До своего отпадения будущие хариджиты поддерживали кандидатуру Али на пост халифа не по династическим или подобным соображениям, а из-за личных качеств Али, которые они вначале высоко оценивали. Разочаровавшись в нем, они сформулировали положение о том, что халифы должны быть избираемы народом, причем не следует учитывать соображения, связанные с их племенным или национальным происхождением, степенью знатности и богатства и т. д. Пусть это будет даже раб-негр, важны лишь его благочестие, праведный образ жизни, ум и храбрость. В случае если избранный в дальнейшем не оправдает надежд правоверных, его нужно, по учению хариджитов, сместить, а если он отступит от веры — убить. Из прежних халифов хариджиты признавали только Абу Бекра и Омара. Сами они избирали из своей среды «халифов», которых, кроме них, никто не признавал. Во всем этом проявлялся демократический характер первоначального хариджизма. По существу высшей инстанцией для приверженцев данной секты была община верующих, а халифы рассматривались лишь как ее слуги.
Содержание религиозного учения первоначального хариджизма трудно установить, так как оно не было зафиксировано в письменных документах. Ясно лишь, что требования, предъявлявшиеся хариджитами к личному и религиозному поведению мусульманина, были значительно строже, чем те, которые предъявлялись к мусульманам основной ветви. В отношении веры их требования были абсолютными, всякое сомнение или колебание рассматривалось как неверие и подлежало наказанию. Тем не менее одну лишь веру они признавали недостаточной и требовали ее подкрепления делами благочестия. В личной жизни должны соблюдаться требования аскетизма — осуждались не только алкогольные напитки, но и музыка, игры, курение табака и т. д.
Восстания, поднятые хариджитами в конце VII в., были жестоко подавлены халифами Омейядами. Последнее из них развивалось в Месопотамии и Аравии при халифе Мерване II (744–750). Этому известному полководцу пришлось затратить огромные военные усилия, чтобы подавить восстание.
В условиях постоянных преследований хариджиты распались на несколько групп, из которых выросли в дальнейшем отдельные и нередко враждовавшие между собой секты. Теперь трудно установить, какие реальные жизненные интересы лежали в основе разделения людей на группы, — эти интересы сами собой подразумевались и в ходе борьбы чаще всего оказывались замаскированными теми или иными вероисповедными разногласиями, иногда довольно тонкого богословского порядка. Вряд ли можно предположить, что рядовые участники сектантских группировок, в массе своей неграмотные, разбирались в этих тонкостях. Решение того или иного богословского вопроса являлось в таких случаях не столько программой действий для основной массы приверженцев той или иной секты, сколько своего рода знаменем данной группировки, к которой по причинам социального, личного и во всяком случае жизненного порядка данный мусульманин решал примкнуть. Этим не исключаются и соображения чисто вероисповедные, которые могли в ряде случаев воздействовать на сознание и решение верующего.
Наша задача здесь заключается в том, чтобы осветить те вероисповедные проблемы, которые служили своего рода водоразделами между разными группами и сектами. Е. А. Беляев выделяет в этом плане две богословско-теоретические проблемы: значение веры и дел в решении задачи спасения души верующего и соотношение предопределения и свободы воли в формировании поведения человека.
Хариджитские богословы настаивали на том, что одной лишь истинной веры недостаточно для спасения, нужны еще и добрые дела. Этой позиции противостояла точка зрения группы, именуемой муржиитами, утверждавшими, что достаточно лишь одной веры для обретения блаженного посмертного будущего. Вера же эта выражена в знаменитой лаконичной формуле «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его».
Еще большую интенсивность имели споры по вопросу о предопределении. В Коране можно найти двоякое и внутренне противоречивое решение этого вопроса, так что, ссылаясь на него, можно было выбирать из двух взаимно противоречащих вариантов. Господствовавшая точка зрения в раннем исламе заключалась в том, что Аллах полностью предопределил заранее поведение каждого человека еще до его рождения, притом не только дела его, но и мысли, убеждения, намерения. Этому взгляду решительно противоречила общественная и государственная, в частности юридическая, практика. Е. А. Беляев так характеризует это противоречие: «за вероотступничество… отрубали голову, за воровство отсекали руку, за прелюбодеяние побивали камнями тех людей, которым Аллах «предопределил» быть вероотступниками, ворами, прелюбодеями. Между тем люди, согласно учению о предопределении, не обладали свободной волей, ибо поступки, слова и мысли каждого отдельного человека зависели от Аллаха». В защиту учения о свободной воле человека в конце VII в. выступили кадариты (от арабского «кадар» — способность), их противниками, стоявшими на позициях абсолютного предопределения, были джабариты (от арабского «джабр» — необходимость). В дальнейшем концепцию свободы воли отстаивали мутазилиты.
Отметим, что богословские споры как по поводу соотношения веры и дел, так и по вопросу о предопределении и свободе воли вошли в историю и христианской церкви. И в исламе, и в христинстве эти проблемы не могли найти мало-мальски логичного решения, так что те церковные инстанции, от которых зависело решение вопроса, в конце концов оставались в половинчатом промежуточном положении.
В выборе тактической позиции в отношении инаковерующих среди хариджитов тоже образовалось несколько разнородных и враждовавших между собой групп. Ибадиты заняли сравнительно мирные и умеренные позиции. Они отказались от вооруженной борьбы и от участия в восстаниях, что позволило им не только выжить, но и в некоторые моменты даже занимать видное место в политической системе халифата. Так, при последних Омейядах ибадиты пользовались большим влиянием в Омане и в Восточной Африке 78. Противоположную в сравнении с ибадитами позицию занимали азракиты. Они считали своим религиозным долгом постоянную вооруженную борьбу не только с неверными, но и с теми мусульманами, которые не разделяют хариджитских взглядов.
Азракиты карали смертью всех отпавших от хариджизма, они даже считали богоугодным убийство любого нехариджита. Среднюю позицию между ибадитами и азракитами занимали суфриты. Они считали допустимым временное прекращение «священной войны», осуждали убийство детей неверных. Суфриты рекомендовали своим приверженцам применять в нужных случаях приемы конспирации (такыйя), скрывая от власти и от населения свою веру, что позволило этому сектантскому направлению выжить.
В ходе борьбы за халифат между Омейядами и семейством Али произошло разделение ислама на два основных его вероисповедания — суннизм и шиизм.
Еще при Али объединившиеся вокруг него приверженцы именовали себя «шиа» — группировка, фракция, партия. После того как Омейяды окончательно захватили трон, шииты не покорились, наоборот, противоречия между ними и господствующей группой с течением времени все углублялись. В их основе лежала борьба демократических элементов и феодально-аристократической верхушки халифата во главе с Омейядами. Политическим лозунгом этой борьбы было предоставление трона халифов вначале Али, а после смерти — его потомкам, что должно было означать признание наследственного династического принципа замещения трона. Разумеется, объединившиеся вокруг Али массы не были заинтересованы именно в установлении этого принципа. Нужны были идеологические основания для борьбы против ненавистных Омейядов. И такие основания обнаруживались в том, что династия Али является непосредственным ответвлением семьи пророка, а сыновья Али — внуки Мухаммеда, поскольку рождены они Фатимой, дочерью последнего. Кроме того, Омейядов обвиняли в отступничестве от Корана и в безбожии.
В сложившихся условиях шло возвеличение и чуть ли не обожествление покойного Али. В преданиях шиитов он выглядит не только равным Мухаммеду, но и большим по своему значению. Получило распространение такое «высказывание» Аллаха, обращенное к Мухаммеду: «…если бы не ты, я не создал бы небес, но если бы не Али, я не создал бы тебя» 79. К 114 сурам османовского Корана шииты прибавили еще одну — «Два светила», где одним из светил признавался Мухаммед, другим — Али. Обвинения в адрес кодификаторов Корана сводились к тому, что в его содержании преуменьшена роль Али в первоначальной истории ислама.
По мере того как фиксировались и накапливались предания Сунны, текст Корана и содержание вероучения все больше препарировались в пользу идей, благоприятных для владычества Омейядов. Понятно, что шииты не могли с этим мириться и декларировали свое враждебное отношение к Сунне. Параллельно с ней у них формировалось свое Священное предание — Ахбар. Не следует противопоставлять эти два свода Священного предания. «…Большинство текстов, — пишет А. Массэ, — являются общими и различаются лишь по именам тех, кто передавал их» 80. Тем не менее наименование основного направления в исламе — суннизм — исходит из того, что отличительным признаком его вероучения является именно признание Сунны.
Попытки Хасана и Хусейна (сыновья Али) выдвинуться на авансцену политики халифата кончились неудачей. Их положение и звание имамов не давало им ни власти, ни влияния.
В 680 г. Хусейн предпринял попытку выступить против халифа из династии Омейядов и во главе небольшого отряда направился из Мекки в Ирак, где собирался создать базу для дальнейшей борьбы за власть. По дороге, у города Кербелы, он был застигнут и окружен войсками халифского наместника. И Хусейн, и все его немногочисленное воинство были уничтожены 81. Шиитам это событие послужило материалом для обогащения их культа и вероучения мотивами траура и мести. Хусейн был объявлен мучеником: и в настоящее время бытует траурная церемония шахсей-вахсей. Эти слова обозначают: «Шах Хусейн, вах (увы! — И. К.) Хусейн». То обстоятельство, что первые имамы погибли насильственной смертью, дало шиитам основание полагать, что такая смерть является уделом всех имамов.
Значение имамов в вероучении шиизма выглядит намного большим, чем в системе суннизма. Имамы получают свою власть установлением Аллаха, ибо рождение каждого из них в династии потомков Али предустановлено. Они непогрешимы, и их мнение по любому политическому или вероисповедному вопросу является авторитетом в последней инстанции. В этом отношении шиизм резко отличается от суннизма, ибо в последнем окончательное решение достигается общим согласием («иджмой») богословов и других авторитетных в исламской иерархии лиц; здесь же окончательное решение остается за имамом.
Распространению шиизма в народных массах различных провинций халифата иногда способствовали случайные обстоятельства. Так, в Иране принцип наследственной передачи власти, соответствовавший историческим традициям этого древнего государства, был более привычен и понятен людям, чем сложные и даже запутанные порядки, бытовавшие у суннитов. Впрочем, этот принцип оказался удобным и для Омейядов, так что халифу Муавии уже наследовал его сын Иазид.
ПРАВОВЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМА. ШАРИАТ (82)
Ислам обязал верующего не только следовать собственно религиозным нормам поведения, т. е. исповедовать взгляды, диктуемые вероучением, и отправлять определенные обряды, но и в своем практическом поведении, во взаимоотношениях людей, следовать правовым нормам, устанавливаемым религией. Разработка этих норм явилась функцией большого количества мусульманских богословов-юристов. Совокупность этих норм и установлений именуется шариатом (от арабского «шариа» — надлежащий путь). Он охватывает, как уже было сказано, и собственно правовые нормы, регулирующие жизненные взаимоотношения людей (фикх), и нормы религиозного поведения, связанные с вероучением и культом.
В основе своей все эти нормы опираются на Коран, но, помимо того, они находят свои основания в Священном предании ислама; у суннитов это Сунна, у шиитов — Ахбар. Дают материал для шариата и сочинения крупных общепризнанных богословов (иджма), и фетвы — ответы авторитетных религиозных инстанций на отдельные вопросы, приобретшие общественное значение. Особую гибкость при решении возникающих казусов создает признаваемая возможность суждения по аналогии (кияс) с прецедентами и со сходными случаями.
Начиная с VIII в. в суннитском исламе складываются четыре юридические школы, известные по именам их основателей: Абу-Ханиф и его последователи образовали ханифитскую школу, Малик Ибн Анас стал родоначальником маликитской школы, Аш-Шафии — шафитской, Ахмад ибн Ханбал — ханбалистской. По содержанию взглядов, которых придерживались приверженцы этих школ, между ними большой разницы не было, так что в дальнейшем суннитский шариат фактически обрел единый характер. У шиитов же такого разделения на школы не было, так что и формально их шариат в общем был единым. Сложившись в первые века существования ислама, шариат в дальнейшем действовал на протяжении всей последующей истории исламских народов и до конца XIX в. был по существу единой правовой системой у них. Этим с особой силой подчеркивается то обстоятельство, что у указанных народов религиозно-исламский фактор тяготел над всей их жизнью, обусловливая своеобразный теократический характер господствовавшего у них политического строя.
Во всех случаях, когда ислам проникал в духовную и материальную жизнь того или иного народа, он, конечно, не становился на пустое место, а заставал какую-то уже сложившуюся систему общественных отношений и религиозных верований, вошедшую в быт совокупность обрядов и обычаев. Это относится и к шариату. У каждого из народов уже были свои исторически сложившиеся системы религиозных и жизненно-практических отношений. Сила шариата заключалась в том, что он не отвергал их, а ассимилировал и во многих случаях освящал. Эти местные системы обычного права получили арабское название адатов (обычаев). С закреплением ислама в соответствующем народе шариат иногда с некоторыми изменениями включал в себя местный адат.
Шариат подробнейшим образом регламентирует обрядово-культовую сторону поведения верующих. В дальнейшем изложении мы осветим этот вопрос, так что здесь остановимся лишь на некоторых основных положениях шариатского гражданского права.
Важнейшее место в шариате занимают запреты, распространяющиеся на многие отрасли человеческой деятельности и жизни.
Большим количеством запретов обставлена торговля. Не разрешается торговать «нечистым» товаром (свинина, алкогольные напитки и др.), запачканным, добытым путем грабежа или кражи; запрещается торговать изображениями живых существ, в частности статуй и памятников, почему-то запрещается торговать музыкальными инструментами и т. д.
Представляет собой интерес запрет не только на торговлю изображениями живых существ, но и на изготовление таких изображений. В шариате имеется еще одно обоснование данного запрета: на сотворение живых существ (даже в изображении) может претендовать только Аллах, а не человек-художник.
Ряд запретов и ограничений шариатом установлен для сферы семейно-брачных отношений: кто на ком может жениться и т. д. Нельзя давать детям и некоторые имена, в частности связанные с Библией, — апостолов Христа; ветхозаветные имена допускаются в их арабизированной форме — Муса вместо Моисея, Сулейман вместо Соломона и т. д.
Пищевые запреты занимают большое место в шариате. Следует различать прямые запреты и косвенные, означающие порицание или неодобрение. Как известно, безоговорочно запрещается употребление свинины, порицается — без категорического запрещения — употребление мяса лошади, мула, осла. Основание для некоторых запретов выглядит неясным: так, например, запрещено употреблять в пищу мясо сокола и удода, в то же время разрешается есть мясо журавля. Подробные указания даются в отношении того, какие части тела съедобных животных нельзя есть, какие можно. Очень строго запрещается употребление алкоголя, нельзя даже сидеть за столом, где другие люди пьют вино. Один алкогольный грех по своей зловредности приравнивается к греху 70 актов прелюбодеяния.
Шариат регламентирует не только номенклатуру видов разрешенной и запрещенной пищи, но и порядок ее употребления. Он учит мусульманина, как ему надо есть, — что раньше, что позже, как надо сидеть во время еды и т. д. Нельзя есть, прогуливаясь, резать хлеб ножом (его надо ломать), дуть на еду и питье, есть особенно горячую пищу, держать еду и питье левой рукой. Перед едой надо совершить омовение, произнести соответствующую молитву, после еды надо произнести другую молитву.
Проблема прелюбодеяния разработана в исламе чрезвычайно обстоятельно. Рассмотрены различные случаи свершения такого греха с партнерами разного рода, установлены разные наказания за те или иные случаи. Грех, совершенный с близкой родственницей, карается смертной казнью. В других случаях должно применяться телесное наказание — за первый грех такого рода полагается 100 ударов хлыстом, за второй и третий — то же, а уж после четвертого случая виновного ждет смертная казнь. Учитываются и разные конкретные обстоятельства совершения греха: если, например, виновным оказался человек, жена которого полностью пригодна к семейной жизни, то его следует побить камнями до смерти, в других случаях наказание полагается более легкое. Беспощадно карается, по шариату, и гомосексуализм.
Подробно устанавливает шариат и те меры наказания, которым должен подвергаться мусульманин за покушение на чужую собственность. Совершившему кражу в первый раз следует отрубить четыре пальца правой руки, за повторение такого преступления виновному полагается отрубить до половины левую ступню, за третий раз он подвергается пожизненному тюремному заключению. А если заключенный ухитрится и в тюрьме воровать, он подлежит смертной казни. С воровством сопоставляется близкое к нему, но не однозначное понятие «гасаб» — посягательство на чужую собственность в более широком смысле. Под понятие «гасаб» попадает даже такое деяние, как занятие в мечети места, предназначенного для другого человека. Карой за гасаб устанавливаются не столько прижизненные, сколько посмертные наказания — самые страшные адские муки.
Самым скрупулезным образом разработан в шариате порядок заключения и оформления торговых сделок купли-продажи, основания и порядок расторжения торговых сделок. Религиозное право выступает здесь как регулятор абсолютно светских отношений людей, ни в коей мере не связанных с религией, что вообще характерно для большого количества шариатских установлений.
Шариат вмешивается и в такие области деятельности, как, например, убой скота. Впрочем, он имеет в этом отношении такого предшественника, как иудаизм, где Ветхий завет и Талмуд тоже занимаются уроками «правильной» резки скота. По шариату, животное считается правильно зарезанным в том случае, если перерезаны четыре его шейные жилы. Дальше идут самые детальные указания, относящиеся к технике убоя. При этом, конечно, ряд таких инструкций имеет религиозное значение. Нанесению решающего удара забиваемому животному обязательно предшествует молитва «Бисмиллахи» — во имя бога. Тот, кто режет животное, должен стоять лицом к Мекке. Но и животное должно помнить о Мекке и об Аллахе. Перед тем как заняться его резкой, его морду и ноги следует повернуть в сторону Мекки. Особенно это важно в случае забоя верблюда: надо, чтобы он стоял при этом на ногах, а морда его была обращена в сторону Мекки. Пожалуй, не стоит перечислять все правила убоя скота по шариату, скажем только, что эти правила дифференцируются в отношении мелкого и крупного скота, домашних и диких животных, птиц и рыб.
Суннитский и шиитский шариат в принципе и по основному своему духу не отличаются один от другого, есть изменения в частностях и деталях. И тот и другой отразили своим содержанием реальную жизнь того времени, действительные взаимоотношения людей и социальных групп, причем, конечно, показали эту жизнь в фантастически преображенной форме, связанной с религиозной регуляцией жизни людей.
Примечания и ссылки на источники
1 См.: Бартольд В. В Ислам Пг, 1918 С. 1—3
2 См.: Дози Р. Очерк истории ислама, [ч 1.] СПб., 1904. С. 6–7; Briinnow R., Domaszewski A. Die Prowincia Arabia Bd 1–3. Strafiburg, 1904—1909
3 См.: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XV. [Ч. 1.] М, 1912 С. 33–37; Blacker R. Introduction in Coran. P, 1947. P. 4—6
4 Есть несколько изданий переводов Корана на русский язык, последнее — в переводе И. Ю. Крачковского, по которому мы и приводим тексты цитат (первая цифра — номер суры, вторая — номер аята) (М, 1963)
5 См: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков Вып. ХV. [Ч. 1.] С. 163–167; Noldeke Т. Geschichte des Korans. Tl. 1,2. Leipzig, 1909–1919; Tl. 3. von G. Berg-strasser. Leipzig, 1926, Goldziher J. Richtungen der islamischen Koranauslegung. Leiden, 1920. S. 1—54, 270–287.
6 Обстоятельную характеристику Корана как по содержанию, так и по форме см: Климович Л. Содержание Корана. М., 1929; Авксентьев А. В., Мавлютов Р. Р. Книга о Коране. Ставрополь, 1984. См. также: Остроумов Н. П Исламоведение. 3. Коран. Ташкент, 1912.
7 См.: [Вейль Г.] Историко-критическое введение в Коран. Казань, 1875. С. 39 и сл.; Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XV. [Ч. 1.] С. 168–173; Хронологический порядок сур // Коран. С. 500.
8 См.: Массэ А. Ислам. Очерк истории М., 1961. С. 78–80.
9 См.: Бартольд В. В. Указ. соч С 2.
10 См.: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. Т. 1. СПб., 1895. С. 329–330.
11 Крачковский И. Ю. Приложения // Коран. С. 654.
12 Текст сирата на французском языке см.: Blacker R. Le probleme de Mahomet. P., 1952. P. 6—13. Текст сирата на русском языке см.: Ибн-Исхак. Житие посланника божьего // Происхождение ислама: Хрестоматия. Ч. 1. М.; Л., 1931. С. 91 — 118.
13 Пример иснада: «Абу-Джафар говорит: мне рассказывал Салима, а тому Мохаммад ибн-Исхак, а тому Зохрий, а тому Саид ибн-аль-Мосайяб, а тому Абу-Хорейра, — и вот что он говорит…» (цит. по: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XIII. М., 1902. С. 103. Прим. 2).
14 См.: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков Вып. XII. Ч. 1. М., 1903. С. 114–157; El-Bokhari. Les traditions islamiques. Traduites de l’arabe avec notes et index par O. Houdas. T, 1–4. P., 1903–1914.
15 Бартольд В. В. Указ соч. С. 3.
16 См.: Ирвинг В. Жизнь Магомета. М., 1902; Череванский В. Мир ислама и его пробуждение. Историческая монография. Ч. I, И. СПб, 1901; Шерр И. Магомет и его вероучение. СПб., Б. Г К такого же рода беллетризированным и идеализированным в отношении личности Мухаммеда конструкциям относится и публикация Н. Новожилова «Память пророка» (Наука и религия. 1985. № 6–8).
17 См.: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков Вып. XIII; Muir W. The Life of Mahomet. V. 1–4. L., 1858–1861; Sprenger A. Das Leben und die Lehre des Mohammad. Bd 1–3. Berlin, 1861–1865; Grimme H. Mohammad. Miinchen, 1904; Montgomery W. Muhammed Prophet and Statesman. Oxford, 1964
18 Sprenger A. Das Leben und die Lehre des Mohammad. Bd i. Berlin, 1961 S. 207.
19 См.: Бартольд В. В. Указ. соч. С. 17.
20 См: Пиотровский М. Б. Мухаммед, пророки, лжепророки, Ка-хины // Ислам в истории народов Востока. М, 1981. С. 9—18.
21 Там же. С. 15.
22 Там же. С. 10–11.
23 Ряд дискуссионных статей по этим вопросам см.: Атеист. 1930. № 58. С. 1—60 Обзор принадлежащих советским авторам теорий происхождения ислама см: Смирнов Н. А Очерки истории изучения ислама в СССР. М, 1954. С 181–202; см. также: Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XV веках: Курс лекций. Л, 1966. С. 5–7; Мавлютов Р. Р. К вопросу о происхождении ислама//Атеизм и религия: проблемы истории и современность: Материалы научной конференции «Актуальные проблемы истории религии и атеизма в свете марксистско-ленинской науки». Л, 1974. Вып. 1. С. 202–209. Грязневин П. А. Проблемы изучения истории возникновения ислама // Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984. С. 5—18.
24 Керимов Г. М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978 С. 7.
25 См.: Цветков П. Исламизм. Т. 1. Асхабад, 1912. С. 68.
26 См.: Дози Р. Указ. соч. [Ч. 1.] С. 60–61.
27 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 10. С. 167.
28 Дози Р. Указ. соч. [Ч 2] СПб., 1904. С. 20–21.
29 Происхождение ислама: Хрестоматия. С. 101, 102.
30 См: Массэ А. Указ. соч. С. 19–20.
31 Wellhausen J. Reste arabischen Heidentums. Berlin, 1897.
32 Ibid. S. 73–79.
33 Ibid. S. 76.
34 См: Массэ А. Указ. соч. С. 19–20.
35 См.: Коран. С. 617. (Прим. 8).
36 См: [Вейль Г] Указ. соч. С. 14–15; Дози Р. Указ. соч. [Ч. 1] С. 81–82.
37 См.: Миссионерский противомусульманский сборник: Труды студентов миссионерского противомусульманского отделения при Казанской духовной академии. Вып. VIII. Казань, 1875; Geiger A. Was hat Mohammed aus dem Iudentum aufgenommen? Leipzig, 1902.
38 См.: Миссионерский противомусульманский сборник: Труды студентов миссионерского противомусульманского отделения при Казанской духовной академии. Вып. VII. Казань, 1875. Последняя книга представляет собой типичный продукт миссионерской литературы, основной тенденцией которой было «разоблачение» ислама с позиций православия. Используя фактический материал, содержащийся в такого рода изданиях, следует учитывать их тенденциозность. См. также: Sweetman J. W. Islam and Christian Theology. Vol. 1. L.; Redhile, 1965.
39 См.: Беляев E. А. Мусульманское сектантство: Исторические очерки. М., 1957. С. 12.
40 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. I. С. 57.
41 См.: Кашталева К. С. О термине ханиф в Коране //Доклады Академии наук Союза Советских Социалистических Республик. [Серия] В. 1928. № 8. С. 157–162.
42 См. там же. С. 161.
43 См.: Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965. С. 103.
44 Там же. С. 105.
45 См.: Цветков П. Указ. соч. Т. 2. Асхабад, 1912. С. 310–311.
46 См.: Массэ А. Указ. соч. С. 153; Гольдцигер И. Лекции об исламе. С. 86.
47 Проблему предопределения в исламе подробно см.: Гольдцигер И. Указ. соч. С. 89–91.
48 Кольб Г. Ф. История человеческой культуры. Киев; Харьков, 1896. Т. II. С. 101.
49 Приводимые далее сведения о мусульманских эсхатологических представлениях заимствованы из: Horten М. Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam. Halle/ Salle, S. 301.
50 См.: Дози P. Указ. соч. [Ч. 2.] С. 5–6.
51 См. там же. С. 6–7 (прим. 1).
52 См. там же. С. 7.
53 См.: Цветков П. Указ. соч. Т. 2. С. 26–29. См. также: Мюллер А. Указ. соч. Т. 1. С. 211–225.
54 См.: Дози Р. Указ. соч. [Ч. 2.] С. 7.
55 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. I. С. 216–217.
56 См.: Керимов Г. М. Указ. соч. С. 34.
57 См.: Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XII. [Ч. II.] С. 19.
58 Коран Магомета / Новый перевод, сделанный с арабского текста М. Казимирским, переводчиком при французском посольстве в Персии. Новое издание, пересмотренное, исправленное и дополненное новыми примечаниями. Перевод с французского А. Николаева. М., 1901. С. 448–449.
59 Там же. С. 325.
60 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. I. С. 126.
61 См.: Дози Р. Указ. соч. [Ч. 1.] С. 69–71; Цветков П. Указ. соч. Т. 1. С. 144.
62 Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XII. [Ч. II.] С. 18.
63 См.: Дози Р. Указ. соч. [Ч. 2.] С. 21.
64 Grimme Н. Mohammad. S. 80–81.
65 См.: Бартольд В. В. Мусейлима // Известия Российской Академии Наук. Сер. VI. Т. XIX. 1925. № 12–15. С. 483–512.
66 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. 1. С. 197.
67 См.: Bel Ochi. La conversion des berberes a l’lslam. Tunis, 1981.
68 Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XV. [Ч. 2.] М., 1912. С. 127.
69 Там же (прим. 2).
70 См. там же. С. 128.
71 См. там же. С. 126.
72 См. там же. С. 127–128.
73 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. I. С. 303–304, 301–303.
74 Об обращении Мусы с Тариком см.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. СПб., 1895. С. 107 и др.
75 См.: Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С. 186.
76 Описание «верблюжьего» сражения см.: Мюллер А. Указ. соч. Т. I. С. 350–351.
77 См.: Гольдцигер И. Указ. соч. С. 180–184; Массэ А. Ислам. С. 43–44.
78 См.: Ал-Хасан ибн Муса ан-Наубахти. Шиитские секты. Перевод с арабского, исследование и комментарий С. М. Прозорова. М., 1973. С. 16–47, 199 (прим. 9).
79 Цит. по: Климович Л. И. Ислам: Очерки. М., 1962. С. 113.
80 Массэ А. Указ. соч. С. 139.
81 См.: Массэ А. Указ. соч. С. 45–46; Ал-Хасан ибн Муса ан-Наубахти. Шиитские секты. С. 130–131.
82 В дальнейшем изложении мы опираемся на материал, приводимый в содержательной работе Г. М. Керимова «Шариат и его социальная сущность». М., 1978.
Глава вторая. ИСЛАМ В СРЕДНИЕ ВЕКА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА VIII–XV в.)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ
Во второй половине VIII–XV в., с одной стороны, произошло образование халифата Аббасидов, с другой — становление и укрепление империи Османов, являвшейся в течение ряда столетий наиболее сильной исламской державой.
В начале VIII в. ислам в качестве государственной религии занимал наибольшую территорию в сравнении с любым другим периодом своей истории. Кроме того, эта территория была больше той, что занимали все государства древности и раннего средневековья. От Инда до Атлантического океана, от Каспийского моря до Нила простиралась империя, формально объединенная властью халифов, базировавшаяся не только на военной силе, но и на идеологическом авторитете халифа — главы единоспасающей исламской религии. Это было, однако, эфемерное единство, разъедавшееся внутренними противоречиями и подверженное постоянным распадам и новым соединениям.
Внутренняя слабость системы коренилась уже в огромной протяженности территории. При имевшихся тогда путях сообщения и средствах связи управление ею из одного центра могло осуществляться только через ряд промежуточных звеньев, обнаруживавших постоянную тенденцию к отделению. Эта тенденция вытекала из этнической пестроты населения, из противоречий между различными его классовыми группировками, и в особенности между эксплуататорскими слоями халифатских метрополий и периферии. Даже среди арабов, составлявших первоначально костяк формировавшейся исламской империи, не прекращалась рознь между группами племен кайситов и кельбитов, а по мере завоевания новых территорий с разнообразным в этническом отношении населением давали себя знать противоречия интересов берберов, различных иранских племен и групп, тюркских племен и народов, негров, вывезенных из Восточной Африки, многоязычного и пестрого в антропологическом и этническом отношениях населения Византийской империи. Исламизация этого конгломерата не снимала внутренних противоречий и в некоторых отношениях даже усиливала их, поскольку переходившие в ислам группировки обретали новые позиции в борьбе за экономические и политические привилегии и реальную возможность отстаивать их. Так, представители господствующих классов завоевываемых стран, переходя в ислам, получали доступ к командным постам в войсках и в чиновную иерархию, где вступали в конкуренцию с коренными кадрами арабской мусульманской верхушки.
Этническая и социальная борьба в мусульманском мире в период средневековья находила свое идеологическое выражение в появлении все новых вероисповедных сект и группировок, в различных толкованиях тех или иных мусульманских догматов, в богословских распрях. Кровопролития, потрясающие жестокости и насилие, практиковавшиеся в ходе этой борьбы, объяснялись и оправдывались их участниками тем, что они воюют за истинную веру против еретиков и многобожников. А сопротивление покоряемых народов находило свое выражение и обоснование в их прежних культах и верованиях — в христианстве, зороастризме, иудаизме, манихействе.
В покоренных странах сильно сказывалось недовольстве крестьянских масс устанавливавшейся системой тяжелой феодальной эксплуатации. На предыдущем этапе оно выливалось в идеологические формы шиитства и хариджитства, в середине VIII в. эти формы оказались конкретизированными в притязаниях новой династии, претендовавшей на трон халифов. В 739–740 гг. вспыхнуло восстание берберов Северной Африки, направленное против Дамасского халифата Омейядов и питавшееся в значительной мере лозунгами хариджитства. В разгар борьбы халифа Мервана II с восставшими берберами еще большая опасность для Омейядов возникла на востоке империи, где в Мервском оазисе в 747 г. выступили огромные массы под руководством перса Абу Муслима, бывшего раба, объединившего крестьян, ремесленников и купцов под лозунгом борьбы с Омейядами, за возведение на престол халифата представителей династии Аббасидов.
Обоснование такого требования заключалось в том, что Омейяды не происходили из рода пророка Мухаммеда, а были потомками Абу Суфьяна, долго сопротивлявшегося проповеди ислама, между тем как двое живых в это время представителей Аббасидов — Абуль-Аббас и Абу Джафар — происходили от Аббаса — родного дяди пророка. Все недовольные существующим положением и правлением Омейядов объединились под черным знаменем Аббасидов и Абу Муслима. Военное счастье оказалось на стороне повстанцев. Нанеся поражение войскам халифа, они заняли Куфу, где Абуль-Аббас был провозглашен халифом. Мерван II проиграл и дальнейшие военные столкновения и погиб, а на халифском троне утвердились Аббасиды. Их благочестие требовало истребления всех представителей свергнутой династии. Под предлогом примирения их пригласили на пир и всех уничтожили. Для придания этому злодеянию видимости религиозно-юридического акта было признано необходимым «покарать» и ранее умерших халифов из нечестивого и богоотступнического рода: из могил были вырыты их останки, сожжены и развеяны по ветру 1.
Непосредственным исполнителем практики террора, развернувшегося во всем халифате, был брат нового халифа Абу Джафар. Это был ярко выраженный представитель типа «гениальных негодяев», как называет его А. Мюллер, характеризуя присущее ему отвратительное лицемерие, сопровождавшее «нескончаемый ряд убийств и клятвонарушений, укрываемых под наружным видом глубочайшей набожности…» 2. Впрочем, и сам халиф не уступал здесь своему брату. В историю он вошел под именем Аль-Саффах, это значит «кровопроливец». При провозглашении его халифом в большой мечети Куфы он произнес речь, сказав: «…я тот, который станет проливать кровь беспощадно, пагубу несущий мститель» 3.
Не избежал печальной участи и вождь восстания Абу Муслим, сыгравший важную роль в победе Аббасидов. Он был им опасен: народные массы, победой которых воспользовались Аббасиды, скоро разочаровались в ее плодах, ибо увидели, что новая династия относится к народу так же, как и прежняя. Вероятным кандидатом на пост вождя все разгоравшегося в народных массах брожения мог быть Абу Муслим. Пришлось убрать и его.
Все же из рук нового халифа ускользнул один из наиболее опасных и активных представителей свергнутой династии, Абд ар-Рахман. После нескольких лет скитаний он сумел воспользоваться распрями, происходившими в мусульманской Испании между берберами и арабами, и, выступив в роли арбитра, занял там главенствующее положение. Кордовский эмират, во главе которого он оказался, провозгласил свою самостоятельность от воцарившихся в халифате Аббасидов. Таким образом, фактически появилось самостоятельное исламское государство, хотя наименование халифата оно присвоило себе лишь в 929 г., когда Абд ар-Рахман III объявил Кордовский эмират халифатом 4. Омейяды занимали трон кордовских халифов до 1031 г., когда их последний представитель, Хишам III, уступил свое место Альморавидам.
Аббасиды, захватившие престол халифов, не могли, однако, чувствовать себя спокойно. Их государство раздиралось внутренними социальными и национальными противоречиями, ему все время грозили нападения со стороны Византии и турок, иранцев и монголов. В столице — Дамаске они не считали свое положение безопасным и перенесли ее в специально построенный вблизи старой резиденции иранских шахов Ктесифона город Багдад. Но усилий багдадских повелителей оказалось недостаточно, чтобы на длительное время сохранить единство государства. История Багдадского халифата была историей его распада, эпизодически прерывавшейся периодами относительной стабилизации 5.
Чтобы держать в повиновении народные массы, халифы должны были вербовать войска из турок и других инородцев. В итоге наемники приобретали такое влияние и силу, что халифы оказывались в подчинении у них. Повторялась история римских императоров, многие из которых возводились на трон и свергались с него преторианцами. С начала X в. при халифе Муктадире главнокомандующий армией получил должность и положение эмира над эмирами (эмир аль-умара), став фактически руководителем всех государственных дел, причем за халифом остались функции духовного главы ислама 6.
Ухудшавшееся финансовое положение побудило халифов осуществить своеобразную систему откупов. Эмиры отдельных областей и провинций обязывались вносить в казну халифата установленные суммы, оставляя за собой право самостоятельно осуществлять управление своими наместничествами. Постепенно самостоятельность их настолько возрастала, что один за другим они отпадали от халифата, становясь султанами, монархами суверенных государств. К началу X в. от Багдадского халифата отпали уже не только Северная Африка и Испания, но и восточные территории от Ирана до Индии.
В Марокко с конца VIII в. утвердилась династия Идрисидов, ведших свое происхождение от Али и противопоставлявших себя поэтому суннитскому исламу. В Тунисе с начала IX в. главенствовали Аглабиды, одно время владевшие и Египтом. Потом в Египте и Сирии обосновались Тулуниды, сменившиеся Ихшидидами. Во второй половине X в. в Северной Африке утвердилась династия Фатимидов, распространившая вскоре свое господство на Египет и Сирию и существовавшая до 1171 г.; они вели свое происхождение от дочери Мухаммеда — Фатимы.
Тем временем на Востоке образовались исламские государства — Хорезм и несколько наместничеств на территории Ирана, лишь номинально подчиненных халифату. В Восточном Иране основатель династии Саффаридов Якуб пытался даже захватить в 876 г. Багдад, но не добился успеха. Саффаридов сменили Саманиды, владевшие страной до 999 г., после чего были свергнуты афганской династией Газневидов.
Багдадский халифат прекратил свое существование в середине X в. В 945 г. глава воинственных племен горцев с южного побережья Каспийского моря из династии Бувейхидов, или Буидов, захватил Багдад и установил там свое господство, оставив за Аббасидами только функции духовных руководителей. Вскоре и Бувейхиды распались на ряд борющихся между собой группировок7. Наступившему хаосу был временно положен конец нашествием Сельджукидов 8.
Во второй четверти XI в. из степей Средней Азии двинулись на запад воинственные кочевые туркмены под командованием потомков бека Сельджука. Приняв за несколько десятилетий до этого ислам в правоверносуннитской форме, они вдохновлялись идеями борьбы не только против христиан и иных «язычников», но и против еретиков-шиитов, которые имели влияние при дворе Бувейхидов в Багдаде; эта идеологическая оболочка хорошо прикрывала и в то же время выражала исконное стремление кочевников-скотоводов к завоеваниям и грабежам. В 1055 г. Сельджукиды, как их стали называть по имени родоначальника династии, захватили Багдад, их предводитель Тогрул-бек объявил себя султаном, его брат Чагры-бек получил такое же звание. Дальнейшие завоевания Сельджукидов привели к тому, что вскоре вся Передняя Азия оказалась опять объединенной в единую исламскую державу.
На Западе тоже происходили события, менявшие как географию распространения ислама, так и политические условия его существования. В начале IX в. арабы вторглись в Сицилию и постепенно овладели ею. Отсюда они совершали набеги на материковую Италию, пока в конце XI в. не были изгнаны из Сицилии норманнами. Воцарившиеся в середине XI в. в Северо-Западной Африке Альморавиды через несколько десятилетий двинулись в пределы Кордовского халифата, где им пришлось вести упорную военную борьбу против наступавших христиан-испанцев. Они сумели на время дать отпор реконкисте, но меньше чем через столетие были вынуждены уступить свое место пришедшей из Африки же династии Альмохадов 9. Остановить процесс реконкисты халифату все же не удалось. После поражения, нанесенного его войскам в 1212 г. при Лас-Навас-де-Толоза, исламское государство сохранялось еще только в районе Гренады, правда, до окончательного его падения в 1492 г.
На Востоке обстановка изменилась в XIII в., когда на историческую арену выступили монголы 10. В 1209 г. армии Чингисхана устремились из степей Монголии на запад и в течение нескольких лет овладели Ираном и Средней Азией, Афганистаном, Закавказьем и рядом южнорусских областей. После его смерти в 1227 г. завоевания продолжались его преемниками — Угедеем и др. Скоро под властью монголов оказалась почти вся Русь, они проникли дальше в Польшу и Венгрию, в их руках был на Крайнем Востоке Китай. Одна ветвь завоевателей устремилась в направлении цитадели — в Месопотамию, Сирию и Египет.
В 1258 г. один из военачальников, Хулагу, овладев Багдадом, положил конец династии Аббасидов. Дальнейшее его продвижение на юго-запад было остановлено египетскими мамлюками, сохранившими самостоятельность своего государства и его исламский характер. Один из немногих Аббасидов, уцелевший от истребления монголами, был привезен в Каир и торжественно возведен в звание халифа. Новый Аббасидский халифат просуществовал до начала XVI в., когда завоевание Египта Османами привело к его гибели. Но по существу при мамлюкских султанах аббасидские халифы были лишь придворными священнослужителями, не обладая никакой властью: они были нужны султанам лишь в качестве своего рода религиозного символа, придававшего их власти духовно-идеологический авторитет.
Монголы, господство которых определяло политическую обстановку в Азии на протяжении двух с лишним столетий, в религиозном отношении сначала представляли собой довольно пеструю картину: среди них были буддисты (например, Хулагу и его окружение), христиане несторианского толка, последователи примитивных полидемонистских шаманистских культов. В ходе их завоеваний основная масса монгольских племен, продвинувшихся на Запад, постепенно переходила в ислам. В конце XIII в. он был признан государственной религией монгольского государства иль-ханов.
Таким образом в VIII–XIV вв. на территории Центральной и Передней Азии образовывались и распадались ряд государств, в которых, как правило, религиозно-исламский элемент играл весьма существенную роль. Побудительные мотивы участников и руководителей соответствующих движений оформлялись идеологически как стремление к восстановлению мусульманского благочестия или к утверждению новых вероисповедных истин, призванных реформировать общепринятую веру или защищать ее. Политические и социальные противоречия выглядели как борьба между собой различных мусульманских толков и сект.
РЕЛИГИОЗНАЯ БОРЬБА В ХАЛИФАТЕ АББАСИДОВ
Ф. Энгельс дал следующую характеристику социальных основ происходившей в исламе на протяжении столетий внутренней борьбы: «Ислам — это религия, приспособленная для жителей Востока, в особенности для арабов, следовательно, с одной стороны, для горожан, занимающихся торговлей и ремеслами, а с другой — для кочевников-бедуинов. Но в этом лежит зародыш периодически повторяющихся столкновений. Горожане богатеют, предаются роскоши, проявляют небрежность в соблюдении «закона». Бедуины, которые живут в бедности и вследствие бедности придерживаются строгих нравов, смотрят на эти богатства и наслаждения с завистью и жадностью. И вот они объединяются под предводительством какого-нибудь пророка, махди, чтобы покарать изменников веры, восстановить уважение к обрядам и к истинной вере и в качестве вознаграждения присвоить себе богатства вероотступников. Лет через сто они, естественно, оказываются точно в таком же положении, в каком были эти вероотступники; необходимо новое очищение веры, появляется новый махди, игра начинается сначала… Все эти проходившие под религиозной оболочкой движения вызывались экономическими причинами; но, даже в случае победы, они оставляют неприкосновенными прежние экономические условия. Таким образом, все остается по-старому, и столкновения становятся периодическими»11. К данной характеристике социальных основ внутриисламской борьбы для рассматриваемого периода можно добавить и противоречия между горожанами — богатыми торговцами и бюрократами, с одной стороны, и городским плебсом — с другой. Необходимо также учитывать влияние происходивших в то время процессов разложения рабовладельческих отношений и формирования феодализма. Протест закрепощаемых крестьян обычно выражался в форме религиозно-сектантского движения, противопоставлявшего себя господствовавшему в исламе направлению.
Религиозно-политическая обстановка в Багдадском халифате на всем протяжении его существования была сложной. Аббасиды использовали для свержения Омейядов широкие крестьянские массы иранских и прочих неарабских феодалов, стремившихся к равному с арабской аристократией господствующему положению, рабов, городских ремесленников. В этническом отношении оппозиционные движения оформлялись в виде борьбы иранцев и других неарабских народов против арабского засилья. Свое религиозное выражение борьба находила в противопоставлении суннитскому исламу не только различных форм и сект шиизма, но и живучих аборигенных для Востока зороастризма, маздакизма и т. д. Со всей остротой борьба разгорелась в первые же годы существования халифата Аббасидов.
После убийства новым халифом вождя всенародного восстания Абу Муслима движение вспыхнуло вновь, на этот раз уже против нового режима. Во главе его стоял некто Сумбат, по прозвищу Маг, имя которого свидетельствует о зороастрийской религиозной форме самого движения. Это восстание было быстро подавлено12.
Через несколько лет возникло новое антиисламское движение, опиравшееся на учение о божественности личности халифа. Массы народа, находившиеся под влиянием веры в то, что халиф является живым воплощением божества, стали стекаться ко дворцу халифа в ал-Хашимие и требовать от «наместника бога» конкретных социальных преобразований; по своей этнической принадлежности все они были иранцы. Как ни лестно было для халифа признание его живым богом, он не мог пойти на прямой разрыв с основными мусульманско-арабскими массами своих подданных.
В 776 г. в качестве главы массового народного восстания выступил человек, объявивший себя воплощением бога. Иранец по происхождению, он служил в свое время секретарем у Абу Муслима, потом был его противником, но сумел уйти от расправы с последними его приверженцами. Через 20 лет после этого оказалось удобным объявить Абу Муслима воплощением бога, а ввиду того что тот оставил этот мир, — самого себя, воспринявшим его божественные достоинства. Новый бог не считал почему-то возможным показать людям свое лицо и прятал его под покрывало, за что и получил прозвище аль-Муканна, т. е. «укрытый». Объединив вокруг себя большие массы народа, Муканна создал повстанческую армию, во главе которой несколько лет успешно воевал против войск халифа. Потерпев в конце концов поражение и оказавшись в безвыходном положении, живой бог покончил самоубийством 13. Независимо от личных побуждений Муканны и религиозно-идеологической оболочки движения оно представляло собой выражение свободолюбивых, демократических устремлений широких масс и национально-освободительных чаяний иранского населения халифата.
Такого рода движения происходили в багдадском халифате на всем протяжении его существования (под религиозными знаменами маздакизма и манихейства, зороастризма и даже буддизма), причем нередко эти доисламские религиозные идеологии принимали здесь внешнюю форму, связанную с исламом.
Большое распространение получило движение, известное под названием хурремитского. Его кульминационным пунктом было восстание под руководством Бабека, происходившее в 815–837 гг. Этимология термина «хурремиты» до сих пор неясна; из всех существующих объяснений нам представляется наиболее приемлемым фигурирующее у А. Мюллера — от названия селения Хуррам к югу от Каспийского моря 15. Под знаменем Бабека объединилось только в Азербайджане около 300 тыс. человек, храбро воевавших против войск халифа. В основном это были крестьяне, но в условиях тех успехов, которых первоначально удалось добиться повстанцам, к ним примкнули и представители феодалов неарабского происхождения. Движение получило и национальное и религиозно-идеологическое оформление.
Вероисповедная оболочка движения была довольно туманной. Она представляла собой некую бесформенную смесь маздакизма, зороастризма и ислама. Отчетливо проступает в ней зороастрийский дуализм доброго и злого бога. И тот и другой, как считали идеологи хурремитства, периодически воплощается в того или иного человека. Воплощениями доброго бога являлись, с этой точки зрения, Адам, Моисей, Христос и Мухаммед. Такая концепция, с другой стороны, открывала возможность объявить любого противника воплощением злого бога и этим дать материал к религиозному освящению борьбы против него. Социальная основа хурремитства находит яркое выражение в том, что строй имущественного неравенства и угнетения, в частности сосредоточение земельных угодий в руках богачей, хурремиты считали результатом козней злого бога. В соответствии с этим они требовали установления всеобщего равенства во владении землей путем ее передачи в собственность свободным сельским общинам. Заодно настаивали на отмене всех поборов и повинностей в пользу феодалов и государства. Таким образом, в религиозной форме ярко выражалось антифеодальное движение с элементами удивительно раннего утопического социализма. Надо отметить в то же время и национально-освободительную подоплеку движения: население тех стран, в которых развернулось хурремитское движение, рассматривало ислам как оправдание и выражение господства над ними арабов. Все это предопределяло позицию яростной ненависти хурремитов к ортодоксальному исламу с его догматикой и обрядами.
Один из немногих известных истории вождей хурремитского движения — Бабек, видимо, не придавал большого значения религиозным вопросам и использовал то или иное их толкование так, как ему представлялось целесообразным. В переписке с византийским императором он выдавал себя за христианина и сулил ему в случае успеха своего движения обратить в христианство все население халифата. Для масс, однако, до поры до времени требовалась религиозная идеология, не так далеко отступавшая от их привычных верований.
Одержав вначале ряд блестящих военных побед, хурремиты в конце концов потерпели сокрушительное поражение, а их вожди, включая Бабека, были истреблены.
Не меньшее значение имело развернувшееся в 60— 80-х годах IX в. восстание зинджей 16. Этим именем назывались негры-рабы, систематически доставлявшиеся в пределы халифата с невольничьих рынков Восточной Африки и Занзибара. Зинджи, накопившиеся большими массами в различных пунктах государства, подвергавшиеся тяжелейшей даже для того варварского времени эксплуатации, представляли собой легко воспламеняющийся материал, нередко вспыхивавший в вооруженных выступлениях как местного, так и более широких масштабов. В 868—69 гг. успешную пропаганду среди зинджей развернул Али ибн Мухаммед, объявивший себя пророком и потомком халифа Али и призвавший к восстанию всех недовольных династией Аббасидов. Таким образом, религиозным облачением его программы явилось шиитство, но последнее отнюдь не выражалось здесь в его ортодоксальной форме: в идеологии и проповеди Али ибн Мухаммеда преобладали радикальные в социальном и религиозном отношениях тенденции хариджитов и азракитов.
В восстании зинджей особенно сказался своего рода параллелизм социально-политической и религиозно-идеологической сторон массовых повстанческих движений. Сами зинджи имели отдаленное представление о религиозно-догматических тонкостях, составлявших предмет расхождений между суннитами и шиитами, между хариджитством и основным руслом шиизма. Перед ними открылась ясная социальная программа — освобождение от рабства, захват имущества рабовладельцев, истребление их или обращение в рабство. Именно здесь осуществлялся евангельский лозунг— «последние да будут первыми»: рабы становились рабовладельцами, и наоборот. Ни идеология, ни практика повстанцев не могли дойти до стремления к ликвидации рабства в целом. Сам Али ибн Мухаммед объявил себя халифом. В мечетях возносились молитвы за него, на монетах обозначалось его имя. Трудовые же массы халифата ничего не получали от военных побед зинджей. В конце концов движение оказалось изолированным и потерпело поражение.
Положение багдадских халифов в этой обстановке побуждало их к постоянному маневрированию в религиозных вопросах и к жестокому террору в социально-политической области. Но террор следовало объяснять мотивами религиозного благочестия. Существовала формула, которой можно было оправдать любую расправу: подлежащий наказанию объявлялся зендиком — еретиком, безбожником. Кого именно следовало так наименовать, зависело от условий момента. Во всяком случае после предъявления такого обвинения сразу становилось ясно, что нужно делать с тем человеком, по адресу которого оно направлено. В подавляющем большинстве обвиненными оказывались люди, выдвигавшие неприемлемую для господствующих классов социальную программу. Буржуазный историк Г. Шурц делает по этому поводу следующее замечание: «В этом деле халиф мог быть вполне уверен в одобрении имущих классов, которые и в этом случае, как и всегда, были более чувствительны к угрозе их кошельку, чем ко всем другим нападениям еретиков на священнейшие положения Корана» 17. Любопытно, что в качестве синонима для наименования зендиков Шурц применяет слово «коммунист», а запретительное распоряжение по их адресу именует «законом против социалистов» 18. Само собой разумеется, что ни социалистами, ни коммунистами зендиков того времени называть нельзя. Чересчур категорически причисляет их Шурц и к «эпигонам старого маздакитского учения» 19, ибо рассматриваемые движения были слишком многообразны по своей религиозной характеристике, чтобы подходить под это наименование.
Зендиков уничтожали без каких бы то ни было юридических церемоний, и не только при подавлении массовых восстаний, но и по любому случаю, когда халифам или их подчиненным военачальникам и чиновникам это представлялось нужным. Но помимо того, во многих случаях требовалась и расправа с наиболее выдающимися из них в целях назидания. Для этого нужно было соответствующее учреждение. Его не замедлили учредить. В 783 г. халиф Махди объявил, что каждый еретик-зендик является государственным преступником, и установил своего рода инквизицию, глава которой должен носить титулы «великого судьи веры» и «палача зендиков» 20. Верховному судье следовало дать к тому же и более или менее определенные ориентиры для установления признаков правоверия и ереси. Это было для халифов Аббасидов нелегким делом.
Халифы понимали, что должны занимать какую-то позицию в вероисповедных вопросах. Больше того, с момента воцарения они считали необходимым демонстрировать свою набожность, противопоставляя ее той небрежности к делам веры, в которой обвиняли Омейядов: в отличие от них они исправно совершали паломничество в Мекку и разыгрывали там настоящие спектакли совершенного благочестия. Рассказывая об этом, А. Мюллер сопоставляет внешнюю набожность Аббасидов с их изуверски-жестокой практикой и коварством в политической деятельности. Но такого рода сопоставления могут делаться по каждой религии и по каждому периоду ее истории, поэтому отмеченное Мюллером явление представляет собой для подавляющего большинства религий не исключение, а правило.
В условиях «войны всех против всех» многочисленных религиозных направлений и влияний — маздакизма и христианства, манихейства и зороастризма, суннизма и шиизма в их канонической форме, различных их сект — Аббасидам было трудно найти линию, по которой можно было бы избрать какой-нибудь культ в качестве государственного. Прежде всего им приходилось лавировать между суннизмом и шиизмом. Восстание Абу Муслима, приведшее их к власти, опиралось преимущественно на шиитские массы восточных провинций халифата. Аббасиды охотно воспользовались содействием и услугами деятелей шиитства, но порвать с суннизмом не сочли возможным, ибо это восстановило бы против них основные массы арабского населения. Шиитам была сделана уступка: создали легенду о том, будто в некотором поколении потомки Али передали свои права на халифат династии Аббасидов 21. Этого было шиитам недостаточно, так что религиозное обоснование для разочарования масс поставленными ими на престол новыми халифами оказалось налицо. Но сойти со своего суннитского пути Аббасиды уже не могли.
В суннитском богословии еще во времена Омейядов происходили сложные процессы, связанные с необходимостью проведения мусульманской догматики в систему, могущую выдерживать сравнение с развивавшимся христианским богословием и с начавшим распространяться идейным наследием древней греческой философии. И в Кордовском эмирате, и в Дамасском халифате появились переводы произведений Аристотеля, Платона и неоплатоников сначала с сирийского, а потом и с греческого языков 22. Бессвязные и примитивные изречения Корана вместе с притчами и легендами Сунны выглядели в сравнении с сочинениями древних мудрецов по меньшей мере бледно. Мусульманские богословы активно принимались за комментирование и «теоретическую» разработку основных догматов ислама, что не могло не вести к появлению различных точек зрения и к борьбе между их авторами и выразителями.
В ортодоксальном исламе господствовала идея абсолютного предопределения, согласно которой Аллах заранее предуказал поведение, мышление и судьбы каждого живого существа не только до его рождения, но и до сотворения мира. Богословы, отстаивавшие и излагавшие этот догмат, именовались джабаритами (от арабского «джабр» — божественная воля) 23. Во времена Омейядов они пользовались полной поддержкой властей, ибо учение об абсолютном предопределении давало основания к проповеди того, что и владычество халифов детерминировано божьей волей, хотя по своему происхождению Омейяды не имели прав на престол. Джабаритам противостояли кадариты, которые признавали некоторое значение кадара (от арабского «кадар» — способность, возможность), но ограничивали это значение, считая, что человек сам решает, как ему поступать в тех или иных жизненных ситуациях, руководствуясь свободой, предоставленной ему Аллахом. На стороне кадаритов были некоторые элементарные, но сильные соображения, по которым признание абсолютности божественного предопределения ведет к представлению о несправедливости бога, как и всего созданного им мира: за действия, которые продиктованы человеку Аллахом, вынужден отвечать не бог, а человек, между тем, казалось бы, за совершенное последним, например, преступление должен был бы отвечать сам бог. Большая логическая последовательность мышления кадаритов не мешала тому, что Омейяды подвергали их преследованиям как еретиков-зендиков.
Богословствование на более свободных основаниях, чем допускалось халифатом, не ограничивалось, однако, проблемой предопределения. При Омейядах возникло направление, которому предстояла в дальнейшем весьма превратная судьба, имеется в виду богословие мутазилитов 24. Это слово происходит от корня, означающего «отдаление». Вероятно, смысл такого названия заключается в том, что мутазилиты противопоставляли свое учение некоторым догмам ортодоксального ислама и тем самым «отдалялись» от него.
В вопросе о предопределении мутазилиты стояли на кадаритских позициях, но отрицание абсолютного предопределения вытекало у них из более общих философских установок, касавшихся вопроса об отношении разума и веры. С удивительной для того времени смелостью они утверждали приоритет разума, право человека на сомнения и на проверку любого положения веры средствами разума. Бога и его действия человек должен познавать и расценивать, руководствуясь не поучениями откровения, а данными размышления. «Разум, — заявлял мутазилитский богослов Маздар, — обязывает человека знать бога со всеми его постановлениями и свойствами независимо от откровения» 25. Но знание Аллаха оказывалось у мутазилитов чем-то эфемерным. Они отказывались трактовать бога в свете коранических антропоморфных характеристик и по существу приходили к выводу о невозможности его позитивного познания и описания. Вероятно, не так уж были неправы ортодоксальные богословы Дамасского халифата, когда обвиняли мутазилитов в безбожии или в склонности к нему. Само собой разумеется, что приверженцы этого учения подвергались при Омейядах жестоким преследованиям.
При Аббасидах мутазилитству было суждено пережить второе рождение и превратиться из преследуемого течения религиозной мысли в господствующее. Если при первых нескольких халифах мутазилиты оставались в положении гонимых и истребляемых еретиков, то Мамун (813–833) объявил мутазилизм и его основные идеи истинными и покровительствуемыми государственной властью 26; отныне стали подвергаться преследованиям все те, кто не соглашался со взглядами мутазилитов.
Халиф Мамун был поборником науки и просвещения, он поощрял изучение античной философии, в частности Аристотеля, создал в Багдаде специальное учреждение — «Дом мудрости». Но вероятно, одними его интеллектуальными интересами было бы трудно объяснить занятую им позицию в борьбе между мутазилитами и ортодоксальными течениями в мусульманском богословии 27. Сказались, конечно, и соображения выгоды для династии Аббасидов и их халифата и свои собственные.
Учение о свободе воли делало подданных ответственными за совершаемые ими поступки, и прежде всего за то сопротивление, которое они могли оказывать власти. Здесь была, правда, и обратная сторона: учение об абсолютном предопределении могло оправдать любое деяние властей как продиктованное богом и, следовательно, не подлежащее ни сомнению, ни оспариванию. Очевидно, в различные моменты их истории халифам было выгодно пользоваться тем или иным из противоположных решений вопроса.
У мутазилитов учение о свободе воли покоилось на общем положении о подходе к теологическим проблемам с точки зрения разума. Но этот же подход диктовал одновременно решение и ряда других важных теологических проблем. Отрицание антропоморфности Аллаха порождало необходимость аллегорического толкования Корана, в чем мутазилиты проявляли большую экзегетическую изворотливость. И. Гольдциер приводит ряд характерных примеров такого казуистического толкования Корана и хадисов. Он рассматривает, например, удивительные потуги, на которые вынуждены были пойти богословы для истолкования изречения: «Ад не наполнится, пока всемогущий не поставит на него своей ноги…» 28 Нога бога породила целую литературу, целью которой было доказать, что нога не есть нога, а если она — нога, то не богова. Современные христианские богословы занимаются такими же операциями в отношении Библии.
Чтобы толковать Коран столь вольным образом, мутазилиты должны были по возможности уменьшать силу его авторитета. Они отвергли догмат о несотворенности Корана и о том, что священная книга существовала от века наряду с Аллахом. Вполне понятно, что если допускать в богословских конструкциях хоть малейший элемент логического смысла, то надо признать, что учение об извечности Корана сообщает последнему независимость от бога и его самого фактически превращает в бога. Учение о сотворенности Корана решительно отстаивалось мутазилитами и было полностью принято халифом Мамуном. Больше того, это учение стало своего рода пробным камнем мутазилитского правоверия29. Государственные чиновники обязаны были публично изъявлять свою приверженность учению о сотворенности Корана. Воины, возвращавшиеся из византийского плена, должны были на границе подвергаться опросу по существу данной теологической проблемы и в случае неудовлетворительного ответа не допускались в страну 30.
Признание учения мутазилитов государственной религиозной доктриной встретило сопротивление со стороны богословов старой школы, широких кругов бюрократии и народа. Инквизиционные преследования, которым раньше подвергались мутазилиты, теперь обрушились на их противников. В 833 г. халиф Мамун опубликовал указ, которым декретировалось испытание в мутазилитском правоверии всех государственных чиновников. Он собрал авторитетных богословов для выслушивания их взглядов по вопросам, связанным с сотворением Корана. Получив в письменном виде весьма уклончивые ответы, халиф распорядился выслать всех подозрительных по части правоверия в особый лагерь. Адептам несотворенности божественной книги на этот раз повезло: прежде чем их успели доставить в лагерь, пришла весть о смерти Мамуна 31.
Преемники халифа некоторое время еще оставались на позициях мутазилизма. Халиф Мутасим жестоко преследовал противников этого богословского направления, о чем И. Гольдциер сообщает следующее: «Инквизиторы либерализма были, если это возможно, еще ужаснее, чем их приверженные букве собратья; во всяком случае их фанатизм отвратительнее фанатизма их заключенных в тюрьмы и преследуемых жертв» 32. В либерализме Гольдциер отказывает мутазилитам, но признает их рационализм, с чем со всеми оговорками, вытекающими из относительности и противоречивости религиозного рационализма в целом, нельзя не согласиться.
После халифа Васика (842–847), который был последним мутазилитом на халифском троне, наступила реакция. Новый халиф Мутаваккиль (847–861) счел целесообразным вернуться к ортодоксальному суннизму. Он понимал непрочность своего положения и зависимость от возведших его на престол турецких гвардейцев и решил опереться на суннитское население Ирака, находившееся под влиянием правоверного духовенства. В этих целях он объявил мутазилитство ересью и подверг ее носителей всем утонченным и изощренным наказаниям, методика которых была хорошо разработана деятелями той благочестивой эпохи. Вернулось господство суннитского правоверия. Гольдциер так характеризует вновь создавшуюся обстановку: «…при халифе Мутаваккиле, отвратительном мракобесе, отлично умевшем соединять наслаждение вином и покровительство порнографической литературе с догматической ортодоксией, приверженцы старого догмата могли снова свободно поднять голову. Из преследуемых они превращаются в преследующих и великолепно умеют, к вящей славе Аллаха, претворять в действие старое, испытанное положение «Vae victis» («горе побежденным». — И. К.)» 33. Во избежание соблазна Мутаваккиль запретил не только исповедовать мутазилитские учения, но и вообще обсуждать богословские вопросы и продавать книги, в которых эти вопросы трактуются.
Такое богословствование появилось еще при халифате Омейядов в виде так называемого калама, что значит «слово» — в смысле, близком к греческому логосу. Но калам домутазилитского периода был примитивным и строго ортодоксальным, придерживавшимся буквы Корана и хадисов; по существу серьезные теологические проблемы в нем и не ставились. Другое дело — тот калам, который возник после поражения и подавления мутазилитства. От вопросов, поднятых последним, нельзя было просто отмахнуться, тем более что с каждым десятилетием среди образованных кругов все большее распространение получала эллинистическая философия, в особенности аристотелизм. Новый калам, основателем которого считается Ашари (873/74—935 или 941), не отверг учения мутазилитов, а занялся поисками средней линии между нерассуждающим суннитским благочестием и духом философско-теологических размышлений, культивировавшимся мутазилитами.
В произведениях Ашари, который до сорокалетнего возраста был мутазилитом, даются компромиссные решения каверзных проблем мусульманской догматики. Коран признается вечным словом божьим. Но непосредственная форма его выражения, заключающаяся в сочетании слов и букв, в чернилах и в материале, на котором начертаны эти буквы, относится за счет усилий человека. Можно было понять это решение и так, что Коран должен быть признан непроизносимым словом божьим, содержащимся лишь в душе и духе, а предметное оформление его в какой-то момент было сообщено Аллахом пророкам 34. Такие же половинчатые решения дали мутакаллимы (богословы), противостоявшие мутазилитам, и по вопросу о предопределении и характеристике бога. Для мутакаллимов не существовало проблемы толкования Корана: все, что заключено между двумя досками переплета, есть слово божье. Любое умствование по вопросам соотношения разума и традиции, свойств Аллаха, справедливости или несправедливости предопределения признается ересью и кощунством.
Хотя данная позиция и была обращена против мутазилитства, но даже она не могла все же удовлетворить сторонников абсолютной ортодоксии. К своим неистовым проклятиям по адресу мутазилитов они прибавляли почти столь же яростные осуждения калама и мутакаллимов. Предписывался такой рецепт обращения с мутакаллимами: «…их надо бить бичами и подошвами, а потом провести по всем племенам и становищам, причем следует возглашать: «Вот награда того, кто отстраняется от Корана и Сунны и предается каламу»» 35.
Эта линия не была единственной. Разные социальные и этнические группировки продолжали борьбу за свои интересы и облекали свои требования в форму религиозно-идеологических учений и догматов, по поводу которых господствующим группировкам приходилось вступать в споры и обсуждения.
Калам аширитского типа приобрел влияние и официозный характер почти на столетие позже, когда выступили такие его последователи, как аль-Газали. Калам к этому времени очистился от многих мутазилитских вольностей, приблизившись максимально к традиционно-суннитскому правоверию. Но теперь перед ним были новые противники, и прежде всего религиозномистическое движение суфизма36, нашедшее своих приверженцев на всей территории халифата. Это движение появилось почти одновременно с возникновением ислама. Идеология первоначального ислама включала в себя некоторые элементы презрения к реальному миру, коренившегося в ставке на загробное воздаяние. Но в ходе военных успехов мусульман, по мере того, как росло их имущественное благосостояние, идеал аскетической жизни на этом свете быстро тускнел, а потом и вовсе утратил свою притягательную силу для верующих. Он вновь стал обретать ее в процессе имущественного и социального расслоения, притом главным образом в тех кругах общества, которые оказывались обделенными.
В VIII в. существовало движение, направленное к уходу из мира, к разрыву с его материальными и духовными ценностями.
В отношении житейского поведения и личной этики предъявлялись аскетические требования презрения к земным благам — пище, одежде, жилью и т. д. Такое поведение нашло свое внешнее выражение в ношении грубого плаща из овечьей шерсти — суфа, давшего название всему движению. Что касается собственно религиозного и культового содержания движения, то основным в нем является негативный момент — отказ от выполнения пятикратного намаза и от других сложившихся к этому времени форм мусульманской обрядности и замена их зикром — собственной формой культа. В разных направлениях и группировках суффийского движения сложились и различные формы зикра. Общим было лишь то, что верующий лично сносится с божеством, вознося ему славословия, приводя себя в эмоциональное состояние, позволяющее предполагать близость к богу, единство с ним, доходящее до слияния. В некоторых группах суфиев зикр выражался в пении и пляске, доводивших молящихся до экстазного исступления.
Стремление к непосредственному слиянию с божеством в молитвенном экстазе базировалось в вероисповедном отношении на близких к пантеизму представлениях о единстве божественной и человеческой природы, о таком вездеприсутствии бога, которое по существу означает его растворенность в природе. Поэтому путь к слиянию с божеством лежит не в разумном его постижении и не в автоматическом следовании богословской традиции, а в пламенном стремлении души к нему. Один из главных суфийских теологов, аль-Кушейри, писал: «Суфии — люди, соединяющиеся с Богом (al-wisal), а не люди доказательств (al-istidlal), как обычные теологи». И. Гольдциер приводит и такое высказывание другого суфийского богослова: «Когда открывается истина, разум (akl) отступает назад. Он орудие осуществления отношений зависимости человека к богу (ubudija), а не орудие познания истинного существа владычества божья (rububijja)»37. В приведенной общетеологической установке нетрудно различить влияние неоплатонизма, буддизма, древних индуистских верований. Да и сама тенденция к пантеизму, прорывающаяся в стремлении к непосредственному общению с богом, сказывается почти во всех религиях — среди тех групп верующих, которые по тем или иным причинам становятся в оппозицию к своей церковной организации и ориентируются на эмоциональные религиозные переживания индивидуума. Хасидизм в иудаизме, ряд средневековых ересей в христианстве недалеки в этом отношении от суфизма.
Организованные группы суфиев появились в VIII в. на территории Ирака и Сирии, вероятно впервые в Куфе и Басре. Во второй половине IX в. центром суфийского движения стал Багдад. После этого суфизм распространился в Северной Африке и Испании, в Средней Азии и Иране, в Индии и наконец в Юго-Восточной Азии. Местами проживания суфиев стали своего рода монастыри, а организационной формой движения — дервишские ордена (члены каждого ордена назывались дервишами). С XII в. в разных странах возникли и развернули свою деятельность различные корпорации этого рода с уставами и практикуемыми в их культе обрядами. Общим для всех орденов было иерархическое устройство и полное подчинение младших членов корпорации (послушники, мюриды) старшим, и в особенности главе ордена — муршиду. Монастыри, среди которых начиная с XIII в. были и женские, должны были вести собственное хозяйство для прокормления обитателей. И как бы ни малы были первое время материальные потребности суфиев, пока действовали их аскетические устремления, они все же брали верх над искусственными идейными построениями. Материальное благосостояние монастырей росло, в руках муршидов сосредоточивались большие богатства, возникала и развивалась экономическая и вытекавшая из нее социально-политическая дифференциация как между разными орденами, так и внутри их. Аскетический суфизм стал принимать все более символический характер, теряя свое прежнее значение социального протеста. Постепенно изменились и его взаимоотношения с исламом.
Суфизм не был однородным 38: он заключал в себе, с одной стороны, радикальное крыло, доходившее до крайности в аллегорическом толковании Корана, в пантеистической трактовке бога, в требованиях бедности и аскетической жизни, и, с другой — умеренное крыло, готовое к компромиссам по перечисленным вопросам. Памятником борьбы между этими двумя флангами суфизма явилось «Послание» одного из главных идеологов движения, аль-Кушейри, относящееся к 1045 г. Оно содержит гневное обличение и опровержение той тенденции в суфизме, которая ведет к разрыву с «законом»30 С сокрушением констатирует благочестивый автор: «Уважение к закону религии покинуло сердца… они (обличаемые аль-Кушейри экстремисты суфизма. — И. К.) отказываются от различия между дозволенным и запрещенным… мало ценят исполнение религиозных обязанностей, поста, молитвы, они шествуют по ристалищу пренебрежения… Не довольствуясь этим, они ссылаются на высочайшие истины и состояния и утверждают, что достигли свободы от уз и оков (закона) истинами соединения (с Богом)»40. И. Гольдциер считает, что «Послание» аль-Кушейри, имевшее большое влияние на все суфийское движение, способствовало «восстановлению почти рухнувшего моста между ортодоксией и суфизмом» 41.
Этот мост наводился с обеих сторон. Некоторые явления в мусульманской теологии способствовали тому, что идеология суфизма стала рассматриваться ортодоксальным исламом уже не столь враждебно, как раньше. Мусульманская теология, запутавшись в казуистических ухищрениях калама и убоявшись пахнущих ересью построений мутазилитов, стала искать выход на путях мистицизма, дававшего возможность объяснять любой казус неизреченной таинственностью божественного откровения и пресекать тем путь дальнейшим умствованиям. Важным шагом в этом направлении было богословствование аль-Газали (1058–1111).
Достигнув положения одного из наиболее авторитетных представителей официальной мусульманской теологии, аль-Газали решительно изменил свой образ жизни и удалился из Багдада, чтобы в уединении работать над новой системой теологии. Он обосновал ее на родственном суфизму принципе единения души верующего с богом; в центр религии ислама он поставил внутреннее переживание верующего. Деятельность аль-Газали и на этой стадии была признана официальным исламом ортодоксальной, а сам он удостоился статуса святого. Суфизм же с данного времени был в известной мере легализован, а его ордена и учреждения превратились в институты господствующей религии 42.
Оппозиционные в отношении существующего порядка тенденции и группировки нашли свое выражение в ряде других движений, положивших начало возникновению различных сект в исламе.
СЕКТЫ В ШИИЗМЕ. ИСМАИЛИЗМ И ЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ
В шиизме сектантство получило большее распространение, чем в суннизме, чему способствовал ряд причин. Положение суннитского толка ислама как господствующей религии давало ему возможность более эффективно контролировать правоверие своих последователей. Шиизм, как правило, находился в подполье, контакты между отдельными его общинами в ряде случаев сопровождались трудностями, так что многие группировки были фактически изолированы друг от друга и их религиозная жизнь могла порождать новые верования и идеи. Видимо, здесь играла роль и принятая у шиитов практика такыйи, заключавшаяся в том, что в случае преследования за веру шииту разрешалось скрывать свою истинную религиозную принадлежность, притворяясь правоверным суннитом; за этой ширмой могли скрываться своеобразные сектантские новообразования 43.
Как уже говорилось, шииты были имамитами, т. е. они верили в то, что в будущем должен вновь появиться на земле один из ранее живших имамов, который и восстановит попранную суннитами справедливость: мусульманский мир возглавит законный преемник халифа Али. В сознании участников движения это ожидание связывалось с надеждой на ликвидацию социальной несправедливости и всех зол в условиях рабовладельческого и феодального устройства. При этом социальные группировки, не принадлежавшие к эксплуатируемым низам, по-своему понимали установление справедливых общественных порядков, толкуя их в выгодном для себя направлении. Во всяком случае различные шиитские группы и секты объединялись общим для всех ожиданием появления махди-имама. Возникал, правда, вопрос о том, кто из живших прежде имамов будет воскресшим спасителем?
Основное направление шиитства стояло на том, что спасителем выступит двенадцатый имам — Мухаммед абуль-Касым, родившийся в 873 г. в Багдаде и исчезнувший в двенадцатилетнем возрасте; это и есть с точки зрения ортодоксального шиитства «скрытый имам», которому предстоит открыться миру в виде махди (мессии). Верующие в двенадцатого имама носят название двунадесятников, или дюжинников, таковыми являются и современные шииты 44. Другие сектантские группировки внутри шиизма тоже сформировались по принципу признания того или иного порядкового номера долженствующего явиться имама.
Видимо, первой сектой, отделившейся по этому принципу, были пятиричники, избравшие в качестве своего знамени имя пятого имама — Зейда ибн Али. Это был внук шиитского мученика — имама Хуссейна. Зейд в 740 г. возглавил восстание против Омейядского халифа и в сражении с его войсками погиб. Последователи Зейда и те, кто к ним примкнул впоследствии, избрали именно его символом своего вероучения и культа. Зейдиты не проявляли воинствующей непримиримости в отношении суннизма, которая характерна для шиизма и всех остальных его сект. Поэтому многие авторы считают зейдизм посредствующим звеном между шиизмом и суннизмом: в частности зейдиты не считали нечестивыми и не предавали проклятиям первых трех халифов, предшествовавших Али. В дальнейшем секта зейдитов распалась на несколько группировок, каждая из которых признавала право на имамат за теми или иными потомками Зейда. Одна из этих линий в 864 г. образовала теократическое государство в Северо-Западном Иране, которое существовало до середины XII в. Другая дала начало династии Идрисидов в Северо-Западной Африке (788–985). Вполне понятно, что идеологическое обоснование династических претензий и связанной с ними борьбы за власть осуществлялось при помощи отстаивания догматических и культовых тонкостей 45.
Почти одновременно с сектой зейдитов возникло сектантское движение исмаилитов 46, получившее значительно более широкое распространение и влияние в мусульманском мире. Поводом к возникновению секты явилось то обстоятельство, что около 760 г. шиитский шестой имам Джафар Садык лишил своего старшего сына Исмаила права наследовать имамат, передав это право его младшему брату. Формальной причиной такого решения было пристрастие Исмаила к спиртному, недопустимое для правоверного мусульманина. Но приверженцы Исмаила нашли благовидное религиозное оправдание поведения претендента на имамат: человек, занимающий настолько высокое место в иерархии живых существ, что должен в будущем стать имамом, в принципе не может совершать ничего греховного, поэтому запрещение вина должно иметь для него лишь аллегорический смысл. Ясно, что не эта словесно-религиозная казуистика лежала в основе приверженности сторонников Исмаила к своему главе. Здесь сыграли роль обстоятельства политического и социального порядка.
Некоторые круги месопотамского шиитства были недовольны той недостаточно воинственной линией, которую вел имам Джафар в отношении суннитских Аббасидов, занявших трон халифов. Исмаил же настаивал на более решительной оппозиции в отношении багдадского халифа. С другой стороны, вокруг него сгруппировались элементы, недовольные сложившимся в шиитском мире социальным порядком, связанным с прогрессировавшим феодальным закрепощением кочевников-скотоводов и крестьян-земледельцев. Исмаил скоро умер, и живший еще тогда его отец имам Джафар постарался по возможности широко обнародовать этот факт — вплоть до того, что распорядился выставить труп сына на всеобщее обозрение в одной из мединских мечетей. Но остановить движение было невозможно.
Для одних последователей умершего Исмаила факт его смерти легко поддавался опровержению: это, мол, простая видимость, а в сущности он жив и скрывается для того, чтобы в нужный момент обнаружиться; с этой точки зрения Исмаил является седьмым имамом, после которого имамов больше ждать не следует. Другие участники движения, мнение которых возобладало, сочли, что, поскольку Исмаил умер, надо объявить седьмым имамом его сына Мухаммеда. Во всяком случае должно быть лишь семь имамов, и седьмой появится в роли махди, поэтому всем благочестивым мусульманам надо объединиться в ожидании такого события. По этому признаку секта носит наименование семеричников.
Исмаилиты развернули активную проповедь своего учения во всех странах распространения ислама и создали сеть тайных группировок в Сирии, Ираке, Иране, Средней Азии и в Северной Африке. Организация была построена на иерархических началах с семью степенями посвящения, каждая из которых была связана со строго соблюдаемыми нормами информированности верующего в политических и религиозных делах и тайнах секты. Жесткая внутренняя дисциплина давала возможность руководителям секты использовать массы верующих в своих целях.
С возникновением исмаилитской секты как самостоятельного исламского вероисповедания стали проявляться вероисповедные и культовые особенности, отличающие его как от шиизма в целом, так и от различных других его сект. Была разработана сложная и абстрактная философско-теологическая догматика. Особое влияние на ее формирование оказала философия неоплатонизма в ее вульгаризированной форме, заимствованная отдельными элементами из иудаизма, христианства и даже парсизма 47.
Основная идея платонизма — об эманации божественного духа в мир плоти — нашла в исмаилизме свое выражение в форме учения о том, что бог последовательно эманировал свою сущность в мир, воплощаясь в пророков (натиков — проповедников). Их всего семь: Адам, Авраам, Ной, Моисей, Иисус, Мухаммед и второй Мухаммед — сын Исмаила, давшего свое имя всему движению. Каждый последующий натик раскрывал перед людьми сущность божественной истины во все более точной и возвышенной форме. Каждый натик сопровождается в его жизненном пути и деятельности спутником-помощником, который от себя ничего не проповедует и потому именуется «самит», т. е. молчальник, но занимается истолкованием и распространением проповеди натика; такими были при Моисее — Аарон, при Иисусе — Петр, при Мухаммеде — Али. В перерывах между появлением очередного натика божественную сущность воплощают в себе имамы, тоже по семь в каждом интервале. Последний — седьмой — натик, каковым был Мухаммед, сын Исмаила, завершает собой историю эманаций божества в человеческом образе 48, его второе пришествие будет означать не новый этап развития веры, а восстановление того, что он принес с собой в первом своем воплощении, этим восстановлением и завершится всемирно-исторический процесс эманации мирового разума.
Эта догматическая система, выраженная в туманной и многословной форме, раскрывалась перед участниками секты не сразу и не перед всеми: существовало девять степеней посвящения, и возведение в каждую из них обставлялось ритуалом, затруднялось искусственно созданными сложными препятствиями49. А. Мюллер пишет по этому поводу: «…вся эта система, так хитроумно организованная, клонилась к единственной лишь цели: подготовить тысячи тысяч легковерных и фанатиков и привить им привычку безусловного повиновения обожаемому, невидимому имаму, а равно и его видимым пособникам (дай), обращая таким образом всю эту массу в слепое орудие в руках небольшой кучки бессовестных, честолюбивых заправил» 50. Если нет достаточных оснований к тому, чтобы все учение и весь механизм организации исмаилитов сводить к такому бессовестному обману низов верхами, то доля истины в приведенных словах Мюллера все же есть. Надо лишь иметь в виду, что не без причин люди поддавались этому обману и что эти причины должны были быть в достаточной мере существенными, чтобы обман переплетался и связывался с самообманом. Причины коренились в социальном бытии закрепощаемых и систематически обираемых бесправных людей, мечтающих о решительных изменениях в порядках того мира, который заставляет их выносить так много страданий. Идеологи и проповедники исмаилизма задевали поистине чувствительные струны в душах людей, которых они вербовали в свою секту.
Примечательно, что каждая из более высоких степеней посвящения давала исмаилиту доступ ко все более сокровенному эзотерическому знанию, все меньше связанному с известными всем верующим истинами Корана и ислама. Пятая степень знакомила посвящаемого с тем, что смысл Корана не сводится к значению его текста, — оно аллегорично. На шестой степени такое аллегорическое толкование давалось и требованию выполнения обрядов. Наконец, последняя, девятая, степень запутывала все и вся туманными философскими абстракциями, в которых буквально растворялись все исламские догматы вплоть до учения о бытии божьем, о махди и его грядущем втором пришествии и т. д. Учение о боге было в этом освещении, видимо, почти полностью пантеистическим, пришествие же махди сводилось к аллегории распространения истины и знания среди всех людей 51.
Похоже на то, что в сердцевине исмаилитской идеологии гнездилось учение, не имевшее ничего общего с религией, и что внешняя, экзотерическая оболочка исмаилитской догматики, предназначенная для посвященных низших степеней, была лишь оружием в руках избранных немногочисленных носителей тайного учения. Не исключено, что эта аристократия духа была связана с вольнодумными философскими кружками, подпольно функционировавшими в X в. и, может быть, позже в Багдаде, Басре, Самарканде и других центрах Аббасидского халифата под названием «Ихван-ас-Сафа» (Братья чистоты) 52. Интересы верхушки исмаилитства не замыкались, однако, в сфере чистого знания, а уходили в область политики.
Успехи исмаилитов стали ощутимы лишь с конца IX и особенно с начала X в. Их выражением явилось воцарение в 910 г. в Северной Африке и в 969 г. в Египте халифата Фатимидов 53. Основавший его Убейдаллах объявил себя не только халифом, но и махди. Поддержка широких масс берберов и арабов, обеспечившая Убейдаллаху победу, основывалась на ожидании того, что с воцарением махди установится социальная справедливость. На деле произошла лишь смена угнетателей: свергнув аглабидскую феодальную знать, исмаилитская верхушка сама заняла ее место в той же социальной системе. Господство исмаилитов, распространившееся вскоре и на Сирию, сохранялось, как уже отмечалось, до 1171 г., когда их халифат был свергнут Салах ад-Дином, признавшим затем свою религиозную приверженность к суннитским аббасидским халифам.
Возлагавшиеся на исмаилитское учение надежды социальных низов порождали и другие формы этого учения, более радикальные как в вероисповедном, так и в социально-политическом отношении. Еще до образования халифата Фатимидов стало действовать в Сирии и Ираке радикальное направление исмаилитства, последователи которого именуются карматами 54.
Происхождение этого названия недостаточно выяснено. По наиболее распространенной версии, в его основе лежит прозвище одного из основателей движения, Хамдана, — Кармат, означающее «изуродованный» и свидетельствующее, может быть, о том, что основатель движения подвергся изувечившим его репрессиям. Около 890 г. Хамдан вместе со своим соратником Абу Абдаллахом развернул пропаганду на территории Месопотамии, и скоро во всех происходивших тогда в мусульманском мире волнениях и восстаниях рабов, крестьян и ремесленников карматство стало существенным фактором. Следовавшие одно за другим поражения революционных выступлений народных масс не нанесли решающего удара карматскому движению. Карматы, организовав большое количество отрядов вооруженных фанатиков, предпринимали нападения на населенные пункты Сирии и Ирака, причем во многих случаях им удавалось на время овладевать крупными центрами вплоть до Куфы и Басры. Кроме того, они систематически организовывали нападения на караваны паломников, направлявшихся к святым местам. В 930 г. отряд карматов овладел Меккой и разграбил ее богатства, составившиеся из даяний паломников в течение почти трех столетий. Они выломали из Каабы знаменитый «черный камень» и увезли с собой. Карматы проявляли большую жестокость, они не щадили не только воинов противников, но и мирное население. Исключение делалось только для тех, кто обращался в рабство.
В основе такой практики и оправдывавшей ее идеологии лежало религиозное учение тех же исмаилитов, лишь более заостренное против ислама в его ортодоксальной суннитской форме. Богословские тонкости эзотерического учения, связанного с неоплатонизмом, были недоступны массам участников движения, они их и не интересовали. Обрядовая сторона религии решилась карматами удобным для рядовых участников движения образом: мечетей не было, предписания о пятикратной молитве, омовениях, постах, паломничестве не выполнялись, так что верующие не отягощались ритуальными предписаниями. В вероучении главную роль играло представление о грядущем махди, каковым признавался основатель династии султанов Бахрейна — Абу Саид. Полная реализация социальных чаяний угнетенных ожидалась после пришествия махди, но и в ожидании этого события карматы не оставались в бездействии в отношении устройства своего общественного бытия.
Движение карматов привело к созданию находившегося в их полном распоряжении теократического государства, где условия высшей справедливости могли быть осуществлены в соответствии с идеалами исмаилитского правоверия. В начале X в. карматы организовали в Восточной Аравии свое государство, столицей которого стал город Ал-Ахса (обычно в литературе именуется Лахса). Отсюда они устраивали набеги на мусульманские государства с целью грабежа, прикрываемого религиозно-сектантской терминологией. Вряд ли поэтому можно согласиться с бытующей в литературе характеристикой карматских ополчений как армий фанатиков, храбрость которых вдохновлялась религиозной идеей. Истоки вдохновения здесь были житейские, что доказывается, в частности, характером того социального устройства, которое установилось в карматском государстве.
В середине XI в. иранско-таджикский путешественник и писатель Насир-и Хусрау посетил карматское государство и описал свои впечатления от этого путешествия 55. Благосостояние граждан было довольно высоким. Основная их масса состояла из крестьян и ремесленников, не плативших никаких податей и налогов, не обремененных и феодальными повинностями. Ростовщичество было запрещено, а в случае необходимости каждый гражданин мог претендовать на беспроцентную и даже безвозвратную ссуду со стороны государства. Это оказывалось возможным благодаря тому, что последнее владело десятками тысяч рабов, за счет труда которых свободные карматы могли безбедно жить. И конечно, те богатства, которые привозили в страну борцы за карматское правоверие после очередного удачного набега, в немалой мере содействовали благосостоянию населения. В общем государство, призванное реализовать исмаилитско-карматский идеал социальной справедливости, было грабительским институтом. Оно просуществовало около полутора столетий, пока не было завоевано и разрушено в 1029 г. правителем Газневидского царства на Среднем Востоке Махмудом Газневи. Тем не менее вне Бахрейнского султаната карматское движение еще давало себя знать в разных областях распространения ислама на всем протяжении средневековья.
Начало XI в. ознаменовалось в истории ислама возникновением исмаилитской секты друзов. Ее появление связано с личностью фатимидского халифа Египта Хакима (996—1021) и его приближенного Дарази, от имени которого, вероятно, получила свое название секта 56.
Халиф Хаким был человеком странным и даже загадочным. Не исключено, что он был психически нездоровым субъектом: издавал несуразные приказы, долженствовавшие регулировать всю общественную и частную жизнь горожан Каира (например, вести торговлю только по ночам, не изготовлять женской обуви и т. д.), потом столь же беспричинно отменял их и заменял другими, не менее бессмысленными. Своих приближенных он подвергал, опять-таки без причин, увечащим наказаниям, после чего щедро вознаграждал пострадавших. По некоторым данным, за время правления Хакима было казнено около 18 тыс. его подданных. Религиозные позиции халифа выглядели столь же сумасбродными.
Хаким несколько раз объявлял о своей принадлежности то к шиизму, то к суннизму. В последние годы жизни он решил, что ему надлежит быть седьмым имамом и натиком. В этом его поддерживал поселившийся в Каире турецкий исмаилит Дарази, ставший приближенным к халифу человеком и пропагандистом его высочайшей духовной миссии. В 1017 г. Дарази огласил в большой мечети свое сочинение, в котором утверждал, что в халифе Хакиме воплотилась душа Адама, в свою очередь являющаяся продуктом эманации мирового разума. Правоверные, собравшиеся в мечети, не были готовы к восприятию столь возвышенной истины. Халиф был всем ненавистен, а его власть держалась только наемной армией, состоявшей из чуждых народу негров, берберов и турок. В общем Дарази удалось спастись бегством, а его телохранители и последователи были растерзаны толпой правоверных. С помощью Хакима Дарази бежал в Сирию, где организовал движение приверженцев нового учения 57.
Горцам Южного Ливана, среди которых Дарази стал распространять свои идеи, нужен был только повод к тому, чтобы получить независимость от иранских и собственных феодалов, а также турецких завоевателей. Божественность Хакима давала этот повод, и вокруг Дарази стало собираться все большее количество приверженцев, с оружием в руках готовых отстаивать признание его божественности, а также материальные блага, которые можно было извлечь из данной ситуации.
Через некоторое время еще один апостол новоявленного седьмого имама, иранец Хамза, попытался повторить в столичной мечети эксперимент Дарази и с тем же успехом. Халиф сумел и его переправить в Сирию, где он стал ближайшим помощником Дарази. Невосприимчивые к высшей истине жители Каира претерпели по приказу халифа жестокую расправу со стороны его наемников, а распространение нового культа стало программой всей дальнейшей деятельности Хакима. Но в это время с халифом произошла история, которая внесла новый элемент в догматику друзизма: воплощение Адама исчезло58.
Дело в том, что халиф имел обыкновение в сопровождении телохранителей по ночам прогуливаться верхом на осле в пустынных окрестностях столицы. Из одной такой прогулки он не вернулся, а в пустыне был найден труп осла и вместе с ним — одежда имама. Может быть, Хаким пал жертвой заговора, но не исключено, что он укрылся в недоступном для людей месте до конца дней своих, что давало возможность друзам пропагандировать его как «скрытого имама», который раньше или позже объявится и возьмет в свои руки управление Вселенной. В Египте, правда, культ Хакима не привился, но в Сирии и на некоторых других территориях распространения ислама он в течение столетий идеологически питал народные движения, выступающие в религиозной оболочке друзизма. Эта секта существует и до сих пор на территории Сирии и Ливана.
На примере друзизма наглядно проявилась характерная особенность развития религиозной идеологии: относительная независимость религиозного сознания народных масс от тех личностей и событий, которые первоначально явились символами данного движения. Сирийские друзы и в XI в., и в последующие столетия весьма туманно представляли себе личность того, кого они признали богом в человеческом образе; но такое признание соответствовало каким-то их важным социально-идеологическим потребностям, что и обеспечивало успех движения.
Особое место в исмаилитском направлении занимает движение ассасинов 59, возникшее в конце XI в.
Фатимидский халиф Египта Мустансир лишил своего старшего сына Низара права на наследование престола и передал это право младшему — Мустали. Вскоре Низар был умерщвлен, но это не помешало тому, что его имя стало знаменем борьбы оппозиционных элементов халифата 60. Так как движение распространилось на обширной территории и завоевало особенно прочные позиции на северо-западе государства Сельджукидов, то оно обрело направленность не только и даже не столько против Фатимидов, сколько против сложившихся на Ближнем и Среднем Востоке социально-политических конструкций, — отнюдь не во имя создания нового, угодного Аллаху социального строя, а в интересах феодалов, боровшихся за власть. При этом стремления и чаяния бедняков, участвовавших в движении, использовались в тех же интересах стоящих у кормила правления привилегированных «посвященных».
Приверженцы секты вошли в историю под названием ассасинов. Это слово обычно производится от наименования «хашшашин» — потребители наркотического хашиша (гашиша); считается, что люди, которые принимали на себя исполнение ответственных и страшных поручений руководителей секты, одурманивались хашишем. Наименование членов секты в его европеизированном варианте — ассасины — стало обозначать наемных убийц или просто убийц. Действительно, основным методом религиозной и политической борьбы деятелей секты были убийства враждебных ей деятелей 61.
В 1090 г. бежавший из Египта вождь низаритской партии Хасан ибн Саббах появился в горах южнее Каспийского моря и стал вербовать всех недовольных под знамя «скрытого имама» из династии Низаритов. Вскоре он овладел горной крепостью Аламут, которую превратил в базу всего движения. Постепенно на северо-западе Ирана было основано еще несколько таких неприступных горных гнезд, из которых Хасан рассылал своих агентов-убийц по всему государству Сельджукидов. Сам глава движения не выходил из своей резиденции до смерти в 1124 г. Такую же уединенную жизнь продолжали и его преемники: таинственные и недоступные для внешнего мира, они через рассылаемых ими террористов распоряжались жизнью повелителей феодальных государств и княжеств Ближнего и Среднего Востока. С суеверным страхом их именовали «горными шейхами», обычно не зная даже, кто в данный момент занимает этот страшный и таинственный пост. Первые «горные шейхи» считались представителями и агентами «скрытого имама». Одно время в положении такого божественного персонажа пребывал похищенный из Каира малолетний внук Низара, потом неизвестно куда девшийся. А четвертый по счету «горный шейх» Хасан II (1162–1166) объявил уже себя пришедшим для открытия царства небесного на земле бывшим «скрытым имамом». Хотя через полтора года он был убит кем-то из своих приближенных, это не поколебало веры ассасинов в божественность их шейхов.
Со временем движение ассасинов распространилось на запад, и образовалась относительно самостоятельная сирийская ветвь секты с центром в горной крепости Масияф. Номинально сирийские ассасины признавали свое подчинение Аламуту, но фактически они приобрели самостоятельное значение.
Организация ассасинов имела строго иерархическое построение с различными степенями посвящения. Непосредственно шейху были подчинены «великие миссионеры», «дай», которые в свою очередь руководили рассылавшимися во все концы мусульманского мира рядовыми миссионерами. Вероятно, были и другие звенья этой иерархии, в самом низу которой находились федаи — жертвующие собой (исполнители смертных приговоров, выносившихся шейхом и его приближенными); они были послушными орудиями, действовавшими в слепом повиновении по приказу, о котором им никогда не сообщалось. Эти фанатики совершали убийства в надежде на то, что сразу после собственной гибели, как правило неизбежной, они окажутся в раю.
Кадры слепо и фанатично верующих исполнителей вербовались преимущественно из крестьян, либо проживавших на землях главарей секты, либо бежавших от феодального гнета. В секте ассасинов они находили, правда, не решение социальной проблемы несправедливости, а обещание вечного блаженства в раю ценой прекращения своей реальной жизни. Перед нами яркий пример того, во что переводит религия социальный протест угнетенных.
Каждая последующая степень посвященности была в секте ассасинов связана с меньшим религиозным фанатизмом и все более явственным политическим расчетом. Как и в исмаилизме в целом, высшая степень была, видимо, вообще практически свободна от религиозных взглядов. Руководители секты в зависимости от обстановки вступали в соглашение с шиитскими или суннитскими группировками, а когда это оказывалось выгодным, действовали вместе с крестоносцами против своих единоверцев мусульман.
Руководители ассасинов скрывали свой религиозный нигилизм как от рядовых сектантов, так и от внешнего мира. Когда сельджукидский султан Синджар обратился к аламутскому «горному шейху» с запросом о сущности ассасинских религиозно-догматических взглядов, он получил ответ в духе ортодоксального ислама. Был эпизод в истории ассасинов, когда их шейх Джелаладдин произвел публичную демонстрацию своей приверженности к ортодоксии62: он собрал в Аламуте многих авторитетных богословов из разных мест и в их присутствии сжег ряд рукописей, якобы содержавших еретические концепции; после этого он отправил свою мать (по другим сведениям, одну из своих жен) в мекканское паломничество, где она демонстрировала благочестие в отношении святыни и щедрость в раздаче милостыни. Очевидно, политическая необходимость побуждала в это время ассасинов искать единения с другими исламскими властителями. Впрочем, вскоре после смерти Джелаладдина в 1220 г. ассасины вернулись к прежнему, но им оставалось существовать уже недолго. В 50-х годах XIII в. нашествие монголов во главе с Хулагу положило конец гнездам ассасинства в горном Иране, а в 1273 г. египетский султан Бейбарс уничтожил его последнее убежище в Сирии 63.
Следует отметить здесь еще два ответвления шиитского сектантства, которые представляют интерес хотя бы потому, что имеют последователей и в настоящее время; это возникшие в рассматриваемый период секты алавитов и али-илахов64. Первая из них появилась в 859–860 гг. под руководством некоего Ибн Нусайра, по имени которого ее приверженцы именуются также нусайритами. В основе учения алавитов лежит признание халифа Али воплощением божества. Точнее, это божество представляется как троичное, ипостасями которого являются Мухаммед, Али и Сальман, но центральное положение в троице занимает Али, Мухаммед же — лишь мистическое «имя», а Сальман — «врата» к божеству. Али-илахи тоже ставят Али в центр своего вероучения, само их наименование означает «обожествляющие Али»; по их вероучению, все пророки, включая Мухаммеда, получили «откровение» от него. Появление этих сект также связано с борьбой различных групп феодалов за власть и территориальные приобретения.
ВОЛЬНОДУМНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСЛАМСКОМ МИРЕ
Даже в периоды, казалось бы, полного господства религии во всех сферах общественной жизни и мысли никогда не было того, чтобы не давали себя знать стремления к мышлению, свободному от духовного гнета религии. Это относится и к рассматриваемому нами здесь периоду истории ислама.
Как это характерно и для христианского средневековья, вольнодумство в мусульманском мире проявлялось не в открытой и последовательной форме, а в той же идеологической, по видимости религиозной, оболочке. Немалую роль в такой «сокрытости» атеистического содержания в противоречащей ему форме играли и те преследования, которым господствующее в исламских странах духовенство, да и сам режим подвергали вольнодумцев. Тем не менее, и в такой противоречивой и ограниченной форме вольнодумство представляет собой ряд страниц истории атеистической мысли и атеистического движения.
Отметим прежде всего вольнодумные мотивы, звучащие в проповеди некоторых сект средневекового ислама, в частности у суфиев, карматов, мутализитов. В вероучении их видное место занимают идеи, родственные пантеизму. Теоретик мутазилитов ан-Назам, например, считал, что хотя Вселенная и есть порождение бога, но ее возникновение не имело своей причиной акта его свободного творчества, а было непосредственным выражением самого его существования, так как в конечном счете бог и Вселенная составляют одно целое. Та же идея фигурирует и в проповедях суфиев, которые прямо утверждали, что Вселенная по самой своей сущности не есть нечто иное, чем сам бог65.
Та же идея пантеизма ярко выражена в сочинениях выдающегося средневекового мыслителя Ибн Сины (Авиценна, 980—1037). Он, правда, признавал бога первопричиной, «первым двигателем», но это следовало понимать не в хронологическом смысле, по которому бог в некий момент времени сотворил Вселенную, а в том, что он по собственной своей природе и есть Вселенная. Поэтому, как считал Ибн Сина, мир столь же вечен, как и бог 66. Аналогичные взгляды мы находим у такого великого мыслителя средневековья, как Ибн Рушд (Аверроэс, 1126–1198). Материя вечна, считал Ибн Рушд, поэтому нет никакого смысла говорить о ее сотворении. То, что именуется творением, есть не что иное, как род движения. А «движение вечно и непрерывно, потому что всякое движение есть следствие непрерывного движения». Больше того, бог не только не создавал мир, но и не вмешивается в происходящие в мире процессы. По существу, таким образом, от самой идеи бога ничего не остается. На позициях последовательного пантеизма стоял и знаменитый арабский поэт и философ Абуль Аля аль-Маари (973—1057).
Пантеистическая концепция ясно выражена и в идеологии существовавшей в IX–X вв. на территории халифата Аббасидов тайной организации «Чистые братья» 67. Ее теоретики утверждали, что мир представляет собой единую душу, из которой все исходит и в которую все возвращается. С этой точки зрения, не существует дуализма бога и мира, отпадает, таким образом, и учение о личном боге, существующем вне мира и над ним и сотворившем его.
Отрицание бытия личного бога было непосредственно связано и со скептическим отношением к учению о сверхъестественном мире и населяющих его существах, прежде всего душах бывших людей, якобы пребывающих в загробном мире.
Довольно последовательное отрицание загробной жизни мы находим у философа аль-Фараби (870–950). Он полемизировал не только с исламом, признающим возможное существование души отдельно от тела, но и с Платоном, по которому душа существует раньше тела и в момент рождения человека вселяется в его тело. Фараби стоял на той позиции, что душа живет и умирает вместе с телом. Ибн Сина также отрицал загробную жизнь, он только маскировал это отрицание тем, что трактовал загробную жизнь в «духовном», т. е. по существу иносказательном, смысле. Во всяком случае возможность воскресения тел и, следовательно, учение о страшном суде Ибн Сина без колебаний отвергал. На позициях отрицания загробной жизни стоял и Ибн Рушд. Веру в рай и ад он рассматривал как продукт невежества людей. Бессмертие Ибн Рушд предлагал искать в сохранении дел и особенно знаний в памяти последующих поколений, непосредственное же воздаяние за свои дела, считал он, человек должен получать при жизни, не надеясь на потустороннюю оплату.
Неверие в существование сверхъестественного мира и его обитателей нашло любопытное выражение в произведениях Аль-Маари, имеющих довольно ясно выраженный сатирический характер. В одном из них («Послание об ангелах») он изображает себя пребывающим в царстве небесном и ведущим диспут с его обитателями — ангелами и другими раежителями — по вопросам морфологии арабского языка. И оказывается, что ангелы плохо разбираются в арабской грамматике! 68
А главный из главных в мире сверхъестественного — сам Аллах — оказывается, на взгляд арабских свободомыслящих, если он существует, злым и несправедливым. Если верно учение о предопределении, то все зло в мире происходит от него, ибо любой человеческий поступок, даже самый греховный, имеет своим источником не кого иного, как самого Аллаха. Этим аргументом постоянно оперировали в исламской теологии сторонники свободы воли, но свести концы с концами и они в этом вопросе не могли. Поэт и философ Омар Хайям заявляет, что, если бы он «властен был над этим небом злым», он бы «сокрушил его и заменил другим», таким, в котором никому «ничьим владыкою, ничьим рабом не быть»69. И не согласен поэт погибать в день всеобщей катастрофы, долженствующий предшествовать страшному суду: «Когда Вселенную, — пишет он в одном из стихотворений, — настигнет день конечный, И рухнут небеса, и Путь померкнет Млечный, — Я, за полу схватив создателя, спрошу: «За что же ты меня убил, владыка вечный?»» 70
Получается, что религиозные учения ложны? И во многих произведениях мыслителей того времени совершенно недвусмысленно формулируется этот вывод. Коран создан людьми, настойчиво твердили вольнодумцы, и не существовал от века никем не сотворенный, как настаивали ортодоксы ислама. «Всякие почести и восхваление Корана, — заявляли теоретики мутазилизма, — признак глупости»71. А в одном из посланий «Чистых братьев» было прямо заявлено, что «шариат растоптан», ибо он «погряз в невежестве и заблуждениях» 72. Правда, тут же предлагается как путь к совершенству соединение того же шариата с греческой философией, но, вероятно, в таком предложении сказывалось стремление его авторов в какой-то степени предохранить себя от особо резких нападок со стороны ортодоксов.
Утверждения о ложности всех известных религий мы встречаем в сочинениях ряда представителей арабского свободомыслия. Аль-Маари писал об этом следующим образом: «Вера и неверие… Коран, текст которого тщательно изучается… Библия… евангелия… У каждого народа есть своя ложь, в которую, однако, люди свято веруют. Может ли после этого какой-либо народ хвалиться, что он идет путем праведным?» 73 А если есть обман, то должны быть и обманщики.
И действительно, такие обманщики в истории религии, как утверждают арабские вольнодумцы, сыграли важнейшую роль. Здесь мы сталкиваемся с важнейшим литературным памятником средневековья «Трактатом о трех обманщиках».
Его происхождение и авторство до сих пор не установлены. Однако основная идея его имеется не только в самом трактате, но и в некоторых других источниках. Так, один из предводителей карматов Бахрейна, Бу-Тахир, говорил: «Три лица принесли порчу людям: пастух, лекарь и погонщик верблюдов. Наибольший из них обманщик — погонщик верблюдов» 74. Перечисленные здесь «обманщики» — Моисей, Христос (почему-то его именуют здесь лекарем) и Мухаммед.
Об авторстве «Трактата» существуют самые разноречивые мнения. Его приписывают не только арабским деятелям, но и многим представителям истории европейской общественной мысли, в том числе Макиавелли, Джордано Бруно, Спинозе. Одно из имен, часто упоминаемых в этой связи, — германский император Фридрих II Гогенштауфен, живший в первой половине ХIII в. Это имя, хотя и принадлежит европейскому автору, все же наводит на арабские следы, ибо Фридрих был известен своими связями с арабским миром, он знал к тому же и арабский язык. Наиболее, однако, вероятным следует считать раннее арабское происхождение рассматриваемого произведения — может быть, X в. В распоряжении современных исследователей есть несколько вариантов «Трактата» разного времени вплоть до XVIII в., но основная идея его осталась в общем неизменной. Она — та же, которую мы выше приводили в высказывании карматского идеолога: три человека один за другим обманули человечество тремя ложными вероучениями: иудаизмом, христианством и исламом. Сделали они это, руководясь собственными корыстными соображениями и интересами господствующих слоев общества, заинтересованных в том, чтобы любыми средствами, в том числе и обманом, держать народ в повиновении.
Далеко не всегда вольнодумцы могли высказывать свои взгляды открыто и последовательно. Бывали отдельные просветы, когда их взгляды не встречали сопротивления со стороны властей. Так, например, мутазилитство в правление аббасидского халифа Мамуна (813–833) считалось в халифате официально признанным государственным учением. Но тут же при последующих халифах оно было признано еретическим и стало жестоко преследоваться. А в общем вольнодумство в исламском мире систематически преследовалось как еретичество и богоотступничество. Исламская инквизиция — михиа — действовала с активностью хотя и уступавшей католической, но все же достаточной, чтобы люди боялись. Особо часто применялся такой прием, как изгнание. Ему подвергся, в частности, Ибн Рушд, который лишь в конце жизни был возвращен ко двору в Марокко. В глубоком подполье долгое время пребывали мутазилиты и весь период своего существования — «Чистые братья». Не удивительно, что далеко не всегда идеологи вольнодумства могли открыто выражать свое мнение о том, что путь разума — единственный в познании истины, ибо движение по этому пути было прямо противоположно религиозному, в данном случае исламскому, пути. На помощь тут приходила теория двойственной истины, которая в некоторой мере служила якорем спасения и для европейских вольнодумцев. Мы находим эту «спасительную» теорию сформулированной у Ибн Сины. В еще более развернутом виде она содержится в сочинениях Ибн Рушда. И именно от аверроистов она перешла в работы европейских теологов и философов.
При всем этом вольнодумцам далеко не всегда удавалось скрыть свои действительные позиции. О творчестве Омара Хайяма академик А. Е. Крымский писал: «В XII веке ни одного толкового читателя не сумела обмануть осторожная туманная стилистика некоторой части хайямовских четверостиший… во всякой своей форме, откровенной или прикровенной, хайямовские стихи без большого труда опознавались как жалящие змеи для исламской религии. Опознавались с понятным негодованием, если читатель принадлежал к правоверам — клерикалам, поднявшим голову в XII веке; опознавались, конечно, с интересом и увлечением, если читатель сам был скептически настроен в хайямовском духе» 75.
При всем этом некоторые представители вольнодумной мысли позволяли себе открытые выступления против ислама — его вероучения и культа. Бесстрашно высмеивал их в своих пародиях и памфлетах арабский поэт Абу Нувас (762–815), хотя ему и пришлось поплатиться за свою смелость двумя долголетними тюремными заключениями. По поводу основополагающей формулы ислама — «нет бога, кроме Аллаха» — персонаж одного из произведений Нуваса Лахики спрашивает: «Как вы можете свидетельствовать это не видевши?» И добавляет к сему: «Я вовек не стану чего-либо свидетельствовать, пока этого не увидят мои глаза» 76. Абу Нувас открыто заявлял о своем нежелании выполнять обряды ислама. Паломничество в Мекку он собирается предпринять лишь в том случае, если в Багдаде, где он живет, почему-либо не останется возможности наслаждаться жизнью. Призыв муэдзина к свершению пятикратной ежедневной молитвы вызывает у него лишь насмешки.
В отношении к другим ответвлениям ислама и его сектам, а также в отношении к другим религиям мы находим у арабских вольнодумцев различные позиции. Карматы были готовы истреблять всех, кто придерживается иных, чем они, взглядов. С другой стороны, «Чистые братья» проповедовали полную веротерпимость. Они писали: «Мы не противники какой-либо веры или религиозного учения. Ихваны (братья. — И. К.), да поможет вам бог, вы не должны выступать против какого-либо религиозного направления или учения. Вы не должны поддерживать одно религиозное направление против другого, ибо наше кредо объединяет все религиозные толки» 77. Ссылка в данном высказывании на божью помощь может истолковываться и как общепринятый словесный прием, и как выражение действительной веры в некоего абстрактного внеконфессионального бога. Но и в том и в другом случае приведенные слова выражают замечательное проявление веротерпимости, что для той эпохи господства религиозного террора было незаурядным явлением.
Примечания и ссылки на источники
1 Wellhausen J. Das arabische Reich und sein Sturz. Stuttgart; Berlin, 1902. S. 344–346.
2 См.: Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. Т. II СПб, 1895. С. 142
3 Цит. по. там же. С 141
4 См.: Масса А. Ислам. Очерк истории. С. 53—54
5 См.: Беляев Е А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье С. 205–268.
6 См: Мюллер А. Указ соч Т. II С. 227–228.
7 См там же. Т. II С 244–274, 282–284; Масса А С 54–59; Беляев Е. А Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С. 219.
8 О государстве Сельджуков Малой Азии см.: Гордлевский В А. Избранные сочинения Т. I М., 1960. С. 31—218; о религиозной жизни в эпоху Сельджукидов см. также: С. 197–214.
9 Laoust Н Les Chimes dans l’lslam. P, 1965. P. 213–223.
10 См.: Бартольд В. Образование империи Чингис-хана // Записки Восточного отделения императорского Русского археологического общества. Т 10. 1896. СПб., 1897. С. 105–120.
11 Маркс К, Энгельс Ф Соч Т. 22. С. 468.
12 См: Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье С. 251–252.
13 См.: Наршахи М История Бухары Ташкент, 1897 С. 84–95.
14 Chronique de A D. Tabari. Т. 4. Nogent-le-Rotrou, 1874. Р 525–554; Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С. 253–258; Laoust Н Op. cit. Р 95–98.
15 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 196.
16 См.: Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С 258–268.
17 Шурц Г Западная Азия в эпоху ислама // История человечества Всемирная история T. III СПб, 1903. С 311.
18 См. там же.
19 См. там же
20 См.: Мюллер А Указ. соч. T. II. С. 186
21 См.: Памятники письменности Востока. T. XLIII — Ал-Хасан ибн Муса ан-Наубахти. Шиитские секты / Перевод с арабского, исследование и комментарий С. М. Прохорова М, 1973. С. 29–30.
22 См.: Штекль А. История средневековой философии. М., 1912. С. 5–9.
23 См.: Шмидт А. Э. Очерки истории ислама как религии // Мир ислама (СПб.). 1912. Т. I. № 4. С. 566–579.
24 Steiner Н Die Mutasiliten und die Freidenker in Islam. Leipzig, 1865; Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. XXII. Казань, 1899. О философских взглядах мутазилитов см.: Laoust Н. Op. cit. Р. 185–189.
25 Schaprastani А. М. Religionsparteien und Philosophieschulen. Halle, 1850. S. 40.
26 См: Беляев E. А. Мусульманское сектантство (Исторические очерки). С. 42.
27 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 200–208; Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С. 215.
28 См.: Гольдцигер И. Лекции об исламе. С. 114–116.
29 См.: Шмидт А. Э. Очерки истории ислама как религии // Мир ислама 1912. Т. I. № 4. С. 572–575; Массэ А. Указ. соч. С. 156–157.
30 См: Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 43.
31 См.: Мюллер А Указ. соч. Т. II С. 207.
32 Гольдцигер И. Указ. соч. С. 105.
33 Там же. С. 106.
34 См. там же. С. 110–114, 117–122; Массэ А. Указ. соч. С. 157–158; Laoust Н. Op. cit. Р. 128–131, 177, 200–211.
35 Цит. по: Гольдцигер И. Указ. соч. С. 118.
36 См.: Уманец С. И. Очерк развития религиозно-философской мысли в исламе* Опыт истории мусульманского сектантства от смерти Мухаммеда до наших дней. СПб., 1890. С. 87—108; Laoust Н. Op. cit. Р. 119–123; Керимов Г. М. Аль-Газали и суфизм. Баку, 1969.
37 Цит. по: Гольдцигер И. Указ. соч. С. 159.
38 Уманец С. И. Указ. соч. С. 108–111.
39 См.: Гольдцигер И. Указ. соч. С. 161–162.
40 Цит. по: там же. С. 162.
41 См. там же.
42 См.: Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв.: С приложением избранных философских произведений Фараби, Газали и Маймонида. М., 1960. С. 106–112. Тексты аль-Газали «Ответы на вопросы, предложенные ему» и «Избавляющий от заблуждения» см. там же. С. 196–211, 211–266.
43 См.: Уманец С. И. Указ. соч. С. 25–41.
44 См. там же. С. 37–39; Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 26; Массэ А. Указ. соч. С. 140–143.
45 См.: Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 45–46; Он же. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. С. 219; Массэ А. Указ. соч. С. 143.
46 См.: Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 47–54; Памятники письменности Востока. Т. XLIII — Ал-Хасан ибн Муса ан-Наибахти. Шиитские секты. С. 152–164.
47 Horton М. Die Philosophic des Islams. Miinchen, 1924; Беляев E. А. Мусульманское сектантство. С. 49–50.
48 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 289–291.
49 См. там же. С. 290–293.
50 Там же. С. 292.
51 См.: Уманец С. И. Указ. соч. С. 52–54; Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 292–294.
52 См.: Григорян С. Н. Указ. соч. С. 51–54 (автор переводит название «Ихван-ас-Сафа» словами «Верные друзья»).
53 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 310–348.
54 См.: Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 55–63.
55 См.: Насир-и Хусрау. Сафар-намэ: Книга путешествия / Перевод и вступительная статья Е. Э. Бертельса. М.; Л., 1933. С. 179–184.
56 Воurоп N. Les Druzes. P., 1930; Мюллер А. Указ. соч. Т. И. С. 336–342; Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 64–69.
57 См.: Мюллер А. Указ. соч. Т. II. С. 340–342.
58 См.: Уманец С. И. Указ. соч. С. 72.
59 Наиболее полную историю и характеристику ассасинов см.: Hodgson A. S. The Order of Assasins. Hague, 1955. Материалы по отдельным эпизодам и личностям движения ассасинов см. там же. С 335-352
60 См. — Мюллер А. Указ. соч Т III. СПб., 1896. С. 110–112; Масса А. Указ. соч. С. 149–150.
61 См. — Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. С. 73–74.
62 См. там же. С. 76.
63 Weil G. Geschichte des abbassidenchalifat in Egipten. Stuttgart, 1860. S. 12–10; Мюллер А. Указ. соч. Т. III. С. 114–115, 266–267.
64 Horton M. Op. cit. S. 455; Беляев E. А. Мусульманское сектантство. С. 81–84.
65 См.: Григорян С. Н Указ соч. М., 1960. С. 41.
66 Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957. С. 67 и сл.
67 Григорян С. Н. Указ. соч. С. 54 и сл.; Сагадеев А. В. Наследие ислама: История и современность // Монтгомери У. Влияние на средневековую Европу. М., 1976. С. 15.
68 Климович Л. Историзм, идейность, мастерство: Исследования, этюды. М., 1985. С. 123.
69 Трахтенберг О. В. Указ. соч. С. 83.
70 Климович Л. Указ. соч. С. 117.
71 Григорян С. Н. Указ. соч. С. 37.
72 Там же. С. 53.
73 Климович Л. Указ. соч. С. 134.
74 Цит. по: там же.
75 Крымский А Е. Низами и его современники Баку, 1981 С 272.
76 Климович Л. Указ. соч. С. 117–118.
77 Цит. по: Григорян С. Н. Указ. соч. С. 52.
Глава третья. ИСЛАМ В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVI–XX вв.)
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ИСЛАМА В XVI–XVIII вв
Когда в 1492 г. войска испанского короля Фердинанда Католика захватили Гренаду, это означало падение последнего территориально-государственного оплота мусульманства в Западной Европе. Но за полстолетия до указанного события в Юго-Восточной Европе ислам обрел новый плацдарм в виде Османской империи, захватившей в 1453 г. Константинополь и начавшей новую серию войн, сравнимых по размаху и эффективности с завоеваниями арабских халифов VII в. В начале XVI в. возникли и другие территориально-государственные базы ислама. С основанием в 1502 г. сефевидской династии в Иране образовалось сильное царство, официальной идеологией которого был ислам шиитского толка. В 1526 г. появилось исламское государство Великих Моголов, существовавшее в течение почти двух столетий. На территории Индонезии около 1520 г. маджапахитское индуистское государство распалось на ряд княжеств, возглавляемых мусульманскими династиями. Таким образом, потеря исламом его базы на Пиренейском полуострове компенсировалась позициями, завоеванными им на Востоке.
Во всех перипетиях социальной и политической борьбы, связанной с описанными выше событиями, а также с классовой борьбой внутри образовавшихся государств, религия ислама играла немалую роль: она давала идеологическое оформление требованиям борющихся классов и социальных групп, а также претензиям правящих кругов государств, участвовавших в международной военной и политической борьбе.
В завоевании Византии турками-османами последними использовался лозунг священной борьбы против неверных. В дальнейшем Османская империя захватила Аравийский полуостров и Египет и стала продвигаться на запад вдоль северного побережья Африки. Султан Селим I получил возможность освятить свое господство на Ближнем Востоке, так как в его руках оказались ключи от Каабы и на территории его государства находились оба святых города суннитского ислама — Мекка и Медина; на этом основании султан включил в свою пышную титулатуру еще звание «слуги (стража? — И. К.) обоих святых городов». Существует легенда о том, что проживавший при дворе побежденного Селимом каирского мамлюкского султана отпрыск аббасидских халифов Мутеваккиль официально передал Селиму звание халифа и тем возвел его в ранг главы мусульманского мира. В. Бартольд доказал, что эта легенда была сочинена на потребу султанов одним турецким армянином во второй половине XVIII в.1 Во всяком случае с 1517 г. османские султаны стали считать себя духовными вождями всех мусульман.
Духовенство завоеванных стран освящало власть тех, в чьих руках данная страна оказывалась. Вспомнили хадис, по которому каждое столетие Аллах посылает мусульманам «обновителя веры» 2. Прежде такими обновителями считали богословов, вносивших особый вклад в разработку вероучения; теперь нашелся более актуальный объект для почетного звания. И само собой разумеется, «обновитель ислама» должен был обладать нераздельной властью, как светской — над теми странами, которые входили в состав его государства, так и духовной — над мусульманами во всем мире. Теоретически это выглядело довольно логично, но практически реализация такой власти часто наталкивалась на серьезные трудности. То, что османского халифа не признают шииты, представлялось в порядке вещей; считалось, что с ними можно и нужно вести такую же священную войну, как и вообще с иноверцами, а вопрос о том, когда и с кем начинать войну, решался соображениями практической политики и стратегии. Сложнее было, если османского халифа отказывались признавать таковым свои же сунниты. Когда в начале XVIII в. Иран в лице своей правящей верхушки примкнул к суннизму, не признав в то же время верховенства османского халифа, это послужило поводом к тому, чтобы вести войну с Ираном в целях его полного завоевания. В 1726 г. османское духовенство выступило с разъяснениями, по которым в мире может существовать только один имам, причем была сделана ссылка на текст хадиса: «Если принесут присягу (одновременно) двум халифам, то убейте одного из них» 3. Необходимость единовластия османского султана над мусульманами всего мира нередко обосновывалась также текстом Корана: «Если бы были там (на небе. — И. К.) боги, кроме Аллаха, то погибли бы они» (21, 22). Но такие «боги», как шахиншах Ирана, погибать не хотели, и между двумя исламскими государствами долгое время велись войны.
Экспансия османов в Северной Африке встретила сильное сопротивление в Марокко, опять-таки имевшее религиозно-идеологическую оболочку. Вдохновителем и организатором этого сопротивления был исламский монашеский орден марабутов, монастыри (завии) которых являлись укрепленными пунктами и играли не только религиозную, но и военно-стратегическую роль в качестве опорных пунктов сопротивления всем, против кого следовало вести джихад — священную войну. В борьбе против португальских и испанских завоевателей обоснование необходимости джихада не представляло трудностей, ибо речь шла о сопротивлении христианам, мушрикун (многобожникам). Но марабуты поднимали народ и против господствовавшей в Марокко династии Маринидов, и в особенности против тюрков, хотя и те и другие были мусульманами-суннитами. И здесь, однако, находилось религиозное обоснование. Марабуты выдвигали в качестве законных и богоугодных властителей так называемых шерифов, претендовавших на то, что они происходят от самого Мухаммеда. Угнетенные народные массы должны были под влиянием пропаганды марабутов надеяться на то, что, придя к власти, шерифы организуют общественные порядки на более справедливых основах, заповеданных пророком. Как ни были туманны эти надежды, они способствовали созданию такой идеологической атмосферы, которая побуждала людей с оружием в руках выступать против Маринидов и османов. Борьба была успешной. В 1525 г. в стране воцарилась династия шерифов, были нанесены поражения испанцам и португальцам. Марокко устояло против османов. Положение народных масс от этого, разумеется, не улучшилось, что обусловливало в дальнейшем новые движения, тоже протекавшие в религиозной форме.
Внутренние отношения в Османской империи, складывавшиеся под влиянием социально-исторических факторов, по своей идеологической окраске также были связаны с мусульманством. Для проживания на территории империи христианам был создан особый режим, ставивший их в положение второстепенных граждан — райя (стадо), подвергавшихся особо интенсивной эксплуатации как привилегированным классом феодалов, так и непосредственно государством. Классовая борьба среди турецкого населения тоже нередко облекалась в религиозные формы. Так, народное восстание в Малой Азии, развернувшееся в 1511 г. под руководством Шахкулу, проходило под лозунгом шиизма; его социальным содержанием являлась борьба крестьян и кочевников против происходившего в то время процесса усиления феодальной эксплуатации 4. Репрессии, широко практиковавшиеся Селимом I и его чиновниками в отношении всех подозрительных и недовольных элементов, прикрывались борьбой против шиизма, в приверженцы которого зачислялись властями все неугодные им. В проскрипционные списки «шиитов» было занесено больше 40 тыс. человек, планомерно затем истребленных.
Шиизм, с другой стороны, стал в то же время религиозно-идеологическим знаменем иранского государства Сефевидов. На обширной территории Ирана и Закавказья в конце XV в. существовали разрозненные и враждовавшие между собой государства, одним из которых было крупное княжество с центром в городе Ардебиле. Им владели шейхи, именовавшие себя Сефевидами — от названия духовного ордена Сефевийэ, который ими же и возглавлялся, а основателем которого считался потомок седьмого алидского имама. Недовольство народных масс существующими феодальными порядками, выливавшееся нередко в вооруженные выступления, ставило перед феодалами задачу консолидации в государственном масштабе и создания сильной государственной власти. К этому побуждали и постоянные угрозы со стороны Османской империи, стремившейся расширить свои владения и за счет данного района. Во главе движения за государственное объединение стали Сефевиды в лице одного из своих наиболее выдающихся представителей, Исмаила, создавшего сильную объединенную армию и, опираясь на нее, новое государство.
В целях ослабления внутренней социальной напряженности Исмаил объявил себя шиитом и верховным покровителем этого ответвления ислама. Шиитство было популярно в низах иранского общества, что имело глубокие социальные корни: в условиях феодализма шиитская идеология с ее основным догматом о грядущем пришествии махди-мессии, который спасет обездоленных от их тяжелой участи, импонировала угнетенным, так что в массе населения было немало тайных и явных шиитов 5.
Исмаилу приходилось, конечно, считаться с возможным сопротивлением шиитской реформе со стороны феодалов-суннитов, но для них у него был дополнительный аргумент: шиитство давало основания и оправдание для упорного сопротивления османам, исповедовавшим ненавистный суннизм. Помимо того, провозглашение шиизма государственной религией позволяло конфисковывать земельные владения и прочие богатства, принадлежавшие суннитскому духовенству. Заодно можно было обогатить казну и покорную часть феодальной аристократии за счет конфискации земель и имуществ, принадлежавших тем владельцам, которые отказывались перейти в шиизм. Конечно, и шиитское духовенство было щедро вознаграждено за истинность своей веры. Оно получило большие материальные подачки и, помимо того, ряд святых мест, ставших центрами паломничества и дававших большие доходы. Вскоре экспансия государства Сефевидов привела к тому, что на его территории оказались исконные святыни шиизма — города Неджеф и Кербела, ставшие для шиитского духовенства важными источниками дохода.
Это произошло в царствование сефевидского шаха Аббаса I, вошедшего в историю с ореолом «Великого». В своей завоевательной политике и во внутригосударственных делах Аббас твердо придерживался шиитской линии и во славу шиизма творил невиданные даже по тому времени жестокости. Так, при взятии Багдада он приказал истребить десятки тысяч суннитов. Аналогичным образом он обходился даже со своими близкими родственниками: своего старшего сына Сефи-мирзу он приказал убить, а двух младших ослепить. Сравнивая такие деяния благочестивого мусульманина с подобными изуверствами христианских властителей, надо сказать, что ислам не отличался в отношении милосердия и всепрощения от других религий.
В Индии в начале XVI в. образовалось государство Великих Моголов. Это удалось сделать сильной феодальной афгано-тюркской группировке под предводительством выходца из Средней Азии Бабура в борьбе против индийских феодалов. Ее идеологическим знаменем был ислам в его суннитской форме, противопоставлявшийся религии индуизма.
При Акбаре, царствовавшем в империи Моголов с 1556 по 1605 г., происходили движения, представляющие интерес для истории религии в целом и для истории ислама в частности 6.
Совершив ряд завоевательных походов, Акбар сильно расширил пределы своей империи, включив в нее почти весь Индостан и большую часть Афганистана. На территории этого государства оказалось разноплеменное население, в значительной своей части исповедовавшее не ислам, а индуизм, джайнизм и парсизм. Среди иноверных были не только крестьяне, ремесленники и мелкие торговцы, но и богатые феодалы. В борьбе с сепаратизмом вновь присоединенных племен и народов, в частности со стремлением феодальной знати к восстановлению или сохранению своей независимости, Акбар неминуемо должен был столкнуться с тем, что все эти тенденции облекались в религиозную форму. В такой же форме развертывались и народные революционные движения, направленные против феодального гнета. В XVI в. на территории империи Моголов происходили по меньшей мере три таких движения — роушанитов, махдистов и бхактистов. Последнее возникло среди индуистов, а первые два охватывали мусульман 7.
В лозунгах бхактистского движения провозглашалось равенство всех людей перед богом независимо от их кастовой принадлежности и приверженности к индуизму или исламу; в названии движения («бхакти» — преданность богу) подчеркивался его религиозный характер. Движение роушанитов (по имени их руководителя, провозгласившего себя «старцем-светочем», — Пира Роушана) развернулось среди афганских племен северо-западной части империи. Его лозунгом было «царство справедливости», главным принципом которого считалось равенство; в практику этот принцип воплощался при помощи обращения имущества феодалов и духовенства в собственность общины верующих. Роушаниты не ограничивались проповедью, они организовали крупные вооруженные силы и вели военную борьбу как против Моголов, так и против местных феодальных князей. Наконец, в движении махдистов нашел выражение популярный среди шиитов мотив ожидания махди-мессии, к приходу которого следует подготовить существующие в обществе порядки. В ожидании скорого конца света махдисты во главе с шейхом Аланом также конфисковывали имущество богатых и делили его между нуждающимися; существовало и общее достояние, которое пополнялось за счет регулярно взимавшейся с верующих десятины.
Моголы вели вооруженную борьбу с демократическими сектантскими движениями. Бхактисты ограничивались мирной проповедью, поэтому внешнее подавление их деятельности не составляло особого труда; конечно, этим не достигалась ликвидация самой идеологии. Военная же борьба с роушанитами и махдистами приняла затяжной характер. Хотя Алан и другие руководители махдистов были взяты в плен и казнены, волнения под махдистским знаменем продолжались еще даже в XVII в. Роушаниты были окончательно разгромлены войсками Моголов лишь в начале XVII в.
С начала своего правления Акбар стал проявлять необычайную для того времени веротерпимость. Сам он перешел из суннизма в шиизм, который отличался тогда несколько большей широтой в отношениях с иноверцами. После этого был издан ряд указов, разрешающих употребление вина и свинины. Глава государства делал публичные заявления, в которых отрицалась вечность адских мук на том основании, что у грешника есть возможность избежать их при помощи перевоплощения после смерти; это было прямым заимствованием у индуизма и буддизма. Акбар находился в дружеских и родственных связях с раджпутанскими князьями, исповедовавшими индуизм. Главной ударной силой его войск была раджпутанская конница, тоже состоявшая из индуистов.
Акбар разрешил свободный обратный переход в индуизм тем, кто при его преемниках был насильственно обращен в ислам. Не удовлетворившись, однако, перечисленными актами веротерпимости, Акбар в 1582 г. провозгласил полную реформу религии и культа. Он учредил синкретическую «божественную веру», объединявшую в своем учении общие элементы ислама, индуизма, джайнизма, парсизма и даже христианства. Основным требованием новой религии было благоговение перед божеством, символами которого следовало считать солнце на небе и огонь на земле. Сам царь тоже должен был быть объектом почитания в качестве «праведного правителя». Обрядам и бытовым предписаниям разных религий не придавалось никакого значения. Главный же смысл реформы заключался в игнорировании вероисповедных различий и разногласий.
Если бы начинание Акбара увенчалось успехом, империя Моголов выиграла бы чрезвычайно много в своей централизованности, социальном и политическом единстве. Этого, однако, не произошло. Акбару не удалось распространить новую религию в широких народных массах. После смерти Акбара его преемники на троне не сумели возвыситься до его интеллектуального и политического уровня и вернулись на старый, мусульманский путь.
Начало XVIII в. ознаменовалось сложными религиозно-политическими событиями в Иране. Полководец шаха Тахмаспа II Надир, родом туркмен, в 1736 г. занял место шаха 8. Находясь уже у власти, Надир заставил своих царедворцев в течение месяца умолять его стать шахом. А условием своего согласия диктатор поставил готовность иранской аристократии перейти в суннизм.
Разумеется, в основе такого поворота Надира лежали вовсе не богословские соображения. Шах получал возможность нанести решающий удар шиитскому духовенству, которое при последних Сефевидах имело большую силу; таким способом он мог, помимо того, оправдать в глазах народа свое обращение с Сефевидами, которые оказывались уже шиитскими еретиками и раскольниками; и наконец, обнаружилась возможность мирного присоединения к империи соседних суннитских племен афганцев и узбеков. Правда, была опасность того, что шиитское население империи воспротивится смене веры, но Надир был в то время очень популярен в народе благодаря своим военным успехам и победам, поэтому он с полным основанием рассчитывал на покладистость своего народа. Действительно, суннизация Ирана прошла без особых осложнений.
Тем не менее от перехода иранской правящей верхушки вместе с Надиром в суннизм религиозные распри не прекратились. В мусульманском, ранее шиитском, населении страны осталась вначале скрытая, а потом все более открытая шиитская оппозиция. Сам Надир до конца своей жизни в каждом проявлении недовольства народных масс и феодалов подозревал шиитское зерно и подавлял его жестокими мерами. Это не мешало ему культивировать проекты объединения всех направлений ислама. Больше того, падишах был готов выступить даже в роли проповедника — основателя новой синкретической религии, которая объединяла бы все существующие.
Здесь главную роль также играли не соображения абстрактно-идеологического порядка. В составе созданной Надиром огромной империи оказались территории, населенные не только мусульманами, но и христианами Армении и Грузии, индуистами Северного Индостана, парсистами и иудеями. В дополнение к системе военного подавления и беспощадно свирепых репрессий Надир хотел создать и религиозно-идеологическую систему, способную играть объединяющую роль. Попытка его была обречена на неудачу, как это было раньше с проектом могольского властителя Акбара. И социально-экономические и военно-политические условия феодализма вели к раздроблению, а не к объединению и централизации. Идеологическими средствами преодолеть эту тенденцию было невозможно. А когда в 1747 г. Надир был убит заговорщиками, созданная им империя почти сразу распалась.
ИСЛАМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БУРЖУАЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
XVIII век ознаменован в истории ислама возникновением некоторых новых направлений, достигающих своего полного развития в XIX и начале XX в. Первым из них было движение ваххабитов9.
К 1730–1731 гг. относится начало той проповеди, которую развернул среди кочующих аравийских арабских племен Неджда основатель ваххабизма Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб. В 1744–1745 гг. к нему примкнули основные массы кочевников этой территории и один из шейхов, Ибн Сауд, взявший на себя политическое и военное руководство движением.
Содержание проповеди Ваххаба и его последователей напоминает идеал христианской Реформации начала XVI в. Речь идет прежде всего о возврате к первоначальному исламу 10, как в Реформации главным мотивом являлось требование возврата к первоначальному, не подвергшемуся порче христианству. Ваххабиты требовали следовать только Корану, а что касается Сунны, то они признавали лишь те ее хадисы, которые сложились в период первых четырех халифов. Все, что наслоилось в исламе на протяжении последующих столетий, необязательно для мусульманина, а во многом вредно и запретно.
Требование возврата к Корану особенно подчеркивалось в отношении догмата, утверждающего единства бога. Ваххабиты считали, что единобожие нарушается в исламе культом святых. Их последовательность в этом доходила до того, что они по существу отрицали необходимость поклонения даже Мухаммеду. Молиться, утверждали ваххабиты, не следует ни святым, ни пророку, ибо никто из них не знает воли Аллаха и никто не обладает правом представительства перед ним за людей; сам пророк приобретает такое право лишь в день страшного суда. Молиться, следовательно, можно лишь Аллаху. Этим отменялся весь получивший огромное распространение культ святых с его гробницами, памятниками, реликвиями, с паломничеством к святым местам и т. д.
С упразднением культа святых значительно упрощалась вся обрядовая сторона ислама. Большое значение здесь имело и признание того, что между богом и людьми нет и не должно быть посредников. Не признавалось, таким образом, профессиональное духовенство. Ваххабиты отрицали и монашество. В быту мусульманина они призывали вернуться к первоначальным кораническим предписаниям, запрещавшим употребление вина, курение, следование «суевериям», под которыми разумели гадание и другие магические обряды, веру в приметы, в счастливые и несчастливые дни и т. д. Это был своего рода рационалистический аскетизм, аналогию которому можно обнаружить в первоначальном протестантизме.
Социальной основой ваххабитского движения являлась оппозиция против торгово-промышленного и чиновничье-административного населения арабских городов, возникшая среди кочевников Неджда, хозяйство которых переживало в это время глубокий кризис относительно перенаселения. Официальный суннизм было нетрудно изобличить в отходе от «чистоты» ислама, поскольку действительно и в вероучении и в быту мусульман от него мало что осталось. Само же это изобличение давало ваххабитам повод к священной войне против заблудших. Вообще учение о джихаде занимало большое место в вероучении новой секты.
Вскоре ваххабиты начали серию завоевательных войн, обосновывая их необходимостью борьбы за чистый ислам. Первой целью таких войн был захват всей территории Аравийского полуострова. Османская армия, выступившая в 1797 г. против ваххабитов, потерпела поражение. В 1802 г. в руках ваххабитов были шиитские святыни Ирака, в дальнейшем они распространили свое господство на Хиджаз, включая Мекку и Медину, а затем двинулись в Сирию и Месопотамию11. Против ваххабитов выступил египетский властитель Мухаммед Али, которому удалось одержать над ними ряд побед. Война длилась с 1811 по 1818 г., ее итогом было оттеснение ваххабитов в Неджд и пленение главы движения Абдаллаха, который был казнен в Константинополе. Тем не менее государство ваххабитов не перестало существовать. Оно прочно обосновалось в Неджде, став в дальнейшем эмиратом под главенством династии, начало которой положил Ибн Сауд 12.
Ваххабитство проникло и в Индию 13, где от имени первого идеолога и руководителя Валиуллы (умер в 1762 г.) его последователи именуются валиуллахами. Наибольшую известность оно стало приобретать с 20-х годов XIX в., когда его проповедником и главой выступил Сайид Ахмад Барелви. Он обосновался в Патне на северо-востоке Индии и вскоре создал там «Братство борцов за веру», ставшее центром разнородных в социальном отношении мусульманских элементов, объединенных лишь общей ненавистью к индийским феодалам и ростовщикам, исповедующим нечестивый индуизм и сикхизм (новая религия, возникшая в Индии в конце XV в.): беднейшее крестьянство мечтало о социальной утопии общинно-мусульманского равенства, примкнувшие к движению феодалы имели в виду воскрешение порядков Могольской империи. Но и те и другие видели возможность осуществления своих чаяний в джихаде.
Первым объектом священной войны были сикхи. В обращении к своим последователям по этому поводу Сайид Ахмад Барелви писал: «Да будет хвала богу, многие тысячи правоверных ответили на его зов и готовы во исповедание повеления господа идти на врага, и 21 декабря 1826 года объявляется и начинается джихад против неверных сикхов» 14. Барелви удалось сколотить большую армию и нанести ряд поражений войскам сикхов, отобрав у них довольно большую территорию. Так он и основал свое государство, устройство которого должно было, по его замыслу, соответствовать принципам ваххабитского ислама. Дело кончилось неудачей, ибо большая часть населения освобожденной от сикхов территории жила еще родоплеменным строем и решительно воспротивилась попыткам его государственной организации. Начались восстания, в результате которых Сайид Ахмаду пришлось бежать в горы, где он в 1832 г. был настигнут и убит сикхами. Борьба тем не менее продолжалась.
Новую силу движение ваххабитов обрело после того, как джихад был обращен на противника несравненно более мощного, чем сикхи: против английских завоевателей.
Британские власти не вмешивались в борьбу между ваххабитами и сикхами, так как она была им выгодна. Но, когда англичане захватили в 1849 г. Пенджаб и ликвидировали самостоятельность сикхов, они увидели в ваххабитах еще более опасного противника своей власти. Началась кровавая борьба, в которой силы были, конечно, неравны. Серия завоевательных и карательных экспедиций, предпринятых англичанами в 50-х годах, привела к захвату ими основных центров движения, в том числе Патны, и к уничтожению главных сил ваххабитов. Тем не менее в середине 60-х годов вспыхнуло новое восстание, которое было жестоко подавлено. На этот раз были пущены в ход и средства специфически религиозного разложения.
Верхушка мусульманского духовенства оказалась достаточно чувствительна к тем благам, которыми могли подкупить ее британские власти. Она занялась идеологическим разоружением ваххабитства в его самом существенном для данного случая пункте — в вопросе о джихаде.
Религиозное обоснование проповедовавшейся ваххабитами священной войны вытекало из положения о том, что мусульманин не может мириться с жизнью в «дар уль харб» — «стране (доме) неверия», он обязан в этой обстановке вести джихад. Проповедь такого тезиса обеспечивала ваххабитам поддержку не только их последователей, но и мусульман в целом. После поражения восстания 1864–1868 гг. верхушка индийского мусульманского мира занялась поисками оснований для того, чтобы объявить джихад незаконным. По этому вопросу обратились за разъяснением (фетвой) к мекканским улемам, а также к высшим авторитетам шиитского ислама. И суннитские и шиитские авторитеты дали ответы, которыми признавалась неправомерность джихада против англичан. Трудно сказать, каким способом со стороны британских властей это было достигнуто, ясно лишь, что мусульманским богословам пришлось пустить в ход все средства софистики, чтобы «обосновать» решение, устраивавшее неверных.
На основе мекканской фетвы опубликовали свои заключения по данному вопросу мусульманские авторитеты и Индии, как шиитские, так и суннитские. Оказалось, что джихад незаконен и в том случае, если признать Индию «дар уль харб», и в том, если рассматривать ее как «дар уль ислам» — «страной (домом) ислама».
Фетва, опубликованная североиндийскими мусульманскими идеологами, исходила из того, что Индия является «дар уль ислам» — страной ислама. А при таком толковании лозунг джихада осуждался с еще меньшими усилиями, чем при предыдущем. Англичане признавались покровителями мусульман («…и нет джихада в стране, где такое покровительство имеется…»). К тому же и здесь делалась оговорка, что для законности джихада «необходимо наличие возможности победы мусульман и славы индийцев» !5. В силу этого законными оказываются лишь действия того, в чьих руках сила.
В общем индийский ислам стал на службу английской буржуазии. Ваххабитству был нанесен сильный удар, от которого он уже не мог оправиться. В качестве же сравнительно незначительной мусульманской секты он продолжал существовать в Индии и в дальнейшем.
В странах Ближнего Востока развертывание ваххабитского движения явилось лишь прелюдией к тому брожению, которое охватило там весь мусульманский мир в XIX в. и выразилось в движениях сенуситов, бабидов, бехаистов, в суданском махдизме, в оформлении идеологии панисламизма. И в данном случае дело отнюдь не сводилось к одним религиозно-идеологическим явлениям. В основе последних лежали те социально-экономические и политические процессы, которые были связаны с распространением капиталистических отношений.
В Турции, Иране, арабских странах возникла и развивалась своя национальная буржуазия: это были преимущественно купцы и ростовщики, которые не могли глубоко преобразовать хозяйство и общественные отношения. Но в это время Ближний Восток стал ареной все более активного проникновения европейского капитала. Происходил интенсивный процесс раздела мира между господствующей буржуазией Англии, Франции, Германии, Италии. В странах Ближнего Востока они сталкивались с Турцией, владевшей этими странами, но не способной оказать серьезного сопротивления вооруженным силам капиталистических стран. Борьба народных масс Ближнего Востока с турецкими феодалами могла принимать форму джихада только при условии выдвижения религиозно-исламских лозунгов, не совпадавших с господствовавшим в Турции правоверным суннизмом. Что же касается борьбы с европейскими захватчиками, то здесь лозунг священной войны являлся поводом и обоснованием для сопротивления.
Как правило, борьба мусульманских народов Ближнего Востока в XIX и начале XX в. против капиталистического, а затем и империалистического порабощения протекала в религиозной форме. Большинство сектантских движений в исламе XIX в. было связано именно с идеологией непримиримого вооруженного сопротивления народных масс порабощавшим их силам.
В 40-х годах XIX в. почти одновременно возникли движения сенуситов и бабидов. Во главе первого 16 стоял религиозный орден Сенусия, основанный еще в 30-х годах XIX в. в Мекке алжирцем Мухаммедом ибн Али ас-Сенуси. После того как выяснилось отрицательное отношение мекканского духовенства к деятельности ордена, его резиденция была перенесена в Киренаику. Там Сенуси развил активную деятельность по вербовке членов ордена и по строительству военно-экономических баз — завий в труднодоступных местностях. В 1885 г. главной резиденцией ордена стал оазис Джарабуб (Киренаика).
В религиозно-догматическом отношении сенуситство не представляло собой почти ничего нового. Пропагандировалась высоконравственная аскетическая жизнь, по примеру ваххабитов запрещалось употребление не только вина, но и кофе, табака, шелковых одежд, требовалось неукоснительное соблюдение всех требований Корана, Сунны и шариата. Но в качестве главного лозунга вероучения сенуситы выдвинули джихад. В течение первых десятилетий существования сенуситства этот лозунг был направлен против проникновения турок в глубь страны, которое встречало ожесточенное сопротивление со стороны туземных племен. Джихад в отношении противника, исповедующего ислам, должен был обосновываться тем, что тот отступил от чистоты веры, нарушает ее предписания, ведет безнравственный образ жизни. Именно такие обвинения и были выдвинуты против турок.
После смерти шейха Сенуси в 1859 г. вождем движения стал его сын Мухаммед аль-Махди. Уже имя его свидетельствует о важных изменениях, происшедших в идеологическом оснащении движения: его руководитель претендовал на роль мессии-махди. Это было своего рода знамением времени.
К середине XIX в. в новых исламских сектах получила распространение концепция, по которой концу света и страшному суду должно предшествовать появление пророка — махди 17, который подготовит правоверных к предстоящим грандиозным событиям. В шиитских сектах махди должен был предшествовать двенадцатому имаму. Для суннитов же он имел самодовлеющее значение. Во всех случаях учение о махди и проповедь о его появлении как свершившемся факте имела большой пропагандистский эффект, а сам новоявленный пророк становился центром притяжения широких кругов мусульманского населения. Не обходилось и без конкуренции между махди различных толков и сект, что, разумеется, препятствовало борьбе против общего врага. Когда, например, в 1885 г. суданский махди предложил сенуситскому примкнуть к нему, тот ответил отказом 18.
К этому времени сенуситские владения распространились по огромной территории Северной Африки, охватывая, в частности, все оазисы Сахары. По мере военно-организационного и экономического укрепления сенуситского государства в нем все более сказывается классовое расслоение. Орденская знать сделала объектом своей эксплуатации кочевые племена, заставляя их оседать вокруг завий и заниматься земледелием в пользу ордена и его верхушки. Все больше сказывался отход последней от требований аскетической жизни, и прежние поборники строгих нравов первоначального ислама пропагандировали их, как это и раньше бывало в истории религии, только в области чистой теории. Единственное, что было непоколебимым в учении сенуситов, — непримиримая борьба против неверных.
Но решимость сенуситов вести эту борьбу подверглась серьезным испытаниям. С начала XX в. Италия поставила своей целью отобрать у Турции Триполитанию и Киренаику — территории, в значительной степени населенные сенуситами. В ряде военных столкновений 1911–1912 гг. турецкое сопротивление было сломлено и спорные территории формально оказались в руках империалистической Италии. Но, когда итальянские войска попытались реализовать завоеванное ими «право» в отношении глубинных районов страны, они столкнулись с отрядами сенуситов, одержавшими ряд побед над вторгшимися в страну завоевателями. Италии был объявлен джихад, но его ход вскоре осложнился тем, что началась первая мировая война, в которой Италия обрела как новых союзников, так и новых противников. Сенуситство продолжало существовать и в дальнейшем, оставаясь и в настоящее время активной религиозно-политической силой.
В Иране в 40-х — начале 50-х годов XIX в. происходили события, связанные с возникновением секты бабидов и с рядом восстаний под ее знаменем 19.
Молодой ширазский торговец Сеид Али Мухаммед объявил себя Бабом — «вратами», через которые верующий мусульманин может получить доступ к Аллаху и в его царствие20. До этого в течение некоторого времени реформатор проживал в священном городе шиитов Кербеле, где находился в контакте с главой сектантской общины шейхитов Сеидом Каземом Решти. Шейхиты считали, что их руководитель является предтечей долженствующего явиться двенадцатого имама. Когда Решти умер, его последователи занялись поисками нового вождя, который продолжал бы готовить людей к приходу имама. Один из деятелей секты, мулла Хусейн, усмотрел именно в Бабе все качества, дающие основание считать его преемником Решти. Баб скоро приобрел большое количество приверженцев и реальные возможности для широкого развертывания своего движения.
Вряд ли в бабидском движении играла большую роль мистическая догматика книги «Бейян» (основной вероисповедный документ движения) и многочисленных посланий и проповедей Баба и его наибов. Она была малопонятна не только массам, но, вероятно, и активистам движения. Похоже на то, что по многим вопросам идеологии этого движения они были не в состоянии сказать что-либо определенное21. В качестве примера можно привести сохранившийся в предании диалог об истине, якобы происходивший между имамом Али и одним из его приближенных, Камэйль ибн Зиядом. На вопрос о том, что такое истина, Али после многочисленных уверток ответил: «…истина есть проявление блесков божественного величия без знака». Когда собеседник заявил, что он не понимает смысла этого определения, и попросил продолжить объяснение, ему было сообщено новое определение: «Устранение умозаключительного и проявление познанного». В ответ на последовавшие новые просьбы о «прояснении» Али давал такие определения истины: «Разрывание завесы тождеством тайны»; «Привлечение божественного единства через природу постижения его единства»; «Свет, сияющий из утра вечности и освещающий храмы единства» 22. Конечно, такая пустая схоластическая словесность не могла бы поднять массы на ту вооруженную борьбу, в которую вылилось движение. Но в условиях созревших социальных предпосылок для такой борьбы массам нужно было знать, что существуют какие-то возвышенные религиозные истины, во имя которых можно бороться в надежде не только на достижение земных целей, но и на потустороннее воздаяние.
Важное значение имели те элементы учения бабизма, которые относились к практической общественной жизни людей и затрагивали их социальные интересы. Одно то, что кончилась эпоха старого ислама и наступает новая, создавало у масс надежду на какие-то серьезные изменения в жизни общества. При новом общественном порядке, который должен был быть создан в результате победы бабизма, не могли иметь места засилье эксплуататоров-феодалов, хищничество шиитского духовенства, грабеж народа иностранными купцами и предпринимателями. В лозунгах движения нашли отражение интересы отечественной торговой буржуазии. Отменялись ограничения, наложенные в свое время на ростовщичество и вообще на взимание процентов. Провозглашалась полная свобода всякой торговой деятельности, распространявшаяся, однако, лишь на коренных жителей страны, иностранцы и иноверцы должны были решительно изгоняться; таким способом иранское купечество избавлялось от иностранной конкуренции. Отменялись все прежние исламские ограничения, касавшиеся ношения шелковых одежд и всяких украшений, что тоже должно было способствовать развитию торговли. Все это могло привлечь к движению иранскую торговую буржуазию. Но главной его силой оставались все же народные массы, воспринявшие его как форму борьбы с ненавистной им властью феодалов.
Некоторую роль в привлечении масс к бабидскому движению сыграло и то упрощение культа, которое оно прокламировало: отменялись молитвенные собрания, пятикратная ежедневная молитва и другие обременительные культовые предписания, отягчавшие и без того тяжелую жизнь социальных низов.
Следует отметить ряд прогрессивных требований, выдвигавшихся бабизмом в отношении реформы быта, положения женщины, семейного права и т. д. Видимо, инициатива здесь принадлежала одной из руководительниц движения, Захре-ханум, которая требовала уничтожения женского неравноправия, отмены многоженства и других мусульманских обычаев и установлений, унижающих женщину. Как и многие другие бабидские требования, эти тоже шли по линии антифеодальных буржуазно-демократических преобразований.
В 1847 г. Баб был арестован шахскими властями и отправлен в Тегеран. Во время его заключения в 1848 г. разразились народные восстания под бабидскими лозунгами в разных районах Ирана. Повстанцы оказывали шахским войскам упорное сопротивление 23. В разгар восстаний летом 1850 г. Баб был казнен 24. Но повстанческое движение продолжалось и переросло в гражданскую войну. После казни Баба мулла Мухаммед Али объявил себя его преемником. В разгоревшейся борьбе он проявил несравненно больше энергии, чем Баб. Тем не менее к 1852 г. все восстания на территории Ирана были подавлены 25.
Размахом движения были напуганы не только иранские феодалы, но и среднее и мелкое купечество, идеология которого была в какой-то мере выражена бабизмом. Реакционные настроения среди молодой иранской буржуазии, особенно в тех ее кругах, которые были тесно связаны с иностранным капиталом (компрадоры), достигли своего апогея. У неимущих и эксплуатируемых поражение бабидского движения вызвало разочарование и апатию. В сложившейся обстановке возникло и развилось религиозное движение, пришедшее на смену бабизму, — бехаизм.
Среди последователей Баба был Яхья, которому пророк из тюрьмы передал свои рукописи и некоторые личные вещи, сопроводив это наставлением — дописать недостающие в «Бейяне» восемь глав. Сторонники Яхьи цитируют данное якобы ему Бабом указание: если явится на свет «тот, кого проявит господь» в качестве последнего пророка, то он, Яхья, должен отменить «Бейян» и взять на себя полное руководство всем движением.
Поскольку «проявленным» пожелал стать сам Яхья, он переименовал себя в Субх и-Эзеля, что означает «утро вечности» 26. Из Тегерана, где шла беспощадная расправа с деятелями бабизма, Яхья сумел перебраться в Багдад, чтобы там, на территории, подвластной не Ирану, а Турции, вновь сколачивать бабидские общины.
Но у Субх и-Эзеля был старший брат Хусейн Али, также принимавший участие в бабидском движении и сумевший, отбыв несколько месяцев тюремного заключения после событий 1852 г., при невыясненных обстоятельствах тоже бежать в Багдад. Он присвоил себе имя Беха-Уллы, что означает «блеск бога», и объявил, что только он может претендовать на роль наследника Баба. Началось долголетнее соперничество между братьями, доходившее до взаимной организации покушений на жизнь соперника. Турецкое правительство сочло целесообразным перевести обоих братьев сначала в Стамбул, а потом в Адрианополь, рассчитывая на то, что в среде суннитского населения им не удастся развернуть успешную деятельность. Продолжавшиеся раздоры между Субх и-Эзелем и Беха-Уллой вынудили турецкое правительство расселить их: первого поселили на Кипре, а второго — в Палестине.
Деятельность Беха-Уллы была более успешной, чем его младшего брата. Новое религиозное движение получило название от его имени — бехаизм 27.
Причины того, что в борьбе между братьями победил старший, заключались в том, что пропагандировавшаяся им религиозная идеология больше соответствовала исторической обстановке. Субх и-Эзель оставался на позициях бабизма с его демократическими тенденциями и воинственным духом. Беха-Улла же выступил с новых позиций, которые больше устраивали господствующие классы Ирана, в особенности компрадорскую буржуазию. Его учение как в догматической части, так и в этическом и социально-политическом плане нашло отражение в новой священной книге — «Китабе Акдес», что означает «священнейшая книга» 28. Помимо нее Беха-Улла излагал свое учение в специальных посланиях — лаухах.
Если бабизм был специфически иранским явлением, то бехаизм сразу вышел на международную арену. Когда Беха-Улле удалось выйти победителем в конкуренции с братом и когда бехаистское движение пустило прочные корни среди населения, он счел возможным декларировать свой разрыв не только с бабизмом, но даже с исламом в целом. В последние десятилетия жизни (он умер в 1892 г.) Беха-Улла проповедовал свое учение в разных странах, и не только среди мусульманских, но и среди христианских народов.
Причиной широкого распространения бехаизма в мире были провозглашенная им веротерпимость и стремление к религиозному синкретизму. Среди лозунгов, начертанных у входа в бехаистские храмы, был и такой: «Религия нужна как объединяющее начало. Если она является причиной раздора, то гораздо лучше ее совсем не иметь» 29. Беха-Улла сформулировал задачу создания мировой религии, не связанной ни с одной из существующих, а объединяющей их в общем синтезе. Его сын и преемник Аббас-эфенди, выбравший себе имя Абдулбеха (раб блеска божьего), усилил эту синкретистскую и, следовательно, космополитическую тенденцию.
Такая ориентация вероучения должна была изменить и отношение к обрядовой стороне религии. Бехаизм подчеркивал второстепенное значение культа, молитв, бытовых предписаний и запретов религии 30. Были отменены общие богослужения в мечетях. Все это шло по линии приспособления религии к интересам не только иранской, но и международной буржуазии. Характерно, что снятие бабизмом мусульманского запрета взимать проценты бехаизм еще более резко подчеркнул, ликвидировав таким образом последнее препятствие, воздвигавшееся исламом на пути торгово-промышленной деятельности буржуазии.
Еще более важное значение имела социальная и политическая программа бехаизма. В противовес бабизму с его воинственным духом, с его призывами к борьбе за истинную веру и социальную справедливость бехаизм решительно отменил джихад и провозгласил, что царство справедливости может быть достигнуто лишь мирными средствами. Новое вероучение развивалось в условиях уже не только классовых противоречий феодального общества, но и антагонизма буржуазии и пролетариата в капиталистическом обществе. Бехаистским идеологам пришлось иметь дело с «рабочим вопросом». Они не уклонялись от него и изъявляли готовность приступить к его решению. Так, в числе двенадцати лозунгов, начертанных в бехаистских храмах, был и такой: «Мировой экономический вопрос должен был разрешен». Это отважное заявление конкретизировалось, однако, и в теории, и в практике бехаистского движения как банальная социальная демагогия, по своей сущности не отличающаяся от той, которой оперировало «социальное христианство».
Приведенный выше лозунг дополнялся следующим: «Все люди братья и равны между собою; у всех одни права». Таким способом бехаисты декларировали свое присоединение к основному тезису буржуазного социального учения о формальном равенстве всех людей, игнорирующему их фактическое неравенство в условиях буржуазного общества. Идеологи бехаизма утверждают неправомерность и фактического неравенства. Так, Абдулбеха писал: «Мы видим среди нас, с одной стороны, людей, перегруженных богатством, а с другой — несчастных, умирающих с голоду; одни имеют по нескольку величественных дворцов, у других же нет места, куда приклонить свою голову. Такое положение дел неправильно и должно быть исправлено. И средство должно быть тщательно подобрано». Но и здесь речь идет не о ликвидации неравенства, а о его смягчении. Надо, продолжал Абдулбеха, «чтобы бедность исчезла, чтобы всякий, насколько это возможно и соответственно своему сану и положению, имел долю комфорта и благосостояния». Сохранение «сана и положения» оказывалось для бехаистов существенной чертой того общества, в котором «мировой экономический вопрос» решался на основе их представлений и идеалов. К тому же сами «небеса постановили определенные порядки при сотворении мира». Эти порядки требуют того, чтобы в обществе, как это имеет место в армии, были генералы, капитаны, младшие офицеры разных степеней и солдаты 31. Без такого неравенства не могут существовать ни армия, ни человечество. И само собой разумеется, «генералы и капитаны» призываются к благотворительности в пользу нижних чинов. Все это не что иное, как попытка буржуазной перестройки ислама, не останавливающейся даже перед разрывом с его вероисповедными, культовыми и социально-этническими традициями.
Буржуазная сущность бехаизма выразилась и в том, что он отверг всякую преемственность с революционно-демократическими традициями бабизма, решительно осудив вооруженные методы борьбы и став фактически на позиции непротивления злу насилием. Уже в «Китабе Акдес» говорилось: «Не следует никому противиться тем, которые правят рабами (бога)» (Китабе Акдес, стих 228). Обращаясь к властям, Беха-Улла писал: «Мы не ищем распоряжаться в наших царствах, но мы пришли, чтобы властвовать над сердцами…» (Китабе Акдес, стих 194).
Бехаизм не подвергался преследованиям со стороны властей и господствующих классов, ибо не представлял для них никакой опасности. Но он и не получил поддержки в народных массах, да и вообще остался малозаметным, хотя и довольно устойчивым явлением в религиозной жизни. Влившись в общие буржуазно-реформистские религиозные движения и организации, бехаизм потерял всякую оригинальность, а вместе с ней и ту притягательную силу, которую представляет собой движение, выдвигающее своеобразные лозунги.
Бехаизм явился наиболее яркой формой приспособления ислама к условиям буржуазного строя и знамением поражения демократических масс, боровшихся против феодализма под религиозными лозунгами. В известной мере противоположным ему было махдистское движение в Судане, развернувшееся в 80—90-х годах XIX в.32
В отличие от бехаизма суданский махдизм подчеркивал свою неразрывную связь с исламом и свою преданность «чистому», первоначальному исламу. Он провозгласил и вел священную войну как с европейскими колонизаторами, так и с турецко-египетскими единоверцами, которые, с его точки зрения, предали идеалы мусульманской веры и стали лжемусульманами. Социально-экономическим содержанием движения была борьба прежде всего против европейского капитала, стремившегося овладеть страной, против развития в ней буржуазных отношений. Объективно это означало тенденцию к консервации условий феодального строя. Народные массы не имели никаких оснований бороться за сохранение феодализма. Но порабощение колонизаторами их никак не прельщало. А в целом их стремления были достаточно аморфны, поэтому неопределенный лозунг о возвращении к святым порядкам первоначального ислама давал для этих стремлений соответствующую им гибкую религиозную форму.
Возглавлял движение суданский дервиш Мухаммед Ахмед. В 1871 г. он обосновался на нильском острове Абба, откуда рассылал странствующих дервишей по всей стране. Основным мотивом пропаганды были выступления против порчи нравов и роскоши, в которой живут богатые феодалы, работорговцы, купцы и промышленники. В этих грехах обличались не только европейские колонизаторы, но и турецкие и египетские «лжемусульмане», отступившие от Корана и его установлений. Эмиссары нового пророка призывали в порядке реконструкции раннего ислама отобрать земли у феодалов, произвести уравнительный передел всех движимых и недвижимых имуществ, отказаться от внесения налогов, свергнуть турецко-египетское господство, изгнать из страны европейских колонизаторов 33.
Далеко не все выдвинутые требования соответствовали установлениям Корана и порядкам раннего ислама, но для народных масс, не искушенных в богословских тонкостях и малознакомых с историей своей религии, было достаточно апелляции к авторитету пророка и Корана. Сама же социальная программа, выдвинутая проповедниками нового учения, была с энтузиазмом встречена крестьянами и рабами, скотоводами и ремесленниками. Местные феодалы и работорговцы были вынуждены вести гибкую политику, используя, с одной стороны, те мотивы движения, которые были направлены против иноземных конкурентов, но по возможности, с другой стороны, избегая неприятностей, связанных с реализацией требования передела имуществ. В общем пропаганда нового учения была успешна, и к его вождю стекались массы приверженцев, готовых вести священную войну за провозглашенные им социальные и религиозные лозунги.
Возникновение нового религиозно-социального движения встревожило как египетско-турецкие власти, так и находившихся у них на службе европейцев. Летом 1881 г. Мухаммед Ахмед провозгласил себя махди и кратко изложил программу действий. Египетское правительство предъявило ему требование явиться в Хартум, чтобы оправдаться перед властями в своем мятежном поведении. Мухаммед Ахмед отказался от повиновения какому бы то ни было правительству. Прибывший на остров Абба карательный отряд был полностью разгромлен махдистами. Тут же махди объявил джихад, направленный как против неверных, так и против «лжемусульман». Он перенес свою базу в провинцию Кордофан и предпринял активные военные действия против суданско-египетских войск, руководимых в значительной своей части европейскими инструкторами и поддерживаемых отрядами европейских наемников.
В обстановке огромного религиозного воодушевления быстро возраставшее махдистское ополчение успешно вело военные действия. В ноябре 1883 г. была разгромлена англо-египетская армия, которой командовал британский генерал Хикс. Такая же судьба постигла в начале 1884 г. и войска генерала Бекера. Весной 1884 г. махдисты осадили Хартум и в начале 1885 г. взяли его 34.
На этом этапе священная война махдистов закончилась победоносно. Можно было приступать к строительству нового государства на тех исламских основаниях, которые прокламировали махдисты в период борьбы за власть. Махди вскоре после победы умер, его преемником стал Абдаллах ибн аль-Саид Мухаммед, именовавший себя уже не махди, а его халифом-преемником. Страна была разделена на четыре области, управляющий каждой из них тоже именовался халифом; таким способом подчеркивался исламско-теократический характер государства. Однако и на этот раз попытка осуществления религиозного социального идеала оказалась утопической.
Вначале общественные порядки были построены в соответствии с суровыми уравнительно-аскетическими принципами, провозглашенными махди. Командный состав армии и чиновничества набирался из низов, заработная плата высокопоставленных государственных чиновников не превышала заработка ремесленника. В быту строго регламентировалось употребление предметов роскоши и даже просто предметов обихода, все драгоценности предписывалось сдавать государству. Запрещались всякие излишества и в пище 35.
При всем этом развитие социальных процессов вело к разложению порядков «первоначального ислама», установленных махди. В движении, которое было вызвано социально-экономическими причинами, только идеологическими средствами оказалось невозможным вывести общество за рамки закономерного развития.
Через несколько лет после организации махдистского теократического государства стали проявляться процессы его феодального перерождения. Чиновники и офицеры захватили большие поместья, обрабатывавшиеся рабами и близкими к ним по своему положению крепостными, построили великолепные дворцы и виллы. Рабство не было запрещено даже в начале движения.
Процесс феодального перерождения махдистского государства вызывал сопротивление народных масс, подвергавшихся новому закабалению. Начались восстания демократических элементов движения. В этой обстановке европейская буржуазия получила возможность уничтожить махдистское государство.
На всем протяжении существования этого государства буржуазия вела против него подрывную работу через своих агентов, служивших в армии и в государственном аппарате, занимавшихся систематическим вредительством и шпионажем как в хозяйстве, так и в вооруженных силах. Когда в 1896 г. англо-египетские и французские войска с севера и запада двинулись на завоевание Судана, почва для этого была уже достаточно подготовлена. Колониалисты превосходили махдистов и в вооружении. В 1898 г. государство исламской теократии перестало существовать 36.
Но сама идея такого государства получила к этому времени распространение в значительно более широких масштабах, хотя и в несравненно менее действенной форме: она не являлась лозунгом народных движений, не была знаменем революционных восстаний или национально-освободительных войн; фактически сфера ее действия ограничивалась политикой и дипломатией, а также пропагандой в газетах и журналах. Имеется в виду идея панисламизма.
ПАНИСЛАМИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСЛАМА
Панисламистское движение провозглашало, что мусульманам всех наций и стран следует объединиться в одно всемирное исламское государство под главенством халифа, в лице которого должны слиться светская и духовная власть над всеми подданными такого государства 37. Эта на вид простая идея пропагандировалась, однако, в обстановке сложного переплетения классовых и национальных политических интересов, запутанных взаимоотношений многочисленных государств, как мусульманских, так и христианских. В итоге осуществление выдвинутой идеи оказалось практически невозможным, а ее суть приобрела противоречивое значение.
Идея создания мирового мусульманского государства под верховенством халифа выдвигалась уже в первые десятилетия существования ислама, и именно она являлась идеологическим знаменем завоевательных войн арабов. Реальный ход истории заглушил ее, так что вновь она стала звучать, притом в иной форме, лишь в новое время.
Идеологом новейшего панисламизма считается Джемаль-ад-дин аль-Афгани, развернувший свою деятельность в конце XIX в. Его соратником и последователем в Египте был муфтий Шейх Мухаммед Абдо. В других мусульманских странах панисламистская идеология также получила распространение. Особенно активно ее поддерживал турецкий султан Абдул-Хамид II, который носил титул халифа и рассчитывал на то, что именно ему доведется стать во главе будущего всемирного исламского государства. Он приютил у себя Джемаль-ад-дина аль-Афгани и предоставил в распоряжение панисламистов средства для ведения их пропаганды 38.
В том варианте, который устраивал султана Абдул-Хамида II, панисламизм совпадал с пантюркизмом 39: он предполагал соединение всех мусульман мира в рамках «Блистательной Порты», что означало бы присоединение к ней Ирана, Афганистана, населенных мусульманами областей Индии, всей Средней Азии, Индонезии, ряда стран Африки. Как ни странно, но этот вариант панисламизма пользовался поддержкой британского правительства, так что даже не без основания именовался его противниками «английским панисламизмом». Дело в том, что Турция в этот период была вассалом Англии, поэтому возвеличение Турции и подчинение ей большого количества новых земель и стран фактически означало бы усиление мощи Британской империи и ее международного веса.
Разные социальные и национальные группировки искали в панисламизме воплощение своих интересов. Тем, кто боролся против завоевания Востока европейскими колонизаторами, панисламизм давал лозунги, которые могли в какой-то мере способствовать объединению восточных народов для сопротивления иноземному порабощению. Но идеологическая форма этих лозунгов — ислам против христианства — искажала реальные классовые и национальные отношения, нанося вред освободительному движению.
Во второй половине XIX в., а особенно в начале XX в. в буржуазных странах развернулось мощное рабочее движение под знаменем социализма, которое было естественным союзником национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах. Но для панисламизма оно являлось в такой же или почти в такой же мере «христианским», как и любые другие формы общественной жизни Западной Европы. А с другой стороны, социальное расслоение и классовая борьба среди мусульманских народов делали панисламистскую идеологию противоречивой.
Феодалы видели в панисламизме знамя борьбы против развивающихся буржуазных отношений и против буржуазии, как иноземной, так и нарождавшейся отечественной. Те представители буржуазии Востока, интересам которых противоречило наступление европейских колониальных захватчиков, усматривали в панисламизме идеологическое и политическое средство борьбы против этого наступления. Для народных же масс панисламизм не мог стать идеологией борьбы против эксплуататоров: «собственные» феодалы, купцы и ростовщики оказывались братьями в исламе, а призывы к антиимпериалистической борьбе, фигурировавшие в панисламизме, были туманны и противоречивы.
Внутренняя противоречивость панисламизма нашла свое выражение и в его отношении к тому процессу модернизации вероисповедной стороны ислама, который развернулся в конце XIX в.
Модернизация была неизбежна, ее требовал ход исторического развития. Феодальные формы ислама (в это понятие включаются не только определенные догматические верования, но и взгляды на общество и общественные отношения, а также на систему религиозного права, воплощенную в шариате) должны были подвергнуться серьезным изменениям применительно к условиям развития буржуазных отношений в странах Востока. Имелась в виду такая реформа ислама, которая предопределила бы воссоединение его ответвлений и сект на модернизированной догматической основе, «просвещенной» и не противоречащей современной цивилизации. В таком «пробуждении ислама» реформаторы усматривали средства ликвидации вековой технико-экономической и культурной отсталости народов Востока.
Зачинателями модернизационного движения в Египте были Джемаль-ад-дин аль-Афгани и Шейх Мухаммед Абдо. Для характеристики взглядов первого из них можно привести его беседу с представителем египетской газеты «Аль-Муаяд». Журналист задал вопрос: «Есть ли средство спасти мусульман от современного бессилия, отсутствия сознательности и упадка?» Основоположник панисламизма ответил на этот вопрос длинной речью, в которой сформулировал содержание своей концепции. Единственным средством преодоления отсталости мусульманского Востока Джемаль признал «реформу мусульманства». Но он боялся того, что его программа может быть воспринята как стремление к новшествам и к обновлению: это грозило потерей репутации правоверного мусульманина. Реформатор тут же заявил, что он имеет в виду не добавление к религии чего-нибудь не возвещенного пророком и не уничтожение или изменение каким бы то ни было образом основ ислама, а устранение того, что позднее люди прибавили к возвещенной пророком религии, возврат религии к тому первичному содержанию, в котором она зародилась в первый век мусульманства 40.
Конечно, ни такая, ни какая-либо другая реформа мусульманства не могла внести решительных изменений в социально-экономическое развитие, такие изменения происходят лишь в ходе борьбы народных масс против империализма и против реакционных классов своих стран. А перенесение центра тяжести всей борьбы за общественные преобразования из области политики и экономики в область религиозной реформы давало возможность ориентировать народные массы в направлении покорности колонизаторам и отечественным эксплуататорам. Шейх Абдо утверждал, что политическая, а тем более военная борьба против английских колонизаторов может только принести вред, надо, мол, наоборот, пользоваться их помощью и поддержкой в деле возрождения ислама.
Став с помощью англичан главным муфтием Египта, Абдо получил широкие возможности влияния на всю религиозно-идеологическую и политическую жизнь страны. Свои взгляды он мог уже выражать не только в книгах и статьях, но и в фетвах, являвшихся официальными документами.
Одной из фетв Абдо разъяснил, что ислам не запрещает банковские операции. Потребовалась известная софистическая изворотливость для доказательства того, что кораническое запрещение взимания процентов (ростовщичество!) не относится к деятельности банков, хотя она целиком основана на процентном принципе.
Специальная фетва разрешала мусульманам носить шляпу и европейский костюм 41. Такие разрешения входили в мероприятия, целью которых являлось облегчение деловых и прочих контактов египетской буржуазии с европейскими капиталистами. Модернизация ислама должна была найти свое отражение и в быту — иначе компрадорская буржуазия не могла развернуть свою деятельность.
Помимо фетв Абдо, регулярно публиковавшихся в журнале реформаторов «Манар», их взгляды излагались в статьях и книгах самого Абдо, Джемаль-ад-дина, Рашида Рида и др. Особое значение имели работы Абдо «Трактат о единобожии» и комментарии к Корану, на основании которых можно составить общее представление об идеях ближневосточного исламского реформизма.
Реформаторы призывали к ориентации на современную цивилизацию и связанную с ней науку. Абдо писал: «Изучение истории передовых наций показывает, что одним из основных факторов их прогресса и цивилизации явилось развитие наук». Ортодоксальное духовенство, чурающееся науки, обнаруживает тем самым свою отсталость, ибо «затыкать уши и отворачиваться от науки можно было в эпоху варварства, а в настоящее время это недопустимо» 42. Наука (имеется в виду естествознание) исследует природу, а к последней надо относиться с максимальным почтением, поскольку она является творением Аллаха. Бог дал людям две священные книги: Коран и природу; их необходимо активно изучать. Противоречий между ними быть не может хотя бы потому, что обе они исходят от одного автора. А если противоречия и обнаруживаются, то надо найти такое решение вопроса, в котором они примиряются.
Средством примирения опять-таки является «истинное» толкование Корана. В соответствии с принципами европейской Реформации, на которую модернизаторы ислама постоянно ссылались, толкование Священного писания является правом каждого верующего, а духовенство и проповедники не навязывают им своего толкования и дают лишь образцы его приемов. Приемы же эти оказывались «образцовыми» по своей произвольности и казуистичности. Исследователь мусульманской реформации М. В. Малюковский характеризует их: «Типичным примером в их (реформаторов. — И. К.) толковании Корана была софистика, использование много-значимости арабских слов, противоречий и неясностей в текстах» 43. Если же какой-либо коранический текст дает не тот смысл, который нужен интерпретатору, рекомендовалось обращаться к другим текстам, чтобы по принципу аналогии истолковать данное место так, как требуется. Это давало возможность не считаться с одними высказываниями Корана и выдвигать в качестве «ясных» другие тексты. Широко применялось аллегорическое толкование, поэтому каждое утверждение Корана можно было толковать в любом угодном смысле, подводя его под то или иное понятие современной науки. Так, Абдо рассматривал фигурирующих в Коране и в Сунне джиннов как микроорганизмы, которых-де признает и наука. Более того, среди микробов и среди джиннов имеются полезные и вредные для человека, добрые и злые.
Сомнительным с религиозной точки зрения выглядит учение реформаторов о чудесах. Видимо, они отрицали возможность чудес как нарушения законов природы. Эти законы в их изображении представляют собой выражение не только воли Аллаха, но и сущности Всемогущего, поэтому никаким нарушениям они не подлежат. Что же касается преданий и сообщений о чудесах, то в них надо каким-то образом видеть аллегорическое указание на логичность всего существующего, а в особенности на логическую неуязвимость ислама.
Учение о предопределении, являющееся одним из столпов исламского вероучения, фактически было отброшено реформаторами. Они извлекли из Корана те аяты, в которых ответственность за дела людей возлагается на них самих, и основали на этих текстах учение о свободе воли человека. Что же касается тех мест Корана, где говорится о предопределении, то реформаторы свели их смысл к признанию эпизодического вмешательства Аллаха в дела людей44. Этим подчеркивалось то значение, которое имеет в жизни общества личная активность человека-деятеля, в частности предпринимателя и купца.
Небезынтересно отметить новое решение в фетвах Абдо вопроса об отношении ислама к изобразительным искусствам и к фотографии. Вопреки традиционно отрицательному решению данного вопроса ортодоксальным исламом, правда постоянно нарушавшемуся всеми мусульманами, Абдо объявил, что ничего греховного в этой области человеческой деятельности нет. А затруднение, вытекавшее из запрещения Мухаммеда изображать живые существа, было ликвидировано следующим объяснением: пророк запретил это во избежание идолопоклонства и многобожия, которое в те времена было сильно развито, теперь же оно не представляет опасности, поэтому запрещение можно считать недействительным 45.
Фактически отменяя ислам в его кораническом виде, реформаторы не переставали ссылаться на авторитет Корана и призывали верующих следовать «чистому» исламу в его первозданном виде. Авторитет Корана как непогрешимо божественной книги они отстаивали с величайшим усердием и в то же время подвергли его учение полному пересмотру.
Реформаторская деятельность Абдо и его соратников встретила яростное сопротивление со стороны ортодоксального духовенства. При этом действовали, конечно, не одни лишь богословско-догматические соображения. Решающую роль играли интересы феодалов и духовенства, остро затрагивавшиеся новыми идеями и веяниями. В довольно обнаженном виде противопоставлялись здесь интересы буржуазии и феодалов; что касается широких народных масс, то до них борьба реформаторов и ортодоксов почти не доходила.
В развернувшейся идеологической и политической борьбе английские колонизаторы были целиком на стороне модернистов. Турецкий же султан и его окружение занимали враждебную реформаторам позицию, так как ортодоксальный ислам давал ему большие возможности для панисламистских и пантюркистских интриг46.
Другим центром реформаторского движения в исламе наряду с Египтом стала в XIX в. Индия 47. Конкретно речь идет о деятельности группы, возглавлявшейся Сайид Ахмад-ханом. В середине XIX в. этот разносторонний деятель — политик, публицист, философ, историк, богослов — опубликовал произведения, в которых обосновал необходимость модернизации ислама и наметил ее основные линии.
По ряду конкретно-научных вопросов Сайид Ахмад-хан занимал реакционные позиции. Так, одна из его работ была посвящена обоснованию истинности Птолемеевой космологической системы геоцентризма. При этом он все же настаивал на необходимости считаться с данными науки, согласовывать с ними учение ислама. Религия, считал Ахмад-хан, может препятствовать развитию цивилизации только в том случае, если это ложная религия, ислам же как таковой («чистый ислам») «не может препятствовать прогрессу человечества, потому что осуществление предписаний этой религии, просветительство и развитие цивилизации тесно связаны между собой» 48. А само учение «чистого ислама» оказывалось настолько гибким, что под него можно было подводить любой взгляд, который представлялся толкователю подходящим для данной обстановки.
В полной силе оставался у Сайид Ахмад-хана догмат о единственном боге, который сотворил природу, человека и общество. Но понятие бога выглядит у него настолько абстрактно, что приближается к пантеистической и деистической трактовке его. Природа в догматической системе Сайид Ахмад-хана есть не что иное, как инобытие бога, а ее законы непреложны и являются выражением его сущности. В тени остается, таким образом, учение о личном боге, о чудесах, о сверхъестественном творении мира. Ставились под сомнение такие основы мусульманской догматики, как учение о конце света, о загробном воздаянии, о предопределении.
Своей важной задачей Ахмад-хан считал «освобождение мусульман от душившей всякую живую мысль косности улемов (исламские идеологи и богословы. — И. К.) и установление свободы мнений»49. Свобода мнений, контролируемая мечом, — типичный образчик того лицемерия, которым характеризуется религиозная идеология на всем протяжении ее истории. Не следует забывать, однако, что в данном случае такая позиция вытекала из объективного положения молодой индийской буржуазии и из сложности стоявших перед ней задач борьбы как против английских колонизаторов и отечественных феодалов, так и против пробуждавшихся к действию народных масс.
Из других мусульманско-реформационных течений в Индии рассматриваемого периода следует отметить течение, связанное с именем Мирзы Гулам Ахмада Кадиани и получившее распространение в Пенджабе. Оно возникло под влиянием Сайид Ахмад-хана. Здесь развитие движения привело к организации секты, получившей наименование ахмадие (от имени ее основателя) или кадиани (от названия местечка Кадиана, откуда происходил Гулам Ахмад). Секта возникла в 1889 г., а через два года ее основатель был провозглашен новым пророком, пришедшим на смену прежним. В основу такого высокого ранга Гулам Ахмада был положен богословский догмат, согласно которому каждое столетие Аллах посылает людям нового пророка, — для XII в. хиджры таковым якобы является именно Гулам Ахмад 50.
Учение о пророках, систематически приходящих на смену друг другу, было направлено против панисламизма, поскольку из него вытекала беспочвенность претензий турецкого султана, а также всех, кто считает себя потомками Мухаммеда, на господство над исламским миром во все времена. Ахмадие пыталась открыть путь к сближению ислама с другими религиями, вернее, к их подчинению исламу в его ахмадийской форме. Этому соответствовало учение о том, что Иисус Христос после своего воскресения не вознесся на небо, а остался на земле и жил, а потом умер в Индии, находясь в контакте с ее жителями. Такое утверждение способствовало проповеди дружественных отношений между христианами и мусульманами и даже слияния религий, конечно, под главенством Гулам Ахмада, который оказывался чем-то вроде нового Христа. Кроме того, он присвоил себе и статус воплощения бога Вишну, что должно было обеспечить ему возможность присоединять к своей пастве и индуистов.
Новое учение решительно отвергало антианглийский джихад и требовало от своих приверженцев полного повиновения властям. Гулам Ахмад писал: «В соответствии с моей верой ислам состоит из двух частей — послушания богу и послушания правительству» 51. Больше того, он возлагал надежды на дальнейшее расширение английских владений за счет новых колониальных захватов. Это якобы откроет перспективы распространения ислама среди неисламских народов и обращения мусульман старого толка в «истинный», т. е. ахмадийский, ислам.
Что касается вероисповедной стороны ахмадийства, то здесь господствовал культ нового пророка. Главным догматом считалась вера в абсолютное пророческое достоинство Гулам Ахмада, самым страшным грехом — непризнание этого догмата. Авторитет Корана признавался, но лишь в той интерпретации коранических текстов, которую давал Гулам Ахмад.
В начале XX в. видным представителем исламского модернизма в Индии был поэт, философ и общественный деятель Мухаммад Икбал 52. В своей трактовке ислама он опирался на труды Сайид Ахмад-хана, с которым в вероисповедных вопросах выражал полное согласие. Расходился он с ним лишь в той политической ориентировке, которая вытекает из приверженности к мусульманской религии. Мухаммад Икбал был настроен более воинственно в отношении иноземного господства над Индией и даже допускал правомерность, при наличии некоторых условий, джихада, направленного против колонизаторов. Он проповедовал и идеал совершенного исламского общества, основанного на предписаниях ислама, отвергая, правда, господство духовенства в жизни этого государства.
ИСЛАМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Для царской России ислам стал внутренней проблемой во второй половине XVI в., когда были завоеваны Казанское и Астраханское ханства. Вслед за этим России покорилась Большая Ногайская орда, а потом — Западная Башкирия, ранее находившаяся в подчинении у казанских ханов. Фактически все Поволжье оказалось под властью русских царей. Конец XVI в. ознаменовался также присоединением к России Сибирского ханства. В течение XVIII в. шла борьба России за Северный Азербайджан, завершившаяся в 1828 г. присоединением последнего из азербайджанских ханств — Нахичеванского. В 1783 г. было завершено покорение Крыма. К 1864 г. были ликвидированы последние очаги сопротивления на Кавказе. Вскоре были полностью завоеваны среднеазиатские ханства и эмираты. Перечисленные территории были в основном населены мусульманами. Царскому правительству, опиравшемуся на православную церковь, нужно было вырабатывать какую-то линию поведения в отношении ислама, последователями которого были миллионы новых подданных Российской империи.
Вначале решение этой проблемы представлялось несложным. У Ивана Грозного не вызывала особых сомнений необходимость немедленного крещения всех татар на завоеванных им землях. В первые четыре года после взятия Казани часть татарского населения усилиями духовенства и администрации действительно была окрещена. Тут же, однако, процесс христианизации затормозился. Те татары, которые перешли в православие, составили круг избранных и привилегированных, но народные массы не последовали их примеру. Когда в 1556 г. произошло восстание местного населения против русских властей, то «старокрещенцы» приняли самое активное участие в его подавлении, и, так как к ним, очевидно, принадлежали наиболее сильные в военном отношении феодалы, их помощь властям в разгроме повстанцев сыграла решающую роль 53.
Первые цари романовской династии не теряли надежды на искоренение ислама как в Поволжье, так и в Сибири. Рядом узаконений мусульмане были поставлены в неравноправное с христианами положение. Царь Михаил Федорович издал указ, по которому некрещеные, и прежде всего мусульмане, не могут держать в своем услужении или в какой-либо зависимости православных. Уложение Алексея Михайловича подтвердило это узаконение и, кроме того, установило самые жестокие наказания за совращение в ислам или в другую нехристианскую религию54. Деятели православной церкви, занимавшие архиерейские кафедры в местах с мусульманским населением, пользовались любым случаем, чтобы начать преследования тех, кто упорствовал в старой вере. Известен своей погромной деятельностью подобного рода первый казанский архиерей Гурий, причисленный потом православной церковью к лику святых. Из последующих архиереев прославился Лука Конашевич, развернувший свою деятельность в середине XVIII в. 55 Он поставил цель — выселить из Казани всех мусульман и воспользовался для этого таким необычным поводом, как пролет метеорита над Казанью и большой пожар в городе, происшедший на следующий день после столь грозного небесного знамения. Метеорит был истолкован как огненный змей, посланный небесными силами для предупреждения о том, что в дальнейшем грянут еще более страшные бедствия, если в городе будут продолжать жить нераскаявшиеся мусульмане. Власти организовали в Казани кровопролитный татарский погром, а через Синод царице Елизавете был направлен ряд представлений о необходимости очищения города от нехристей. Императрица вняла этому пожеланию, и татарское население переселилось в новый район и только позже перебралось в место своего прежнего проживания.
Царское правительство действовало при помощи не только репрессий, но и подкупа. В ряде случаев земли и крепостные, отобранные у упорствовавших в своем мусульманстве помещиков, отдавались тем земледельцам, которые переходили в христианство. Практиковались и мелкие льготы. Специальный указ от 11 сентября 1740 г. перечислял те блага, которых удостаивался новокрещеный: «Каждому по кресту медному… весом каждой по пяти золотников, да по одной рубахе с порты и по сермяжному кафтану с шапкою и рукавицы, обуви чирики с чулками; а кто познатнее, тем при крещении давать кресты серебряные по четыре золотника, кафтан из сукон крашенных… ценою по 50 копеек аршин, а вместо чириков сапоги, ценой по 45 копеек, женскому полу волосники и очельники, по рубахе холщовой, да от денег мужска пола, кои от рождения выше 15 лет, по рублю по 50 копеек, а от 10 до 15 лет по рублю, а кои ниже 10 лет тем по 50 копеек; женска пола от 12 лет и выше по рублю, а прочим, кои ниже 12 лет, по 50 копеек» 56.
Убедительность приведенных аргументов в пользу единоспасающей христианской веры оказывалась, однако, недостаточной для того, чтобы сократилось число мусульманского населения. Курс русских царей от Ивана Грозного до Елизаветы Петровны на полное покорение и освоение завоеванных народов при помощи их христианизации оказался нереальным. Со второй половины XVIII в. он начинает уступать свое место признанию неизбежности сосуществования христианства с исламом, разумеется, при сохранении господствующего положения православной церкви. Царизм был вынужден изменить и способы использования мусульманского духовенства в своих целях: если раньше оно подвергалось давлению и принуждению к перемене веры, то уже со времен Екатерины II используется другой путь — применения усилий мусульманского духовенства для пользы существующего строя.
Переход муллы или ишана (монах-дервиш, возглавлявший группу дервишей) в православие лишал его всякого влияния на мусульманские массы, так что он становился бесполезным для царских властей. Оставаясь же в своей вере и на своем посту, он сохранял возможности религиозно-идеологического и политического воздействия на соплеменников и, будучи фактически закуплен царской администрацией, защищал ее интересы.
Сопротивление народов, исповедовавших ислам, во многих случаях принимало религиозное оформление. Основные лозунги борьбы были направлены против ложной веры и власти неверных многобожников, за Аллаха и его пророка. Но в этом скрывалось сложное переплетение реальных жизненных обстоятельств социального, и прежде всего экономического, порядка.
Феодалы опасались полной или частичной потери своих привилегий и богатств. Народным массам представлялось, притом с достаточным основанием, что с чужеземным завоеванием к «собственному» феодальному гнету присоединится еще и гнет царского самодержавия. Для духовенства же существовавший порядок был органически свой, руководившие им силы и социальные группы составляли одно целое с ним самим. Формы служения этому порядку сложились в нечто привычное и «естественное», нельзя было быть уверенным в том, что так же сложатся взаимоотношения и с новой властью. Беспокоилось духовенство и о собственных имущественных интересах, которые могли пострадать в результате завоевания. К этому присоединялся страх за привычный уклад жизни, действовало стремление к сохранению своего языка и сложившихся форм быта, давал себя знать весь комплекс переживаний, связанных с национальным самосознанием.
Мусульманское духовенство имело прочные экономические позиции. Представление о его доходах можно получить из позднейших данных, относящихся к концу XIX и началу XX в. В Бухаре количество вакфных (принадлежащих духовенству) земель составляло от 123 до 130 тыс. десятин. В Бухаре под вакфами находилось до 80 % всех лавок базара. На территории современного Таджикистана духовенству принадлежали подати с 33 403 десятин земли и 674 танапов (мера земельной площади) садов, арендная плата со 100 мельниц и 1706 построек, преимущественно торговых. В Хивинском ханстве под вакфами было около половины всей возделываемой земли. В Крыму только по пяти уездам вакфная собственность насчитывала 87 614 десятин земли, около 500 домов и лавок 57. Вероятно, к моменту завоевания Крыма Россией богатства духовенства были не меньше, а, может быть, и больше. Муллы и ишаны должны были опасаться — не приведет ли это завоевание к потере их богатств. Все это в серьезной степени питало их оппозиционное отношение к вторжению царизма.
Сказанным отнюдь не снимается то значение, которое имел в тех условиях религиозный фанатизм. Было бы, однако, грубым упрощением механически разделять социально-экономический и идеологический факторы. В психологии масс и даже тех группировок, которые стоят во главе движения, оба фактора сливаются, взаимно усиливая друг друга. На поверхности же остается фактор идеологический — в данном случае исламско-религиозный, так что лозунги оппозиционного движения выглядят прежде всего как вероисповедно-фанатические. В такой форме протекали восстания татар Казанской губернии в 1878–1879 гг. и Бухарском ханстве (1888), в Ташкенте (1892), Андижане (1898) 58. Но пожалуй, классическим примером упорного и длительного сопротивления царскому завоеванию, протекавшего в форме религиозной войны, являлась та борьба, которую вели кавказские горцы с середины 20-х годов XIX в. до 1864 г.
Среди коренного населения Дагестана и Чечни получил распространение мюридизм — мусульманское учение о религиозном подвижничестве, имевшее здесь смысл наиболее самоотверженного и беззаветного участия в газавате (джихаде) 59. Под предводительством шейхов и мулл отряды мюридов вели непримиримую вооруженную борьбу против русских войск и властей, а также против своих соплеменников, капитулировавших перед царскими войсками. Скоро движение получило более стройную организацию — был учрежден имамат во главе с муллой Гази-Мухаммедом. Начались военные действия против русских гарнизонов на Тереке. В одной из стычек Гази-Мухаммед был убит, его преемник Гамзат погиб в результате заговора, и только третий имам, Шамиль, вел борьбу с завоевателями в течение длительного времени 60.
Шамиль нанес несколько серьезных поражений русским войскам и на некоторое время укрепил свой тыл путем создания сильной социальной прослойки наибов — новой аристократии, кровно заинтересованной в сохранении имамата. Шамиль получал помощь пограничных исламских государств — Турции и Ирана, и это помогало ему длительное время продолжать сопротивление. Война велась по существу под знаменем панисламизма.
Тем не менее социальные противоречия внутри имамата оказывались сильнее религиозного фанатизма. На нужды войны земледельцы и скотоводы должны были вносить огромные натуральные подати, причем львиная доля собираемых ценностей присваивалась наибами, ведшими паразитический образ жизни. Постепенно многие участники движения отошли от него. В итоге Шамиль оказался с несколькими сотнями мюридов, вместе с которыми и был взят в плен в 1859 г. Горцы Западного Кавказа еще некоторое время продолжали сопротивляться, но судьба газавата была решена. Вскоре весь Кавказ оказался в руках царских властей, так что и рядовым мусульманам, и священнослужителям пришлось мириться с тем религиозным режимом, который устанавливали «неверные» с благословения православной церкви.
Как уже говорилось, самодержавие в это время стало активно использовать мусульманское духовенство в своих целях, что оказалось возможным и для целей, преследовавшихся царями, вполне эффективным.
В мерах насильственной христианизации мусульманского населения надобности уже не было. Мусульманское духовенство могло уже разъяснять пастве, что со стороны царских властей их вере ничто не угрожает. Так, в 1894 г. оренбургский муфтий М. Султанов писал в специальном циркуляре всем ахундам и мечетскому духовенству: «До моего сведения дошло, что в народе и даже между муллами ходят слухи, что будто бы магометан будут крестить в русскую веру… правительство не имеет никакого намерения крестить нас, а, напротив, разрешает нам свободно исповедовать ислам, открыто и без стеснения исполнять обряды нашей веры и строить мечети для богомоления…» 61 Муфтий предлагал духовенству разъяснить верующим это положение.
Со временем мусульманское духовенство все более открыто и последовательно декларировало свою преданность царизму. Уже через семь лет после присоединения Самарканда делегация во главе с кадием преподносила генерал-губернатору К. П. фон Кауфману по случаю занятия русскими войсками Коканда поздравительный адрес, в котором выражался восторг мусульман Самарканда по случаю победы русского оружия62. Известны случаи, когда мусульманское духовенство во время антиправительственных восстаний предавало повстанцев. После одного из выступлений, происходивших в конце 70-х годов в Казанской губернии, начальник жандармского управления генерал-майор Житков доносил в Петербург: «Духовенство магометанское не замешано, вело себя преданно и благоразумно, сами муллы указывали на подстрекателей беспорядка» 63.
Царское правительство, ведя войну с Шамилем, широко пользовалось услугами мулл, засылая их на территорию имамата для выполнения не только подрывно-агитационных, но и шпионских функций. Так, еще в 1836 г. мулла Тазадин Мустафин по заданию царского сановника барона Розена совершил с этой целью поездку, задача которой сформулирована одним из историков шамилевского движения следующим образом: «Красноречием этого муллы обратить горцев на путь истинный, подчинить их русскому правительству и истребить или выдать нам живьем Шамиля» 64. Хотя мулле не удалось даже проникнуть на территорию Чечни и в центр Дагестана, но он был вознагражден за свои старания кроме денег титулами шейх-уль-ислама и муфтия и даже чином капитана 65.
В 1836 г. уфимский муфтий Абу-Салим Абдуррахимов обратился с «духовно-религиозным наставлением» ко всем мусульманам о необходимости «быть беззаветно покорными всевышнему Аллаху… быть покорными государю императору Николаю Павловичу и повиноваться всем от него исходящим повелениям…». Неоднократно в этом пространном послании повторяется все то же наставление о покорности и непротивлении со ссылками на Коран и пророка. Текст присяги, которую должны были по разным поводам приносить правительству «лица магометанского исповедания», был построен на религиозных формулах ислама. Приводимый к присяге клялся «всемогущим богом пред святым его ал-Кораном в том, что хочу и должен… самодержцу всероссийскому, и законному его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови…» Речь шла не только о собственной верной службе, но и о наблюдении за другими царскими подданными, о «благовременном объявлении» о любом грозящем «ущербе его величества интересу, вреде и убытке…». Связь присяги с вероучением и культом ислама была красноречиво подчеркнута в изданных царскими властями «Правилах о приведении лиц магометанского исповедания к присяге». Там предписывалось сначала совершать «предписанное законом омовение, потом в присутствии муллы, держа с почтением правую руку на Коране, произносить со вниманием и благоговением слова присяги… устремив взор во все время на священную книгу». Правила регламентировали и внешнюю обстановку обряда, которая должна внушать приводимому к присяге максимальное почтение к религии и к Корану: «Самый Коран, в знак благоговения, должен быть положен на пелену из чистой шелковой материи и поставлен на налой или столик вышиною, по крайней мере, в аршин» 66.
Царские власти оказывались не меньше мусульманского духовенства заинтересованными в поддержании приверженности мусульман к их религии. Они старались поддерживать ее и более решительными методами. К 1833 г. относится документ, подписанный сенатором П. Богдановым и гласивший буквально следующее: «По указу его императорского величества, самодержца всероссийского, все мусульмане России должны выполнять все требования своей религии, строго выполняя ее догматы. Вероотступников наказывать следующими тремя способами: первый раз — розгами, второй раз — палками и третий раз — нагайками». Документ был переведен на татарский язык и опубликован с дополнительной подписью муфтия Сулейманова. На вновь завоеванных царизмом территориях власти старались проявлять свою готовность поддерживать ислам всеми зависящими от них мерами насилия. Завоеватель Средней Азии генерал М. Г. Черняев опубликовал в 1865 г. указ, в котором населению предписывалось под страхом обычных наказаний строго соблюдать все предписания ислама 67. Муфтиям, муллам и ишанам оставалось лишь славословить самодержавие и его полицию.
Огромное количество верноподданных адресов и заявлений направлялось мусульманским духовенством царям по случаю очередной коронации или по другому поводу. В ознаменование 300-летия дома Романовых были проведены мусульманские богослужения, торжественные собрания. Их цель заключалась не столько в том, чтобы заверить самодержавие в преданности мусульманского духовенства, сколько в соответствующем воздействии на массы верующих мусульман.
Особенно активную деятельность на службе самодержавия развернули исламские священнослужители в период революции 1905 г. и в последовавший за ней период реакции. В разгар революционных событий 1905–1907 гг. были проведены два всероссийских мусульманских съезда, в решениях которых недвусмысленно проявилась реакционно-монархическая позиция мусульманской церкви. Ходатайствуя перед министром внутренних дел о разрешении на созыв третьего съезда, группа инициаторов писала: «Мы, мусульмане России, будучи самыми верными российскому самодержавию и боясь распространения… панисламизма и идей, разрушающих жизнь народа, социализма и анархизма и вследствие противности этих идей основам нашего ислама, — решили законным путем бороться с этими вещами. Мы, российские мусульмане, чисты от всяких новых идей… пришедших из разных других государств. Мы будем служить нашему белому царю и его трону так же верно, как служили ему наши деды, а потому распространение идей этих: социализма, анархизма и панисламизма, заставляет с челобитием просить вас, ваше высокопревосходительство, разрешить нам устроить собрание…» 68 Упоминания о панисламизме должны были еще раз заверить царское правительство в том, что мусульмане России не собираются предпочесть русскому самодержавию господство султанской Турции. Что же касается «социализма и анархизма», то исламские идеологи действительно активно защищали интересы буржуазнопомещичьего строя и самодержавия. Общее содержание всей той пропаганды, которую вели богословы против революционного движения, сформулировано в одной статье клерикально-исламской газеты «В мире мусульманства»: «Идите… не с «Капиталом» Маркса, а прежде всего с кораном и шариатом…» 69
Царский манифест 17 октября 1905 г. исламские идеологи встретили восторженно. Оренбургский муфтий М. Султанов разослал его в татарском переводе всему духовенству с инструкцией прочесть манифест в мечети после намаза, точно разъяснить его населению прихода и молиться о здравии «его величества царя и его уважаемой семьи» 70. На каждом этапе революции 1905 г. руководители исламского духовенства выступали с воззваниями, увещаниями, угрозами, обещаниями, направленными к тому, чтобы оторвать мусульманских трудящихся от революционной борьбы и поставить их на службу реакции и черной сотне.
Самодержавие использовало мусульманское духовенство и в своей практике разжигания национальной вражды в целях подавления революции. На Кавказе было спровоцировано столкновение между армянами-христианами и азербайджанцами-мусульманами. Большевистский публицист и политический деятель В. В. Боровский писал, что, когда после бакинской резни февраля 1905 г. борьба охватила все Закавказье, к усилиям царских чиновников присоединилась еще и деятельность духовенства: «Место полицейского провокатора занял мусульманский агитатор в священной зеленой чалме» 71.
Мусульманское духовенство организовало черносотенные партии и вдохновляло их деятельность религиозными лозунгами. Такова, например, была партия «Сират-и мустаким» — «Истинный путь», созданная и руководимая петербургским муллой С. Баязитовым 72; не исключено, что работа этой партии финансировалась властями.
Используя с одинаковой эффективностью основные исламские вероисповедания — суннизм и шиизм, царское правительство старалось, однако, поддерживать раскол в исламе, да и вообще содействовать процессам, разделяющим, а не объединяющим мусульманское население России. Тенденции к объединению сказывались и в экономической жизни этих народов, и в их общении на почве вероисповедной. Газета «В мире мусульманства» писала, что разделение мусульман на шиитов и суннитов есть «безумие нашего века», ибо «шииты — такие же мусульмане, как и сунниты, и, следовательно, все мы братья» 73. Общность религии татар, казахов, узбеков, киргизов, азербайджанцев наряду с близостью их языков создавала почву и для этнического сближения. Царское правительство такая перспектива не устраивала. Один из чиновников, занимавшийся делами ислама и мусульманских народов, В. П. Череванский, писал в 1906 г. в своей Записке в высшие правительственные инстанции: «Хорошей помощью для местных государственных властей служит разноплеменность русского мусульманства… всякое объединение в ближайшем времени разноплеменных мусульманских групп в одну религиозно-татарскую общину было бы актом величайшего неблагоразумия…» 74 И хотя мусульманское духовенство было заинтересовано в племенном объединении на религиозной почве, оно покорно следовало и в этом отношении предначертаниям царского правительства.
Чем более открыто исламские священнослужители выступали в качестве прислужников самодержавия, тем более верующие массы теряли к ним доверие. Они их рассматривали как чиновников, поставленных правительством; В. Череванский писал в одной из своих статей о «крайнем нерасположении» мусульманских обществ к своим же верослужителям, «утвержденным в этом звании русской властью». При этом он ссылался на заявление, сделанное «от имени своих заверителей» одним из ахундов Симбирской губернии, что в учрежденном правительством Особом совещании по вопросам и делам мусульманского вероучения не должны участвовать столичные ахунды и оренбургский муфтий, к «которым мусульманское население провинций, да, пожалуй, и столиц, совершенно не питает доверия, как к ставленникам администрации»75. Аналогичные сведения имелись и по другим губерниям страны.
Недовольство мусульманских масс духовенством содействовало развитию внемечетских форм религиозности, в частности возникновению новых сект, хотя в силу ряда обстоятельств сектантское движение не получило сильного развития. В районах распространения ислама бродили странники, дервиши, проповедники, предсказывавшие скорое наступление страшного суда, объявлявшие о пришествии махди. В 80-х и 90-х годах XIX в. сюда доносились отголоски махдистских событий в Судане. Иногда тут же, на месте, оказывались доморощенные махди. В 1888 г. в Уфе объявился в качестве такового башкир А. Чувашев и в роли его апостола башкир же Ф. Абдалов 76. Суд над ними признал их сумасшедшими.
В одном случае оппозиционное движение внутри мусульманской церкви привело к образованию новой секты — ваисовцев. Казанский купец Б. Ваисов во время поездок по торговым делам в Среднюю Азию ознакомился с деятельностью и учением суффийского ордена накшбендийе, влияние которого в какой-то мере сказывалось и в Татарии. В учении этого ордена его привлекло то, что духовными авторитетами оно признавало не официальное духовенство, а ходжей, наставников. Таким наставником веры Ваисов объявил себя, причем подкрепил это утверждением о собственном происхождении от соратника пророка и от болгарских средневековых ханов, среди которых только и сохранялся «чистый» ислам. В 1862 г. Ваисов открыл в Казани учреждение под названием, начинавшимся словами «Государственный молитвенный дом» и завершавшимся ссылкой на то, что дом принадлежит «староверскому обществу мусульман ваисовского божьего полка». Секта развернула активную деятельность, а мусульманское духовенство Казани мобилизовало против нее фанатизм правоверных. Вскоре начались столкновения, завершившиеся в 1884 г. разгромом ваисовского дома и судебным процессом над главой секты и его приближенными. Ваисов был признан сумасшедшим и девять лет спустя умер в психиатрической лечебнице, его помощники получили разные сроки тюремного заключения и ссылки.
Движение ваисовцев представляло собой явление социального и религиозно-идеологического порядка, что доказывается прежде всего тем, что после изоляции Ваисова секта продолжала существовать и вела работу в подполье. Вскоре начались новые судебные процессы. В 90-х годах руководство движением взял на себя сын Ваисова Гинануддин, который был сослан в 1895 г. на Сахалин, но вернулся оттуда в Казань по амнистии 1905 г. Секта существовала до 1918 г.
В вероисповедно-догматическом отношении ваисовцы повторяли популярный среди сектантских течений мусульманства лозунг возврата к «чистому» исламу. Неопределенность выдвинутого требования давала возможность наполнять его разнообразным содержанием, и прежде всего по линии социально-экономической и политической. Главным в программе ваисовцев было сопротивление существующему общественно-политическому строю 78. Формально сектанты признавали во Вселенной власть бога и царя. Но сохранение верности царю имело фиктивный характер, ибо было связано с отрицанием самодержавия, его чиновничьего аппарата, порядков и установлений. Ваисовцы отказывались платить подати, служить в армии, принимать какие бы то ни было документы, судиться у мировых судей и подчиняться их приговорам. В сравнении с этим непризнание официального мусульманского духовенства и разоблачение его безнравственности было в глазах властей не столь существенным. Впрочем, духовенство критиковалось ваисовцами в основном за то, что оно продало мусульманскую веру власти, представляющей собой непримиримого врага ислама. Таким образом, критика самодержавия и мусульманской церкви в программе ваисовцев являлась религиозным выражением социально-политического протеста людей, подвергавшихся социальному и национальному угнетению.
Ваисовская секта имела в исламе лишь местное значение, она и не оказала существенного влияния на жизнь мусульманской церкви. Несравненно большее значение имело как для церкви, так и для религиозно-идеологической мысли ислама в России движение джадидов79, аналогичное движению реформаторов в ближневосточном и индийском исламе.
Термин «джадидизм» произошел от выражения «усул и джадиде», означающего «новый метод». Речь шла о введении новых методов в школьное обучение, о реформировании религиозных школ (медресе и мектебов) на основах западной педагогики, причем эта реформа должна была касаться не только методики преподавания, но и его содержания. Имелось в виду введение ряда светских учебных предметов: арифметики, естествознания, русского и некоторых иностранных языков. Вся атмосфера мусульманских школ, где в течение семи-восьми лет ученики, сидя на полу, должны были научиться лишь читать Коран на незнакомом им арабском языке, подлежала, с точки зрения «новометодчиков», коренному изменению.
Именно такие идеи пропагандировал основатель джадидизма крымский помещик Исмаил-бей Гаспринский 80. С 1883 г. он издавал в Бахчисарае газету «Тарджиман» («Переводчик»), в которой пропагандировался «новый метод». Он создавал новометодные школы, и его примеру последовали во многих других мусульманских центрах. Движение скоро стало большой силой среди мусульман России. Его значение вышло далеко за пределы школьной реформы. По существу борьба шла за модернизацию мусульманской религии в целом.
У Гаспринского нашлось большое число приверженцев не только в Крыму, но и в Поволжье, на Урале, в Средней Азии. Появились газеты и журналы джадидского направления, был опубликован ряд книг в модернистском духе. Но консервативные элементы среди духовенства и идеологов ислама оказывали яростное сопротивление джадидизму; они получили название кадимистов от слова «кадим», означающего «изначальное, неизменное».
Для характеристики позиций и взглядов джадидов и кадимистов остановимся на содержании сочинений двух представителей этих направлений — казанского муллы Мусы Бигиева и старшего муллы Малмыжского уезда Вятской губернии Ишмухаммеда Дин-Мухаммедова. Первый опубликовал четыре книги, появление которых вызвало полемику в мусульманской печати, второй в это же время опубликовал несколько брошюр, где разоблачались нечестивые новшества джадидов.
Одна из книг М. Бигиева, «Пост в длинные дни» 81, была посвящена, казалось бы, частному вопросу, но по существу содержала в себе взрывчатый материал, грозивший подорвать основы старого ислама. Известно, что сроки ежегодного мусульманского поста, уразы, устанавливаются по лунному календарю и потому в разные годы приходятся на различные месяцы солнечного года. Бывает, что поститься приходится в самые длинные летние дни. А на севере, где солнце летом совершенно не заходит, мусульмане, следовательно, не имеют права есть и пить в течение месяца! Возникает вопрос: как мог не знать такого положения автор Корана? И как вообще в таком случае добропорядочный мусульманин должен выходить из положения, не нарушая предписаний Корана и шариата? Бигиев, однако, имел в виду нечто значительно большее, чем проблема поста.
Отталкиваясь от этого вопроса, Бигиев пространно рассуждает о том, как следует относиться к догматам и предписаниям ислама, содержащимся во всей той массе комментариев, которая нагромождена улемами на текст Корана в течение столетий. Он выступает в роли пламенного защитника Корана, обороняющего его абсолютно истинный смысл от ложных комментариев и невежественных комментаторов. Это дает ему возможность истолковывать Коран, исходя из собственных взглядов. Таким способом, по Бигиеву, все содержание Корана можно привести в соответствие со взглядами современного человека и западной науки.
Подобная свобода толкования Корана позволяет согласовать с исламом любую норму жизни буржуазного общества вплоть до равноправия женщин, дружественных отношений с неверными, полной европеизации быта. С точки зрения М. Бигиева, это вовсе не означает капитуляции ислама, а тем более отказа мусульман от своей религии. Реформатор, наоборот, утверждает, что именно перестройка ислама в указываемом им направлении обеспечит этой религии новое великое будущее: приспособившись к создавшимся в культурном мире условиям, ислам обретет такую силу, что подчинит себе весь мир. Бигиев прибегает к хитроумной аналогии: «Мусульманство в истории культуры то же, что человечество в истории природы. Подобно тому, как человечество, подчиненное сначала законам природы, впоследствии само подчинило себе эти законы, и мусульманство, которое под влиянием социальных законов на протяжении тринадцати столетий переходит из одного вида в другой, займет в конце концов центр господства в культурном мире» 82.
Книги М. Бигиева были признаны констанстинопольским шейх-уль-исламатом еретическими, их продажа и чтение были запрещены правоверным мусульманам. Инициаторами столь решительных мер явились мусульманские паломники из России, выражавшие воинственную позицию кадимитов. В ответ на действия константинопольских улемов Бигиев ответил рядом резких полемических выступлений, в которых не только отстаивал свои позиции, но и наносил сокрушительные удары турецким мусульманским церковникам, разоблачая неприглядные моменты истории их деятельности. «Бросим, — писал он, — критический взгляд на историю Турецкой империи. В каждом предательстве и в каждой интриге, которые привели к упадку как государство, так и нацию, зачинщиками были шейх-уль-исламы, казаскеры (высшие духовные чиновники в шейх-уль-исламате. — И. К.) и остальные духовные лица. Двух своих братьев и своего отца султан Баязид приказал убить с разрешения тогдашних богословов и муфтиев. После Баязида при каждом вступлении на престол диким образом избивалось от 5 до 20 невинных принцев по фетве шейх-уль-исламов и казаскеров… Для шейх-уль-исламов являлось самым заманчивым делом участие в ограблении народа, в притеснении его вместе с предателями, в казнокрадстве… Вырезать в одну ночь сорок — пятьдесят тысяч невинных шиитов, сделать из истории Турции историю анатолийских восстаний и персидских войн, послать против несчастного народа, жалующегося на непосильный гнет, бешеное войско — все это делалось с одобрения муфтиев, подыскивавших для этого оправдания в шариате»83. От разоблачения, так сказать, политической деятельности инстанции, претендовавшей на руководство всем мусульманским миром, Бигиев перешел затем к характеристике морального лица константинопольских деятелей: «Мы знаем и таких шейх-уль-исламов и казаскеров, которые каждую ночь, разгорячившись от умеренного пьянства, совершали такие непотребства, от которых покраснели бы кюльхан-беи (константинопольские босяки. — И. К.)»84.
М. Бигиев говорил и о «подвигах», которые относились к недалекому прошлому: «Несколько лет тому назад, когда черкесы, переселившиеся в Османскую империю, умирали с голоду от мудрых мероприятий представителей правительства, старательные прислужники, посланные такими великими визирями, как Али-паша, скупали несчастных девочек, оставшихся без родителей, за бесценок и наводняли ими стамбульские гаремы в качестве наложниц, с разрешения тогдашнего шейх-уль-ислама… Шейх-уль-исламы и казаскеры также пользовались «на правах собственности» пленными девушками и мальчиками, которых приводили в Константинополь участвовавшие в набегах грабители» 85. Своими разоблачениями реформатор стремился дискредитировать не только тех людей, которые претендовали на подлинно исламскую святость и авторитетность в делах веры, но и воплощенную в их деятельности идеологию, это давало морально-религиозное право требовать ее решительного пересмотра.
Кадимиты в свою очередь вели бурные контратаки. Дин-Мухаммедов настаивал на том, что в ислам не могут быть вносимы никакие изменения, в том-де и заключается его отличие от христианства, которое способно к изменению, ибо не является постоянной верой. Нельзя менять в исламе не только его верования и обряды, но и существующие у мусульман обычаи, формы и нормы быта. «Подражать неверным в одежде, речи, делах и обычаях — значит идти навстречу врагам бога… А кто идет навстречу врагам бога, тот отворачивается от бога, и господином его становится сатана». Вероотступничество воинствующий мулла приписывает любому, «кто надевает на голову шапку язычников», причем тяжесть преступления усугубляется в том случае, если надевается картуз. Еще более резкое возражение вызывают у Дин-Мухаммедова новые школьные порядки: сидение за партами, обучение на татарском, а не на арабском языке, да еще по учебникам, полученным из земской управы, применение звукового метода при обучении грамоте. «Защищать звуковой метод, — изрекает ортодокс, — значит отвергать Коран… Последствием звукового метода является искоренение веры ислама»86.
Из такой непримиримости к еретическим новшествам вытекала и проповедуемая кадимитом ненависть к джадидам. О них сообщалось, что они «принадлежат к партии сатаны». С ними рекомендуется говорить таким языком: «Эй, вы, говорящие животные и воры религии!» Перечисляются четыре обязанности, которыми должны регулироваться отношения благочестивого мусульманина с джадидами. «1) Относиться к ним враждебно, т. е. считать их врагами; 2) не есть и не пить с ними; 3) противостоять им, делам их не давать хода, а также 4) само собой разумеется, непозволительны браки с ними» 87.
Видимо, если бы защитник ортодоксального ислама имел такую возможность, он объявил бы священную войну против новометодчиков и своими проповедями вдохновлял бы правоверных на беспощадную резню своих соплеменников-еретиков. Но в тех условиях он был вынужден ограничиваться только выступлениями в печати и в проповедях, а также доносами царским властям. При всем этом Дин-Мухаммедов нашел все же путь к тому, чтобы сделать своих противников одиозными в глазах обладавших властью неверных: он обвинял джадидов в панисламистских кознях. Таким способом ему удалось подвести под суд двух братьев Бобинских, руководивших в одном из сел Вятской губернии новометодным медресе. Панисламистская пропаганда не была доказана, но на помощь пришло обвинение в хранении запрещенной литературы, по каковому еретиков и заключили в крепость.
Трудно сказать, как далеко зашла бы в дальнейшем борьба между ортодоксами и реформаторами ислама на территории Российской империи. Развернулись, однако, события, которые заставили мусульман и их духовных наставников забыть свои внутренние религиозные раздоры.
ИСЛАМ В XX ВЕКЕ
Первое десятилетие XX в. ознаменовалось в рассматриваемой нами области таким событием, как прекращение существования халифата. В результате был нанесен серьезный удар идее панисламизма. Как известно, звание халифов носили «по совместительству» турецкие султаны. После того как последний султан Мехмед VI был в 1922 г. низложен, в 1924 г. Великое национальное собрание Турции приняло закон о ликвидации халифата.
После этого акта нашлись международные силы, которые пытались гальванизировать этот отживший институт в своих интересах. В роли его «болельщиков» выступали колониальные державы: Испания, Франция и особенно активно Англия. Последняя попыталась провозгласить новым халифом находившегося в ее власти египетского короля Фуада и с этой целью организовала созыв в 1926 г. «Всемирного халифатского конгресса». Эта затея не увенчалась успехом, ибо на «конгресс» не явились представители основных народов, исповедующих ислам, и даже собравшаяся кучка «делегатов» вынесла решение, по которому халифат «в данное время неосуществим по причине положения, в котором находятся мусульмане» 88.
В то же время, однако, силы, опирающиеся на ислам в разных странах мира, продолжали искать возможности его международного объединения. В том же 1926 г. в Мекке был проведен Всемирный исламский конгресс (I сессия), в 1931 г. состоялась II сессия этого конгресса, затем движение возобновилось с новой силой уже после второй мировой войны. В 1949 г. состоялась III сессия конгресса, после чего сессии проходили довольно регулярно с интервалами в несколько лет. В 1962 г. возникла Всемирная исламская лига со штаб-квартирой в Мекке. В 1969 г. в Рабате была создана Организация Исламской конференции, в которую вошли представители 43 государств с населением преобладающего мусульманского вероисповедания. В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН признала ее официальный статус и предоставила ей право иметь при ООН своих наблюдателей. Между Организацией Исламской конференции и Всемирной мусульманской лигой были установлены отношения сотрудничества и координации.
Функции, которые взяла на себя Организация Исламской конференции, не сводятся к пропаганде ислама и разработке мусульманских богословских доктрин. По сути дела эти функции лежат преимущественно в экономической сфере.
При Лиге состоят Международный валютный исламский (!) фонд; Исламский банк торговли и развития; Комитет по социально-культурным мероприятиям и т. д. Лига рекомендует мусульманам изымать свои вклады из обычных банков и передавать их в принадлежащие ей, причем предоставляет мусульманам самые льготные условия кредита. Лига ставит перед собой далеко идущие политические цели. Предполагается, что в будущем государства, состоящие ее членами, будут выходить из ООН и объединяться в особом «Исламском Совете безопасности». Правда, до сих пор таких государств даже среди тех, кто наиболее громогласно декларирует свою приверженность к исламу, не нашлось 89.
Пропаганда восстановления халифата связана с идеологией панисламизма. В последние десятилетия она стала опять активно проповедоваться в политике и в международной исламской печати. Выдвигается лозунг создания Соединенных Штатов Ислама; во главе этого проектируемого утопического государства должен стоять халиф. Таким образом, в наши дни приобрела новое значение и звучание идея халифата. В передовой статье журнала Всемирной исламской лиги в 1975 г. под заглавием «Халифат» провозглашалось: «Восстановление халифата — жизненно важный вопрос. Грядущие поколения никогда не простят нам того, что мы не смогли найти соответствующих путей для достижения наших идей»90. Реализация лозунга восстановления халифата представляется, однако, и в наше время достаточно утопической затеей.
Ее осуществлению препятствуют двоякого рода обстоятельства: государственно-политические и вероисповедные.
К первым относится конкурентная борьба разных исламских государств за первенство в проектируемом халифате. Любое из исламских государств может претендовать на то, что именно ее руководитель должен стать халифом. Это связано и с внешнеполитической ориентацией данного государства. В прошлом были довольно запутанные ситуации в этой области. Так, во время первой мировой войны Турция под лозунгами панисламизма вела «священную войну» против стран Антанты, а глава исмаилитов Ага-хан под теми же лозунгами звал правоверных воевать против кайзеровской Германии. Разногласия такого рода могут оказаться актуальными и в наше время. И пожалуй, еще большую роль играет различие вероисповедной принадлежности стран, могущих претендовать на первенство в подлежащем объединению панисламистском лагере91.
Иран, как известно, является шиитским, Ливия — суннитской, Саудовская Аравия — в основном ваххабитской, среди мусульман Ливана занимают большое место друзы. Исламское руководство каждого из этих государств считает все остальные погрязшими в ереси и, конечно, исключает возможность не только религиозного и политического подчинения ему, а даже просто совместных согласованных действий. Это сказывается и в тех ситуациях, когда общие интересы народов, исповедующих ислам, требуют как раз таких совместных действий; особенно ярким примером такого положения является в настоящее время борьба арабов против экспансии Израиля.
Учитывая значение этих вероисповедных разделений, мы должны в то же время понимать, что оно имеет отнюдь не абсолютный характер, ибо в разногласиях и разделениях играют немалую роль прикрываемые ими экономические и политические интересы.
Идея панисламизма в XIX в. имела известное антиимпериалистическое значение, поскольку в какой-то мере выражала в религиозной форме направленные против империализма интересы и настроения ряда угнетенных народов. После же краха колониальной системы и в тех условиях, когда многие народы сферы распространения ислама вступили на путь социалистического развития, панисламизм стал фактором в значительной степени реакционным.
Роль ислама в качестве социально-политического фактора претерпела в течение последнего времени серьезные изменения. С конца прошлого века вплоть до 70-х гг. нашего столетия шел процесс уменьшения этой роли в ходе постепенной секуляризации государственной и общественной жизни в странах Востока. С 70-х гг. начинается обратный процесс — возрастание значения ислама как в отдельных странах этого региона, так и на международной арене. Причина этого заключается в диалектической противоречивости процесса антиимпериалистической борьбы колониальных и полуколониальных народов за свое освобождение. В этой борьбе мусульманская религия в ряде случаев играла роль движущего идеологического фактора.
Противопоставление ислама религиям «многобожников», мусульманского «тавхида» (единства) западному буржуазному плюрализму, лозунг джихада, священной борьбы за истинную веру, — в какой-то мере все это питало настроения непримиримости с силами империализма. При этом нельзя не видеть как социальное многообразие «исламского» лагеря, так и идеологическую пестроту того религиозного содержания, которое вкладывалось разными группами его приверженцев в проповедуемые ими лозунги. В их содержание укладывались, одной стороны, протест против гнета западного империализма, с другой стороны — отчуждение и отмежевание от рабочего движения того же «многобожеского», т. е. неисламского, мира. В разных случаях и на разных этапах та и другая тенденции могли выражаться с большей или меньшей определенностью. Как правило, однако, в движении завоевывали командные позиции группировки «своей» буржуазии, ставившие исламские лозунги на службу делу превращения своей страны в современное капиталистическое государство.
Ярким образцом такой практики является современный Пакистан. Возглавляемое Зия уль-Хаком «исламское» государство строит «исламскую» же экономику и, ориентируясь на Коран и шариат, внедряет соответствующие нормы как в жизнь и быт народа, так и в государственно-правовую область. В уголовном праве, например, предусматриваются шариатские наказания за преступления: отрубание руки за кражу, побиение камнями за прелюбодеяние 92. Кстати сказать, такие же санкции фигурируют и в уголовном законодательстве других государств, именующих себя исламскими, например Саудовской Аравии. Надо, правда, отметить, что на практике они применяются довольно редко.
Реакционный характер политики исламского государства Пакистан обращен как внутрь страны, так и вовне. В своем перманентном противостоянии Индии оно оперирует мотивами праведной ненависти к нечестивому индуизму. В отношении Афганистана используется лозунг борьбы за ислам против якобы «безбожного» режима, существующего в этой стране.
Большой и особо актуальный в политическом и идеологическом отношении интерес представляет собой современный Иран 93.
Шиитское духовенство (в Иране основной массив населения состоит из шиитов) во главе с аятоллой Хомейни в течение 60—70-х гг. играло ведущую роль в борьбе народа против шахского режима. В 1964 г. Хомейни был выслан из страны. Он поселился сначала в Неджефе на территории Ирака и в этом священном для шиитов пункте паломничества организовал по существу центр борьбы против шахского режима в Иране. Вплоть до свержения и изгнания шаха в 1979 г. шиитское духовенство под руководством Хомейни (последние годы он жил в Париже) вело неустанную антишахскую борьбу и, когда она увенчалась победой, водрузило свое шиитско-мусульманское знамя над обновленным «исламским» государством.
Вернувшийся на родину Хомейни стал настоящим диктатором страны. Установившийся здесь строй — ярко выраженная теократия. Ее социальной опорой являются массы мелкой буржуазии — купцы, кустари и ремесленники, владельцы мелких предприятий, пауперизированное крестьянство. Вместе с тем к режиму Хомейни положительно относятся и некоторые слои интеллигенции, примкнувшие к антишахской оппозиции еще до свержения шаха. Что же касается политики господствующего теперь теократического правительства, то она, если отвлечься от выражающих ее словесных формул безоговорочной приверженности к «истинному», т. е. шиитскому, исламу, является в объективно-историческом смысле весьма противоречивой.
Во внешнеполитическом плане эта политика была в начале диктатуры Хомейни направлена против США, что выразилось, в частности, в знаменитой истории содержания под стражей персонала американского посольства. Вместе с тем в пропагандистском обиходе шиитского теократического режима нет недостатка в резко антисоветской фразеологии. Пожалуй, можно считать внешнюю политику исламского Ирана религиозно-изоляционистской, поскольку и со многими мусульманскими государствами он в общем обращается достаточно враждебно, что находит свое религиозное оправдание в том, что они не являются шиитскими. В пропаганде, связанной с продолжающейся пока войной против Ирака, этот мотив тоже играет известную роль, хотя некоторое, сравнительно незначительное, количество шиитов среди иракского населения имеется.
В какой-то мере может считаться образчиком современной исламской теократии и Саудовская Аравия. Будучи исключительно богатой в материальном отношении страной в результате обладания колоссальными нефтяными месторождениями, это государство пыталось занять ведущее место в синклите исламских государств Ближнего Востока: в начале 60-х гг. оно выдвинуло проект создания «исламского пакта». Одним из препятствий на пути к этому явилось то обстоятельство, что в глазах правящей верхушки других исламских государств Саудовская Аравия является еретической страной, ибо ее религия — не просто ислам, а его ваххабитская разновидность.
В целом для современного этапа характерно большое усиление политической активности ислама как в отдельных странах, так и в международном масштабе. Причины этого явления лежат прежде всего в росте политической роли стран Ближнего и Среднего Востока, населенных главным образом мусульманами. При этом надо иметь в виду своего рода историческую и географическую случайность: земельные недра этих стран оказались чрезвычайно богаты полезными ископаемыми, и в современных условиях соответствующие государства получили возможность обогащаться невиданными ранее темпами, что, конечно, в свою очередь не могло не сказаться и на их политической роли на международной арене.
Многие государства в современном мире именуют себя исламскими. В их основополагающих документах, в выступлениях государственных и партийных руководителей, в прессе постоянно звучат заявления об истинно исламском содержании политики этих государств. Говорится о необходимости исламизации всех сторон государственной, общественной и частной жизни; именно исламизация пропагандируется как единственный путь решения всех проблем, стоящих перед обществом и государством, причем этот путь предлагается не только странам с мусульманским населением, но и Западу и всему миру. Вот типичное заявление такого рода: «Европа находится на грани духовного банкротства, и спасти ее может только ислам с его высокими идеалами» 94.
Ссылка на установления ислама может служить и для обоснования того, что воля народа не имеет существенного значения в жизни государства. Совет улемов Пакистана так разъяснял этот вопрос: «В мусульманском государстве осуществление предписаний Аллаха — главная цель, а воля народа занимает сравнительно подчиненное положение» 95. Народ, с этой точки зрения, имеет право на восстание, на революцию, но в каких целях? «Революция нужна для освобождения религии, а не для освобождения народа. Народ восстает против тирании, чтобы стать рабами бога». К предписаниям же Аллаха можно отнести все, что в тот или иной момент понадобится счесть таковыми правящей в стране группе. А когда королю Саудовской Аравии Фейсалу нужно было затормозить принятие в стране конституции, он воспользовался таким ходом: «Конституция? Для чего? Коран — самая древняя и самая эффективная конституция из всех конституций мира… Ислам — достаточно предусмотрительная и гибкая религия, чтобы обеспечить счастье нашего народа» 96. В этом, как и во многих других случаях, лозунг исламизации служит лишь «пустым звуком», под прикрытием которого ведется политика, нужная в данный момент правящим классам и группировкам соответствующих государств.
По степени реакционной «радикальности» с официальной политикой таких государств, как Пакистан и Иран, перекликается идеологическая пропаганда, ведущаяся международной организацией — «Ассоциация Братьев-мусульман» 97.
В 1928 г. эта организация (арабское «Ихвания» от слова, означающего «брат») была создана в Исмаилии (Египет) по инициативе и под руководством шейха Хасана аль-Банны. Основной своей задачей Ассоциация (АБМ) провозгласила борьбу за построение «исламского общества». Методы этого построения составляют «исламский путь развития», смысл которого с самого начала был в достаточной мере неопределенен. В первое десятилетие существования АБМ основной упор делался на методы проповеднической и благотворительной деятельности, в дальнейшем постепенно все больше усиливались тенденции к насилию и терроризму, нашедшие свое выражение в попытке государственного переворота в Египте в 1948 г. Вскоре (1949) был убит основатель и глава АБМ Хасан аль-Банна, после чего в организации еще больше возобладало террористическое направление, особенно после республиканского переворота Насера в 1952 г. Деятельность АБМ велась в подполье. При режиме Анвара Садата деятельность АБМ была фактически легализована, а направление этой деятельности продолжало все больше эволюционировать в сторону терроризма, так что в конце концов его жертвой пал сам Садат: его убийцы оказались близкими к АБМ, если не прямыми ее агентами. Существование АБМ в Египте было опять запрещено, и основная ее деятельность была перенесена в другие страны.
Еще с середины 30-х гг. филиалы АБМ были организованы в разных странах Ближнего Востока — в Судане, Сирии, Ираке, Иордании и др. В дальнейшем деятельность АБМ развернулась в Пакистане и Иране. Ее направление далеко не однородно и в общем распределяется по диапазону справа налево — от крайнего террористического антизападного экстремизма до умеренного проповеднического реформизма в духе ислама. Общая идейная платформа, выражающая основной дух программы АБМ, выражена в формулах наподобие следующей: «Бог — наш идеал, пророк — наш вождь, Коран — наша конституция, джихад — наше средство, смерть за религию (имеется в виду ислам. — И. К.) и бога — наша самая заветная мечта» 98. Деятельность этого экстремистского фланга исламского фронта, как и практическая деятельность современного Ирана, имеет ярко выраженную антиимпериалистическую направленность. Разделяет, однако, тех и других вероисповедное расхождение: Иран — шиитский, «Братья-мусульмане» — сунниты…
Животрепещущее значение имеют те позиции, которые занимает современное исламское богословие в отношении основной социальной проблемы наших дней — капитализм или социализм? И здесь перед нами амплитуда разнообразных взглядов — от откровенно реакционных до относительно прогрессивных.
Наиболее простое решение проблемы заключается в том, чтобы сослаться на предписания Корана и потом уж искать в этих предписаниях то, что соответствует взглядам данного социального теолога. С этой точки зрения ислам объявляется «религией всех времен» и «всех пространств», дающей непогрешимое решение социальных проблем. Такой взгляд не исключает и реформаторского подхода к этим решениям, но понятие реформы (ислах) применяется в этих случаях гибко, до полной беспринципности. Вот типичный пример такого рода высказывания: «Я использую понятие «ислах» по отношению к исламу не в значении реформы религии, а больше в значении исламского ренессанса» 99. Мотив — знакомый по истории христианской теологии, в которой немалое место и с той же бесплодностью занимают призывы к возрождению нравов и норм первоначального христианства. В данном случае социальные проблемы растворяются автором в многоводье безудержной фразеологии относительно общих целей «ислаха». «Возрожденческое движение, — изрекает автор, — призвано бороться против суеверия, догматического наивного фанатизма, классового недоброжелательства и классовой выгоды; абсолютно против всего того, во что превратили ислам и шиизм как защитников классово деспотической системы и существующих порядков, в опиум народа, в тормоз логического и свободного мышления и общественной ответственности; против всего того, что превратило его в средство для клятв, а Коран — в средство для гадания» 100. Ясно, что «реформизм» и «исламский ренессанс» понадобились здесь для того, чтобы увести читателя от реальных проблем, связанных с классовой борьбой и с социальным прогрессом.
Выбор богословской ориентации в социальном вопросе в значительной мере зависит от того, в какой стране делаются данные высказывания. Пакистанские, например, богословы настаивают на том, что единственным угодным Аллаху строем является капитализм. Вот что пишет по этому вопросу С. М. Юсуф: «Ислам побуждает нас принять неравенство в материальных богатствах как факт жизни в соответствии с мудростью Аллаха»; «С исламской точки зрения уничтожение частной собственности или ее ограничение противоречит человеческой природе» 101. Подобные заявления делают представители исламской богословской мысли и других стран.
Они, однако, вынуждены признать, что в современной социальной обстановке много болезненного, ненормального, несправедливого. Как, например, быть с вопиющим неравенством, с нищетой и полуголодным существованием колоссальных масс людей? В поисках ответа на этот вопрос мусульманские публицисты и социальная теология прибегают к формуле исламского социализма. После второй мировой войны она приобрела особую популярность.
Лозунг исламского социализма оказалось удобно приспособить к концепции «третьего пути» развития человечества, которая теперь имеет хождение в политической теории и практике на международной арене, — промежуточного пути между социализмом и капитализмом. Эта позиция выражается в такого рода формулах: «Основными составными частями ислама являются равенство, братство и свобода. Главная цель исламского общества — установление социальной, политической и духовной демократии». Тут же идет напоминание: «Следует помнить, что равенство, проповедуемое исламом, выступает против капитализма и коммунизма и занимает среднее положение уравновешенного социализма между капитализмом и коммунизмом» 102. Некоторые идеологи «третьего», «исламского» пути не скрывают того, что при своей нейтральности в отношении капитализма и социализма он все же ориентирован против второго. Вот, например, что пишет орган Всемирного Исламского конгресса: «Мы, мусульмане, считаем, что против коммунизма нельзя бороться американскими долларами или атомными бомбами. Нужно противопоставить ему другую социальную систему» 103. Имеется в виду исламский социализм.
Однако даже такое благовидное обоснование исламского социализма встречает возражения в некоторых кругах международного социального, если можно так выразиться, богословия. «Социализм, — пишет тот же журнал, — это фантазия, а вечная истина ислама не может быть связана с фантазией. Ислам содержит мудрость в самом себе, он является вполне оправданной доктриной экономической справедливости и не нуждается ни в каких дополнениях, ибо дополнения стимулируют атеистический социализм, а атеисты будут использовать этот термин для собственной выгоды» 104. В общем идея исламского социализма остается в области теории и пропаганды, не претворяясь в практику жизни.
Отношение мусульманского духовенства к действительному социализму пережило некоторую эволюцию. После победы Великой Октябрьской революции исламские институты в разных странах заняли резко отрицательную позицию в отношении Советского государства и развернувшегося в мировом масштабе коммунистического движения. Характерна в этом отношении опубликованная в начале 20-х гг. фетва главного египетского муфтия в ответ на запрос некоего Сеид-шериф-Хасан-Мухаммеда-эффенди, как нужно относиться к большевизму. Муфтий «разъяснил», что большевизм зародился… в древнеиранском государстве, где его основателем явился «кровожадный язычник-фарсит Зердешт», дело которого продолжил не менее кровожадный и богопротивный Маздок Памдазд. От такого учения, конечно, нельзя ждать ничего хорошего. «Учение большевиков идет вразрез с предписаниями Корана, и все, что разрешено делать большевикам, запрещено Кораном». Отсюда понятно, что «мусульманам, у которых есть своя религия, свой бог и пророк… необходимо постараться очистить свое государство от большевистской заразы» 105. В дальнейшем антисоветская направленность международного ислама и его духовенства была, однако, далеко не так однолинейна и последовательна. В ряде случаев прогрессивные антиимпериалистические движения и тенденции, в некоторой мере облекавшиеся в исламскую идеологическую форму, выражали свое сочувственное отношение к коммунизму и к странам социалистического направления, а также к тем странам, которые, освободившись от колониального ига, ориентируются на социалистический путь развития.
Особо важное значение имеет вопрос о социально-политических позициях мусульманского духовенства нашей страны.
В его отношении к Великой Октябрьской революции и к Советской власти в общих чертах повторилась та же картина, которая наблюдается в истории православной церкви 106. Началось изъявлениями непризнания и анафемами. Духовное управление мусульман России, во главе которого стоял муфтий Баруди, призвало в конце 1917 г. всех мусульман страны к борьбе против Советской власти. На ту же позицию стало в ноябре 1917 г. проходившее в Уфе Национальное собрание мусульман, как и созданное им Национальное управление. В гражданской войне мусульманское духовенство в своем большинстве тоже действовало на стороне белогвардейцев. Среди деятелей колчаковского лагеря подвизался и упоминавшийся выше муфтий Галимджан Баруди.
Немалую роль играл исламский фактор в антисоветском басмаческом движении начала 20-х гг. в Средней Азии. Главари басмачества выступали под лозунгом защиты ислама и именовали себя «амир ал муслими» — «повелителями правоверных», борющимися «во имя нашего создателя и Мухаммеда, шариата, чести и блага религии и нации». Нередко муллы сами стояли во главе басмаческих отрядов. Возглавивший басмачей в конце 1921 г. бывший турецкий военный министр Энвер-паша провозгласил лозунг создания исламского государства стран Средней Азии, вокруг которого должны были объединиться другие страны с мусульманским населением, создав всемирное панисламское государство. С гибелью Энвера и ликвидацией басмачества антисоветская деятельность мусульманского духовенства в основном прекратилась. Тем не менее и в дальнейшем на протяжении ряда лет сохранялись напряженные отношения между новым строем жизни и веками складывавшимися под влиянием ислама формами жизни, быта и идеологии.
С течением времени, однако, все большую силу набирал процесс секуляризации форм жизни и идеологии населения, исповедовавшего ислам. Соответственно этому и мусульманское духовенство переходило на позиции лояльности в отношении к Советскому государству и социалистическим формам общежития. Это особенно сказалось в период Великой Отечественной войны. В 1942 г. в Уфе состоялся съезд представителей мусульманского духовенства, обратившийся ко всем мусульманам с призывом отдать все силы на борьбу с гитлеровскими захватчиками и на самоотверженную работу в тылу во имя победы. Небезынтересно при этом отметить любопытный штрих, характеризующий влияние исламского фанатизма на сознание людей и в этот период.
За несколько дней до начала войны в Самарканде было произведено в научных целях вскрытие гробницы Тимура. Когда началась война, среди населения разошлись слухи о том, что подтверждается старинное поверие о демоне войны, будто бы ютящемся в гробнице Тимура. Возвращение останков Тимура в его гробницу совпало с разгаром Сталинградской битвы, так что оказалось вполне «логичным» новое подтверждение старого суеверия…107
Как известно, война с ее невзгодами и переживаниями в какой-то мере способствовала росту религиозных настроений в некоторых кругах населения. Это сказалось и на состоянии религиозности среди верующих мусульман. Во время войны и в первые годы после нее выросло количество действующих мечетей, возросла также численность служителей культа и учащихся религиозных школ. В соответствии с советским законодательством оформились религиозные учреждения ислама, в частности в 1943 г. было организовано Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, функционирующее в Ташкенте. Помимо него теперь существуют еще три Духовных управления мусульман, построенных по территориально-этническому принципу (в Баку, Махачкале и Уфе).
Социально-политическая ориентация ислама не может не быть в какой-то мере связана с его общими доктринально-теологическими взглядами. Используются при этом все возможности разнообразного и многоликого толкования текстов Корана и других источников откровения. Еще больше изобретательности и казуистической изворотливости приходится пускать в ход теологам для того, чтобы привести коранические догмы в соответствие с современной картиной мира и с современным этапом развития духовной культуры.
Перед мусульманской теологией стоят те же трудные и по существу неразрешимые проблемы, которые составляют в наше время камень преткновения для доктринально-богословских систем всех религий. Мусульманин конца XX в. так же, как христианин или иудей, не может согласовать свой жизненный опыт и свой умственный багаж с содержанием Священного писания. И мусульманские, как и другие, богословы ищут пути такого согласования, причем в этих поисках обнаруживаются существенные разногласия между разными группировками в среде ищущих.
Не обходится и без упорных традиционалистов, настаивающих на том, что искать вообще-то нечего, ибо непреложная истина заложена в Коране и в Священном предании, будь то Сунна или шиитский Ахбар. Вот, например, что говорит по этому поводу генеральный секретарь Всемирного Исламского конгресса Инамулла Хан: «Ислам не нуждается в модернизации. Он был и остается современным». Зловредное стремление к модернизации имеет своим источником влияние Запада, несущее с собой «демона материализма». А сей демон тем опаснее, что он «породил материалистическое воззрение на историю, предложенное Марксом и Энгельсом», а оно тем опаснее, что ведет к «конфликту не только между религией и наукой, но и между церковью и государством» 108. Отсюда вытекает лозунг, формулируемый многими богословами традиционалистского направления: «Назад к ортодоксальному исламу!» А как же сие согласовать с тем, что в свете современного знания ортодоксальный ислам безнадежно устарел? На это дается ответ, совпадающий с известным рецептом христианского богословия, — подчинить разум вере. Приверженец традиционализма Г. М. Макдиси предлагает ориентироваться на учение, ядром которого «является фидеизм, т. е. полагание в вопросах теологии, особенно в отношении божественных атрибутов, единственно на веру». Здесь, правда, возникает вопрос о том, на веру какой религии надо полагаться: может быть, христианская вера надежнее исламской? Где критерий истинности веры именно этого рода, а не другого?
Наиболее острым и хлопотным для модернистов является вопрос о способах толкования Корана. Идет в ход принятое в модернизированном христианстве аллегорическое толкование. Вот, например, что пишет по этому вопросу современный глава исмаилитов Ага-Хан: «Невозможно создать авторитет, подобный папскому; верующему остается интерпретировать Коран, высказывания и заявления пророка не только как учит ислам, но и учитывая его развитие в течение столетий. К счастью, сам Коран облегчает эту задачу, ибо он содержит много таких стихов, которые показывают, что Аллах разговаривал с человеком аллегориями и притчами. Так, Коран оставлял двери для всяких возможных интерпретаций» 109. Действительно, в современном исламском богословии фигурирует большое количество вариантов решения проблемы, причем кроме тех, которые применяются иудейско-христианскими богословами в отношении Библии, есть и специфически исламские, в частности такой, который связан с учением о небесном происхождении Корана. С точки зрения этого учения извечно существующий на небе Коран далеко не во всем совпадает с тем, который преподан на землю людям. Земной-де Коран был рассчитан на разумение людей того времени, когда он был спущен на землю, а уж всю истину содержит в себе только тот, который остался на небе. И истолкование земного Корана может только в той или иной мере приближать людей к полному познанию божественной истины. А это истолкование не исключает, а, наоборот, предполагает приятие всех духовных ценностей, которые созданы и продолжают создаваться современной наукой. Законы природы суть с этой точки зрения выражение законов Аллаха, фигурирующих в Коране.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно отличительной чертой ислама с вероисповедно-догматической стороны считается особая подчеркнутость и последовательность его монотеизма. Формула «Нет бога, кроме Аллаха» выглядит действительно как эталон исповедания монотеистической веры. На самом деле, как было показано выше, если вначале ислам в какой-то мере и мог претендовать на большую последовательность своего монотеизма в сравнении с другими мировыми религиями, то со временем он потерял это право. Вера в богова антипода Сатану, в ангелов и чертей, культ святых — все, что характеризует условность и непоследовательность монотеизма всех мировых религий, развернулось в исламе настолько широко, что уравняло его в этом отношении с христианством и буддизмом. Сектантские движения в исламе лишь способствовали политеистическому разжижению того ограниченного и условного монотеизма, на который могла бы претендовать религия ислама.
Как социальный институт ислам прошел сложный и богатый событиями путь. В течение первых столетий существования он представлял собой религиозно-идеологическую форму ряда мощных теократических феодально-государственных образований, ведших завоевательные походы и войны. Отдельные его направления и секты явились в то же время формой оппозиционных движений угнетенных классов общества. По мере развития капиталистических отношений в странах Европы, Азии и Африки, в условиях, когда страны распространения ислама попадали во все большую колониальную зависимость от иноземных поработителей, мусульманское духовенство и сам ислам играли противоречивую роль: с одной стороны, процесс колониального порабощения встречал поддержку и пособничество со стороны духовенства, пользовавшегося своим религиозным влиянием на массы с целью поддержания в них духа покорности колониалистам, с другой — некоторые формы антиколониалистских движений находили в идеологии ислама религиозное выражение своих устремлений и лозунгов, ярким примером чего было махдистское движение. В ходе общественного развития мусульманская религиозно-идеологическая форма революционных движений неизменно обнаруживала свою историческую ограниченность, как и незрелость самого движения.
Примечания и ссылки на источники
1 См. — Бартольд В В Соч Т. VI М., 1966. С 66–68, 77–78.
2 См там же. С. 71.
3 См там же. С 73
4 См.: Новичев А. Д. История Турции Т II. Л, 1963. С 106–108.
5 См.: Миклухо-Маклай И. Д. Шиизм и его социальное лицо в Иране XV–XVI вв.// Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского Сборник статей. Л., 1958. С. 221–234.
6 См.: Антонова К. А. Очерки общественных отношений и политического строя могольской Индии времен Акбара (1556–1605 гг). М., 1952. С. 237–264.
7 См. там же. С. 160–196.
8 См.: Арунова М Р, Ашрафян К 3 Государство Надир-шаха Афшара Очерки общественных отношений в Иране 30—40-х годов XVIII века. М, 1958. С. 139–146, Laoust И. Les Chimes dans L’Islame. P. 321–323.
9 См.: Васильев А. М. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство Саудидов в Аравии (1744/45—1818). М., 1967.
10 См. там же. С. 85—119, 101–104.
11 См. там же. С. 125–169.
12 См. там же. С. 219–248, 251–253.
13 См.: Камов А. Мусульмане в Индии. М., 1931 С 38–44; Titus М. Т. Islam in India and Pakistan. Calcutta, 1959. P. 185–193.
14 Цит. по: Камов А. Указ. соч. С 40
15 Цит по: там же. С. 43.
16 См.: Шателье А Ислам в XIX веке. Ташкент, 1900. С. 31–36; К вопросу о панисламизме // Мир ислама (СПб.). Т. II. 1913 Вып. I. С 8—10.
17 См., например: Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР Новая серия Т. VI М.; Л., 195 °C 48 (прим. 1).
18 См.: Шателье А. Указ. соч. С 36.
19 См.: Мирза Казем-Бек. Баб и бабиды: религиозно-политические смуты в Персии в 1844–1852 годах. СПб., 1865; Цветков П. Исламизм. Т. IV. Асхабад, 1913. С. 336–349; Аршаруни А. М. Бабизм. Исторический очерк. М.; Л., 1931.
20 Обстоятельная биография Баба дана в книге: Mirsa Н. Ната-di. The Tarikh-idjadid (в английском переводе: New History of Mirsa Ali Muhammad the Bab. Cambridge, 1883).
21 См: Аршаруни A. M. Бабизм. С. 72.
22 Цит по Аршаруни А М. Бабизм. С. 75; Horten М Die Philosophic des Islams. S 144–149.
23 См Аршаруни А. М. Бабизм. С. 19–41.
24 См: Цветков П. Указ. соч. Т. IV С. 329–332.
25 См. — Аршаруни А М. Бабизм. С 69–70, 42–47.
26 См.: Он же. Бехаизм. М., 1930. С. 11.
27 См ' Цветков П Указ. соч. Т. IV. С. 350–356.
28 См… Китабе Акдес. Священнейшая книга современных бабидов / Текст, перевод, введение и приложения А. Г. Туманского// Записки императорской Академии наук. Сер. 8 (по историко-филологическому отделению). Т. III. № 6. СПб., 1899 (в дальнейшем цитаты из «Китабе Акдес» будут даваться в тексте по этому изданию).
29 Цит. по: Аршаруни А М. Бехаизм. С. 37.
30 См. там же. С. 18.
31 Цит. по: там же. С. 23, 31, 25–26.
32 См: Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Новая серия. Т. VI. М.; Л., 1950.
33 См. там же. С. 15–16, 42–47.
34 См. там же. С. 18–19, 23–24, 34–35, 37–41; Holt Р. М. The Mahdist State in the Sudan 1881–1898. Oxford, 1958. P. 42, 61–72, 95.
35 См. там же. С. 44; Holt P. M. Op. cit. P. 220–224.
36 См. там же. С. 84–89.
37 См.: К вопросу о панисламизме // Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. I. С. 1 — 12; Аршаруни А., Габидуллин X. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931. С. 4.
38 См.: Панисламизм и пантюркизм // Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. VIII С. 559–566.
39 См.: Аршаруни А., Габидуллин X. Указ. соч. С. 96—100.
40 Цит. по: Пост в длинные дни // Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. III. С. 175 (общую характеристику взглядов Джемаль-ад-дина аль-Афгани см. Adams С. С. Islam and Modernism in Egipt. L., 1933. P. 18—103).
41 См/ Малюковский M В Начальный этап мусульманской реформации в Египте // Ученые записки Института востоковедения АН СССР. Т. XVII. М., 1959. С. 114–115, 120.
42 См. там же. С. 124–125, 133–149, 141; работы Мухаммеда Абдо «Трактат о единобожии», «Комментарии к Корану» и его статьи в журнале «Манар» на арабском языке. Из книг Мухаммеда Абдо «Трактат о единобожии» издан на английском языке (имеется несколько изданий под заглавием «Treatise on the Utity of God») и на французском языке: Abdoh М. Risalat al tawhid. Expose de la religion musulmane. P., 1925.
43 Малюковский M В. Указ. соч. С. 134, Adams С С. Op. cit. P 127–132; Osman A. Moslem Philosophy. Cairo, 1958. P. 140–141.
44 См.: Малюковский М. В. Указ. соч. С. 140–141, Osman A Op cit. P. 88, 140–141.
45 См.: Малюковский M В. Указ. соч. С. 120–121, Adams С. С. Op. cit. P. 152–155.
46 Общую характеристику роли ислама в общественной жизни Египта рассматриваемого периода см.: Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (2-я половина XIX — нач. XX в.). М., 1984 47 Гордон-Полонская Л. Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана: Критика «мусульманского национализма». М., 1963. С. 114–160.
48 Цит. по: там же С. 134.
49 Цит. по: там же. С. 125.
50 Titus М. Т. Op. cit. Р. 256–268; Гордон-Полонская Л Р. Указ соч С. 153–160.
51 Цит. по: Гордон-Полонская Л. Р. Указ. соч. С. 158.
52 Muhammad /. Development of Metaphysics in Persia. L., 1908; Аникеев H. П. Выдающийся мыслитель и поэт Мухаммад Икбал. М., 1959.
53 См.: Урсынович С. Л. «Новокрещенская контора»: К вопросу о роли православного миссионерства в колонизационной и национальной политике самодержавия // Атеист. 1930. № 54. С. 25.
54 См.: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Гл. XX. Ст. 70–71; Гл. XXII. Ст. 24//Памятники русского права. Вып. 6. М., 1957. С. 347–348, 434.
55 См.: Урсынович С. Л. Указ. соч. С. 44–45; Климович Л. И. Ислам в царской России: Очерки. М., 1936. С. 12.
56 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XI, 1740–1743. СПб., 1830 № 8236 С. 154.
57 См.: Климович Л. И. Указ. соч С. 100–102, 110.
58 См.: Гафуров Б. Об андижанском «восстании» 1898 года // Вопросы истории. 1953. № 2. С. 50–61; История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. V. М., 1968. С. 426, 431.
59 Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. М., 1953. С. 140–160.
60 Там же. С. 56, 104–135. Отметим сравнительно новую исследовательскую работу, посвященную данному вопросу: Авксентьев А. В. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1984.
61 Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Оренбургского Магометанского духовного собрания 1841–1901 гг. Уфа, 1902. С. 72.
62 См.: Климович Л. И. Указ. соч. С. 34–35.
63 Цит. по: там же. С. 46.
64 Дроздов И. Начало деятельности Шамиля (1834–1836 гг.) // Кавказский сборник. Т. XX. Тифлис, 1899. С. 290–291.
65 См. там же. С. 292.
66 Цит. по: Климович Л. И. Указ. соч. С. 59–63.
67 См.: Бартольд В. В. Соч. Т. II. Ч. 1. М., 1953. С. 351 (сноска 6).
68 Цит. по: Климович Л. И. Указ. соч. С. 270.
69 В мире мусульманства (Петербург). 1911. 11(24) ноября
70 См.: Климович Л. И. Указ. соч. С. 86.
71 Воровский В. В. Соч. Т. III. М., 1933. С. 107.
72 См. — Баязитов М. А. Отношение ислама к науке и к иноверцам. СПб., 1887; Аршаруни А., Габидуллин X. Указ. соч. С. 21–22.
73 В мире мусульманства. 1911. 2(15) сентября.
74 Цит. по: Климович Л. И Указ. соч. С. 222–223.
75 Цит. по: там же. С 154.
76 Миссионерский мусульманский сборник. Труды студентов миссионерского противомусульманского отделения при Казанской Духовной Академии. Вып. XX. Казань, 1894. С. 159–162.
77 См.: Молоствова Е. В. Ваисов Божий полк//Мир ислама. Т. I. 1912. № 2. С. 143–152.
78 Катаное Я. Ф. Новые данные о мусульманской секте ваисовцев. Казань, 1909; Ваисов С. Воззвание от центральной организации волжских болгарских мусульман, ваисовских божьих воинов. Казань, 1917; Саеидуллин М. К истории ваисовского движения. Казань, 1930.
79 Два течения // Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. I. Ч. 31–42; Рыбаков С. Новометодисты и старометодисты в русском мусульманстве // Мир ислама Т. II 1913. Вып. XII С. 852–871; Аршаруни А., Габидуллин X. Указ. соч. С. 11–14.
80 Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Симферополь, 1881.
81 Подробное изложение содержания книги М. Бигиева «Пост в длинные дни» (на татарском языке — «Узун гюнлэрде рузэ») см.: Мир ислама Т. II. 1913. Вып. III С. 176–183. Большую выдержку из книги М. Бигиева «Несколько вопросов вниманию публики» («Халк назарына бир ниджэ мэсэле») см.: Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. V. С. 327–341. Полемику вокруг взглядов М. Бигиева см.: Мир ислама. Т. II 1913. Вып. IV. С. 225–240.
82 Цит. по: Будущее мусульманства//Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. V. С. 339.
83 Цит. по: Пост в длинные дни // Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. IV. С. 234–235.
84 Цит. по: там же. С. 235.
85 Цит. по: там же. С. 238.
86 Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. XII. С. 866–869; Аршаруни А., Габидуллин X. Указ соч. С. 17–20.
87 Мир ислама. Т. II. 1913. Вып. XII. С. 870.
88 Смирнов Н. А. Современный ислам. М., 1930. С. 73
89 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 128–130.
90 Шапмпова Р. М., Тихонова Т. Т. Лига исламского мира- от традиционализма к реформизму // Народы Азии и Африки. 1984. № 2.
91 Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М., 1980. С. 172.
92 См. обстоятельное освещение этих вопросов в кн.: Полонская Л. Р. Ислам на современном Востоке. М, 1980; Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сб. статей М, 1982; Левин 3. И., Смилянская И. М. Ислам и проблемы общественного развития // Народы Азии и Африки. 1984. № 1; Kedourie Е. Islam in the Modern World. N. Y., 1980.
93 Примаков E. М. Волна исламского фундаментализма: Проблемы и уроки // Вопросы философии. 1985. № 6.
94 Некоторые исламские теоретики пытаются обходить или смягчать ясное указание Корана на этот счет (5, 42). Вот, например, типичное высказывание такого рода: «Исмаилизм никогда не предписывал отрубание рук совершившему кражу, побитие камнями женщины за адюльтер, если не была гарантирована им работа, достаточное пропитание, а женщине — нормальное супружество». Baljon G. Modern muslim Koran Interpretation. Leiden, 1968. S. 90. Цит. no: Авксентьев A. В., Мавлютов P. P. Книга о Коране. Ставрополь, 1984. С. 143.
95 См.: Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985; Ульяновский Р. Иранская революция и ее особенности // Слово лектора. 1985. № 1.
96 Ахмедов А. Указ. соч. С. 141, 69.
97 Цит. по: Вопросы философии. 1985. № 6. С. 69.
98 Ахмедов А. Указ. соч. С. 144.
99 Ислам. Краткий справочник. М., 1983. С. 67–68.
100 Керимов Г. М. Ислам и его влияние на общественно-политическую мысль народов Ближнего и Среднего Востока. М., 1982. С. 25.
101 Али Мариати. Нация и имамат (на перс. яз.). Тегеран, 1976. С. 12. Цит. по: Абдуллоев Ш. Социальные последствия НТР в интерпретации мусульманских теологов. М., 1983. С. 13–14.
102 Цит. по: Религия и общественная мысль стран Востока. М., 1974. С 20.
103 Там же.
104 Ахмедов А. Указ. соч. С. 90.
105 Там же. С. 135.
106 Там же.
107 Смирнов Н. А. Современный ислам. С 208.
108 Ахмедов А. Указ. соч. С. 116—121
109 Саидбаев Т. С. Ислам и общество. М., 1978. С. 189.
Глава четвертая. РАННИЙ БУДДИЗМ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
ДОСТОВЕРНОЕ И СОМНИТЕЛЬНОЕ В ИСТОРИИ РАННЕГО БУДДИЗМА
Буддизм возник на территории Индостана в VI в. до н. э., явившись, таким образом, первой по времени своего возникновения мировой религией. В дальнейшем он завоевал миллионы последователей в разных странах Азии, но на территории Индостана утратил свои позиции и фактически исчез. Тем не менее ранние стадии его истории связаны с этим субконтинентом, и освещать их следует на этническом и социально-историческом фоне Индостана VI в. до н. э.
VII–V вв. до н. э. были периодом сильного религиозного брожения в Индии. На это время приходится возникновение и оформление джайнизма и буддизма, а также многочисленных сект и религиозных движений как внутри указанных двух новых для того времени религий, так и вне их. Насчитывается до 17 толков, возникших в буддизме в течение второго столетия после смерти Будды, и, помимо того, еще шесть враждебных сект, основанных «лжеучителями» — современниками Будды1. Одно это свидетельствует об интенсивности религиозной жизни и тех исканий, которые происходили в этой области в указанный период.
Некоторые исследователи обращают внимание на то, что эти искания не ограничивались пределами Индии и имели чуть ли не мировое распространение. В этой связи индийский историк Б. Луния упоминает о Гераклите, Заратуштре, Конфуции и в общем характеризует VI в. до н. э. как «время великого брожения умов во всем мире» 2. Вряд ли есть основания для конструирования в данном случае некоего чуть ли не всемирного религиозно-философского движения, тем более что в Индии указанное брожение не ограничивалось рамками VI в. до н. э., начавшись за столетие до него и продлившись значительно позже. Основные причины событий, связанных с возникновением новых религий в Индии, следует искать в ходе социальной истории страны.
Возникновение буддизма связывается с жизнью и проповеднической деятельностью Сиддхартхи Гаутамы Будды. Некоторые буддологи прошлого века отрицали историчность Будды. «Надо признать, — писал французский ученый Е. Сенар, — что в целом легенда Будды изображает не действительную жизнь, хотя бы даже изукрашенную некоторыми выдумками воображения. Она, в самой сущности своей, есть эпическое прославление божества, известного мифологического типа…» На такой же позиции стоял и немецкий исследователь Г. Керн, утверждавший, что «Будда легенды не есть историческая личность, а мифический образ…». В основе мифа о Будде, как считали приверженцы этой точки зрения, лежало олицетворение солнца и перипетий его годового движения по небосводу. Впрочем, указанный выше Сенар в ходе исследований переменил свою точку зрения и впоследствии писал: «Нельзя сомневаться в том, что Будда действительно учил в конце VI в. до н. э.; невозможно сомнение и относительно того, что все главные черты его учения и его легенды быстро закрепились в том виде, в каком они нам ныне доступны» 3.
Большинство исследователей полагают, что нет оснований подвергать сомнению действительное существование основателя буддизма; некоторые из них даже признают Будду первым из числа исторических деятелей Индии, существование которых поддается почти точной датировке. Вероятно, данная точка зрения имеет больше оснований, ибо действительно для ее опровержения не выставлено достаточно серьезных аргументов. Во всяком случае реконструкция истории возникновения буддизма немногим изменится от положительного или отрицательного решения вопроса об историчности Будды. Ясно, что духовный облик того человека или тех людей, которые были действительными основателями данного религиозного учения, должен был в общем соответствовать тому, каким в легендах предстает Сиддхартха Гаутама.
Согласно этим легендам, он родился около 560 г. до н. э.4 Местом его рождения считается северо-восток Индии (в современных ориентирах — у границы Непала). Он был сыном главы племени шакьев. В 29 лет, пораженный фактом обилия переживаемых людьми страданий, Гаутама расстался со всеми благами и соблазнами роскошной жизни, оставил жену с малолетним сыном и отправился странствовать. Шесть лет он вел жизнь бродячего аскета и искал истину в беседах с брахманами-аскетами, предаваясь подвигам самоистязания и умерщвления плоти. В дальнейшем он, однако, убедился в бесплодности выбранного пути и занялся размышлениями о причинах страдания и о способах его преодоления. Наконец, в некий момент, признаваемый буддистами по своему значению всемирно-историческим, Гаутама, сидя под деревом, которое отныне стало столь же прославленным, внезапно узрел истину; и именно с этого момента он стал Буддой, т. е. просветленным, озаренным, умудренным. Тут же он начал свою проповедническую деятельность, для чего отправился в Бенарес и, найдя там пять своих учеников, отошедших от него ранее из-за его отказа от аскетического образа жизни, обратился к ним с проповедью нового учения. 40 лет проповедовал потом Будда это учение в Северной и Центральной Индии и умер около 480 г. до н. э., положив основание многолюдной и мощной церковной организации — сангхе 5.
Эта биографическая легенда не может претендовать на точность во всех своих деталях. В частности, известный русский буддолог прошлого века В. Васильев считал сомнительным такой существенный ее элемент, как изукрашенный импозантными подробностями «уход» Будды из роскошной жизни в аскезу: «Вероятнее всего, можно предположить, что Сиддарта был не добровольным изгнанником… но скорее по политическим интригам. Есть легенда о том, что, когда Будда проповедовал уже свое учение, Вируддака истребил весь Шакьяский род. Кто знает, что это происшествие не случилось несколько ранее и что Сиддарта не пострадал от него и должен был скитаться, и гораздо проще, чем рассказывает легенда, понять всю суетность мира, все мучения, которые происходят от внешних предметов…» 6 Сама по себе эта догадка не имеет достаточного материала для своего подтверждения, но показывает, как могут варьироваться различные моменты биографии Будды, если признавать последнего исторической личностью.
Традиционно-каноническая версия дальнейшей истории новой религии представляет ее в виде триумфального шествия по всей стране, причем дело выглядит так, что новое учение принималось без каких-либо трудностей всем населением. Богатые и бедные, люди разных варн (каст) и родов занятий одинаково приветствовали Будду и с готовностью принимали его учение. За право принять и угостить просветленного велись острые споры между людьми, общинами. Последователями Будды сразу стали цари Бимбисара, Прасенаджит, Аджаташатру. Вскоре после смерти Будды наиболее выдающиеся его последователи собрались в Раджагрихе, где обсудили и утвердили ряд основоположений новой религии. Тем не менее в течение первого столетия, последовавшего за этим, среди сторонников буддизма возникли разногласия и расхождения, так что понадобился созыв нового Собора, который и состоялся в Вайшали через столетие после первого. Еще через сто с лишним лет, при царе Ашоке (III в. до н. э.), в городе Паталипутра (современная Патна) состоялся третий Собор, на котором был утвержден текст священных книг буддизма, составляющих Типитаку (на санскрите— Трипитака), и принято решение о рассылке миссионеров во все концы страны, в частности на юг, вплоть до Цейлона.
В преданиях о трех Соборах много сомнительного. Вопрос об их историчности остается спорным. Несомненно лишь одно: если и происходили в указанные периоды собрания деятелей сангхи (буддийской церкви), то они не были всеиндийскими, а имели лишь местное значение. Подвергается сомнению историчность даже последнего из Соборов — третьего; оно поддерживается тем обстоятельством, что в памятниках, связанных с царем Ашокой, о Паталипутрском соборе нет ни одного упоминания. Советский исследователь Г. М. Бонгард-Левин считает, что речь здесь должна идти не о всебуддийском Соборе, а о «собрании общины» — событии столь малозначительном, что Ашока не счел даже нужным писать о нем или ссылаться в своих эдиктах на его решения 7.
Из всех толков и ответвлений раннего буддизма выделилось одно направление, завоевавшее прочные позиции на севере Индии и впоследствии распространившееся в ряде стран Азии. Его приверженцы назвали свое учение махаяной — «широкой колесницей», «широким путем» к истине; «узкой колесницей», или хинаяной, они именовали прежнее учение, господствовавшее на юге. Буддизм в его махаянистской форме был принят царем Кушанской империи Канишкой, с именем которого связано предание о новом Соборе, проходившем около 100 г. н. э. в Кашмире. Собор сформулировал и утвердил основные положения махаяны. Махаянистские историки буддизма тоже говорят о трех Вселенских соборах и вынуждены поэтому кашмирский Собор как-то втискивать в эти рамки. Для этого им приходится или вовсе игнорировать третий Собор, или же смешивать воедино второй и третий, вследствие чего получаются хронологические несообразности, в частности продление жизни отдельных лиц, нужных для авторитетности, до невообразимых размеров 8. Даже несомненно историческая личность Ашоки здесь мистифицируется довольно странным образом: махаянисты относят второй Собор к царствованию Дхарма-Ашоки (благочестивого Ашоки), а хинаянисты говорят в этой связи о Кала-Ашоке (Черном Ашоке). Не исключено, что имеется в виду один и тот же персонаж, исторический Ашока, но какой именно Собор происходил в его царствование, остается неясным. Основателем махаяны, впервые употребившим даже этот термин, считается буддийский богослов Ашвагхоша (жил в начале нашей эры), а главным идеологом, сыгравшим наибольшую роль в распространении махаянистского буддизма, был, очевидно, Нагарджуна (ок. середины II в. н. э.).
Примерно в середине первого тысячелетия нашей эры сформировалось новое направление махаяны, известное под названием варджаяны — «алмазной колесницы». По-иному оно именуется буддийским тантризмом, или тантраяной. Некоторые исследователи высказывают мнение, что варджаяна зародилась не позже хинаяны и махаяны. В литературе бытуют и такие взгляды, по которым варджаяну следует считать третьим направлением в буддизме наряду с хинаяной и махаяной.
Каково было содержание буддийского вероучения в период его возникновения и в первые столетия его существования, казалось бы, можно установить по тексту колоссального количества канонических и неканонических священных книг этой религии. Тем не менее сделать это исключительно трудно. Одно из основных препятствий заключается здесь в неопределенности датировки подавляющего большинства произведений буддийской литературы, в силу чего трудно установить порядок временных напластований в этом огромном количестве текстов и идей. Противоречивость смысла этих текстов настолько велика, что во многих случаях ими можно и обосновать, и опровергнуть любой взгляд на содержание буддийского вероучения. Этому способствует еще абстрактный и схоластически-запутанный стиль изложения, характерный для буддийской литературы. Кроме того, следует отметить, что возникновению буддийской литературы предшествовал длительный период бытования устной традиции, так что в священных книгах отражен не самый первоначальный период истории буддизма.
В какой-то мере интервал между начальной стадией буддизма и периодом его литературного оформления заполнялся надписями и изображениями, сохранившимися на таких архитектурных памятниках, как Бхархутская ступа (ок. II в. до н. э.; ступа — сооружение, в котором хранятся мощи и реликвии святых) и в особенности так называемые эдикты Ашоки, начертанные на колоннах и скалах. Общая картина того, каким был первоначальный буддизм, остается, однако, неясной.
И не только на первоначальной стадии своего развития, но и в дальнейшем, вплоть до нашего времени, буддизм был и остается многообразным явлением. «Буддийское учение, — пишет английский исследователь М. Вильямс, — становилось то отрицательным, то положительным, то агностическим, то гностическим, от явного материализма и атеизма оно переходило к деизму, политеизму и спиритуализму. То оно выражается пессимизмом, то чистейшей филантропией, то монашеской жизнью, то высоконравственными предписаниями, то материалистической философией, то простою демонологией, то смесью всяких суеверий с колдовством, волшебством, идолопоклонством и фетишизмом включительно. В иной своей форме буддизм почти совпадает с какой-нибудь другой религией и вообще делает позаимствования почти из всех вероучений» 10. Если рассматривать буддизм разных стадий его истории, то мы находим здесь огромное многообразие догматов, взглядов, доктрин и культов, оно настолько велико, что некоторые исследователи вообще отказываются давать этой религии общую характеристику. Так, например, Э. Харди пишет: «Под именем буддизма надо разуметь в высшей степени различные образы мыслей и жизненных направлений. Тщетны были бы усилия найти такой догмат, который объединял бы всех буддистов прошлого и настоящего»11.. Пожалуй, это сказано слишком категорично. Есть все же некоторые элементы как вероучения, так и культа, которые можно признать присущими буддизму в целом. Это будет показано в ходе дальнейшего изложения.
Среди исследователей существуют разногласия даже по поводу того, надо ли считать ранний буддизм религией или только философским и этическим учением, приобретшим характер религии лишь в дальнейшем ходе своего развития. И если это религия, то не отличается ли она коренным образом от остальных религий мира, не следует ли ее в силу ряда обстоятельств признать особого рода атеистической, нигилистической религией? Последнего рода трактовка распространяется некоторыми авторами не только на первоначальный буддизм, но и на последующие стадии его развития, вплоть до современной 12. Разберемся в этом вопросе.
РЕЛИГИЯ ИЛИ ЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА? МОЖЕТ БЫТЬ, АТЕИСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ?
Если основываться на знаменитой бенаресской проповеди Будды в ее каноническом изложении, которая считается самым фундаментальным вероисповедным документом буддизма, то на первый взгляд перед нами действительно идеологическое явление, не имеющее отношения к религии. «Четыре благородные истины», провозглашенные Буддой, таковы: жизнь в мире полна страданий; есть причина этих страданий; можно прекратить эти страдания; есть путь, ведущий к прекращению страданий 13. Чтобы этого достигнуть, надо следовать «благородному восьмеричному пути». Восемь элементов его заключаются в правильных взглядах, правильной решимости, правильной речи, правильном поведении, правильном образе жизни, правильном усилии, правильном направлении мысли, правильном сосредоточении 14. Неопределенность каждой из перечисленных формул дает возможность вкладывать в нее любое содержание. И все же в целом проповедь направлена к наставлению людей в каких-то правилах поведения, или, как выяснится дальше, в стремлении к отказу от всякого поведения. Некоторые ученые считают, что цель учения Будды была сугубо практическая — помочь избавиться от страдания, следовательно, это учение не было ни религиозным, ни философским, а просто этическим.
Такая трактовка буддизма вытекает из непонимания того, что этика в нем имеет религиозную основу, так как ее нормы санкционированы повелениями сверхъестественных сил. Достаточно указать здесь на то, как в священных книгах буддизма изображаются сверхъестественные события, сопровождавшие упоминавшуюся выше бенаресскую проповедь. Когда она была произнесена, «боги земли воскликнули: «В Бенаресе, в роще Мигадайской, верховное колесо царства правды пущено в ход благословенным, то колесо, которое никогда не может быть повернуто вспять никаким шаманом или брахманом, ни каким-либо богом, ни Брамой, ни Марой, ни кем бы то ни было во Вселенной». Услышали этот клич богов земли божественные стражи четырех сторон мира и повторили его, а вслед за ними — и боги каждой из небесных сфер, вплоть до высшего неба… И так, в одну секунду, в одно мгновение, звук этих приветствий достиг до мира самого Брахмы, и вся великая, десяти-тысячемирная система космоса вздрогнула и усиленно встряслась, и неописуемо яркий свет разлился по Вселенной, силой своей превосходя все возможности могущества самих богов» 15. Может ли этическая система, провозглашенная при таких признаках ее божественного достоинства, считаться не связанной с религией?
На первый взгляд убедительным мотивом признания раннего буддизма атеистическим мировоззрением является утверждение о том, что он не содержит в себе веры в бога, или в богов, или по меньшей мере в «тех самых», в «настоящих» богов.
Теоретик прамонотеизма патер В. Шмидт исходит из того, что религиозными можно назвать только такие верования, в которых признается существование личного бога: для религии, с его точки зрения, существенны двусторонние отношения со сверхъестественными силами, а в случае с безличным божеством «другая сторона» не может отвечать. А так как «первоначальный буддизм… не признает личных богов, он должен рассматриваться не как религия, а как философия» 16. Была ли в первоначальном буддизме вера в личных богов, мы рассмотрим в дальнейшем, здесь же укажем на то, что критерий признания такой веры «минимумом религии» произволен и вытекает из христианско-апологетических предубеждений В. Шмидта.
Другие авторы утверждают, что буддизм, особенно ранний, вообще не признавал существования каких бы то ни было богов, что не мешает им, однако, признавать его религией. Т. В. Рис-Дэвидс утверждал, например, что буддизм лишен каких бы то ни было анимистических представлений, из чего следовал вывод, что он является атеистической религией. Г. В. Плеханов убедительно показал всю неосновательность взглядов Рис-Дэвидса в этом вопросе 17.
Некоторые религиоведы используют пример буддизма для доказательства общего положения о возможности религии без бога. «Действительная религия, — писал шведский протестантский богослов и историк религии Н. Зёдерблом, — может существовать без определенной концепции божества…» 18 Если не признавать этого, аргументировал он свою точку зрения, то придется исключить из области религии не только первобытную магию, но и буддизм, и другие высшие формы «спасения и благочестия», которые не связаны с верой в бога. Приведенная аргументация довольно слаба, ибо ничто не мешает исключить и магию, и буддизм из «сферы религии», сохранив таким образом для последней лишь критерий веры в бога. Но в данной связи существенно то, что буддизм признается религией и одновременно утверждается отсутствие в нем веры в бога.
В отличие от тех авторов, которые, признавая буддизм, в частности ранний, религией, считают в то же время, что им отрицается вера в бога, многие стоят по обоим этим пунктам на позиции прямо противоположной: признавая наличие в буддистских воззрениях веры в богов, они считают все же в целом данную религию атеистической или даже не признают ее на этом основании религией. Вот что пишет буддолог Э. Леманн: «Хотя буддизм и населяет небо бесчисленными богами, однако эта религия в своей основной идее совершенно атеистическая». Основанием к такому парадоксальному умозаключению служит то обстоятельство, что буддийские боги (дэвы) — «такие же существа, как и все другие; они подвержены общему изменению вещей, и на них следует смотреть только как на добавочные фигуры, которые своим согласием и подчинением должны еще более возвышать чудесность Будды и его совершенных…» 19. Если Шмидт считал буддийских богов неполноценными по той причине, что отказывал им в ранге личного существа, то Э. Леманн, признавая за ними этот ранг, усматривал их ущербность в том, что они не самодовлеющи, а пребывают при Будде. Но если так, то, очевидно, Будде следует приписывать еще большую божественность, чем та, которая характеризует сверхъестественные существа.
Наконец, как довод в пользу признания буддизма атеистической религией или даже антирелигиозным мировоззрением служит тот факт, что его боги не являются в глазах верующих создателями и управителями мира. Японский автор-буддист И. Такакузу, утверждая, что «первый основной принцип буддизма есть атеизм», аргументирует это следующим образом: «То, что над человеком могут существовать еще многие ступени в сфере интеллектуальных существ, мы признаем, но бога-творца как господина всех творений мы решительно отвергаем» 20. Ц. Ф. Кеппен, считая буддизм атеистическим мировоззрением, писал, что оно «не только атеизм без бога, но и атеизм без природы; на месте Брахмы и природы у него пустота и отсутствие чего-либо существенного или ничто». «Лишь мировой круговорот, — говорит он в другом месте, характеризуя буддистское представление о Вселенной, — только безначальное движение вечно, а материя, каждое существо, каждая вещь, участвующие в круговращении, невечны, они имеют начало; другими словами, существует только вечное становление, нет вечного бытия»21.
В своем сообщении о проходившей в 1985 г. VII конференции международной ассоциации по изучению буддизма (МАБ) ее участник В. И. Корнев пишет, что на конференции ряд представителей «классической буддологии» (изучающие буддизм как обществоведение) занимали позицию отрицания религиозного характера буддизма. По этому поводу автор сообщения совершенно резонно замечает: «…для религиоведа признание наличия сверхъестественного является главным признаком религии и религиозного сознания, а сторонник классической буддологии замалчивает, не замечает наличия сверхъестественного, составляющего суть учения и практики буддизма, или же пытается выдать сверхъестественное за условную символику…» 22
Принимая эту установку, мы попытаемся выяснить, в какой мере воззрения раннего буддизма содержат в себе элемент веры в сверхъестественное и каково было содержание этой веры. Прежде всего возникает вопрос об источниках, на основании которых можно судить о том, что представлял собой буддизм в ранний период его существования.
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАННЕГО БУДДИЗМА
Возникновение буддизма было связано с появлением ряда произведений, вошедших впоследствии в состав канонического свода буддизма — Типитаки; это слово обозначает на языке пали «три сосуда» (точнее — корзины). Типитака была кодифицирована около III в.; можно считать относящимися к ней и джатаки — сказания о подвигах и поучениях Будды в его прежних воплощениях. В качестве источника по древнему буддизму следует отметить эпические поэмы Ашвагхоши, относящиеся ко II в. Большое значение имеет эпиграфический и изобразительный материал, содержащийся на стелах и других сооружениях царя Ашоки. В целом, однако, вопрос об источниках по древнему буддизму весьма сложен 23.
Представление о том, что сведения о первоначальном этапе развития буддизма можно почерпнуть из палийского канона, вряд ли правильно. Нам представляется в этом отношении довольно убедительной та критика этой концепции, которая содержится в работе современного швейцарского индолога К. Регамея, опирающегося в свою очередь на труды корифеев русской буддологической школы и представителей «франко-бельгийской» буддологии, а особенно на работы польского ученого С. Шайера. Регамей считает, что в палийском каноне, выразившем собственно хинаянистскую форму буддизма, существует много такого, что следует признать результатом продолжительного пути развития, так что на «первоначальность» этот канон рассчитывать не может 24.
В вопросе о том времени, к которому относятся составление и фиксация палийского канона, нет твердых ориентиров. Спорным является и вопрос о времени возникновения и распространения индийской письменности 25.
Если даже письменность в Индии и существовала в период возникновения буддизма, то священные книги последнего были все же зафиксированы и кодифицированы не раньше чем через полтысячелетия после данного события, т. е. в начале нашей эры. До этого все предания, легенды и поучения, связанные с новой религией, существовали в устной традиции — проповедовались, передавались и заучивались изустно. Недаром первое наименование приверженцев буддизма было «шраваки», что значит «слушатели». Сутты, как правило, начинаются формулой: «Так я слышал». В общем ни палийский канон, ни другие священные книги буддизма не дают представления о первоначальной стадии развития этой религии.
Обратимся к археологии и эпиграфике. Самые ранние материалы этого рода — надписи Ашоки и Бхархутская ступа. Первые датируются серединой III в. до н. э., датировка последней довольно неопределенна, но при всех вариантах, видимо, остается в рамках II в. до н. э. Обе даты отстают от времени возникновения буддизма на два-три столетия, но приходится исходить из того, что более ранних источников в распоряжении науки нет.
Третий царь из династии Маурьев, Ашока, объединял под своей властью уже почти всю территорию Индостана. Последнее из государств, ранее не входивших в империю Маурьев, — Калинга — было им покорено. Однако война, связанная с этим событием, своей кровопролитностью произвела в Ашоке душевный переворот: он стал приверженцем абсолютно мирного образа жизни, доброжелательного отношения ко всем людям и милосердия ко всему живому. Во всяком случае именно так он сам изображает свое мировоззрение и свою жизненную установку в надписях, начертанных по его распоряжению в разных местах Индии 26.
Считается, что вся деятельность Ашоки и содержание его надписей («эдиктов», как принято именовать их в литературе по древнеримскому образцу) свидетельствуют о его приверженности к буддизму. Но надписи недостаточно убедительно говорят об этом: некоторые авторы в свете их сомневаются в том, что Ашока вообще был буддистом 27.
Надписи Ашоки свидетельствуют, что в середине III в. до н. э. палийского канона еще не существовало. В этом отношении особенно убедительна Байратская надпись. Обращаясь к магадхской общине, царь указывает здесь на ряд священных произведений, которые он рекомендует изучать и почитать: «Эти писания, о, достопочтенные, я надеюсь, будут непрестанно изучаемы и обдумываемы почтенными иноками и инокинями, а также и мирянами обоего пола» 28. Общим обозначением для всех перечисленных в надписи сочинений является слово «дхаммапалийяяни», которое переводится как «книги закона» или «священные книги». Названия перечисленных книг, за одним исключением («Увещание возвышенного к Рахуле относительно лжи»), не совпадают с названиями книг палийской Типитаки. К тому же их язык, очевидно, не был палийским. Таким образом, в середине III в. до н. э. буддийское учение уже было зафиксировано в письменной форме, но книг, составляющих дошедший до нас палийский канон, еще не было, а существовавшие тогда книги не сохранились.
Характер буддийского культа, современного Ашоке, в надписях по существу не отразился. Из отдельных штрихов, содержащихся в них, можно понять, что на этом этапе культ буддизма еще не внес ничего нового в брахманистские культы, основанные на ведах. Тем не менее есть основание полагать, что такой важный элемент брахманистского культа, как приношение в жертву животных, встречал со стороны буддизма весьма сдержанное отношение, с течением времени превратившееся в отрицание. Уже на ранней ступени развития буддизма такие жертвоприношения стали уступать место обильным курениям, подношению цветов; и, видимо, с самого начала словесный молитвенный элемент культа занял в буддизме значительно большее место, чем в ведической религии и в брахманизме.
Сангха (община) во времена Ашоки приобрела оформленный вид. Сеть монастырей покрыла всю Индию. И если вначале примкнуть к буддизму означало уйти из мира, полностью предавшись жизни отшельника-монаха, живущего подаянием, то уже сам Ашока явил пример вступления в сангху с сохранением прежнего мирского образа жизни.
Подтверждается надписями Ашоки общепринятое в науке положение о государственном характере буддизма в то время. Во всех надписях царь выступает в роли верховного авторитета по всем религиозным вопросам, он изрекает высшие истины вероучения тоном инстанции, имеющей право запрещать и разрешать. Правда, как отмечалось выше, в надписях нет упоминания о всебуддийском Соборе в Паталипутре, обычно именуемом третьим.
Следующую ступень в развитии вероучения и культа буддийской религии отражает Бхархутская ступа. По времени она отстоит от надписей Ашоки на 100–150 лет; путь, пройденный за это время буддийской религией, достаточно значителен.
Трудно сказать, какой святыне была посвящена Бхархутская ступа, тем более что она сохранилась не полностью. Но большое количество барельефов и других изображений, а также надписей, объясняющих эти изображения, делает данный памятник бесценным источником для характеристики раннего буддизма. И. П. Минаев говорит, что «с него, быть может, следует начинать изучение… буддийской религии». «Это, — характеризует он значение Бхархутской ступы, — компендиум буддизма, книга, иссеченная на граните, правда, без многих листов, с некоторыми страницами, только отчасти разобранными, — но ценность и значение книги от этого нисколько не умаляются. Уже то, что сохранилось из нее и может быть разобрано и истолковано, в настоящее время представляет материал, достаточный для довольно полной картины развития буддизма в определенную эпоху» 29. Правда, не исключено, что некоторые изображения и надписи относятся к более позднему времени, чем период возведения самой ступы. И все же они расцениваются специалистами как самые ранние, не считая надписей Ашоки, памятники древнего буддизма.
В изображениях и надписях Бхархутской ступы наглядно и убедительно выражены представления, связанные с верой в сверхъестественный мир и населяющих его богов и демонов. Колонны, обрамляющие вход во внутренний двор святилища, украшены изображениями сверхъестественных существ мужского и женского пола, надписи под которыми именуют их словом «якхо». Это слово, звучащее на санскрите как «якша», многозначно, будучи наименованием вообще богов или демонов в одних случаях и специально злых богов — в других. В Бхархутской ступе они выступают в роли хранителей и стражей святыни, причем многие из них изображены молящимися. Каждый из якхо имеет собственное имя. Двое из этих существ, Купиро и Вирудако, ассоциируются с известными по древней индийской мифологии Куверой и Вирупакшей — богами-хранителями северной и южной сторон Вселенной. Они довольно широко представлены в буддийской мифологической космологии вместе с хранителями двух других сторон света. Изображены они в человекоподобном виде.
Помимо большого количества других сверхъестественных существ, изображенных на ступе, привлекает внимание прежде всего отражение в ней собственно буддийской мифологии, связанной с жизнью и сущностью Будды. Здесь оказывается, что спекулятивные построения о возвышенном и утонченном философском характере раннего буддизма не соответствуют действительности: мифы о Будде-боге нашли в Бхархутской ступе свое яркое выражение.
Так, рельеф на восточных дверях ступы с надписью: «Нисхождение Бхагаваты» — изображает зачатие Будды его матерью Майей. Другое изображение иллюстрирует возврат Будды на землю с неба, куда он подымался для бесед с 33 богами. На третьем показан цветочный дождь, ниспосланный богами на трон Будды в момент его просветления. «Старательно выполненный рельеф… сохранил нам вид «Палаты Совещания богов» (Судхаммы); этот «небесный дворец» скомпонован по образцу земных дворцов того времени, и даже, надо думать, по образцу именно таких зданий, какие созидались в областях независимых кланов, таких, следовательно, какие могли быть и в столице области шакьев» 30
Образ Будды во многих перипетиях его мифологической судьбы широко представлен в изображениях Бхархутской ступы. «Отовсюду, — пишет И. П. Минаев, — на молельщика смотрели лики, как бы рассказывающие эпопею Вещего… эпизоды из его последней земной жизни сменялись изображениями его предшествующих перерождений…» 31 Последнее особенно примечательно: девятнадцать изображений иллюстрируют те образы, в которых Будда существовал до его воплощения в Гаутаме. Однако лишь около половины имен прежних воплощений Будды совпадает с теми именами, которые фигурируют в палийском каноне.
Мифологическое содержание текстов и изображений Бхархутской ступы свидетельствует о том, что на самой ранней, доступной исследованию ступени развития буддизм имел богатый пантеон и пандемониум, в основном соответствующий представлениям и верованиям, канонизированным впоследствии в Типитаке. Имеющиеся расхождения могут объясняться либо отсутствием к этому времени соответствующих письменных документов, либо тем, что по каким-либо причинам они были недоступны мастерам, работавшим над ступой. И в том и в другом случае работа должна была вестись «понаслышке», в соответствии с теми представлениями, которые бытовали в народе.
Сторонники теории о философском характере первоначального буддизма могут противопоставить этим выводам аргумент о разделении религиозной идеологии на эзотерическое мировоззрение элиты и простонародные верования широких масс. С их точки зрения, существовало два буддизма: умозрительный, абстрактный, утонченно-философский и мифологический, картинный, наглядно воспринимаемый, доступный широким массам. При таком подходе смешиваются понятия религии и философии. Говоря о буддизме, мы имеем в виду именно религию, а не философию и оставляем поэтому в стороне все богословские умозрительные спекуляции, если они даже тем или иным образом связаны с данной религиозной системой.
Констатируя наличие в раннем буддизме некоторого «агностицизма» в вопросах догматики, К. Регамей предостерегает в то же время от того, чтобы придавать этому агностицизму слишком большое значение и приписывать его первоначальному буддизму. С полным основанием швейцарский исследователь утверждает, что первоначальный буддизм «не мог строить на пустом», он должен был занимать какую-то позицию в вероисповедных вопросах. И конечно, у него была такая позиция, заимствованная из старых индийских религий, в частности из брахманизма. В этой связи Регамей указывает на то значение, которое занимают в буддизме учения о метемпсихозе (сансаре) и кармане. То же относится и к представлениям о богах, демонах и других сверхъестественных существах. Все эти представления во времена Будды принадлежали к очевидным истинам, в которых никто, за исключением приверженцев атеистических философских школ, не сомневался. Регамей считает, что буддизм воспринял все эти верования без оговорок, даже без намерения обсуждать их 32.
Многие факты подтверждают данную точку зрения. Характерны в этом отношении существующие предания о Вайшалийском соборе, независимо от того, был ли сам Собор, согласно которым там шла речь только о нормах поведения членов сангхи. Споры развернулись по таким вопросам, как: можно ли есть соленое и в каких случаях и количествах, можно ли брать в руки деньги и т. п. В отношении же догматов, составляющих вероучение, никакие споры якобы не велись. Если даже такого Собора и не было, то легенды все же затрагивают те вопросы, которые тогда были дискуссионными. А бесспорные мифологические «истины» нашли отражение в материалах Бхархутской ступы, характеризуя догматику раннего буддизма. То новое, что было внесено буддизмом, касалось этики и социального учения.
В материалах Бхархутской ступы отразился и процесс формирования буддийского культа. Сама ступа была окружена алтарями, у которых происходило богослужение. На некоторых изображениях показано и последнее. Оно состояло из славословий божествам, и прежде всего Будде, в пении гимнов, многократном обхождении вокруг святилища, коленопреклонениях, возложении цветов, сжигании специй для благовонного курения. Основные элементы буддийского культового ритуала были к этому времени уже сформированы.
Дальнейшее развитие буддийской религии нашло выражение в палийском каноне Типитаки. Вероятно, высказывания самого Будды в порядке устной традиции в той или иной мере дошли до письменного их запечатления в Типитаке, хотя цифра в 84 000 поучений, приписываемых Будде некоторыми священными книгами, взята, что называется, с потолка. Мифологическое же содержание буддизма развернулось в Типитаке в таких масштабах, что и в отношении хинаяны все попытки представить ее в качестве атеистической или близкой к атеизму философии выглядят как очевидное насилие над фактами.
До I века н. э. никаких священных книг буддизма не существовало. Тексты преданий, сюжеты мифов, поучения, проповеди, гимны заучивались изустно и в практике деятельности монахов и других деятелей сангхи постоянно повторялись, чем поддерживалась устная традиция. С возникновением письменности на языке пали эти многочисленные, если не сказать бесчисленные, тексты стали записываться, причем это происходило первое время на о-ве Цейлон, потом перешло в другие страны Юго-Восточной, Центральной и Восточной Азии. Первоначальный свод цейлонского текста в рукописях не сохранился. Но в прошлом веке буддийскими учеными и историками была осуществлена операция, запечатлевшая его и сделавшая таким образом достоянием буддийского религиозного обихода, с одной стороны, и научного религиоведения — с другой.
На V Буддийском соборе в 1871 г., проходившем в Бирме (г. Мандалай), была начата работа по собиранию и сверке сохранившихся в разных странах Востока рукописей и печатных текстов, относящихся к малийскому канону. Собранный материал был суммирован в 729 текстах, и каждый из этих текстов был вырезан на мраморной плите. Так образовался целый городок (Кутодо) буддийского Священного писания, носящего палийское название Типитака 33. Как уже говорилось, в переводе это слово означает «три корзины» или «три сосуда», что отражает то обстоятельство, что все тексты разделены на три части — питаки: Виная-питака, Сутта-питака и Абхидхарма-питака. Каждая из питак в свою очередь делится на ряд отдельных трактатов и произведений разных жанров, именуемых никаями.
Виная-питака посвящена преимущественно правилам поведения монахов и порядкам в монашеских общинах. Древнейшей и важнейшей ее частью является Пратимокша, своего рода уголовный кодекс для монахов, совершающих те или иные проступки или преступления, с указанием тех наказаний, которым должен подвергаться провинившийся. Другие книги Винаяны представляют собой в значительной мере комментарии к Пратимокше.
Центральную и наибольшую часть Типитаки составляет Сутта-Нипата. Она содержит огромное количество повествований об отдельных эпизодах жизни Будды и его изречений по различным поводам. Некоторые части Сутта-Нипаты, в частности никая, именуемая Дхармпадой, выражены в стихотворной форме; такова же форма содержащихся в Типитаке песнопений, рассчитанных на публичное исполнение монахами обоего пола. Книга джатак содержит сотни фантастических рассказов о прежних воплощениях Будды.
В третьей «корзине» — Абхидхарма-питаке — заключаются главным образом проповеди и поучения на этические и абстрактно-философские темы. В сравнении с предшествующими ей питаками она имеет, вероятно, более позднее происхождение. Некоторыми буддийскими богословами ее каноническое значение ставится под сомнение.
Каковы грандиозные размеры всего этого памятника буддийской религиозной словесности, можно наглядно представить себе по нижеследующему факту. В 1893–1894 гг. в Бангкоке было предпринято по приказу сиамского короля книжное издание Типитаки. Оно составило 39 томов большого формата, из которых на долю Винаи пришлось 8 томов, Сутты —20, Абхидхармы — 11. Отметим, что помимо этого гигантского нагромождения «священной» литературы существует еще 19 томов палийских же древних комментариев к Типитаке, заслуживающих, с точки зрения буддийских богословов, почти такого же почитания, как и основные тексты Типитаки. Надо, однако, иметь в виду, что далеко не все эти тексты являются оригинальными, ибо очень многие из них представляют собой повторение того, что сказано в других.
Как ни велик объем Типитаки и связанной с ней палийской комментаторской литературы, он меркнет по сравнению с появившимся через несколько столетий памятником тибето-монгольской литературы, состоящим из двух основных частей: Ганджур и Данджур. В первую входит 108 томов, во вторую — 225. По содержанию это, с одной стороны, переводы Типитаки с пали и санскрита, с другой стороны, оригинальные тексты, связанные с тантристским ответвлением буддизма и ламаизма 34.
Мы отметили выше наличие большого количества повторений в различных текстах Типитаки и Ганджура. Существенно еще и то, что многие из этих текстов представляют собой комментарии к другим текстам и дальше еще — комментарии на комментарии, так что реального содержания во всем этом нагромождении слов несравненно меньше, чем можно себе представить по впечатлению от размеров написанного. Еще, однако, важнее другое обстоятельство.
Тексты буддийских писаний исключительно противоречивы по своему внутреннему содержанию. Такая противоречивость присуща «священным» писаниям и других религий, в частности иудаизма, христианства и ислама, но буддизм, надо сказать, бьет в этом отношении все рекорды. Мы увидим это при изложении основных элементов его вероучения. При всем этом анализ позволяет обнаруживать какие-то определяющие линии, которые надо искать не в схоластических мудрствованиях философов и богословов, а в верованиях, находящих отклик и распространение в широких народных массах.
При всем многообразии различных толкований тех требований, которые стал предъявлять к своим адептам сформировавшийся буддизм, можно свести их к необходимости признания Будды, дхармы и сангхи. Коротко это выражено в трехчленной формуле — триратне. Если содержание первого и третьего из этих пунктов достаточно ясно, то в отношении второго из них этого нельзя сказать.
Понятие дхармы было известно еще в ведической религии и в брахманизме, где оно толковалось в самых различных смыслах: закон, поддержка, религия, порядок, благодетельное следствие жертвоприношения и т. д. В буддизме понятие дхармы получило тоже довольно многообразный смысл.
Одно из толкований этого понятия связано с представлением о том, что бытие представляет собой бесконечную сумму мельчайших элементов-единиц и дхарма есть не что иное, как обозначение каждой из них; аналогию такой трактовки можно усмотреть в Демокритовом понимании атома с той поправкой, что здесь и пустота представляет собой совокупность дхарм. Видимо, однако, в трехчленной формуле «Будда — дхарма — сангха» понятие дхармы надо рассматривать в ином смысле — как обозначение учения или мудрости. В этой трактовке под дхармой следует понимать само вероучение буддизма, признание которого является условием принадлежности к данному религиозному направлению.
Рассмотрим систему верований и представлений древнего буддизма по обоим его ответвлениям, учитывая в то же время качественное своеобразие хинаяны или тхеравады и махаяны. Первая по сравнению со второй несколько ближе к первоначальному буддизму и менее богата продуктами самостоятельного мифологического творчества.
МИР СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО В ДРЕВНЕМ БУДДИЗМЕ
ОБЩАЯ КАРТИНА МИРА
Вселенная в буддийской догматике имеет многослойное строение. Можно насчитать десятки небес, упоминаемых в различных канонических и неканонических сочинениях хинаяны и махаяны.
При колоссальном многообразии верований и представлений, существующих в различных ответвлениях и сектах буддизма, практически невозможно выделить такие, которые были бы общи для этой религии в целом. Это относится и к картине мира, которую можно было бы считать характерной для буддизма: в ряде случаев одни элементы этой картины наличествуют в тхераваде, другие в каких-нибудь направлениях махаяны или в ламаизме. При всем этом представляет известный интерес характеристика ряда элементов буддийской картины мира, если они даже фигурируют не во всех ответвлениях этой религии.
Образ буддийской картины мира можно представить себе с помощью анализа фигурирующей чуть ли не во всех ответвлениях буддизма общей схемы, изображенной на именуемом мандалой культовом блюде или просто на полу культового здания. Само это слово может переводиться как круг, кольцо, колесо и т. д. Изображенная на мандале картина довольно сложна. Внутри круга, охватывающего всю мандалу, помещен квадрат, в центре которого в свою очередь изображен малый круг. Принадлежность данной мандалы к тому или иному ответвлению буддизма определяется характером изображения, сделанного в центральном малом круге: это божество, почитаемое данной буддийской деноминацией, или представляющие его атрибут или символ. Окружающий центральный круг квадрат ориентирован по четырем странам света; видимо, смысл таков, что мощь и влияние изображенного божества распространяются на всю Вселенную. Из каждой стороны квадрата выходят ворота в большую Вселенную — второго порядка. На выходе из этих ворот изображаются различные божества; то же изображено и во внешнем пространстве вокруг квадрата.
Перед нами, таким образом, своего рода карта Вселенной в горизонтальном плане, на, так сказать, срезе нашего горизонта. Такое представление не исключает, а, наоборот, предполагает наличие еще ряда миров на разных уровнях линии, вертикальной по отношению к плоскости мандалы. Ось этой вертикали проходит через центр внутреннего круга. По господствующим представлениям, эту ось составляет гора Меру (или Сумеру); бытуют, однако, и такие, по которым эту ось составляет мировое дерево.
В буддийской литературе содержится колоссальный материал, относящийся к картине мира. Многое из этого материала связано с действительными наблюдениями «наивного реализма» над явлениями природы, но еще больше этого рода материала преломляется сквозь призму чрезвычайно богатой в буддизме религиозной фантазии и предстает в причудливо фантастическом мифологическом виде. Представим читателю основные элементы буддийской космологической мифологии.
Всего существует, по представлениям этой космологии, 31 сфера бытия, расположенные друг над другом, снизу вверх по степени своей возвышенности и одухотворенности. Они делятся на три разряда: кармалока, рупалока и арупалока.
В кармалоку входят 11 ступеней или, что то же, уровней сознания. Это низшая область бытия. Если характеризовать каждый из ее уровней через обозначение существ, населяющих его, то получится следующая картина. На первом уровне — обитатели ада, отбывающие там наказания за свои преступные деяния. На втором — все виды животных. На третьем — некие вечно голодные духи, никогда не могущие насытиться и напиться. Дальше идут злые демоны, постоянно причиняющие страдания всем другим живым существам; обыкновенные люди, подверженные радостям и страданиям; божества-хранители, оберегающие вход на более высокие уровни мироздания, где уже начинаются небеса; 33 божества неба Таватинсы, ведающие человеческими делами; божество Яма — в его царстве прекращаются страдания; небо Тушиты, в котором пребывает среди прочих божеств Майтрейя — грядущий после Сакья-Муни новый Будда; боги удовольствия и блаженства. Наконец, на десятом и одиннадцатом уровнях это прозрачные и исчезающие божества, пребывающие в неге и блаженстве.
Вся область кармалоки представляет собой не только низшую, но и низменную область бытия. Здесь полностью действует карма — ответственность за деяния, чинимые человеком, и воздаяние за них новым рождением в том или ином, лучшем или худшем статусе по сравнению с тем, в котором он пребывал в прежнем своем перерождении. Это полностью телесная материальная сфера бытия, лишь на высших своих уровнях начинающая переходить в более возвышенные стадии.
Уровни бытия с 12-го по 27-й относятся к более высокой сфере созерцания — рупалоке. Здесь уже действует не прямое грубое созерцание, а воображение, но и оно еще связано с телесным миром, с формами вещей. И наконец, последний уровень — арупалока — отрешен от формы и от телесного материального начала. По существу для этих четырех последних сфер реального содержания не остается. В тхераваде 28-й уровень обозначается как бесконечное пространство, 29-й — как безграничное сознание, 30-й — как пустота, а 31-й — это то, «что… даже не поддается описанию». В махаяне арупалока характеризуется немногим более содержательно. В общем она представляет собой «космическое тело Будды», где 28-й уровень является созидательным телом, 29-й — телом радости, 30-й — телом учения, 31-й — самосуществующим телом 35. Трудно в этой словесности найти какое-нибудь реальное содержание. Рискуя впасть в вульгаризацию, позволим себе предположить, что такими построениями многоученые буддийские богословы сознательно создавали у простых верующих иллюзию монопольного обладания истиной, непостижимой для этих верующих и доступной только для избранных.
По другим, более популярным представлениям, мифы составляют две сферы — кармалоку и брахмалоку. Первая представляет собой область чувственную, связанную с эмпирическим миром и с жизненными стремлениями и вожделениями его обитателей, вторая является сферой чистого бесстрастия и в этом смысле — совершенства 36.
По представлениям, которые выражены в одном китайском сочинении XVI в., они явно несут на себе следы древних источников 37. Вселенная имеет обычное в религиозной картине мира трехслойное строение. Подземный ее слой включает область злых демонов («асуров, преисполненных ненавистью к богам»), а также тройную систему адов — раскаленных, морозных и комбинированных. Земной мир также состоит из большого количества слоев. Его центр — гора Меру, далее следуют колоссальной протяженности слои — воздушный, водный и т. д. На высоте сотен тысяч иоджан (иоджана, видимо, составляет около 14 км) начинается «мир 33 небес», населенный различными богами и демонами. Среди них следует отметить шесть небес кармалоки, небеса Шакры, Ямы, Тушиты. Последнее примечательно тем, что именно с него, как повествуют предания, спустился на землю для воплощения в образе Гаутамы Будда; там он прожил до этого 4 тыс. лет в обществе 100 тыс. богов, которые его непрерывно славили и восхваляли.
Таким образом, сверхъестественный мир выглядит в буддизме и как некая топографически определенная сфера, и как мир закономерностей, в корне отличных от тех, которые господствуют в естественном мире. Самое же главное его отличие заключается в населяющих его сверхъестественных существах. Достаточно уже указанных выше 100 тыс. богов, чтобы исключить разговоры о принципиальном различии между буддизмом и «теистическими» религиями.
БОГИ
Согласно источникам, Будда недвусмысленно признавал существование богов. Однажды один из его учеников, брахман Сангарава, спросил его, существуют ли боги. Будда ответил: «Боги существуют, это факт, который я признаю; во всем мире в этом все единодушны» 38. Увидев однажды, что к нему направляется группа людей из племени личчхави, Будда обратился к окружавшим его и сказал: «Братья, пусть те из вас, кто никогда не видел богов Таватинса, посмотрят внимательно на этих личчхави, присмотрятся к ним, посравнят, — совершенно как сборище богов Таватинса!» 39 Напомним, что Таватинсы — божества ведического пантеона; Будда считает их не только реально существующими, но и доступными человеческому восприятию; одни из его учеников, как он довольно ясно здесь выразился, могли когда-нибудь видеть Таватинсов, другие могли не видеть.
Какое значение придавалось в древнем буддизме вере в богов, показывает хотя бы тот факт, что из шести «анусмирти» — добродетелей и сокровищ верующего — одно определяется как «деватанусмирти» — истинное понимание богов.
Богов следовало почитать, ублажать, всеми возможными средствами располагать к себе. Двум чиновникам, которых Будда принимал у себя, он сказал: «Всюду, где мудрый человек поселяется, он приносит богам этих мест жертвы. Почитаемые и уважаемые им боги почитают и уважают его. Как мать заботится о своем любимом сыне, они заботятся о нем» 40. Будде приписывается, таким образом, та же утилитарная установка в отношении богов, которая фигурирует и в ведизме и в брахманизме, — надо их почитать для того, чтобы пользоваться плодами добытой этим способом их благосклонности. О том же говорят и другие тексты: «Потомок хорошей семьи одаряет богов своим имуществом, так как почитает их достойными жертвоприношения, чтит их, преклоняется перед ними. Это ему во благо, ибо они ему говорят: живи долго, достигни глубокой старости» 41.
В пантеон древнего буддизма входили боги прежних религий Индии. Здесь большое количество традиционных, известных по ведической литературе имен индийских богов, например царь якшей Кубера, бог богатства, хранитель сокровищ Индры, в индийской мифологии один из охранителей мира, в обязанности которого входит охранять его северную область. Фигурируют и охранители других сторон света, правда с некоторыми изменениями в сравнении с индуистской мифологией: в качестве остальных трех стражей вместо Индры, Ямы и Варуны в буддизме выступают Дхритараштра, Вирудхака и Вирупакша. Отметим еще бога Шакру, владыку горы Меру, и обитающих в его мире десять божественных троиц. Точнее сказать, Шакра господствует не на всей горе, а только на ее вершине — Траястринше. Его функции считались весьма ответственными: он выступал, например, в качестве предводителя богов в их борьбе с асурами. Именно на Шакру были перенесены многие эпитеты и определения, ранее связанные с Индрой. В общем это доброе и справедливое божество, которое иногда проявляет признаки вполне человеческие — трусость, жадность и простодушие, граничащее с глупостью. Значение Шакры в буддийском пантеоне подчеркивается тем, что именно в его небесной сфере находится Судхарма — зал заседаний богов. Собираются боги здесь каждый восьмой день лунного месяца и по случаю разных празднеств и торжеств. Там они выслушивают определенное количество проповедей и поучений. Есть в небе Шакры и место, где богам можно развлечься и отдохнуть, — парк Нандана.
Помимо настоящих богов, благих и добрых в отношении человека, буддизм знает и сонм злых богов — асуров, демонов, доставляющих людям неприятности и хлопоты. Кроме злого бога Мары, который и самому Будде досаждал, говорится и о его дочери Рати, жене бога плотской любви Камы.
Под горой Меру обитают, по преданиям буддийской мифологии, постоянно враждующие с богами демоны-асуры. Кроме них упоминаются еще наги (полузмеи-полулюди) и преты — злые существа, вампиры.
Есть еще класс сверхъестественных существ, занимающих промежуточное место между злыми и добрыми богами, да и вообще сомнительных по своему божественному достоинству; скорее всего это полубоги-полулюди. К таковым относятся упоминавшиеся выше якши. Считалось, что они поступают иногда благожелательно, иногда враждебно в отношении людей, а для исполнения своих намерений могут принимать любой облик 42. Такими же низшими божествами или даже, может быть, полубожествами можно считать гандхарвов, обитающих в небе четырех охранителей мира и выполняющих «по совместительству» обязанности небесных музыкантов и виночерпиев.
Высшим богом в буддизме считается Будда. Это относится не только к позднейшему, но и к первоначальному буддизму. Такую точку зрения защищает, в частности, К. Регамей. Он анализирует легенду о встрече Будды с пятью учениками, ставшими его первыми последователями. Они встретили Будду не очень благожелательно, но вскоре прониклись симпатией к нему и стали за ним ухаживать, называя его «друг Гаутама». Будда запретил им так называть себя, мотивируя тем, что отныне он «стал Татхагатой, святым, безусловным Самбуддой». Это произвело на учеников такое впечатление, что они мгновенно «обратились». Смысл слова «Татхагата» не ясен. Его происхождение Регамей возводит к доарийскому периоду, рассматривая его санскритизированную форму как продукт эволюции. Он находит здесь аналогию со словами «мессия» и «логос» в христианстве.
В качестве божества Будда и на первоначальной стадии развития данной религии не претендовал на многое из того, что характеризует понятие бога в других «высших» религиях. Он не считался создателем мира и его управителем. Он не брал на себя функции изменения, а тем более отмены вечного закона кармана, он не брался даже отпускать грехи, ибо и это было бы вмешательством в мировую закономерность явлений, связанную с карманом. Это не лишало его, однако, ореола божества, что видно из его самооценки, фигурирующей в легендах: «Я всемудр, свободен от каких-либо загрязнений… Нет у меня учителя; нет равного мне ни в мире людей, ни в областях богов. Я святой в этом мире, я высший учитель, я единственный Сам-будда». Приводя эту и подобные ей цитаты, В. А. Кожевников утверждал, что «этот полный апломба тон приписан Будде уже древнейшими редакциями предания; позднейшие же еще усиливают его» 43. И в раннем буддизме, таким образом, речь идет не о человеке, а о боге.
Будда не просто бог, а величайший из богов, царь богов. С его рождением остальные боги отошли в тень — «блеск солнца и луны, блеск Шахры, Брахмы и стражей мира стал невидим» 44. Не все индийские боги наделялись бессмертием, Будда же мог жить и умереть в сроки, им самим установленные. Ближайший его апостол, Ананда, обвинялся сангхой после смерти учителя в том, что он не упросил его жить еще кальпу (4 млрд 320 млн лет). На небесах Будда, по преданиям, наставляет богов в истинной вере, читает им священные книги. Остальные боги стоят настолько ниже его, что даже недостойны доедать остатки его пищи. После того как он съел у кузнеца Чунды роковое угощение (сушеное кабанье мясо), сведшее его потом в могилу, Будда говорит хозяину: «Что осталось мяса вепря, Чунда, то зарой в пещеру. Я никого не вижу, Чунда, ни на земле, ни в небесах, ни в сферах Брамы и Мары, ни среди саман и брахман, ни между людьми и богами, кто бы был достоин вкусить от остатков той пищи, кроме Совершенного» 46. Так высоко «совершенный» оценивал собственное достоинство.
Уже в момент возникновения буддизма его основатель представлялся богом высшего ранга, «учителем богов и людей», царем богов и Вселенной (чакравартином), возглавившим весь пантеон. Существенно при этом, что возглавил он не какой-либо вновь созданный пантеон, а унаследованный от ведической и брахманистской религии. Но и здесь дело не дошло до монотеизма, ограничившись супремотеизмом. В Суттах, как и в других священных книгах, канонических и неканонических, говорится о богах во множественном числе, упоминаются их собственные имена, указывается на то место, которое они занимают в божественной иерархии. Не следует искать здесь какой-либо последовательности: мир богов то именуется «миром Брахмы», то «владыкой богов» оказывается не он, а Сакка (санскритская форма — Шакра). Но и этот владыка богов ловит мысли, зародившиеся «в сердце царя царей» (Будды. — И. К.), с тем чтобы приказать другому богу, например Виссакаме, немедленно исполнить его замысел 47.
Множественность богов в буддизме объясняется не только тем, что наряду с Буддой сохранилось в этой религии огромное число добуддийских богов и демонов, а и тем, что в ходе дальнейшего развития к ним присоединялись боги тех народов, среди которых буддизм находил распространение; существенное значение в данной связи имеет множественность самого Будды.
Заимствованное из брахманизма учение о метемпсихозе, будучи применено к личности Будды, дало поразительное по своим масштабам проявление политеизма. Постоянно во Вселенной происходит своеобразный круговорот будд — одни умирают, другие воплощаются и приступают к исполнению своих обязанностей. Это происходит в разных мирах параллельно, а в каждом из них, в том числе и на земле, — последовательно. Количество будд, одновременно сосуществующих в разных мирах, огромно. Их никто не может знать, кроме Гаутамы, а он «в своей безграничной мудрости может помнить всех будд всех предыдущих веков; может знать характер всех сотен тысяч мириад будд, многочисленных, как песчинки на дне и на отмелях Ганга». Фантазия пытается назвать и некоторые цифры, характеризующие количество будд: по одной бирманской легенде, Гаутама наблюдал появление на свет 987 тыс. таковых. В некоторых буддийских сочинениях встречаются даже списки будд, по необходимости значительно более короткие, чем можно себе представить на основании заявлений о «бесчисленности благословенных»: в одном случае — 90 имен, в другом — 52 и т. д.48
Количество будд, воплощавшихся на земле, значительно скромнее, причем оно распределяется по различным кальпам. В данный период воплощению Гаутамы предшествовало 27 будд, так что он явился 28-м, а за ним через 500 лет должен последовать Майтрейя 49. Очередной акт эпопеи наступает тогда, когда на земле падает вера, портятся нравы и начинает торжествовать нечестие, так что очередной Будда должен восстановить правую веру. Интервалы между воплощениями неравномерны: после смерти Падмоттары его преемник явился только через 100 тыс. лет, после Дипанкары — через 70 тыс. лет, после Канакамуни — через 29 дней, а после Кашьяпы — через семь дней 50.
Можно при желании рассматривать все эти бесчисленные божества как ипостаси, проявления одной и той же проникающей всю Вселенную божественной силы. Еще утонченнее получится, если в фигурах всех будд усматривать не божества, а выдающихся людей, озаряющих светом своего гения все человечество. Тогда перед нами будет не политеизм и даже не религия, а возвышенная и просвещенная пантеистическая философия. Вероятно, и в прошлом были направления общественной мысли, которые так же трактовали содержание буддийского учения. Но не такая трактовка характеризует в основном содержание буддизма. Как и в других религиях, в нем существовала и существует линия интеллектуальной элиты, по-своему препарирующая догматы веры. Но в той форме, в которой эта вера распространена среди широких масс и принята ими, наличествует элементарный политеизм. Каждый из бесчисленных будд есть божество, занимающее свое место в общем пантеоне. Видимо, даже о супремотеизме здесь следует говорить с некоторыми ограничениями, так как какой-либо субординации среди огромного количества существующих и впавших в нирвану будд не видно. Впрочем, может быть, несколько предпочтительнее в сравнении с другими выглядят позиции Гаутамы.
В процессе пополнения буддизма за счет религий тех народов, среди которых он распространялся в ходе позднейшей истории, имел место процесс ассимиляции и идентификации богов. Под старыми или новыми названиями они входили в общебуддийский пантеон и становились бодисатвами, ипостасями, мужьями и женами богов, самостоятельными богами.
Невозможно даже перечислить все категории богов и полубогов, вообще сверхъестественных существ, фигурирующих в пантеонах разных направлений буддизма. Есть божества дхармапала, в функции которых входит защита буддийского учения, как и самих верующих буддистов, от их врагов. Можно считать подразделением этой категории богов группу именующихся идамами; это вообще боги-охранители, которые в свою очередь делятся на разные группировки. Среди них — мирные, полугневные и гневные, мужские божества и женские (бхагавсаты и дакини). По другой классификации все дхармапалы являются подразделением рода богов локапал. Вначале они рассматривались как охранители четырех стран света, в дальнейшем они получили более частные функции охраны отдельных явлений природы — рек, гор и т. д. Один из них, по имени Вайшравана, выступал в роли предводителя подразделения богов-якши. Среди последних имелись в виду и якшини-женщины, очень злые в отношении к людям и опасные для них.
Идет ли здесь речь только о богах или о более широком круге существ — полубогах, демонах и т. д.? Напомним, что имеются в виду сверхъестественные существа и различие групп внутри этой общей категории относительно и условно. Это тем более следует отметить, что самые высокопоставленные боги буддийского пантеона в принципе не отличаются от полубогов и демонов. Они также ограничены в своих качествах и возможностях. Они не творцы Вселенной и не управители ее, они подвержены страданиям, болезням и смерти. Так же как и человек, они попадают в цепь перевоплощений; как и для человека, благоприятным выходом из сансары является для них достижение нирваны. В отношении богов верующий должен проявлять те же чувства, что и в отношении к людям, — сострадание, жалость, любовь.
Можно ли считать эти существа богами? Ведь именно исходя из такой их ограниченной природы многие исследователи и отказывают им в этом звании, на чем и основывается трактовка буддизма как атеистической религии.
Любое понимание бога, кроме пантеистического, связано с признанием ограниченности наивысшего сверхъестественного существа. Только апофатическое богословие, оперирующее лишь негативными определениями, освобождает его от таких ограничений, но в силу его бессодержательности оно вообще не должно приниматься во внимание. Все позитивное, приписываемое божеству, ограничивает его и в физическом и в психическом плане.
В качестве бога Будда является личностью и не может быть смешиваем с миром. Мир не сотворен им, он существует рядом с ним и так же вечен, как он. Здесь нет пантеизма, который имеется в позднейшем брахманизме. Буддизм сделал шаг к персонификации богов, к их отрыву от тех явлений и сил природы, которые они ранее олицетворяли. В сравнении с упанишадами буддизм «приземлил» богов. «Упанишады, — пишет Радхакришнан, — отличают мокшу (понятие того же порядка, что нирвана. — И. К.) от жизни в Брахмалоке, а Будда утверждает, что боги принадлежат к миру явлений и не могут поэтому считаться абсолютно безусловными» 51.
ЧУДЕСА
Не менее ярко, чем в других религиях, выражена в буддизме вера в чудеса. Зачатие Будды ознаменовалось 32 чудесными знамениями. Его рождение вызвало в природе ряд потрясений, в которых непосредственно участвовали все боги. Узнав о его предстоящем отправлении с неба Тушиты на землю для воплощения, боги, как сообщает Лалита-Вистара, решили «из благодарности к нему не оставлять его ни на минуту одиноким на земле и невидимо сопровождать его всюду, от момента вселения в материнское лоно до паринирваны, и, как только бодисатва стал отдаляться от вышних небес, начались многие великие знамения: его тело стало разливать вокруг столь сильный, превышающий сияние богов свет, что он озарил все три тысячи великих тысяч областей Вселенной и проник в места, доселе никогда не видавшие света, даже в отведенные грешникам области, которые окутаны мраком их преступлений и где бессильны лучи луны и солнца». И как обычно в древних религиях, сильно действующим оказывается землетрясение: потряслись «все три тысячи великих тысяч» — областей мира, «взволновались, зазвучали, поднялись и опустились в разных местах» 52. Грешники в царстве Ямы «были в тот миг избавлены от страданий и исполнились ощущением благополучия». Такие из ряда вон выходящие события описываются в столь же сильных выражениях и в других буддийских канонических и неканонических книгах, так что мы имеем здесь дело не с работой фантазии одного человека, а со своего рода догматическим тезисом, вошедшим в содержание вероучения.
Не менее яркие знамения сопровождали смерть Будды. В этот момент «сделалось страшное землетрясение, грозное, ужасающее, и громы небес разразились». Перед смертью Будды собрались «духи небес, но не отрешенные от земного», они «рвут на себе волосы… плачут, ломают руки и рыдают горько, бросаются ниц на землю и в сокрушении мечутся, тоскуя при мысли: «Скоро, скоро… угаснет Свет миру»». Боги Брахма и Шакра комментируют прискорбное событие красноречивыми траурными гимнами. В момент смерти Будды оказались цветущими близнечные деревья, «хотя цвести им было не время». Зацвели они, однако, если не ко времени, то к месту: «небесные цветы Мандарава и хлопья небесного сандала падали с небес, сыпались, ниспадали на тело Совершенного… И небесные звуки лились с небес… И небесные гимны звучали в небесах…» 53. А когда нужно было зажечь погребальный костер умершего, то для этого не понадобилось никаких усилий, ибо тело загорелось само.
Будда непрестанно творит чудеса, многие из них аналогичны евангельским чудесам Христа. Он также «преображается», как Христос. В момент, когда Будда известил Ананду, что собирается уходить из этого мира, «его тело сияло как пламя», что вызвало восклицание Ананды: «Все тело твое — чудной белизны, светло и прекрасно, выше всякого описания». Почти таким же способом, как и Христос, Будда форсирует водную преграду, только, пожалуй, более эффектно: «…Блаженный приблизился к реке. В то время река Ганг переполнилась, и было наводнение; желая перейти на ту сторону, одни стали искать плот, другие — лодки, третьи делали паром из тростника. И вот как могучий человек быстро вытянул бы вперед свою руку или сжал бы ее, так и Блаженный внезапно исчез с этого берега со своими учениками и столь же внезапно явился на другом» 54. В одной из книг Типитаки есть упоминание о том, что Будда совершил 3500 чудес.
Чудеса творятся, конечно, не одним Буддой, а и другими персонажами пантеона и даже простыми архатами (подвижниками), если они достигли соответствующей ступени святости. Так, «некий Сангхараккхитасаманера, достигши состояния арахата, взошел на небеса и, стоя на башне царского чертога богов, потряс всю местность большим пальцем к великому ужасу и изумлению ее восхищенных обитателей…». Эта цитата, приведенная из примечаний Рис-Дэвидса к изданию Сутт, сопровождается его комментарием: «Несомненно, здесь сказывается вера, что глубокая мысль может потрясти мир, может заставить содрогнуться дворцы богов. Но фигуральные выражения явились в буддизме благоприятной почвой для развития позднейших суеверий и нелепых воззрений» 55. Трудно представить себе более произвольную интерпретацию мифологического материала. При таком подходе можно любой миф трактовать как совокупность фигуральных выражений, которые лишь в дальнейшем почему-то стали приниматься в их буквальном смысле, породив ряд недоразумений. На самом же деле перед нами обычное религиозномифологическое повествование о великом землетрясении, вызванном мановением руки чудотворца. Сильное впечатление, произведенное этим чудом даже на богов, только подчеркивает примитивность и алогичность всей мифологической конструкции.
ДУША, НИРВАНА, МЕТЕМПСИХОЗ, ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ
Освещение вопроса о месте понятия души в раннем буддизме представляет серьезные трудности. В буддологической литературе бытует положение о том, что ранний буддизм не признавал существования души. В тот период, когда в религиоведении господствовала анимистическая теория, это являлось важным аргументом в пользу признания буддизма атеистической религией или вовсе не религией.
Немецкий религиовед О. Пфлейдерер утверждал: «…именно бытие супранатуральной души, остающейся при всех изменениях ее состояний одною и тою же, отрицается самым (в буддизме. — И. К.) решительным образом. То, что мы называем душою, по буддистскому учению, по-видимому берущему начало от самого Гаутамы, в действительности не существует, а является лишь видимостью». Тут же, однако, Пфлейдерер сталкивается с затруднением, ставящим его в тупик: «…если нет реальной души, то каким же образом возможно переселение душ? Как может будущая жизнь быть возмездием за деяния нынешней жизни, если уже нет того субъекта, который совершает их и который получит за них награду или наказание?» Автор пытается найти ответ на поставленный вопрос в самом буддийском учении и, не найдя его, вынужден констатировать неразрешимость этой «непостижимой тайны» 56. На самом деле здесь, конечно, нет ничего непостижимого, ибо один из элементов смутившей Пфлейдерера контроверзы неправилен: буддизм не отрицает существования души.
В различных канонических и неканонических писаниях буддизма не раз ставится вопрос о сущности Я, атмана, личности, причем этот вопрос решается в негативистском плане. Отрицается единство личности, а аргументация в пользу такого отрицания обыкновенно заимствуется из сравнения человека с каким-нибудь другим материальным телом, например с повозкой. В беседе греческого царя Менандра (Милинды) с буддийским монахом Нагасеной выясняется, что «нет никакой повозки», хотя есть оси, колеса, кузов, дышло и т. д. Точно так же не существует и самого Нагасены, хотя есть его волосы, ногти, зубы, кожа и мясо; Нага-сену не составляет «телесность», он не сводится и к системе «представлений, форм и познания», «Нага-сена — это только имя, название, обозначение, простое слово; субъекта же такого здесь нет». Так же решает эту проблему монахиня Ваджира в диалоге с искусителем Марой: «Это лишь скопление изменчивых форм; здесь нет личности» 57. И если приведенное рассуждение Нагасены фигурирует в неканонической книге, то спор Ваджиры с Марой воспроизводится в нескольких книгах палийского канона, так что может считаться основой догматически закрепленной концепции.
По своему содержанию данное здесь решение вопроса о соотношении целого и части представляет собой лишь маскировку отрицания существования мира в целом и отдельных его элементов в частности, ибо если последовательно продолжить рассуждение, то следует мысленно расчленить, например, ось или кузов повозки на их составные части, после чего остается признать, что и ось и кузов — всего лишь слова, наименования, не выражающие объективного содержания. Поскольку это так, то отрицание души в буддизме не относится специально к душе; в той мере, в какой здесь говорится о душе, это относится и ко всему прочему. Г. Ольденберг совершенно правильно пишет: «С равным правом можно сказать, что буддизм отрицает существование тела»58. Но философия субъективного идеализма и солипсизма не может составить содержание какой бы то ни было религии. Буддизм, однако, был и остается религией, многочисленные же философские концепции Древней Индии представляют собой лишь ту идеологическую атмосферу, в которой религия зреет, и тот «верхний этаж», в котором находит интеллектуальное прибежище элита. Солипсизм, конечно, имел место в раннем буддизме, но он был лишь философским обрамлением собственно религиозных взглядов, не проникающим в сущность последних, внешним по отношению к ним. Это относится и к вопросу о душе.
В буддийских священных книгах душа исчезала, делясь на четыре элемента: ощущения, представления, желания и познание (или сознание). Исчезал в целом человек, в его сущность включалась помимо указанных элементов и телесность, но это не помогло целому возникнуть в качестве реально существующего явления. Для религиозного сознания этот солипсизм, однако, настолько противопоказан, что сам Будда стеснялся его.
Приводятся и такие высказывания Будды, где прямо отрицается реальность личности и, следовательно, души. Смерть одного из своих учеников Будда комментировал так: «Когда исчезают жизненные позывы (стимулирующие силы. — И. К.), исчезает сознание; когда исчезает сознание, исчезает имя и образ… исчезает соприкосновение». Дальше идет перечисление того, что еще исчезает: ощущение, восприятие, охват (умственный), бытие, рождение, старость, смерть, горести, страдания, уныние. С разрушением тела, оказывается, гибнет не только несуществующее целое, исчезают и те элементы, которые составляют его действительное содержание. Есть и другой пассаж такого рода, повторяющийся в нескольких книгах. Около трупа монаха Годгики вилось темное облачко. Когда ученики спросили Будду, что оно значит, он ответил: «Это злой Мара ищет познания (или сознания. — И. К.) благородного Годгики… но благородный Годгика вошел в нирвану, его познание не пребывает нигде» 59. Перед нами как будто материалистический взгляд на соотношение тела и души, материи и духа. Но ни Будда, ни его ученики таких материалистических выводов из приведенных посылок не делали.
Когда перед Буддой ставили вопросы, из решения которых могла возникать опасность для религиозной догмы, он уклонялся от ответа. Пришел к нему некий Вачкхаготта и стал задавать опасные вопросы: «Может быть, Я не существует?» Учитель ничего не ответил и продолжал молчать, несмотря на то что вопрос был повторен. Вачкхаготте не осталось ничего больше, как удалиться. Ближайший ученик Будды Ананда заинтересовался, почему же учитель не ответил на заданный ему вопрос. Будда разъяснил, что любой из возможных ответов таит в себе опасность для веры, ибо ведет от одного заблуждения к другим 60.
Так же неопределенно вел себя Будда в разговоре с монахом Малункияпуттой. Монах спросил, будет ли жить Татхагата после смерти? «Или Совершенный не будет жить после смерти?» Видимо, такие докучливые вопросы задавались уже не первый раз, притом безуспешно, ибо Малункияпутта комментирует свой вопрос таким образом: «Если же кто-либо чего-нибудь не знает и не постигает, то прямой человек так и говорит: этого я не знаю, этого я не постигаю». Но и на сей раз Будда весьма пространно сам формулирует заданный ему вопрос: «Тождественно ли лживое существо с телом или отлично от него? Продолжает ли или не продолжает жить Совершенный после смерти, или Совершенный после смерти в одно и то же время и продолжает и не продолжает жить, или он ни продолжает, ни не продолжает жить?» 61
Делает он это лишь затем, чтобы утопить вопрос в словах и уклониться от него под тем предлогом, что он собирал учеников не для того, чтобы объяснять им такие проблемы. Дальше он рассказывает притчу о раненном стрелой, который должен не задавать не относящиеся к делу вопросы, а заботиться об извлечении стрелы и о своем излечении.
Ученики Будды следовали его примеру в подобных вопросах, причем ссылались на то, что учитель не открыл им соответствующих тайн. Показателен в этом отношении диалог царя Кошалы Пасенади с монахиней Хемой. Царь задал ей каверзный вопрос: «Живет ли Совершенный после смерти, достопочтенная?» Она ответила: «Возвышенный, великий царь, не открыл, что Совершенный живет после смерти». Последовал новый вопрос: «Так, значит, Совершенный не живет после смерти?..» Был дан ответ: «И этого, великий царь, не открыл Возвышенный…» Как ни варьировал Пасенади форму своего вопроса, он получал один ответ: «Возвышенный не открыл». В итоге он высказал удивление по поводу того, что учитель оставил неосвещенными такие важные вопросы вероучения. Монахиня сравнила попытку ответить на такие вопросы со стремлением сосчитать песчинки на берегу Ганга или измерить воду в океане. Такой аналогией Пасенади был окончательно сражен, он «встал со своего места, преклонился перед монахиней Хемой…» и уехал 62. В другом месте рассказывается, что такие же вопросы царь Кошалы задавал и Будде, причем получил тот же ответ. Нетрудно понять, почему Будда и его ученики избегали прямых ответов на вопросы, подобные приведенным выше.
Содержание понятия нирваны в буддизме столь же расплывчато, как и смысл большинства понятий буддийской догматики. Его анализу посвящен ряд трудов, причем между их авторами существуют значительные разногласия в трактовке понятия нирваны. Несомненным является то, что нирвана означает исчезновение всяких желаний и страстей, а по существу и исчезновение сознания и самосознания. Фактически речь идет об исчезновении жизни, причем таком радикальном исчезновении, которое прерывает цепь перерождений. И тут вся догматическая система оказывается висящей на волоске: если Будда впал в нирвану, а это составляет один из фундаментальных догматов всего вероучения, то, значит, он перестал существовать и не может даже возродиться в очередном бодисатве. Такого никак нельзя допустить, ибо дальнейшее появление новых будд тоже представляет собой нерушимый догмат. Как же совместить несовместимое?
Можно было бы выразить удивление по поводу того, что основатель новой религии оказался не в состоянии свести концы с концами ценой хотя бы отказа от одного из противоречащих догматов. Но здесь не было «сочинения» новой религии. Будда и его продолжатели имели дело с готовым религиозно-догматическим материалом, от которого они не хотели отказываться. Учение о переселении душ уже существовало в брахманизме и представлялось в Индии того времени очевидной истиной, не подлежащей ни сомнению, ни обсуждению. И первоначальный буддизм исходил из этого. Свое новое учение Будда не противопоставлял старым, не пытался им вытеснять последние, он только стремился дополнять старые учения новыми. При таком положении неминуемо происходило соединение несоединимого. А в сфере религии оно оказывалось возможным.
Такое же противоестественное сочетание имеет место в буддийском учении о спасении. Оно являлось главным в первоначальном буддизме. Имелось в виду спасение души, а не избавление человека в его плотском существовании от невзгод и опасностей, связанных с этим существованием. Но основной тезис буддизма о жизни, как страдании, связанный с узловым моментом биографии Гаутамы — его уходом от мирской суеты под влиянием зрелища телесных страданий людей, относится не столько к душе, сколько к плоти. Тем не менее в дальнейшем формировании учения Будды все большую роль занимает проблема спасения духовной сущности человека. Она находит свое решение в учении о нирване.
Содержание этого учения остается загадочным. Слово «нирвана» на санскрите означает угасание. В буддийских текстах о смерти Будды говорится как о нирване, летосчисление ведется тоже с момента нирваны, т. е. смерти Будды. Следовательно, под словом «нирвана» надо понимать прекращение существования, уход в небытие. И действительно, многое говорит в пользу такого понимания: если источниками зла и страдания являются человеческие стремления и желания, коренящиеся в чувствах и ощущениях, то исчезновение последних ведет к прекращению страданий. Но какая же религия может базироваться на абсолютизации небытия?
Культ смерти может охватить лишь незначительные социальные группировки, притом в периоды острой безысходности, порождаемой какими-нибудь сильными катастрофами естественного или общественного порядка. Но стать религией на века такой культ не может, ибо он несовместим с сущностью человека. В религии фантазия ищет выход к лучшему, а не путь к гибели. Найдя иллюзорный выход, она строит утешительные конструкции, открывающие перед верующими перспективы спасения. Поэтому и пессимистическое содержание учения о нирване находит противовес в более оптимистических мотивах, при помощи которых может трактоваться это учение. Нирвана могла оказываться в сознании буддиста полным блаженства бытием.
Именно так понимал учение о нирване знаменитый индолог М. Мюллер. Он считал ее совершенным бытием, чуждым страдания и полным блаженства. Независимо от того, находит ли его трактовка прочную опору в буддийских писаниях, надо полагать, что для масс, примыкавших к буддизму, понятие нирваны могло быть притягательным только в том смысле, что оно сулило избавление от страданий. Ответить же конкретно на вопрос о том, каким способом это достигается, буддизм не мог, ибо любая такая попытка вела к неразрешимым трудностям. Ничего другого не оставалось, как давать понятию нирваны негативную характеристику, т. е. по существу уклоняться от раскрытия его содержания. Вот типичная формула такого рода, приписываемая Будде: «…есть, о монахи, состояние, где нет ни земли, ни воды, ни тепла, ни воздуха, ни бесконечности пространства, ни бесконечности сознания, ни состояния полного отрицания, ни перцепций (восприятий. — И. К.), ни отсутствия их, ни этого мира, ни иного, ни солнца, ни луны. Это ни вступление, ни уход, ни приостановка, ни смерть, ни рождение… Это и есть конец страдания» 63. Когда царь Милинда (Менандр) просит Нагасену разъяснить ему, что такое нирвана, тот также пытается все свести к негативным характеристикам: «…ни прошедшее, ни будущее, ни настоящее, она есть нечто ни произведенное, ни не произведенное, ни могущее быть произведенным». Милинда наступает: «Почтенный Нагасена, не давай разъяснения этого вопроса, затемняя его еще более. Раскрой его и выясни, объясняя мне. Захоти и сделай усилие или изложи, чему тебя учили». Нагасена делает такое усилие, но результат его оказывается скудным. «Эта основа нирваны, спокойная, счастливая, совершенная, существует… Как познать нирвану, — спрашиваешь ты. — Через отсутствие бедствий, опасности, страха, через счастье, спокойствие, блаженство, совершенство, чистоту, свежесть…» Не удивительно, что из приведенного набора общих слов Милинда так и не понял сути дела. Есть ли такое место, спрашивает он, «где праведник зрит лицом к лицу нирвану?». Где оно? Следует ответ: «Добродетель это место, о царь. Ибо тот, кто стоит в добродетели, твердо укрепившись… тот праведник, где бы ни находился, зрит нирвану лицом к лицу» 64. Нирвану, следовательно, надо трактовать как возможное перманентное состояние, которое может переживаться человеком, не прерывая его жизни.
Учение о нирване давало верующему туманную перспективу избавления от страданий, причем неясным оставался даже и характер последних. Тяжелые переживания, выпадающие на долю человека в земной жизни? Возможно. Адские мучения в загробном будущем? И они не исключаются. Прекращение круговорота перевоплощений, выход из сансары, окончательный и вечный покой? Это важный элемент трактовки спасения в буддизме. И весьма примечательно, что буддийская проповедь не пыталась выбирать одну из альтернатив, отвергая остальные; она принимала их все вместе, несмотря на их явную несовместимость. И именно эта гибкость придавала раннему буддизму особую силу. В различных трактовках его основного догмата находили приемлемую для них духовную пищу разные социальные слои индийского общества того времени.
Противоречивость учения о нирване особенно ярко проявилась в применении его к Будде. Если нирвана представляет собой небытие, в котором прерывается цепь перерождений, то великая совершенная нирвана (Махапаринирвана) Будды должна была бы означать прекращение его дальнейших воплощений. Однако буддизму чужда такая позиция. Наоборот, он провидит появление множества новых будд и ближайшего из них (Майтрейю) — в конкретном образе и в определенные сроки. Если так, то нирвана — не выход из сансары. Но тогда лишается смысла все буддийское учение о спасении.
Учение о переселении душ впервые создано не буддизмом. Оно было широко распространено в религиях первобытного общества, существовало и в ряде религий древнего Средиземноморья. Буддизмом же это учение было заимствовано из брахманизма. И так же, как во всех остальных религиях, где учение о переселении душ имеет место, в буддизме оно основано на вере в душу.
Без представления о психической целостности личности невозможна и идея того, что эта личность при последующем своем рождении воплощается в новом носителе. Пусть она и распадается, по учению буддизма, на отдельные элементы (сканды), но, чтобы в новом рождении оказалась воплотившейся та же личность, необходимо, чтобы сканды соединились тем образом, как они были соединены в прежнем воплощении, в противном случае это будет уже новое существо не только по своему телесному воплощению, но и по своей сущности.
В буддизме сохранились учения брахманизма не только о переселении душ и о кармане, обусловливающем характер и форму очередного воплощения, но и об аде и адских мучениях грешников 65. В перерывах между воплощениями души нагрешившие при жизни люди (что же это еще, как не души?) отбывают наказание в колоссальных адских пещерах, причем срок наказания составляет астрономические цифры. Арсенал средств и способов мучения — обычный адский: раздробление, поджаривание, кипячение, замораживание и т. д. Любопытно, что одним из элементов переживаемых грешниками страданий является все же страх смерти. На то они, впрочем, и грешники, чтобы не понимать или не разделять главной идеи буддизма о спасительности смерти, прекращающей всякое страдание. Да и вообще многого с точки зрения тхеравады не могут понимать миряне, не сподобившиеся монашеского достоинства. В частности, учение об аде и рае существует, кажется, именно для них. Об этом говорит английский буддолог Коплстон: «Для истинного ученика Будды ад невозможен, а небо безразлично, о них не говорят. Система с раем и адом это — религия мирян» 66.
Все же надо иметь в виду, что и от раннего буддизма сохранились следы «принимаемого всерьез» представления о небесном рае. Есть основания считать, что жизнь, например, бодисатв до их воплощения должна была, по соответствующим верованиям, протекать в небесных обителях, в какой-то мере аналогичных райским; таким было небо Тушиты, где пребывал до своего воплощения Гаутама.
Следовательно, и представления о душе, загробной жизни и связанных с ними сюжетах в раннем буддизме в принципе не отличались от других религий. Они во многом заимствованы из брахманизма и даже из еще более древних ведических источников, но были включены буддизмом в комплекс своих представлений, составив его органический компонент.
КУЛЬТ И ЦЕРКОВЬ
Эти два элемента в раннем буддизме находятся в тесной взаимосвязи. Здесь община верующих первоначально состояла из одних лишь «профессионалов религии», из монахов, относящихся к церкви, и именно в их религиозной практике стал складываться культ буддизма.
Очевидно, для своих приверженцев Будда установил какие-то правила поведения, составившие их религиозную практику и явившиеся ядром того культа, который впоследствии утвердился в буддизме. Эти правила относились к индивидуальному поведению человека и включали ряд запретов в отношении пищи, одежды и всего образа жизни. Среди них были и мелкие предписания, о чем свидетельствует предание, согласно которому Будда перед смертью сказал Ананде, что когда его, Будды, не будет, то сангха, если пожелает, «может ликвидировать мелкие и мельчайшие предписания»67.
Что же касается собственно культа как совокупности обрядов, то и здесь первоначальный буддизм основывался на религиозной практике своих предшественников.
Самым древним обрядом буддизма была так называемая упосата — молитвенное собрание членов монашеской общины. По преданию, когда Будда ввел данный обычай в подражание брахманским молитвенным собраниям, упосата в отличие от них протекала в молчании и молитвенных индивидуальных размышлениях. Это вызывало нарекания у присутствующих мирян: «Что же это монахи сидят, точно немые? Или у них нет учения, которое они могли бы возвещать на собраниях?» 68 Тогда была введена практика своеобразной общей исповеди, причем, по тому же преданию, Будда предписал публично читать на упосате Пратимокшу, что конечно, неправдоподобно, ибо нет оснований считать, что эта священная книга буддизма уже существовала при жизни Будды. Вызывает недоумение и сообщение об отношении мирян к тому, что делалось на упосате: согласно другим источникам, туда не допускались не только миряне, но даже послушники и монахини. В Пратимокше действительно подробно зафиксирован весь ритуал упосаты, но это сделано уже после того, как он сложился в культовой практике.
Вначале молитвенные собрания проходили в дни полнолуния и новолуния, но со временем поводы для их проведения становились все более многообразными. Менялась форма организации монашества. Выявилась необходимость специальных убежищ, в которых бродячие бхикшу (монахи-нищие) могли проводить сезон дождей, длящийся в Индии не меньше трех месяцев. Такими убежищами явились вихары-монастыри, вскоре превратившиеся в стационарные учреждения буддийской церкви. Перед тем как разойтись по стране после очередной вассы (сезона совместного пребывания в вихаре), бхикшу собирались на двухдневное прощальное собрание (паварану) по той же программе, что упосата, но в расширенном виде. Стали проводиться собрания и по случаю начала каждого сезона — зимы, лета и дождей.
В ходе развития буддизма претерпевал серьезные изменения и культ; должны были получить удовлетворение национально-духовные потребности верующих, в какой-то мере отличные от интересов и потребностей предавшего себя духовным упражнениям аскета. Постепенно в буддизме пышно развернулись те же элементы культа, которые существуют и в других религиях.
Некоторые сторонники теории исключительности буддизма в отношении других религий обосновывают ее тем, что в отличие от них буддизм начал не с культа богов, а с культа святых. Но между святыми и богами в нем с самого начала не существовало принципиальной разницы: даже Будду можно считать и святым, и богом, это относится даже к любому архату, поскольку он может в конце концов оказаться бодисатвой.
Основными объектами культового почитания обычно являются изображения и реликвии. В отличие от католицизма, который начал с изображений, а потом перешел к реликвиям, буддизм с самого начала возвел в культ многочисленные реликвии. Они классифицируются по следующим рубрикам: мощи святых, и прежде всего самого Будды; вещи, как считается, принадлежавшие им или находившиеся в их пользовании; предметы, изготовленные в честь почитаемого лица. Кроме того, большое распространение в буддизме получило почитание тех населенных пунктов, отдельных сооружений, рощ, деревьев, которые связаны (действительным или мнимым образом, что невозможно проверить) с биографией Будды или кого-нибудь из его сподвижников.
Культ мощей достиг в буддизме такого размаха и распространения, с которым может конкурировать, пожалуй, только католический культ. По преданию, останки Будды после его сожжения явились объектом ожесточенных споров между претендентами на их обладание. Часть их была выделена богам-дэвам и злым богам-нагам, остальное поделено между восемью племенами-государствами. Кто опоздал к дележу, довольствовался углями от погребального костра, которые тоже были превращены в святыню 69. Все мощи были помещены для вечного хранения и почитания в многочисленные ступы. Эти сооружения и теперь сохранились по всей Индии.
Почитаемые местности становились местами паломничества. Среди них выделились четыре: место, где Будда родился (Капилавасту), где он «прозрел» (Гайа), место его первой проповеди (Бенарес) и место нирваны (Кусинагара) 70. Массовое паломничество к указанным святым местам имело следствием, во-первых, их оборудование дополнительными объектами почитания — храмами, ступами, графическими и рельефными изображениями; во-вторых, должен был разрабатываться и обогащаться новыми пышными церемониями ритуал проводимых здесь молебствий, шествий и иных инсценированных представлений. Последствием развертывания паломнического движения явилось материальное обогащение соответствующих монастырей и других учреждений буддийской церкви.
Практика пожертвований, основанная на такой религиозной добродетели, как готовность к подаянию, вначале находила свое выражение в скромных формах и размерах. Она заключалась в том, что в чашку, которая составляла основной элемент снаряжения бхикшу, мирянин опускал милостыню, рассчитанную на хлеб насущный для самого монаха. Со временем эта милостыня принимала все более широкие масштабы и приносилась уже не в чашку странствующего бхикшу, а в монастырь. Убежища нищенствующих монахов богатели, становясь средоточием не только и не столько духовной мощи, сколько средств экономического господства. Это в свою очередь имело последствия и для культа. Как пишет А. Барт, «по мере того, как он таким образом обогащался, буддизм все более вдавался в роскошь. Ему стали нужны огромные монастыри, чтобы дать приют легионам монахов; памятники для воспоминаний, чтобы ознаменовать те места, которые, как думали, были освящены присутствием учителя и святых; здания, роскошно украшенные, чтобы в них хранить их мощи; часовни, чтобы в них воздвигать их образа». Сравнивая буддийский культ с брахманистским, Барт констатирует парадоксальное положение: «В то время, как брахманизм, самый материальный из всех культов, до конца сохранял свои первоначальные изделия, бамбуковые навесы, земляные насыпи, кусочки трав и несколько деревянных ваз, самая отвлеченная и самая обнаженная из религий по новому контрасту первая задумала поражать воображение посредством необычайных зрелищ». При этом сам по себе культ «состоял из некоторого рода службы, читаемой вслух, из выражений веры и хвалы, из приношений цветов, поддерживания огня в нескольких лампадках перед образом или ракою Будды; но обстановка культа была великолепна»71.
Вызывает споры вопрос о том, была ли молитва в первоначальном буддийском культе. Решение вопроса зависит от того, что понимать под молитвой. В широком смысле этого понятия в него входят и «выражения веры и хвалы»; в узком смысле молитва означает обращение к божеству или другой сверхъестественной силе с просьбой о помощи. Пожалуй, нет оснований так суживать понятие молитвы, ибо в любом обращении к богу в подтексте фигурирует мольба о благосклонности и покровительстве. Поэтому неправ С. Кеппен, когда утверждает, что «у буддистов древнейших поколений молитвы не было», а были лишь «формулы исповедания веры, при помощи которых свидетельствовали свою принадлежность к приверженцам Будды, публичное чтение принятых обязательных молитв или, наконец, хвалебные возгласы и песнопения по адресу Всесовершенного…». Фактически Кеппен здесь опровергает самого себя, как и тогда, когда заявляет, что и такие фигурировавшие в богослужении формулы, как «пусть все творения будут счастливы и свободны от страданий, болезней и дурных желаний!», не относятся к области молитвы; здесь, мол, отсутствует сторона «Ты», к которой обращена молитва 72. Это неверно, ибо в указанной формуле, типичной для буддийского богослужения даже раннего периода, по существу подразумевалась та сверхъестественная сила, содействие которой только и могло бы, с точки зрения верующего, обеспечить исполнение его желания.
Буддизм обогатил религиозную практику приемом, относящимся к области индивидуального культа. Имеется в виду такая форма религиозного поведения, как бхавана — углубление в самого себя, в свой внутренний мир с целью сосредоточенного размышления об истинах веры. Предусматривались различные формы и степени бхаваны, но все они были рассчитаны не на массу верующих, а на аристократов духа, монахов, достигших способности внутреннего отвлечения от мира.
В области культа буддизм сказал новое слово своим отказом от кровавых жертвоприношений, являвшихся одной из основ брахманистского культа и к тому времени, когда возник буддизм, широко распространенных во всех религиях мира. Приношение в жертву животных пришло в противоречие с принятой буддизмом доктриной ахимсы — ненанесения вреда живому. Будде приписывается такое высказывание, обращенное им к собеседникам-брахманистам: «Что касается ваших слов о том, что ради дхармы я должен выполнять ритуал жертвоприношений, который принят в моей семье и который приносит желаемые плоды, то я не одобряю жертвоприношений, ибо я не верю в счастье, добытое ценой страданий других» 73.
До поры до времени буддийская церковь включала в себя лишь один элемент — духовенство, «профессионалов» религии: каждый примыкавший к ней уходил из мира и полностью посвящал себя духовной деятельности. В дальнейшем, однако, было неизбежно возникновение и второго элемента церкви — общины мирян. В отношении к этому второму элементу хинаяна и махаяна руководствовались вначале разными установками: хинаяна считала, что спасутся только избранные, видимо, только бхикшу — нищие, монашествующие; махаяна же считала возможным спасение всех, в том числе и мирян, если они этого заслужат. По мере развития буддизма и хинаяна уступила свои позиции в этом плане, поскольку отстаивание старых взглядов ослабляло ее возможности вербовки новых приверженцев.
Будде приписывается установление ряда ограничений приема в вихару. Укажем, в частности, на приведенное уже выше запрещение принимать туда рабов, неисправных должников, людей, находящихся на военной службе. Социальная подоплека этих запрещений достаточно ясна: следовало избегать недовольства сильных мира сего — рабовладельцев, торговцев и ростовщиков, военачальников. Известен случай, когда в предвидении близкой войны группа верующих военнослужащих решила уйти от участия в военных действиях при помощи посвящения в монахи. Руководствовались они, как рассказывается, не трусостью, а вполне благовидными побуждениями: избежать насилия и кровопролития, осуждаемых верой. Когда их приняли в монастырь, царь Бимбисара обратился к Будде, и тот отменил этот прием, строго наказав виновных. Некоторые ограничения приема производят странное впечатление: не принимались, например, больные, увечные и престарелые. И что уж производит совсем нелепое впечатление — это то, что не полагалось принимать в монахи животных… Это можно, видимо, понять таким образом, что не исключались попытки вступления в вихару оборотней — животных, сумевших при помощи каких-то неведомых магических приемов принять человеческий вид74. Довольно любопытное верование для «утонченной», «философской» религии раннего буддизма!
По мере роста числа приверженцев новой религии среди них появлялось все большее количество таких, для которых уход из мира оказывался невозможным или нежелательным. С другой стороны, определенные контингенты верующих должны были оставаться в миру, занимаясь хозяйственной деятельностью, чтобы содержать все возраставшее число духовенства.
РАННИЙ БУДДИЗМ И ГОСУДАРСТВО
Буддизм внес в историю Индии такое нововведение, как организованная и связанная с государством церковь. Правда, в течение ряда веков существования этой религии ее церковь оставалась нецентрализованной; отдельные вихары и общины жили самостоятельной жизнью, и контакты между ними осуществлялись при помощи передвижений по стране состоявших в них бхикшу и путем воздействия государственной власти, которая с некоторых пор взяла на себя функции покровителя сангхи, а также организатора миссионерской деятельности.
В книгах Типитаки говорится, что с момента своего возникновения буддизм пользовался поддержкой царей. Царь Магадхи Бимбисара, раджа шакьев Маханамо, авантийский раджа Мадура, царь Бошалы Пасенади и его жена Малика спешат за наставлениями к Гаутаме и к его ученикам и преисполняются благоговения перед его божественной мудростью 75. Бимбисара же являлся организатором первого буддийского монастыря, причем должен был преодолеть некоторое сопротивление Гаутамы, который не рассчитывал на такую щедрость имущих и в каких-то пределах старался к тому же сохранить видимость благочестивого образа жизни «нищих» (бхикшу). А Бимбисара всячески афишировал величие своего божественного подданного вплоть до демонстрации своего низкопоклонного отношения к нему. Так, в одном случае он публично прислуживал Будде и сопровождавшим его монахам. Сын и преемник Бимбисары Аджаташатру также всячески демонстрировал свою приверженность Будде и буддизму; он создал, в частности, наилучшие условия для работы первого Собора сангхи. Узнав о смерти Гаутамы, он немедленно прислал гонца за его мощами, и тому удалось получить часть останков просветленного. Считается, что буддийское летосчисление было введено Аджаташатру 76.
Изложенные выше легенды, вероятно, содержат и преувеличения, и элементы вымысла. Но кое-какие детали этих преданий производят впечатление правдивости и жизненности, поэтому есть основания полагать, что действительно буддизм с момента возникновения пользовался поддержкой имущих кругов.
Аджаташатру поддерживал не только Будду, но и его врага Девадатту, до самой смерти строившего козни против Будды и пытавшегося его убить. Аджаташатру даже построил для Девадатты и его приверженцев особый монастырь, и только тогда, когда дела этого противника Будды пошатнулись, царь лишил его своей поддержки. Очевидно, Аджаташатру вел двойную политическую игру.
Правдоподобие упомянутым легендам придает и то, что они изображают отношение Будды к светским властителям как беспринципное. Так, просветленный благоволит к Аджаташатру, несмотря на то что тот — убийца своего отца и предшественника на троне, того самого царя Бимбисары, которого Будда хорошо знал и расположением которого активно пользовался. Сохранилось предание, иллюстрирующее обстановку обращения отцеубийцы к учению Будды. Выслушав речь просветленного «О плодах пустынножительства, выше коих ничего нет на свете», Аджаташатру воскликнул: «Истина открылась мне! Многообразно вскрыта она тобой, благословенный! Отныне к тебе прибегаю и к истине и к общине твоей! Прими меня в число учеников своих! Грех овладел мною, господин, по слабости и безумию моему: из жажды власти умертвил я отца моего, мужа правды, царя благочестивого. Прими меня, владыко, сознающего грех мой, дабы в будущем воздерживаться мне от грехов». Ответ Будды гласил: «Воистину, царь, грех одолел тебя; но, поскольку прозрел ты в деянии своем грех и покаялся в нем, согласно требованиям правды, приемлем раскаяние твое. Ибо таков обычай душ благородных: раз признают они проступок за проступок и правильно каются в нем, они становятся способными к самообладанию в будущем» 77. Насколько в будущем царь стал способен к самообладанию, показывает его расправа с людьми, заподозренными в убийстве сподвижника Будды Моггаллана: он приказал зарыть их до пояса в землю, обложить соломой и сжечь. А Будда без труда нашел объяснение того, почему пострадал Моггаллан. Оказывается, в одном из своих прежних существований он убил своих родителей и получил в наказание за это помимо тысячелетних страданий в аду еще и мученическую смерть. Таким объяснением оправдывалось убийство Моггаллана, ибо превращалось в заслуженную последним кару. Но не видно, чтобы Будда осудил и зверскую расправу Аджаташатры с исполнителями этой кары. Нравственная покладистость и всеядность новой религии и ее основателя во многом способствовали ее успеху в разных социальных кругах индийского общества.
Поведение Будды в отношении власть держащих было, таким образом, по дошедшим до нас преданиям, весьма угодливым. Когда однажды Бимбисара пожелал почему-то отложить начало вассы вопреки тому, что срок уже был назначен Буддой, и монахи спросили: «Кого же нам слушаться?» — Будда ответил: «Я предписываю вам, братья, слушаться царей»78. Конечно, такого религиозного деятеля цари должны были поддерживать.
В течение примерно первых трех столетий положение буддизма в Индии было неопределенным. С ним конкурировал не только сохранявший свои позиции брахманизм, но и некоторые вновь возникшие, родственные буддизму религиозные толки, например джайнизм. Господствовавшая веротерпимость способствовала более или менее мирному сожительству различных вероисповеданий и культов. Дело даже доходило до того, что одни и те же общины считали себя одновременно приверженцами различных исповеданий. Это позволило дальнейшим поколениям идеологов различных религий спорить о том, чью же религию использовал тот или иной царь, раджа или проповедник.
Приход к власти династии Маурьев и объединение под их скипетром почти всей Индии сначала не внесли ясности в положение буддизма в стране. Основатель династии Чандрагупта I, по преданиям джайнистов, в конце жизни проникся джайнистскими идеями и, уйдя из мира, закончил свои дни отшельником-джайнистом. Возможно, что и его преемник Биндусара также покровительствовал джайнистам и сочувствовал этой религии. Правда, ни первый, ни второй из императоров Маурьев в своей жизненной и политической практике не следовали джайнистским, вполне родственным буддизму предписаниям ахимсы (ненанесение ущерба и отказ от насилия).
Поворотным пунктом в отношениях между буддийской церковью и государством в Индии явилась деятельность Ашоки. Буддийские источники превозносят его не только как правоверного приверженца буддизма, но и как императора, который употребил всю свою власть на утверждение буддизма как государственной религии. Сообщается, что Ашока построил в Индии 84 тыс. ступ 79. Разумеется, этой цифре не следует придавать серьезного значения, так как она имеет символический смысл: число монастырей устанавливается по числу проповедей, якобы произнесенных Буддой, а число ступ — по количеству частей его скелета, подлежавших благоговейному хранению в качестве мощей.
Особое значение в буддийской традиции придается деятельности Ашоки в связи с преданиями о третьем всебуддийском Соборе. Среди деятелей сангхи возникли разногласия, причем в отличие от предыдущих двух Соборов дело касалось не деталей культа и не поведения бхикшу, а некоторых коренных догматических проблем. Крупнейшие богословы сангхи не могли найти решение этих проблем и обратились к Ашоке. Представляется весьма примечательным то обстоятельство, что глава государства перепоручил решение спорных проблем богослову — мудрому Магаллипуте: видимо, император не считал важными для своей государственной политики эти догматические тонкости, ему больше требовалось опираться на сангху в целом, а лучшей ситуацией для такой политики могло быть лишь единство церкви, на чем он настаивал. Независимо от того, происходил ли в исторической действительности третий Собор, содержание связанных с ним и с Ашокой преданий в какой-то мере характеризует то положение государственной религии, которого добился буддизм в рассматриваемый период.
Был ли, однако, сам Ашока буддистом? Этот вопрос возникает потому, что, во-первых, джайнистские источники рассматривают его как приверженца джайны, построившего даже во имя ее несколько ступ в Кашмире, а во-вторых, потому, что в эдиктах Ашоки скупо освещается вопрос о его религиозной принадлежности.
Рассказывая о своем прозрении после завоевания Калинги, Ашока не ссылается ни на Будду, ни на его религию. Он говорит, правда, о своей «любви к дхарме и усердии к научению ей», о своем «усердном покровительстве закону благочестия», но эти заявления могут истолковываться и в более широком смысле. В одном из эдиктов Ашока заявляет, что всем «известно, как велико его уважение и благосклонность к Будде, дхарме, сангхе»; тут же он аттестует «все, что только изрек возвышенный», как «хорошо сказанное» и выражает уверенность, что «благое учение это будет долговечно». Но и приводимые формулы обнаруживают скорее «благосклонность» императора к данному религиозному течению, чем его принадлежность к нему. Во всех эдиктах Ашоки преобладает нравственно-назидательная сторона и мало внимания уделяется вопросам вероучения и догматики. Сам он характеризует содержание надписей как проповедь «правил благочестивых дел». Главным для Ашоки был вопрос о поведении его подданных: «Я повелел проповедовать предписания дхармы, я наставлял в этом законе благочестия для того, чтобы, внимая правилам, люди соображали свою жизнь с ними, поднимали бы себя и мощно возрастали бы на пути развития дхармы». В целях попечения о соответствующем поведении граждан Ашока даже создал специальное «учреждение, еще никогда ранее не существовавшее» 80, и, хотя характер такого учреждения и его деятельности неясен, видимо, оно было чем-то подобным полиции нравов, но, вероятно, ни к сангхе, ни к каким-нибудь другим религиозным институтам отношения не имело.
Существует лишь одно заявление Ашоки, которое может быть истолковано в смысле признания его принадлежности к буддийской церкви: «Два с половиной года я был упасакой и в течение этого времени не проявлял особенного рвения. Теперь же (надпись относится к 256 г. — И. К.) уже более года прошло с тех пор, как я вступил в сангху и весьма усердно прилагаю свои усилия». Из дальнейшего содержания эдикта видно, что ориентировка Ашоки в богословских тонкостях обретенной им веры довольно «приблизительна»: главным стимулом в делах благочестия для него оказывается стремление «приобрести себе великое небесное благополучие» 81.
Очевидно, нет оснований приписывать Ашоке твердую, а тем более фанатичную буддийскую убежденность, как и нет оснований считать, что он возвел буддизм в положение государственной религии. Ашока был заинтересован во внутреннем единстве государства и населения, но, видимо, понимал, что достигнуть этого на религиозной почве невозможно или во всяком случае трудно. Оставалось добиваться веротерпимости, с тем чтобы существующая в Индии конфессиональная пестрота не мешала государственному единству. Такое стремление четко обнаруживается в надписях Ашоки.
Вот как определяет Ашока свою религиозную политику: «Царь Пияйдаси Дева амприйя чтит все религии, всех духовных лиц, он выражает им свое уважение кроткими дарами и всякими доказательствами высокого почитания. Но не столько придает он значения кротким дарам и доказательствам уважения, сколько тому, чтобы все секты возрастали в своем внутреннем достоинстве… Общая основа тому — осторожность в словах, в том, чтобы не превозносить до небес свою собственную религию, не принижать другие и не поступать с ними с неподобающим пренебрежением. Наоборот, при разных обстоятельствах должно оказывать уважение и другим религиям»82. Ашока не требует единства веры у своих подданных. Он заинтересован лишь в том, чтобы каждый его подданный исповедовал какую-нибудь религию и не мешал другим в этом отношении. Видимо, сам Ашока в религиозных вопросах был довольно индифферентен и подходил к ним только с политической точки зрения. Но интересы политики требовали того, чтобы внутри религиозных объединений не было разброда. И Ашока не допускал его в сангхе, принимая все меры к укреплению ее единства. В одном из эдиктов он писал: «Никто не должен раскалывать сангху, а кто это делает — монах или монахиня, — будет принужден носить белое платье вместо желтого (монашеского. — И. К.) и жить в местах, не предназначаемых для духовенства»83; иначе говоря, из рядов духовенства он будет исключен.
Последний период жизни Ашоки был, видимо, ознаменован большей приверженностью к буддизму и уменьшением терпимости в отношении других религий. Встречаются уже высказывания, направленные против «ложных вер» и «ложных богов». Имеются сведения о том, что в одном случае Ашока предпринял репрессии в отношении монахов, уклонявшихся от истинной веры и правильного отправления культа. По преданию, он приказал казнить некоторых монахов из Ашокарамы за прегрешения подобного рода. Правда, согласно позднейшему сообщению, казни были осуществлены по приказанию одного из чиновников, а сам Ашока ограничился только исключением «тех, кто обманом вступил в общину», из монастыря. Таким образом, Ашока уже стал принимать государственные меры к тому, чтобы утвердить буддизм в массах путем насилия.
И все же распространенное представление о монопольно-государственном положении буддизма во времена Ашоки неточно. А в дальнейшем положение этой религии в Индии вначале пошатнулось, а потом и вовсе было подорвано.
Первый царь из сменившей Маурьев династии Шунга — Пушьямитра — был брахманистом и начал свое царствование с того, что по всем брахманистским правилам выполнил ашвамедху (сложный обряд, связанный с принесением в жертву лошади). Это не означало, однако, что государство в Индии окончательно отказалось от поддержки буддизма или стало подвергать его преследованиям. Несмотря на возрождение брахманизма при династиях Шунга и Канва, буддизм все же в течение некоторого времени продолжал борьбу за идеологическое господство. Недаром греческий правитель Северной Индии Менандр (Милинда, первая половина II в. до н. э.) счел целесообразным стать буддистом; это свидетельствует о том, насколько широко данная религия была распространена в народных массах, ибо для Менандра такой шаг был средством установления контакта с ними. В дальнейшем буддизм пережил новый взлет в кушанский период, что было связано с деятельностью царя Канишки. Отношение царя и раджей к буддизму обусловливалось тем влиянием, которое он в данный период мог оказывать на массы, и теми политико-идеологическими услугами, которых власти ждали от него. А чтобы разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть социальное учение раннего буддизма.
СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ И ЭТИКА РАННЕГО БУДДИЗМА
В социальном учении раннего буддизма ярко выражена демократическая тенденция, нашедшая свое выражение прежде всего в индифферентном отношении к кастовой и профессиональной принадлежности человека.
В 550 своих прежних воплощениях (до того как он родился в Гаутаме) Будда побывал и в царях, и в раджах, брахманах, богах, но, помимо того, 12 раз был шудрой, 10 — пастухом, по одному разу — каменщиком, резчиком, танцовщиком. Бывал он, правда, и животным, а это свидетельствует о том, что особого значения для достоинства Гаутамы характер его прежних воплощений в глазах буддистов не представлял. И все же для брахманизма такие легенды были бы неприемлемы.
Буддизм впервые в истории индийских религий поставил религиозное достоинство человека в зависимость не от его рождения в определенной варне, расе, национальности или племени, а от его индивидуальности, от его личного поведения. Любопытно в этой связи, как изменилось под влиянием буддизма содержание понятия арии. К. Регамей пишет: «В брахманизме оно имело расовое и социальное значение, обозначая благородство рождения или чистоту касты. В буддизме ария стала означать «святое». Оно связывалось уже не с наследственными особенностями, но со святостью, завоеванной личными заслугами, прежде всего с двумя главными добродетелями буддизма — майтри (дружба, благосклонность) и каруна (сострадание, сожаление)»84. В брахманизме только «дважды рожденные», т. е. представители высших варн, заключают в себе частицы Брахмана и могут в итоге слиться с ним, в буддизме же на спасение рассчитывал каждый верующий.
В сангху имели право вступить все люди независимо от происхождения и от принадлежности к той или иной варне. Носить благородное наименование брахмана может тот, кто этого заслуживает. «Я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать». «Брахманом становятся не из-за спутанных волос, родословной или рождения. В ком истина и дхарма, тот счастлив и тот брахман». Религиозное, «душеспасительное» значение принадлежности к той или иной варне буддизм, таким образом, отрицал.
Однако ни буддизм, ни сам Будда не выступали против кастового устройства общества в целом. А. Барт пишет, что буддизм отрицал не касты вообще, а варну брахманов, поскольку принадлежность к ней считалась обеспечивающей человеку какие-то религиозные преимущества 85. Совершенно правильно характеризует отношение Будды к кастовому устройству Э. Шмидт: «Будда также мало стремился уничтожить кастовый строй, как и богов; он считал и то и другое включенными в мировой порядок и потому неизбежными фактами. Но он отличался от брахманов тем, что в… учение свое он включил все касты без различия. Ученики его должны были быть одинаково ласковы и благосклонны и по отношению к низкорожденному шудре, им не воспрещалось даже принимать от него пищу. Тем не менее кастовые понятия так срослись с Буддой и со всем орденом, что в жизнеописании учителя… никогда речь не идет (при вступлении в общину. — И. К.) о буддисте-шудре» 86. Видимо, в сангху чаще всего вступали вначале и позже именно брахманы. Это не означало для них разрыва с брахманизмом и перехода в другую веру, ибо резкое различие между разными религиозными группами в Индии не всегда воспринималось не только массами населения, но и духовенством. Брахманы же не составляли какой-либо конституированной организации, поэтому их вступление в сангху не означало разрыва с другой церковью.
В отношении реальной общественной жизни и того места, которое в ней занимало кастовое устройство, буддизм был по существу нейтрален. «Соответственно его духу умеренности буддизм не стремился изменить кастовый строй. Он приспособлялся к нему так же, как приспособлялся к другим религиозным системам» 87. Э. Леманн ставит отношение Будды к кастовому строю в связь с тем, что он вообще не интересовался мирскими делами: «Хотя он не уважал кастовый порядок, но он так мало интересовался его устранением, что распространение его религии даже много содействовало распространению этого порядка. Даже первая община не состояла преимущественно из освобожденных членов низших каст; выдающиеся ученики Будды принадлежали преимущественно к брахманам и воинской касте» 88.
Тактическая гибкость Будды и его учеников обусловливала возможность маневрирования по всем животрепещущим социальным проблемам.
Будда запретил принимать в сангху рабов, чтобы не нарушать интересы рабовладельцев, он закрыл доступ в нее для неисправных должников, чтобы не обижать их кредиторов, запретил принимать людей, состоящих на государственной службе, ибо это наносило ущерб функционированию государственного аппарата и вооруженных сил. По этому последнему поводу В. А. Кожевников делает следующий правильный вывод: «Будда не только не был тем смелым реформатором социальных отношений в своей стране, каким его нередко ошибочно изображают, но, напротив того, очень старательно избегал нарушения установившихся общественных обычаев и порядков» 89.
Такой характер буддийского социального учения и гибкость тактики сангхи побуждали господствующие классы относиться к «новой» религии (новой ее можно называть лишь в условном смысле) благосклонно. Этому способствовала и буддийская мораль.
Многие ученые придают этой стороне буддизма особое значение; считается даже, что этика представляет собой чуть ли не главное содержание данной религии. Но если это так, то нельзя не признать таковое содержание весьма бедным. Вот как О. Пфлейдерер суммирует «10 заповедей» буддизма: «1) Не разрушай ничьей жизни; 2) не отнимай чужой собственности; 3) не лги; 4) не пей опьяняющих напитков; 5) воздерживайся от незаконных половых сношений; 6) не ешь не вовремя; 7) не носи венка и не умащай себя благовониями; 8) спи на жесткой постели; 9) избегай пляски, музыки и зрелищ; 10) не имей ни золота, ни серебра» 90. Первые шесть требований не выходят за пределы норм добропорядочного поведения любого мирянина, остальные представляют собой шаг к нормам поведения монаха. Эти последние являются наиболее последовательной, доведенной до конца формой моральных предписаний, предназначенных для мирян. Но и в том и в другом виде буддистская этика не представляла собой ничего опасного для существующего строя. Этические предписания других религий, которые тоже, как правило, выполняются их приверженцами «приблизительно», во многом противоречат всему их вероучению. Такой разрыв между этикой и догматикой нашел наиболее законченное выражение в раннем буддизме.
Реальный мир есть сансара — круговорот рождений, смертей и новых рождений. Сущностью этого круговорота является страдание. Весь смысл буддийского учения заключается в том, что оно указывает путь спасения от страдания, к выходу из «чертова колеса» сансары. Добиться такого выхода можно, лишь достигнув нирваны, что доступно только архату, победившему свои желания и жизненные стремления, освободившемуся от суеты мира сего. Конечно, это аскетизм, хотя путь к состоянию архата — длительный и тернистый, да и в самом архатстве есть ряд ступеней, по которым можно восходить лишь постепенно.
Здесь буддизм впадает в серьезное противоречие с самим собой. Будда задолго до своего прозрения отказался от аскетического умерщвления плоти. С другой стороны, он осуждал излишества, угождение своей плоти. И для себя, и для вербуемых им неофитов он избрал «средний путь» между практикой брахманистических монахов-аскетов и гедонистическим прожиганием жизни. Проповедь умеренности и благоразумия в удовлетворении человеком своих потребностей представляет собой в истории достаточно банальное явление. Но зачем же этот «средний путь», когда речь идет о полном преодолении всех желаний и потребностей, без чего нет нирваны?
Будда и его апостолы понимали, что максималистские этические требования оттолкнут от их учения широкие массы. Концепция постепенного нравственного совершенствования была, конечно, приспособлена к целям вербовки проповедников. Но ведь она распространялась и на них самих, вплоть до Будды! Так, заповедь ахимсы не мешала ему употреблять мясную пищу, причем «великая совершенная нирвана» наступила в результате того, что просветленный съел жареную свинину или мясо дикого кабана; может быть, мясо было недоброкачественное, а может быть, величайший из архатов просто объелся. В поведении Будды, казалось бы, не только принцип ахимсы, но и все этические принципы буддийского вероучения должны были найти свое воплощение, и это было бы выгодно даже и тактически. Больше того, если в исторической действительности Будда и не следовал собственным принципам, то позднейшие легенды о его жизни могли быть ретушированы таким образом, чтобы все выглядело значительно приличнее. Но биографы Будды не увидели в этом необходимости и направили свою мифотворческую активность в сторону измышления чудес, связанных с рождением, жизнью и смертью просветленного.
Видимо, верующим массам больше импонировало сознание того, что обожествляемый их религией персонаж был не только богом, но и человеком в собственном смысле этого слова, что приближало его к людям, делало его более понятным и доступным. Что же касается противоречия не только между вероучением и практикой, но и внутри самой доктрины, то оно для религии существенного значения не имеет. Так и получилось, что религиозное учение, проповедовавшее полный отказ от мира и уход человека в небытие, оказалось приемлемым для миллионов людей, вовсе не стремившихся к такому отказу и уходу, а живших интересами и нуждами общества, своей социальной группировки и собственными индивидуальными.
С точки зрения буддийского вероучения в его последовательном и строгом выражении людям не следовало бы даже трудиться, ибо к высшим степеням архатства и к конечной нирване ведут другие пути; кстати сказать, трудолюбие не рассматривается в буддийской проповеди как одна из добродетелей человека. Тем не менее жизненная логика оказалась, как всегда, сильнее «логики» догмата и доктрины. Если бы все приверженцы буддизма стали архатами, то некому было бы осуществлять заповедь благотворительности (милосердия) и некому было бы содержать архатов.
Этическая ценность «чистого» буддизма, о которой пишут некоторые авторы, тоже особенно не проявилась в странах, считающихся хинаянистскими. Об этом свидетельствуют цейлонские хроники Дипавамза и Махавамза. Они описывают жизнь и деяния ряда царей, изображаемых ими в наилучшем свете как «посвятивших себя всецело делам любви и милосердия», постоянно афишировавших свою преданность буддизму и тем не менее совершавших многочисленные убийства родственников и другие преступления, никак не согласовывающиеся с основами буддийской этики. Г. Керн пишет: «Вся история Цейлона есть монотонная цепь убийств родственников, насильственных смертей, грабежей, распутства и злобной ненависти сект друг к другу вперемежку с перечислением монастырей, храмов и иных святилищ, воздвигавшихся царями, царицами и знатью» 91.
Образцы расхождения слова с делом показывал в собственном поведении и сам Будда. Он учил: «Жизнь благочестивая должна довольствоваться пребыванием у корня дерева; так следовало бы и вам, монахи, проводить всю вашу жизнь; вихары же и четыре рода других помещений — это лишь экстраординарно дозволенное». Иначе говоря, монахи, как правило, могут иметь хоть какой-либо кров над головой только в порядке исключения. Но вот некий богатый купец Аната-Пиндика принес Будде в дар богатейший дворец. С полной готовностью тот принял этот дар и произнес много красноречивых благодарственных слов дарителю, сопровождая их наставлениями в адрес других возможных благотворителей, чтобы они не скупились.
На ход социальной истории Индии буддизм не оказал серьезного влияния. Что же касается собственно политической истории, то он сыграл известную роль во взаимоотношениях отдельных государств на полуострове и в соседних с ним странах, в процессах централизации и распада этих государств.
ЭВОЛЮЦИЯ БУДДИЗМА В ПЕРВЫЕ СТОЛЕТИЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. ХИНАЯНА, МАХАЯНА, ВАРДЖАЯНА
Для раннего буддизма были характерны абстрактность догматики, недостаточное развитие мифологии, относительная бедность культа. Все это ограничивало его распространение в массах, несравненно меньше интересующихся философскими абстракциями, чем мифологическими образами, ищущих выход своим переживаниям в эмоционально насыщенных культовых ритуалах и церемониях. В своей борьбе за существование и распространение буддизм все больше эволюционировал именно в этом направлении.
Начиная с IV в. до н. э. Пенджаб и Северо-Западная Индия становятся объектами проникновения иноземцев — греков, парфян, бактрийцев. Их верования и обычаи оказали влияние на жизнь и идеологию коренного населения, в частности на его религию. Античное поклонение телесной красоте, воплощенной в великолепных статуях греческих богов и героев, вступило в противоречие с буддийским отвращением к человеческому телу, к его изображению и украшению. Победили новые веяния, чему содействовало и продолжавшееся соперничество с брахманизмом, в культе которого были сильны наглядно-пластические эмоциональные элементы.
Распространение буддизма за пределами Индии столкнуло его с местными религиями ряда новых стран и народов, далекими от абстрактно-схоластического мудрствования. Буддизм должен был приспосабливаться к их бытовым и религиозно-идеологическим традициям и соответственно претерпевать серьезные изменения.
Известную роль играл и процесс материального обрастания сангхи и монастырей. Обязанность подаяния, лежавшая на мирянах с возникновением буддизма, вначале выражалась в скромных формах: надо было класть в чашу странствующего бхикшу, в молчании опускавшего глаза долу, горстку риса или немного какой-либо другой еды. Но постепенно изменились не только масштабы, но и характер благочестивой милостыни. Пожертвования в пользу монастырей приняли огромные размеры, а сами монастыри со временем превратились из аскетически-скромных убежищ для нищих монахов в великолепные общежития для важных деятелей буддийской церкви, за которыми наименование бхикшу (нищие) сохранилось лишь по традиции. Изучение буддийских писаний, которых с течением времени становилось все больше, не могло полностью исчерпывать всю жизненную активность этих многочисленных кадров. Она находила применение в усиленном мифотворчестве и в выдумывании новых обрядов, для объяснения смысла которых опять-таки приходилось сочинять новые и все более затейливые мифы. Так эволюционировала хинаяна.
Но еще более ярко этот процесс выразился в выделении махаяны — новой разновидности буддизма, оформившейся к началу нашей эры. Термин «махаяна» был впервые применен Ашвагхошей в его «Рассуждении о пробуждении веры в махаяне» 92. Видимо, до этого времени разногласия между сторонниками новых веяний в буддизме и защитниками хинаянистской ортодоксии уже имели место в течение довольно длительного времени. Но только с Ашвагхоши новое направление получило литературное выражение и конкретное наименование.
Термин «хинаяна» был сначала введен противниками этого направления в пренебрежительном смысле как обозначение «узкого» пути к спасению и лишь потом получил распространение и среди его сторонников. Они все же предпочитают именовать свое вероисповедание тхеравадой, что значит «истинное учение».
При необозримом множестве сект и толков, охватываемых общим понятием буддизма, можно все же выделить несколько основных наиболее известных направлений, вероучение которых характеризуется известным своеобразием. Помимо классической тхеравады, или хинаяны, имеющей наибольшее число приверженцев в разных странах Южной и Юго-Восточной Азии, опирающейся на первоначальные палийские тексты Типи-таки, укажем в этой связи на северную (махаянистскую) трактовку вероучения, варджаяну, амидаизм, учение Нитирена, дзэн-буддизм, ламаизм. О последнем мы будем говорить в специальной главе, на характеристике остальных кратко остановимся здесь.
Общей характеристикой всех сект и направлений буддизма является то, что все они ведут свою догматику из одного источника — все из тех же «трех корзин». Каждая из них берет за основу одну из никай той или другой питаки, а то и даже просто один из ее сюжетов или имен и возводит его в центр вероучения. А в общем получается невообразимое многообразие мифов, сентенций, поучений, правил поведения.
Было бы утопией пытаться разобраться в тонкостях разногласий и споров между хинаяной (тхеравадой) и махаяной, а также между различными толками внутри махаяны по различным вопросам вероучения, настолько все это схоластично, во многих случаях искусственно и словесно-терминологически изощренно. Имеет значение также и своеобразная «диффузия», непрестанно происходившая между вероучениями двух основных направлений буддизма, — взаимопроникновение доктрин и их толкований этими направлениями. Точнее сказать, диффузия была несколько односторонней: махаяна больше влияла на тхераваду, чем вторая на первую. Для иллюстрации этого можно привести эволюцию буддизма на Цейлоне и в Бирме, где в течение первых столетий нашей эры новый дух и новые идеи буддизма как религии, принесенные махаяной, нашли чрезвычайно яркое воплощение и даже развитие. Остановимся на краткой характеристике этих новых идей.
Главным идеологом махаяны стал Нагарджуна, живший в середине или во второй половине II в. н. э. 93, дело продолжил его младший современник Арьядева. Большую роль в укреплении и распространении маха-янистского буддизма сыграл царь кушанов Канишка, которому приписывается инициатива в организации и проведении Кашмирского собора, канонизировавшего основные положения махаянистского вероучения. Правда, в литературе имеются разногласия в отношении оценки роли Кашмирского собора для основания махаяны. Б. Джинананда, например, считает, что в работе Собора преобладали тенденции к установлению тех черт вероучения, которые признавались всеми буддистами. «Нет данных, — пишет он, — свидетельствующих о том, что махаянистический буддизм был представлен в работе собора», а потому есть основания считать, что он «занял выдающееся положение только во времена Нагарджуны, который жил позже собора» 94. Все же Джинананда считает неоправданным «полный скептицизм» в отношении сообщений китайских и цейлонских хроник о махаянистском характере Кашмирского собора.
В позднейшую эпоху махаяна завоевывала все более прочные позиции в буддийском мире. Исторические условия сложились так, что в странах, находящихся к северу от Индии, буддизм распространялся преимущественно в его махаянистской разновидности, на юге обнаружила большую устойчивость хинаяна. Первая упрочилась в Непале, Тибете, Китае, некоторых среднеазиатских странах, позднее — в Корее и Японии; вторая — в Индии (до конца первого тысячелетия нашей эры), на Цейлоне, в Индокитае, в Индонезии.
Первый период борьбы двух направлений характеризуется особой остротой и нетерпимостью. Сначала в махаянистских текстах осуждаются хинаянистские книги: «…оставьте… шравакские книги; не внемлите им, не читайте их; не проповедуйте другим… Верьте махаяне…»
В дальнейшем «во многих сутрах одинаково осуждается отрицательное отношение как шравака к учению махаяны, так и, наоборот, махаяниста к старой доктрине» 95.
Нет оснований считать махаяну чем-то совершенно новым, разрывавшим преемственность с хинаяной 96. Она представляет собой второй этап развития той религии, первым этапом которой была хинаяна. Недаром махаянистские предания подчеркивают связь «большой колесницы» с первоначальной проповедью Будды. Нагарджуна, согласно преданиям, сумел проникнуть во дворец демонов и унести оттуда писания, хранившиеся еще со времен Будды и принадлежавшие ему. На этих писаниях якобы и была в дальнейшем основана махаяна.
Содержание махаяны не ограничивалось, однако, материалом, взятым из первоначального хинаянистского ядра. Везде, где она находила распространение, ей приходилось приспосабливаться к верованиям и культам, бытовавшим среди коренного населения, что влекло за собой заимствование местных мифологических сюжетов и элементов культа вплоть до обогащения пантеона за счет местных богов и демонов. Буддийское учение о перевоплощениях Будды открывало возможность неограниченного расширения пантеона при помощи присоединения к нему местных богов, объявлявшихся очередными аватарами (воплощениями) Будды.
Характерная для хинаяны внутренняя противоречивость вероучения, как и несоответствие его основных доктринальных положений религиозной практике и этике, доведена в махаяне до крайних степеней. Прежде всего нельзя не отметить то философское основание махаяны, которое обусловливает удивительную противоречивость всего ее догматического построения, имеется в виду учение о пустоте — Праджнапарамита. С точки зрения этого учения все есть пустота: «…все предметы, входившие в учение Яны Шраваков (т. е. хинаяны. — И. К.) (сканды, истины, 37 членов Боди, Шраваки, Сротапанны, Анагамины, Арханы, Пратьека-будды), самая Праджнапарамита не существуют, не истинны, пусты…» Сформулировав данное положение, В. Васильев раскрывает его странную для логического мышления структуру: с другой стороны, все вещи «вследствие этой же пустоты… и существуют; одним словом, здесь сливаются все противоречия: положительное и отрицательное составляют тождество» 97. Если все пусто, то, рассуждая последовательно, надо было бы признать, что не существует ни Будды, ни нирваны, ни триратны (трехчленная форма: Будда — дхарма — сангха). А из этого должен следовать вывод о недеянии как важном принципе поведения человека. Но религиозное мышление уводит сознание в другую сторону.
В отличие от хинаяны махаяна ориентирует человека на выход из сансары не потому, что жизнь есть страдание, а потому, что она есть пустота, ее не существует. Но тогда и нирваны не существует? Нет, оказывается, она не только существует, но и более конкретна и жизненна, чем нирвана хинаяны.
Несколько по-новому выглядит в махаяне и трактовка учения о бодисатве. Уже в хинаяне намечалась тенденция признавать бодисатвой не только ушедшего из мира, но и того архата, который остается в миру, чтобы помогать другим людям в достижении высоких степеней святости. В махаяне эта тенденция была полностью реализована. Идеалом бодисатвы стал считаться монах, занимающийся проповеднической деятельностью с целью спасения других людей. Неделание, таким образом, не только практически, но и формально уступило свое место активности, а духовенство получило основания к тому, чтобы не уходить из мира с его заботами, тревогами и благами, а, наоборот, по возможности глубже входить в него.
Несмотря на то, что с точки зрения теории Праджнапарамиты боги тоже представляют собой пустоту, первоначальный махаянистский пантеон с течением времени все больше обогащался. Во-первых, росло количество будд. Появились имена Авалокитешвары, Вайрочаны, Манджушри, Ваджрапаны и многих других. Будды не только носили определенные имена, но бывали и безымянными. Число последних скоро стало исчисляться миллионами и миллиардами, пока не дошло до утверждений о бесчисленном количестве богов-будд. Во-вторых, в буддийский пантеон проникали боги тех народов, которые принимали буддизм, они становились аватарами Будды; такая судьба постигла, в частности, ряд вишнуитских и шиваитских богов. Оказались буддами и Ганеша, Шива, Вишну. Появились богини — Тара и др. Здесь сторонники концепции буддийского пантеизма вынуждены признавать политеистическое «перерождение» буддизма.
В махаяне буддийские боги приобрели зримые черты. В огромных количествах стали появляться изображения Будды и многочисленных бодисатв, преимущественно скульптурные. А изображать божественное тело нельзя было в хинаянистских традициях презрения и отвращения ко всему телесному. Вспомним, что эти традиции требовали отношения к человеческому телу как к куче нечистот; в махаяне с этим было покончено, и возникли условия для развития буддийского искусства, создавшего великолепные статуи будд, бодисатв и окружавших их красавиц.
По-иному, чем в тхераваде, махаяна стала толковать сам образ Будды. Здесь он с самого начала выглядит как бог, а не как человек, в процессе своего постепенного совершенствования обретший божеское достоинство, «просветление». Это нашло свое выражение в появлении и распространении самого образа Будды: появились его плоскостные и особенно скульптурные изображения, распространившиеся по всему буддийскому миру, ставшие почти непременным атрибутом населенных пунктов и монастырей, а также всяких святилищ. Как это ни выглядит парадоксально, деификация центральной фигуры вероучения приблизила саму религию к массам, сделала ее более доступной для широких кругов населения. Тхеравадический Будда был чересчур «философичен», абстрактен, безобразен. Махаянистский же давал людям материал для наглядного образного восприятия, для эмоциональной стороны сознания. Бог в человеческом образе оказывался понятнее и ближе массовому сознанию, чем абстрактный человек, хотя этому человеку и приписывалась определенная биография.
Пересмотру подверглись в махаяне и такие важные типы сакральных личностей, как бодисатва и архат. В тхераваде бодхисатва представлялся как последняя форма на пути восхождения верующего к просветлению, достижение этой стадии должно было быть связано с перспективой непосредственного перехода в качество будды. Он становился архатом, полностью отрешенным от мира и прямо переходящим в нирвану. Махаяна унаследовала понятие бодисатвы, но преобразовала его. Достигши этой ступени, верующий может, и, как правило, делает это, отказаться от перехода в нирвану и, оставаясь в мире сансары, посвятить себя служению людям: делам милосердия, благотворительности и, главное, просвещения светом веры. Он еще должен дойти до состояния архата, перед которым непосредственно открывается нирвана.
Это, казалось бы, тонкое академическое различие имело для сознания верующего серьезное значение. Бодхисатва, по достижении этой степени сразу ушедший в нирвану, теряет практическое значение для людей, он ничем никому не может помочь, он — ничто. А если он остается в жизни, пусть это будет презренная сансара, важно, что это все-таки живая реальность, от которой, пока живешь, никуда не денешься. Таким образом, этот нюанс учений махаяны в какой-то мере тоже способствовал ее большей привлекательности для масс. Больше того, в этом плане кое в чем проигрывал и сам Гаутама-Будда, уступая часть своей популярности грядущему Будде-Майтрейе: если первый находится уже в нирване и ничем, стало быть, не может помочь людям, то второму, когда он явится на землю, будут открыты широкие возможности действия, в частности на пользу людям.
По мере того как буддизм из Индии проникал в страны Центральной, Средней и Восточной Азии, он испытывал влияние традиционных религий этих стран, а также социально-политических обстоятельств, интересов и движений, в них действовавших. Он неминуемо должен был преодолевать свою узость и замкнутость, проникаясь более широкими социальными интересами и целями. Это должно было в свою очередь вызвать интерес к буддизму со стороны государств соответствующих стран. Особенно это относится к Кушанской империи.
Примерно в начале нашей эры это рабовладельческое государство оформилось на огромной территории, охватывавшей значительную часть Индии и территории Средней Азии, Афганистан, Западный Пакистан и, может быть, некоторые земли современного Китая. Кушанское царство было в то время одной из четырех наиболее мощных империй, включая Рим, Парфию и китайскую ханьскую империю. Его правители стремились найти помимо политических и военных факторов централизации и укрепления своего государства еще и факторы религиозно-конфессиональные. Наиболее выдающийся из кушанских императоров Канишка (78 — 123 н. э.?) использовал в качестве религиозно-политического орудия укрепления своего государства буддизм и сделал его государственной религией своей империи. Он, однако, не просто принял на вооружение проникшую на территорию империи готовую форму южного буддизма, а с помощью богословов организовал серьезную его переработку, в результате чего появилось новое ответвление буддизма — махаяна. Деятельность Канишки в этом направлении была настолько активна, что его именуют иногда в литературе вторым Ашокой.
По инициативе и под руководством Канишки был проведен четвертый буддийский Собор в г. Кашмире, на котором были оформлены основные положения новой в сравнении с хинаяной формы буддийского вероучения. Вероятно, что в основу этой новой формы вероучения было положено ее изложение в книге Ашвагхоши «Рассуждения о пробуждении веры в махаяне». Именно в этой книге новому ответвлению было дано наименование «широкой колесницы», чем была определена критическая характеристика старого буддизма как «узкого пути спасения» или «узкой колесницы» — хинаяны. Кашмирский собор дал развернутое изложение основных положений махаяны.
Еще большее значение в глазах верующих должно было иметь новое толкование махаяной понятия церкви (сангхи). В тхераваде сангху составляли только монашествующие, миряне же считались упасаками — сочувствующими. Махаяна же открыла дорогу сангхи в одинаковой мере как монахам, так и мирянам, усилив, таким образом, возможности воздействия церкви на всю общественную и частную жизнь людей. В этом же плане имеет значение новый взгляд на женщину, провозглашенный махаяной: в отличие от тхеравады, отказывавшей женщине в религиозном полноправии, махаяна его признала.
Разрослась в махаяне обрядовая сторона буддизма. Если в хинаяне она вначале заключалась почти исключительно в молитве, то теперь расцвели пышным цветом все стороны магии — заклинания, публичные представления с шествиями, поклонение статуям-идолам, курения и т. д. В дальнейшем буддийский культ подвергся еще большей интенсификации вплоть до того, что оказалась «необходимой» его механизация. Забегая вперед, упомянем о знаменитых ламаистских мельницах-«хурдэ».
Изменился и уклад жизни духовенства. Уходит в прошлое аскетизм всего образа жизни, в частности аскетизм пищи и одежды. Монахи и бонзы употребляют в пищу жирную баранину, оставив принцип ахимсы для теории; вместо балахона они уже носят нарядные и богатые рясы из дорогой ткани. На смену пещерам и лесным убежищам явились огромные, прекрасной архитектуры монастыри, в которых обитатели отправляют культ и изучают священные книги. Ярким образцом такого монастыря была Наланда, остатки которой сохранились до сих пор.
В монастырях не только изучались священные книги, их там и сочиняли. Махаяна в огромных количествах преумножила литературу буддизма. Типитака не была отвергнута ею, но она вошла в огромное число махаянистских книг не как завершенный канон, а в различных сочетаниях с новыми богословскими трудами. Махаянистские произведения были написаны на санскрите, а в дальнейшем переведены на тибетский и китайский языки, в каковых переводах в основном и дошли до нашего времени.
Остановимся кратко на характеристике направления, которое иногда рассматривается в литературе как третье наряду с хинаяной и махаяной, — варджаяны.
В основе вероучения варджаяны лежат как поздние буддийские, так и особо древние индийские тантры — произведения, содержащие наставления к магическим ритуалам, исполнение которых должно обеспечивать человеку благополучие и процветание. Особенно большую роль как в индийском, так и в буддийском тантризме играют эротические обряды, символизирующие единство мужского и женского начала во Вселенной и основанную на нем гармонию бытия. По этой линии буддийский тантризм непосредственно связан с брахманистским шактизмом, насыщенным сексуальными переживаниями культом Шакти, одним из воплощений жены Шивы. Важнейшее место в обрядовой системе тантризма отводилось медитации, самоуглублению верующего.
Распространение буддизма шло в социальной и идеологической атмосфере, насыщенной старыми верованиями и пропитавшим весь быт людей культом давнего происхождения. В первоначальном виде буддизм не мог вытеснить их: для овладения массами он должен был адресоваться к их эмоциям и привычным переживаниям, связанным с богатой мифологической фантазией, с пышными ритуальными церемониями, с яркими костюмами священнослужителей. Сосуществование с индуизмом и другими местными культами способствовало взаимопроникновению характерных черт всех этих религий, вместе с тем и буддизм терял свою отличительную специфичность. Как и на севере, в его пантеон в большом количестве проникают индуистские боги, принимающие на себя роль тех или иных перевоплощений Будды. Изображения Вишну фигурируют на знаменах некоторых южноазиатских царств, формально признающих себя буддийскими. В торжественных процессиях по случаю буддийских или общегосударственных праздников на равных правах с монахами участвуют и индуистские жрецы.
Аналогия с развитием северного буддизма прослеживается здесь и в других направлениях. Происходит борьба различных сект и группировок, базирующихся в разных монастырях и храмах.
В разных своих ответвлениях буддизм стал одной из трех мировых религий и охватил сотни миллионов человек, но не в Индии, а за ее пределами: на Цейлоне, в Бирме, Корее, Китае, в странах Индокитая, в Японии. В этом отношении судьба этой религии несколько напоминает судьбу христианства, которое, возникнув в одной из стран Ближнего Востока, завоевало потом господствующие позиции не на Востоке, а главным образом на Западе, где и стало монопольной религией.
Проникновение буддизма в указанные страны относится к началу нашей эры, но его распространение и окончательное закрепление заняло еще ряд столетий. Это относится и к Цейлону, несмотря на то что предания рассматривают путь буддизации этой страны как триумфальное шествие, начавшееся и чуть ли не завершившееся при царе Ашоке, т. е. в III в. до н. э.
Примечания и ссылки на источники
1 Барт А. Религии Индии М., 1897 С. 136–137.
2 Луния Б. Н История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 196 °C. 94
3 Цит. по: Кожевников В. А. Буддизм в сравнении с христианством Т. I. Пг., 1916. С 46–47.
4 Индийский историк Паниккар считает «твердо установленными» даты жизни Будды — 567–487 гг до н. э. (см.: Паниккар К. М. Очерк истории Индии. М, 1961. С. 36–39), фигурирующие в литературе расхождения в пределах 20–30 лет не имеют существенного значения, особенно на фоне той хронологической «приблизительности», которая вообще царит в историографии Древней Индии.
5 См.: Ольденберг Г Будда, его жизнь, учение и община М, 1905. С. 271; Toucher A La vie du Bouddha apres le textes et les monuments de l’Inde. P., 1949; Бонгард-Левин Г M, Ильин Г Ф Древняя Индия: Исторический очерк. М., 1969. С 424–425, 427–430.
6 Васильев В Буддизм, его догматы, история и литература Ч. I. СПб, 1857. С. 10—11
7 Бонгард-Левин Г. М. К проблеме историчности III собора в Паталипутре//Индия в древности М., 1964. С. 125–129. Французский автор А Баро пишет: «Собор в Раджагрихе представляет собой легенду, первоначальная версия которой относится к концу I в. н. э. Остальные могут рассматриваться как исторические» (Bareau A. Les premiers concils bouddhiques. P., 1955. P 145). Индийский буддолог Б Джинананда считает историчными все соборы
8 См.: Кожевников В. А. Указ. соч. Т. I. С. 62.
9 Bharati A. The Tantric Tradition. L., 1975; Кочетов A. H. Буддизм. М., 1983. С. 109–110.
10 Цит. по: Беттани и Дуглас. Великие религии Востока Ч I. М, 1899. С. 175.
11 Hardy Е. Der Buddhismus nach alteren Pali-Werken dargestellt. Miinster, 1890. S. 2.
12 Из такой концепции исходит, например, в своих трудах современный индийский исследователь-марксист Д Чаттопадхьяя (см.: Чаттопадхьяя Д. Индийский атеизм. Марксистский анализ. М, 1973).
13 См.: Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. М., 1955. С. 109–116.
14 Там же. С. 116–121.
15 Кожевников В. А. Указ. соч Т II. Пг., 1916. С. 14
16 Schmidt W. Ursprung und Werden der Religion. Munster, 1930. По этому вопросу В Шмидту правильно возражает немецкий религиовед-индолог X. Глазенапп «Выводы Шмидта о буддизме основаны на ошибках, ибо буддизм никогда не отрицал существования личных богов (дэвов), он отрицал только вечного творца и управителя мира» (Glasenapp Н. Von Buddhismus und Gottesidee. Wiesbaden, 1954. S. 10)
17 См.: Г. В. Плеханов о религии и церкви. Избранные произведения. М., 1957. С. 291—294
18 Soderblom N. Holiness. General and Primitive // Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol 6. Edinburgh, 1913. P. 731.
19 Цит. по: Иллюстрированная история религий / Под редакцией Шантепи-де-ля-Соссей Д. П Т. II. М, 1899. С. 91.
20 Zeitschrift fiir Missionskunde und Religionswissenschaft. 1932. N 47. S. 129.
21 Koeppen G. F Die Religion des Buddha und ihre Entstehung. Bd I. Berlin, 1857. S. 214, 230.
22 Народы Азии и Африки. 1986. № 1. С. 140.
23 Пратимокша-Сутра / Буддийский служебник, изданный и переведенный И П. Минаевым // Записки императорской Академии наук. Т XVI Приложение № 1. СПб., 1870; Le Lalita Vistara, contenant l’histoire du Bouddha Gakya-Mouni depui sa naissance jusqu’a sa predication P., 1884; Buddhist Mahayana Texts. L., 1894; Sacred Books of the Buddhists. Vol. I–III L, 1859–1910; Буддийские сутты / Перевод с пали проф. Рис-Дэвидса, с примечаниями и вступительной статьей. Русский перевод и предисловие Н И. Герасимова. М, 1900, Pali Text Society. Translation Series. Vol. V. L, 1903–1931; Bloch J. Les inscriptions d’Asoca. P., 1950, Sircar D. C. Inscriptions of Asoca. Delhi, 1956; Дхаммапада / Перевод с пали, введение и комментарии B. Н. Топорова. М., 1960
24 Christus und die Religionen der Erde. Handbuch der Erde. Handbuch der Religionsgeschichte. Bd III. Freiburg, 1951. S. 246–248.
25 Рис-Дэвидс утверждает, что во времена Будды искусство письма в Индии вообще еще не было известно (см.: Буддийские сутты.
C. 60). В современной литературе по истории письма приняты другие концепции, по которым Индия знала письменность еще до появления в ней буддизма. Но в интересующем нас вопросе это мало что меняет.
26 Всего найдено около сорока надписей на придорожных скалах, в пещерах и на колоннах в городах. Так как текстуально некоторые из них повторяются, то общее количество надписей по их содержанию несколько меньше. Тексты надписей Ашоки см: Bloch J Les inscriptions d’Asoca; Sircar D. C. Inscriptions of Asoca Бхархутской ступе посвящена монография. Cunningham A. The Stupa of Bharhut L., 1879.
27 По И. П. Минаеву, «самая принадлежность его (Ашоки. — И К) буддийской общине кажется сомнительной» (Минаев И. П. Буддизм Исследования и материалы Т I Вып. I. СПб, 1887 С. 79). Он опирается на то, что в ряде надписей фигурирует терминология скорее джайнского, чем буддистского, типа.
28 Bloch J. Op. cit. P. 154, Sircar D. C. Op. cit. P 38 — 39
29 Минаев И П Указ. соч С. 97, 99
30 Кожевников В А. Указ. соч Т. I С 301.
31 Минаев И. П. Указ. соч. С. 149.
32 Christus und die Religionen der Erde… Bd III S. 255.
33 Кочетов A. H Буддизм. С 32–34.
34 Кожевников В А Указ. соч. Т I С 123
35 Корнев В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1983. С. 37–40.
36 См.: Васильев В. Указ. соч С. 18.
37 Автором его считается пекинский буддийский монах Джин-Чау. См.: Кожевников В А Указ. соч. Т I. С. 238
38 Majjhima-Nikaya. IV. 86 // The Collection of the Middle Length Sayings. Vol. II. L., 1957. P. 286—287
39 Буддийские сутты. С. 107.
40 The Sacred Books of the East. Vol XVII. Oxford, 1881. P 103.
41 Majjhima-Nikaya. V. 12–13 // The Collection of the Middle Length Sayings. Vol II. P 213
42 Якши могут насылать на людей всевозможные болезни, этим занимается, например, якшини Кундала, живущая в Гималаях и умирающая, когда у нее нарождается тысяча сыновей, после чего воскресает. Часть якши занимается озорными и злыми шутками, объектами которых выступают не только обыкновенные люди, но и святые. Есть якши-людоеды, о них неоднократно сообщают джатаки (см.: Минаев И. П. Указ. соч. С 147).
43 Кожевников В А. Указ. соч Т. II С. 8–9.
44 Le Lalita Vistara, contenant l’histoire du Bouddha Gakya-Mouni depuisa naissance jasqu’a sa predication. P. 51–52.
45 The Sacred Books of the East. Vol. XIII. P. 379.
46 Буддийские сутты. С. 125.
47 Warren H. С. Buddhism in Translations. Cambridge, 1906. P. 58.
48 Цит по: Кожевников В А. Указ. соч. T I. С 235.
49 Warren Н. С. Op. cit. P. 32
50 Кожевников В А Указ. соч Т. I. С. 237.
51 2500 Years of Buddhism Р. X.
52 Le Lalita Vistara, contenant l’histoire du Bouddha Cakya-Mouni depui sa naissance jusqu’a sa predication P 50—51
53 Буддийские сутты. С 145, 133–134, 132
54 Там же. С 102.
55 Там же. С. 114 (примеч.).
56 Пфлейдерер О. О религии и религиях. СПб., 1909. С 152–153.
57 См.: Ольденберг Г. Указ соч С 345–348, 367
58 Там же С 342
59 Das Mahaparinirvanasutra. Auf Grund von Turfan/ Handschriften herausgegeben und bearbeitet von E. Waldschmidt. Tl. II. Berlin, 1951. S. 342.
60 Warren //. C. Op. cit. P. 382.
61 Ольденберг Г. Указ. соч. С. 372, 378.
62 Там же. С. 376–378.
63 Цит по: Кожевников В. А Указ. соч. Т. II. С. 202.
64 Milinda’s Questions / Translated from the Pali by B. Horner. L., 1964. P. 161–164. См. также: Подгорбунский И. А. Буддизм, его история и основные положения его вероучения. Вып. 2. Иркутск, 1901. С. 66–68.
65 The Sacred Books of the East. Vol. XVII P. 100, Koeppen C. F. Die Religion des Buddha und ihre Entstehung. Bd I. S. 239–242; cm.: Подгорбунский И. А. Указ соч. С. 12–20.
66 Copelston. Buddhism primitive and present in Magadha and in Ceilon. L., 1908. P 230.
67 The Sacred Books of the East. Vol. XX. Oxford, 1885. P 377.
68 Цит. по: Кожевников В. А Указ. соч. Т. II. С. 202.
69 См.: Минаев И. П. Указ. соч. С. 179—184
70 Буддийские сутты. С. 150–152.
71 Барт А. Указ. соч. С. 142, 144, 143.
72 Koeppen С F. Op. cit. S. 554.
73 2500 Years of Buddhism New Dehli, 1956. P XIV
74 Кожевников В А. Указ. соч. Т. II С. 107–109.
75 Там же. С. 39.
76 Там же Т. I. С. 280.
77 Там же. Т II. С. 590–591.
78 The Sacred Books of the East. Vol. XIII. P. 301.
79 Ильин F. Ф. Религии древней Индии. М., 1959. С. 36.
80 Bloch J. Op. cit. P. 125–126, 169; Sircar D. C. Op. cit. P. 52, 74.
81 Bloch J. Op. cit. P 145; Sircar D. C. Op. cit. P. 33.
82 Bloch J. Op. cit. P. 121–122; Sircar D C. Op. cit. P. 50–51.
83 Bloch J. Op. cit. P. 152; Sircar D. C. Op. cit. P. 63–64.
84 Christus und die Religionen der Erde. Bd III. S. 246.
85 Барт А Указ. соч. С. 140.
86 История человечества Всемирная история / Под ред. Г. Гельмольта. Т II СПб. Б. г С 395.
87 Christus und die Religionen der Erde. Bd III. S. 255.
88 Иллюстрированная история религий. Т. II. С. 72.
89 Кожевников В. А. Указ. соч. Т. II С. 108.
90 См.: Пфлейдерер О. Указ. соч. С. 154.
91 Kern Н. Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien. Bd II. Leipzig, 1884. S. 484.
92 The Awakening of Faith, attributed to Asvagosha / Translated with Commentary by J. S. Hakeda. N. Y.; L., 1967.
93 Такая датировка жизни Нагарджуны оспаривается многими авторами, отодвигающими ее на два столетия вперед.
94 2 5 00 Years of Buddhism. P. 48–49.
95 Минаев И. П. Указ. соч. С. 23.
96 Современный историк индийской философии М. Рой отрицает не только преемственность махаяны с хинаяной, но даже ее связь с буддизмом (см: Рой М. История индийской философии. М., 1958. С. 332). Конечно, в махаяне сказались процессы приспособления буддизма к распространенным в массах верованиям и культам других религий, но это все же не привело к исчезновению в ней основного буддийского ядра.
97 Васильев В. Указ. соч. С. 122. Существует и тенденция рассматривать философские построения буддизма в кантианском духе (см… Щербатской Ф И. Философское учение буддизма. Пг., 1919).
Глава пятая. БУДДИЗМ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ АЗИИ
ЦЕЙЛОН
По достаточно правдоподобному преданию, буддизм впервые проник на Цейлон, когда туда во второй половине III в. до н. э. явился во главе большой группы проповедников и монахов сын Ашоки Махинда. Вместе со своими спутниками он прочел перед царем Деванампиятиссой и жителями столицы Анурадхапуры ряд проповедей, которыми убедил сингалов и их царя принять буддизм. Успех проповеди был тут же закреплен тем, что на Цейлон была доставлена из Индии ветка со священного дерева, сидя под которым Гаутама якобы обрел свое «просветление». Предание рассказывает о происходивших при этом чудесах, конечно либо вымышленных, либо инсценированных.
В Паталипутре, откуда должна была отправиться ветка дерева Бо, колебались в принятии решения по этому вопросу. Наконец надумали поручить это решение самой ветке. Изготовили золотой горшок, на котором сделали надпись: «Если этой ветке дерева Бо суждено отправиться в страну Лаика, пусть она пересадится сама в этот горшок» 1. И ветка исполнила это. Дальше чудеса продолжались вплоть до того, что, когда ветка была водружена на свое место в столице Цейлона, она сама вогнала в землю тот золотой горшок, в котором сидела. Превратившись в дерево, Бо стала одной из главных буддийских святынь Цейлона, а отпочковавшиеся от нее ветки распространялись по всему острову, так что вскоре владение деревом Бо стало непременным требованием существования любого буддийского монастыря. Характеризуя то значение, которое получил в буддизме культ дерева Бо, известный английский буддолог Рис-Дэвидс пишет: «Дерево Бо получило у буддистов такое же значение, как крест у большинства христиан» 2.
Особо важным объектом почитания на Цейлоне стал «зуб Будды», хранящийся в Канди. Это вовсе не зуб, а кусок слоновой кости размером не меньше пяти человеческих зубов. Он находится в специально выстроенном для него храме, причем хранится в семи вставленных один в другой золотых футлярах, усеянных драгоценными камнями. По преданию, в начале IV в. зуб был преподнесен в дар городу Канди некой индийской принцессой. Если это и было так, то во всяком случае предмет, который теперь считается зубом Будды, не имеет с подарком IV в. ничего общего. Когда в XVI в. португальцы вторглись на Цейлон, зуб для безопасности был перевезен в Джаффну, но завоеватели проникли и туда. Реликвия попала к португальцам, и, хотя цейлонский царь Пегу предлагал за нее колоссальный выкуп в золоте, католический архиепископ дон Гаспар решил уничтожить языческую святыню: он собственноручно долго жег ее в жаровне, потом истолок в ступке и пыль публично высыпал в море. Вскоре, однако, зуб Будды обнаружился в том виде, в каком он пребывает и до сих пор 3. Было объявлено, что уничтоженный архиепископом предмет был не подлинным зубом, а копией.
В монастырях Цейлона хранятся различные реликвии и мощи, связанные с именем Будды. Кроме пресловутого зуба известны особо почитаемые волосы Будды, его шейный позвонок, правая ключица, известен также горшок, с которым Будда ходил собирать подаяние. Во многих местах показывают следы стопы Будды, причем некоторые из них по своим размерам доходят до полутора метров. Местом хранения мощей являются специальные сооружения — ступы, дагобы, особые «дома останков», служащие объектами массового паломничества и поклонения. Почитаются реликвии и мощи, связанные не только с именем Будды, но и с именами разных «святых» подвижников буддизма. Известны мощи упоминавшегося выше Махинды, зуб тхеры Махакассапы, якобы председательствовавшего на первом буддийском Соборе, и многие другие. Вокруг мощей, само собой разумеется, постоянно должны были происходить чудеса, а обладание теми или иными мощами, как считалось, обеспечивало данной местности безопасность от эпидемий, нападений внешних врагов и других несчастий. Так утонченность и абстрактность первоначального буддизма выродилась в самые грубые формы фетишизма и идолопоклонства.
В свете этих фактов выглядит несколько странным то обстоятельство, что цейлонский буддизм оставался по своей доктринальной характеристике тхеравадистским, ибо как культовая его сторона, так и характер его институтов потеряли особенности, специфические для тхеравады, и по этим показателям вплотную приблизились к махаяне. Пышный культ, центральная роль, которую играло в этом культе поклонение мощам, реликвиям, изображениям, памятникам, колоссальное распространение строительства храмов и монастырей — все это ближе к махаяне, чем к тхераваде. Монастыри полностью потеряли свое первоначальное лицо, какими они были во времена безраздельного господства тхеравады как убежища для бхикшу — нищих монахов, питавшихся подаянием. Они превратились в мощные эксплуататорские хозяйства, игравшие большую роль в экономической и политической жизни страны.
При таком явственном сближении собственно религиозных позиций тхеравады и махаяны, казалось бы, отношения между приверженцами этих двух направлений должны были становиться все более дружественными. Между тем на Цейлоне не только такого сближения не происходило, а, наоборот, отношения обострялись и дело доходило до открытых и порой ожесточенных столкновений. На остров проникали в известном количестве деятели и проповедники махаяны, им нередко удавалось основывать свои вихары, становившиеся в свою очередь штаб-квартирами и проповедническими центрами махаянизма в этой цитадели тхеравады. И вопреки традиционной терпимости к инаковерующим, заповеданной еще Буддой и каноническими произведениями Типитаки, между приверженцами тхеравады и махаяны шла борьба, она продолжалась ряд столетий с перерывами. Во главе противостоящих сторон были монастыри Абхаягири и Махавихара 4.
Монастырь Махавихара был с самого начала своего существования хинаянистским. Абхаягири тоже сначала не отличался от него по своим вероисповедным позициям. Но потом разногласия возникли, и, чем дальше, тем все более обострялись. Внешне дело выглядело так, что на остров прибыла из Индии группа буддийских монахов, придерживавшихся махаянистских взглядов особого толка, и, выслушав ее проповедь, община Абхаягири приняла эти взгляды, приобретя в глазах тхеравадинов Махавихары репутацию безусловных еретиков. Этот махаянистский толк именовался ваджрипутой.
Надо признать, что в воззрениях ваджрипуты действительно были серьезные расхождения догматического порядка со взглядами, которые признавались ортодоксальными. Так, например, им приписывалось признание того, что человек обладает постоянной личностной сущностью, индивидуальной душой, наличие которой решительно отвергалось тхеравадинами. В дальнейшем монастырь Абхаягири получил еще один повод к вероисповедному расхождению с Махавихарой.
Во второй половине II в. н. э. Абхаягири приютил у себя еще одну группу еретиков-иммигрантов. Это были так называемые ветульявадины, находившие источник своего откровения в одной из книг северного канона — ветулья-сутте. И опять община Абхаягири поддалась еретическому соблазну и признала истинным учение ветульявадинов.
Основа взглядов этого толка заключалась в недопустимой для тхеравадинов трактовке личности Будды. Точнее сказать, Будду-человека они вообще не признавали. Они утверждали, что он и родился и жил на небе Тушиты. Что же касается человека Гаутамы, то это был не Будда, а его человеческое воплощение, некое существо в образе Будды. Проповедь тоже вел не сам Будда, а его ближайший сподвижник Ананда, усвоивший учение со слов указанного земного образа Будды.
Не исключено, что Абхаягири не полностью принял все отступления ветульявадинов от типитакской ортодоксии. Этот монастырь вообще позволял своим монахам и прихожанам известную широту взглядов, он проводил дискуссии по разным вопросам вероучения и не выражал категорического осуждения вероучений и толкований тхеравады. Тем не менее между ним и Махавихарой на протяжении длительного времени шла ожесточенная, временами кровопролитная борьба. Похоже на то, что для Абхаягири вероисповедные разногласия были преимущественно поводом к борьбе за идеологическое и экономическое первенство в стране, а также за политическое влияние в государстве. Именно в условиях, когда Махавихара резко враждебно встречала всякое отклонение от ортодоксии, для ее конкурента было важно держаться своей линии. Вероятно, и для Махавихары чистота вероучения была в некоторой мере поводом к борьбе за первенство.
Ожесточенные столкновения между защитниками разных вероисповедных доктрин происходили в середине и второй половине I в. до н. э. В борьбе участвовали не только два указанных выше монастыря, но и другие. К тому же споры и распри по этим вопросам происходили и внутри некоторых монастырских общин. Все это нередко вызывало вмешательство светской власти. Так, например, когда среди бхикшу монастыря Четтиягири возникли острые богословские дискуссии, дело кончилось тем, что явился царь Канираджанутисса и вынес свой вердикт, после чего 60 монахов, отстаивавших осужденную «еретическую» концепцию, были высланы из монастыря и, по одним данным, казнены, по другим — сосланы в какие-то «пещеры».
Вообще роль царей в истолковании вопросов веры была решающей. Это особенно сильно сказалось в IV в., когда борьба по догматическим вопросам между разными направлениями и толками буддизма приобрела на острове особенно ожесточенный и запутанный характер. Оправившиеся после репрессий прежнего времени ветульявадины вновь было обрели убежище в монастыре Абхаягири. Тогда явился туда царь Готхабхая и навел порядок: книги еретиков предал сожжению, а большую группу монахов выслал с острова. Зафиксирован и ряд других случаев, когда царь, вмешавшись в богословские дискуссии, ведущиеся между общинами разных монастырей и внутри этих общин, изрекал «истинное» решение и расправлялся с его противниками. Напрашивается историческая параллель — роль византийского императора Константина во внутрицерковной борьбе в христианской церкви начала IV в. Случалось, впрочем, что цари вынуждены были капитулировать перед богословскими решениями.
После некоторого затишья внутрибуддийской борьбы, длившегося в течение II–III вв., она разгорелась с новой силой в IV в., особенно в середине его, в царствование Махасены (334–362?). Под влиянием каких-то невыясненных обстоятельств царь Махасена ополчился против мощного и авторитетного монастыря Махавихары и подверг его опале. Дошло до того, что под угрозой штрафа он запретил подавать милостыню монахам этого монастыря. Разгорелась настоящая война. Дело кончилось капитуляцией Махасены, а при его преемниках Махавихара опять занял свое прежнее положение.
Тем не менее на протяжении нескольких столетий в стране еще продолжалась борьба между тремя религиозными центрами; помимо двух известных уже нам следует отметить монастырь Джетовараму, основанный в разгар религиозной борьбы царем Махасеной. Видимо, вероисповедным знаменем этого центра было учение ветульявады. Помимо этого троецентрия следует отметить наличие в стране еще ряда других толков — иогачаров, салиев и других, на характеристике которых мы здесь не будем останавливаться.
Лишь через ряд столетий, в XII в., царю Паракхамабаху I (1153–1186) удалось на время достичь единства сангхи. Видимо, общая обстановка диктовала ему выгодность и необходимость этого единства в интересах усиления государства и своей власти в нем. Он созвал собрание наиболее авторитетных тхеров, которое считается цейлонской сангхой пятым всебуддийским Собором, и там «с помощью бхиккху… разрешил все разногласия, которые возникли». Дальше хронист рассказывает: «Царь сам присутствовал на этом собрании как защитник (?) вместе с подобными львам тхерами, которые знали Трипитаку. Когда, согласно инструкциям, он очистил тех бхиккху, которые были излечимы, он установил мир среди бхиккху из Махавихары. Нарушающих дисциплину он исключил из сангхи, а для того, чтобы они не стремились причинить вред общине, обеспечил им выгодное положение. Когда он с таким трудом очистил Махавихару, он взялся за монахов из Абхаягири… а также за обитателей Джетаванарамы, которые отделились в царствование Махасены», и за слова Будды выдавалась Витулья-питака 5. Царь строго экзаменовал всех участников обсуждения и вместе с людьми, «знающими истинные методы ведения процесса», установил, что все бхикшу поголовно заражены ересями. Оставалось только обязать их принять некое единообразное толкование веры и изгнать неповинующихся из вихары или даже с острова.
Во взаимоотношениях государства и сангхи было много сложного и противоречивого. С одной стороны, царь считался верховным владыкой всего, в том числе и сангхи. В ряде сохранившихся средневековых надписей он аттестуется как «царь Вселенной», как солнце, причем нередко жена его именуется по довольно простой аналогии луной. В некоторых изображениях в виде четырех сторон света фигурируют четыре главных сановника государства, а в центре этого четырехугольника символов мироздания оказывался, конечно, царь. Мощи и реликвии, рассматривавшиеся как главная ценность страны, считались собственностью не сангхи, а государства, т. е. практически царя. Мы уже видели выше, что в ряде случаев царь распоряжался в сангхе по своему произволу и, руководясь им, решал все каверзные вероисповедные вопросы. Считалось, что забота о чистоте веры лежит в конечном счете именно на царе. Но с другой стороны, много фактов и обстоятельств свидетельствуют о том, что в ряде отношений буддийская церковь в древнем и средневековом Цейлоне стояла над государством.
Буддийское вероисповедание считалось для царя обязательным. В тех случаях, когда в результате войны или другим способом престол захватывал тамил (тамилы — вторая национальность на Цейлоне после сингалов, они исповедовали брахманизм), он должен был перейти в буддизм. Так, например, было с захватившим престол тамилом Эларой, принявшим буддизм и царствовавшим после этого 44 года. В некоторых случаях царь бывал вынужден покорно склонить голову перед сангхой, это касалось, в частности, тех случаев, когда та или иная вихара осуществляла свое право предоставления убежища. На территории монастыря преследовавшийся законом или укрывавшийся по каким-либо причинам человек был недосягаем для государственных чиновников и даже для самого царя. Имевшие место единичные попытки со стороны царей нарушить право убежища, которым пользовалась сангха, вызывали сильнейшее сопротивление с ее стороны, а иногда и народные волнения. Так, например, известен случай, когда несколько провинившихся перед царем Удаи III (934–937) чиновников укрылись в монастыре Тапована. Царь пренебрег правом убежища и, ворвавшись в монастырь, арестовал и обезглавил укрывшихся. Это вызвало чуть ли не всенародное восстание. Царь и наследник престола, участвовавшие в казни, на коленях с трудом вымолили себе прощение у монахов сангхи 6.
Главенствующему политическому положению сангхи в стране соответствовало ее экономическое могущество. Монахи по-прежнему именовались бхикшу — нищие, но давно ушло то время, когда это название отражало действительное положение вещей. Уж очень рано сангха получила многочисленные источники обогащения и вопреки тому культу бедности, которым было проникнуто буддийское учение, стала активнейшим образом использовать эти источники. На первом плане было «подаяние», означавшее теперь богатые пожертвования состоятельных людей, и огромные доходы от паломников, посещавших монастыри. Государство и частные лица дарили монастырям большие участки земли, обработка которых давала огромные доходы. Есть сведения о том, что два монастыря (Читталапаббата и Тиссамахавихара) единовременно держали запасы риса, нужные для того, чтобы в течение трех лет кормить 12 тыс. монахов 7. Известно такое свидетельство китайского путешественника Фа Сяня, посетившего Цейлон в III в. н. э.: «Кладовые монахов полны драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Царь, отправившийся однажды осмотреть эти кладовые, увидел эти драгоценности и, возжелав их, захотел отобрать». Однако спустя три дня он раскаялся в этом намерении и признался монахам в своем греховном падении. Он посоветовал руководителям впредь никого не пускать в свои кладовые, не только царей, но и рядовых монахов, пока их «стаж» пребывания в монастыре не достигнет 40 лет 8.
Помимо средств, шедших от пожертвований и от паломничества, монастыри получали доходы от собственного хозяйствования на своих землях. Кто же работал на этих землях? Отнюдь не монахи: им было категорически запрещено заниматься производительным трудом; достаточно с них было того, что они обслуживали сами себя и монастырские помещения, включая, например, уборку двора вихары. Производительным трудом занимались прежде всего рабы, а затем и наемные служащие, слуги, ремесленники. Значительную часть своих земель вихары сдавали в аренду. Словом, все высокоученые, абстрактные и абсолютно благочестивые рассуждения и проповеди находили свое жизненное воплощение в весьма интенсивной эксплуататорской практике.
Представляет интерес и та эволюция, которую претерпел буддизм, по крайней мере в его цейлонской разновидности, в своем отношении к войне и вообще к кровопролитию. Сангха без всяких околичностей санкционировала те войны, которые вели цари. Особенно большую роль она играла в тех войнах, которые велись сингалами против тамилов. В этих случаях целью войны оказывалось торжество буддизма как истинной веры над погрязшими в заблуждениях брахманизмом, индуизмом и прочими разновидностями ложных верований. Борьба за истинную веру — вообще распространенный мотив в истории религий, и в этом отношении буддизм оказался вовсе не исключительным явлением.
Так, например, когда в конце II в. до н. э. наследный принц южноцейлонского, исконно буддийского царства Роханы Дуттхагамани вступил в войну за свержение, хотя и ставшего буддистом, царя Элары, по национальности тамила, бывшего ранее брахманиетом, он заявил, что война против тамила ведется «не ради счастья обладания царской властью, а ради утверждения Учения» 9. А после того как ему удалось захватить престол и он демонстративно выражал свою печаль по поводу того, что пришлось истребить много человеческих жизней, к нему явилась специальная делегация архатов, заявившая ему, что убитые им были «людьми неверными и ведшими порочную жизнь» и что «на них нельзя смотреть иначе, чем как на зверей». Самому же победителю предстоял славный путь. «Ты различными путями, — предсказали ему архаты, — принесешь славу учению Будды, поэтому выбрось заботу из твоего сердца, о, владыка людей!»
Так на протяжении всей истории Цейлона вплоть до его колонизации европейскими капиталистами буддийская сангха и царская власть пребывали в единстве, осуществляя совместную эксплуатацию трудового населения.
Буддизм на Цейлоне, как и в других странах своего распространения, в общем мирно сожительствовал с другими религиями, и в частности с индуизмом, но были периоды драматических столкновений. Известна, например, та борьба, которую начал против буддизма раджа Синх I (1586–1592). Он был поклонником шиваитской разновидности индуизма, под знаменем которой и начал борьбу, приведшую к тому, что большое количество буддийских монахов формально перешло в индуизм, да и сам буддизм на Цейлоне стал все больше насыщаться элементами шиваитского, вишнуитского и других индуистских культов. Только через два столетия, при царе Кирти Шри Радже Синхе (1747–1780), на Цейлоне был возрожден буддизм, в некоторой мере очищенный от индуистских элементов. Как и во всех других религиях, борьба группировок и толков имела в своей основе интересы различных социально-экономических и политических группировок.
Характеристика цейлонского буддизма как чисто хинаянистского или тхеравадического, ставшая почти традиционной в научной литературе, нуждается в существенных уточнениях. Во-первых, буддизм проникал в страны Южной Азии не только в хинаянистской, но и в махаянистской форме, так как он шел не только из Индии, но и из Центральной Азии и Китая. Во-вторых, здесь он эволюционировал в том же направлении, что и в северных странах, так что различие между хинаяной и махаяной со временем все больше стиралось.
ТАИЛАНД (10)
На территорию Западного Индокитая буддизм начал проникать во II в. н. э. через переселявшихся на эту территорию жителей Восточной Индии. Вместе с переселенцами здесь оказалось некоторое количество монахов, которые и занялись проповедью буддизма. Уже к V–VII вв. относятся археологические памятники явно буддийского культового характера: храмовые комплексы, скульптурные изображения Будды и других персонажей буддийского пантеона, ступы. Некоторое время в Таиланде шла борьба между различными направлениями буддийского вероучения, но, видимо, скоро была достигнута известная унификация на позициях тхеравады. В XI в. большую роль в утверждении тхеравадического направления в тайском буддизме (буддизме современного Таиланда) сыграла деятельность тхеры Шин-Арахана, который, по преданию, не только проповедовал в народе, но в 1056 г. явился к царю Анируде и сумел убедить его в истинности тхеравады. В дальнейшем известную роль в утверждении ее среди тайского населения сыграли распространившиеся известия о проведенном на Цейлоне царем Параккамабаху I Соборе, на котором верх одержало северное направление буддизма. Одним из главных центров буддизма таи — его пропаганды, а также развития религиозного изобразительного искусства и зодчества — стал город Сукхотай с его многочисленными монастырями и святилищами.
Особое значение в утверждении тайского буддизма и в его богословском обосновании принадлежит королю Литхаю (1347–1361). Ему приписывается современниками колоссальная богословская образованность, включающая знание не только всей буддийской, но и индуистской литературы, и вед, и специальных сочинений по астрономии. Он считается автором главного произведения тайского буддизма — «Трай пхумихаттха» («История трех миров»). Помимо верований и представлений, характерных для буддизма в целом, «Трай» содержит многое, что присуще именно тайскому буддизму, в частности те черты, которые обнаруживают особую живучесть добуддийских верований и культов.
В условиях Таиланда буддизму пришлось выдерживать значительно большее сопротивление более живучих, чем в других странах, верований и обрядов добуддийских культов. И во многом ему пришлось приспособиться к ним, меняя свою собственную природу, свои представления и культ.
Это сказалось, в частности, на центральной идее буддизма — идее нирваны. Надо сказать, что и вообще эта идея была в достаточной мере нежизненной: если последовательно придерживаться ее, надо по сути дела перестать жить настоящей человеческой жизнью. Поэтому и во всех ответвлениях буддизма она исповедовалась лишь, так сказать, теоретически. Но в тайском буддизме она просто отошла на задний план, уступив центральное место идее кармы — материального перевоплощения. Это ставило перед каждым буддистом вполне практическую задачу накопления заслуг, необходимых для получения предстоящего благоприятного воплощения. Отсюда вытекал и стимул для морального, с точки зрения сангхи, поведения верующего, скорее даже не столько поведения, сколько стандарта сознания. Термином «Кусала» обозначался набор добродетелей, способствовавших благоприятной карме, термином «Акусала» — наоборот. И тот и другой наборы включали в себя стандартные и плоские обозначения абстрактных качеств — любовь, доброта, мудрость, знание, с одной стороны, и ненависть, невежество, глупость, заблуждение и т. д. — с другой. С одинаковым успехом можно было любой поступок подвести под категорию Кусала и Акусала, все зависело от толкования, которое придавала ему сангха, а это сообщало ей громадную силу в регулировании реальных человеческих и социальных отношений людей. Есть в тайском буддизме и другая пара понятий, означающих добрые и злые дела верующих, увеличивающих или уменьшающих их шансы на благоприятную карму. Это понятия «бун» и «баб». Первое означает благой поступок, второе — наоборот. Количественное соотношение бун и баб определяет в конечном счете баланс судьбы верующего после его смерти.
Представляет особый интерес космологическая система «Трайи»11. В центре Вселенной она ставит, конечно, гору Меру. Над ней расположено шесть небес. Первое из них — это своего рода пропускной пункт, там постоянно дежурят четыре стража, не пускающие наверх тех, кому «не положено». Второе небо занимает бог Индра, управляющий делами на земле. А остальные четыре заняты вообще богами, просто проживающими там. Наиболее важным из небес является, конечно, самое высшее, занятое бодисатвой Майтрейей; там он дожидается времени, когда ему придется спуститься на землю и превратиться в очередного Будду. Жить ему там в ожидании неплохо, ибо некое дерево камапрык, именуемое деревом удовольствий и наслаждений, исполняет все его желания. И где-то на небесах — неясно, на котором небе, — расположен рай Гимаранта для людей и полубогов. Само собой разумеется, это небывалой красоты и роскоши место со всеми атрибутами рая, фигурирующими во многих религиях, вплоть до шестнадцатилетних девушек, готовых к обслуживанию праведников.
Пять миров, расположенных ниже горы Меру, предоставлены для всякой нечисти. Там обитают исконные враги богов; точнее сказать, это злые боги разных категорий и названий — преты, асуры, наги. Они, как правило, имеют животноподобный образ змей, драконов, разного рода чудовищ, но похоже на то, что в этих образах надо видеть людей-грешников. Весь обычный ассортимент мучений и наказаний фигурирует и в тайском аду, но здесь еще следует отметить и разновидность наказаний, в какой-то мере аналогичных знаменитому образу сизифова труда. Грешников постоянно преисполняют всевозможные вожделения, которые они не в состоянии выполнить. В частности, это относится к желаниям сексуального характера. Наказываемого таким способом человека преследует желание, объект которого находится на высоком дереве. Он прилагает отчаянные усилия к тому, чтобы достичь вершины дерева, но, когда ему это наконец удается, объект вожделения оказывается внизу у подножия дерева; все надо начинать сначала. То же и с грешниками, наказываемыми неизбывным голодом, жаждой и т. д.
«Обмирщение» буддизма в его тайском варианте и его сближение с добуддийскими религиями, бытовавшими в Юго-Восточной Азии и Таиланде, особенно сильно сказалось на его культе и его образном оснащении.
В заботу человека должно всегда входить стремление наладить нужные отношения с духами-демонами, с одной стороны, и добрыми демонами-охранителями, с другой стороны. И те и другие являются двойниками всех окружающих человека вещей, и ему постоянно приходится пребывать в их обществе, либо претерпевая неприятности от вредоносных демонов, либо пожиная плоды охранительной деятельности добрых. За последними надо всячески ухаживать, их надо ублажать, и прежде всего надо их обеспечивать жильем. На окраине селения строились специальные домики, которые предназначались для духов-покровителей данного селения. При монастырях, как считалось, тоже проживали один или несколько охранителей, и их изображение нередко выставлялось для постоянного обозрения рядом со статуей Будды. Жилище каждой семьи тоже охранялось сверхъестественным «караульным», для которого иногда строился специальный домик. Поле, сад, река, холм, роща имели своих охранников. Это был универсальный пандемонизм, органически сраставшийся с буддийской религией «утонченного» хинаянистского толка.
Сам Будда оказывался в ходе такого сращивания чем-то вроде обыкновенного демона, а его изображения, в особенности скульптурные, в истолковании верующих оказывались чем-то наподобие идола. Изображение Будды наделялось сверхъестественными свойствами и, по представлениям верующих, могло творить чудеса. В истории религии такие верования, правда, не являются уникальными. Чудотворные иконы в православии обладают, как известно, не менее удивительными свойствами.
Различные изображения Будды могут вступать между собой в определенные отношения. Так, например, считалось, что две статуи — «Изумрудный Будда» и «Пхра Банг» — находятся во взаимной вражде, и когда они оказываются в территориальной близости, то всячески вредят не только друг другу, но и людям, которые чтут другого Будду 12. И здесь можно провести параллель с ветхозаветным повествованием о том, как Ковчег Завета, оказавшись в одном храме с филистимским идолом Дагоном, напал на него и покалечил. Статуи Будды подвержены таким же переживаниям, как и любые живые существа, — они плачут и радуются, залечивают свои раны, разговаривают между собой и людьми.
Тайская сангха имеет централизованную организацию и издавна обладает большими богатствами. Раскопки средневековых храмов иногда обнаруживают целые клады золотых статуэток и прочие драгоценности. Как и в других странах Азии, в Таиланде сангха владеет большими земельными угодьями. Одним из видов ее хозяйствования является ростовщичество, признаваемое вполне благочестивой формой деятельности.
БИРМА (13)
В течение первого тысячелетия нашей эры на полуострове шли непрестанные передвижения и переселения ряда народностей и этнических групп (моно, пью, араканцы, мьямма и т. д.), основывались и распадались государства, на их месте возникали новые. Известно существование в IV–IX вв. государства пью Шрикшетра со столицей на месте теперешнего города Пьи. С первых веков нашей эры на юго-западе Бирмы существовало государство Аракан. На южном побережье Бирмы в течение столетий существовали населенные монами города-государства, известные под общим названием Раманадессы. В VIII–X вв. имело большую силу тайское государство Наньчжао. С IX в. в Бирму все в большем количестве стали переселяться из Северной Индии и из Китая племена, которые были известны под названием западных цянь, а потом — мьямма или мрамма, каковой этноним преобразовался в наименование бирманцев. В середине IX в. они образовали ставшее впоследствии сильным и влиятельным государство Паган с одноименной столицей, постепенно ассимилировавшее прежние, расположенные здесь государства. К середине XI в. относится особое усиление мощи этого государства, связанное с именем царя Анируды (1044–1077).
Вероятно, буддизм появился у араканцев раньше, чем у других народов Бирмы, но к концу первого тысячелетия у них получил преобладание ислам. Уже с первых столетий новой эры буддизм проникает в среду других народностей полуострова, преимущественно в форме тхеравады, чему способствовали оживленные сношения с Цейлоном.
В течение первого тысячелетия нашей эры буддизм не был официально признан государственной религией в бирманских государствах. По содержанию же верований, распространенных в этих государствах, по формам и инструментарию отправляемого культа, по характеру культовых зданий он был тесно связан и переплетен с индуизмом и с примитивным полидемонизмом. В некоторых случаях эти религиозные явления настолько теснили буддизм, что он практически исчезал, бывало даже, что государственная власть формально прокламировала его упразднение. Один такой случай связан с именем паганского царя Сорахана, который известен своей активной религиозной политикой. Он строил пагоды и ступы, но заполнял их больше статуями демона-змея Наги и деревьями, которые считались священными. Принадлежа по рождению к простонародью, он, по преданию, пришел к власти при помощи всевозможных колдовских церемоний. А в некоторый момент времени, около 1000 г., Сорахан даже официально решил отказаться от буддизма в пользу культа Наги. Это стоило ему престола — он был свергнут и убит.
Его преемники были буддистами, приверженцами тхеравады. Особенную роль в утверждении буддизма в государстве Паган сыграл царь Анируда (Анората). Он провел ряд завоевательных экспедиций на юг, в области, заселенные монами, твердо стоявшими на позициях тхеравадического буддизма. Он покорил эти области и присоединил к своему царству, сам же у них позаимствовал безусловную приверженность к буддизму и в 1057 г. провозгласил эту религию государственной для Пагана. Она пришла на смену ранее распространенному среди бирманцев полидемонизму с сильной примесью индуизма. Известную роль в этом сыграл таиландский монах Шин-Арахан, который одно время жил при Анируде и сумел «просветить» его истинным буддизмом. Правда, этому царю пришлось предпринять настоящую охоту за рукописями Типитаки, так как в его распоряжении были только джатаки (жизнеописания Будды в прежних воплощениях). Предание свидетельствует о том, что Анируда, отправившись на Цейлон, собственноручно переписал там Типитаку, отправился обратно, прихватив заодно по пути статую «изумрудного Будды». Ее он, однако, в перипетиях морского путешествия не сумел доставить к себе, и она попала в Таиланд, где пребывает до сих пор. По другому преданию, Анируда не переписывал Типитаку, а захватил сразу 30 ее экземпляров готовыми.
Царь Анируда вошел в историю религии, в частности буддизма, не только как повелитель, навязывающий своим подданным исповедуемое им вероучение, но и как проповедник и даже теолог этой религии. Отвлекаясь от вопроса о его возможной субъективной убежденности в истинности буддизма, обратим внимание на то, что распространение этой религии имело для него военно-политическое значение: как это нередко бывало в истории религий, завоевательные походы предпринимались Анирудой именно под предлогом просвещения народов светом истинной веры.
Буддификация Пагана при Анируде и его преемниках вызвала усиленное строительство культовых зданий — монастырей, пагод и ступ, сооружение большого количества статуй Будды. В одной лишь столице Пагана сохранилось до нашего времени целиком или в руинах около 5000 культовых сооружений разного рода.
Нередко среди них встречаются и памятники явно выраженного махаянистского и индуистского характера. Известны статуи бодисатв махаянистского происхождения.
Не менее сильно было в Пагане влияние и индуизма. Характерен в этом отношении текст, описывающий церемонию коронации паганского царя Тилуина Мана (конец XI в.). Главную роль в церемонии играли брахманы. Буддийские же монахи во главе с самим Шин-Араханом им только помогали. Совершались молитвы, и приносились жертвы Вишну и Индре, а также полидемоническому богу-змею Наге.
Для царей Пагана была важна не столько чистота буддийского вероучения, сколько влияние на своих подданных. Можно в этой связи указать на любопытный штрих, показывающий, как цари старались использовать культовые скульптурные изображения для возвеличения собственной личности: нередко та или иная статуя специально изготавливалась в размерах, соответствующих росту царя и его супруги. Встречаются такие описания статуй: «Стоящий Будда ростом с царя, золотой стоящий Будда ростом с госпожу Уи План Ван Сан» 14. Мы знаем аналогии этому в других религиях. Некоторые статуи храма Ангкор-Ватт были изготовлены с учетом не только роста дарителя, но и портретного сходства с ним. То же относится и ко многим средневековым христианским иконам как в католицизме, так и в православии.
Централизованного управления сангхой в Пагане не было. Большую роль играл состоявший при царе старейшина, выступавший в качестве наиболее авторитетной третейской инстанции в вероисповедных спорах и разногласиях. После смерти в 20-х гг. XII в. Шин-Арахана такой признанный авторитет не появлялся. К тому времени в паганской сангхе произошел своего рода раскол.
В конце XII в. в монастырях развернулось движение протеста против той роскоши, в которой жили их обитатели, и против тех колоссальных богатств, которые все в большем количестве накоплялись в монастырях. Идеологически это движение питалось ссылками на весь дух учения Будды, проникнутый апологией нищеты. Хотя бирманские монахи назывались не бхикшу — нищие, а поунджи — «великая слава», культ нищенства, формально исповедовавшийся сингальской тхеравадой, был довольно популярен и в Бирме. Мы сказали, что этот культ формально исповедовался на Цейлоне, имея в виду, что и там монастыри к рассматриваемому времени достигли больших степеней обогащения и роскошных условий жизни. Но на территории Бирмы это было мало известно, а словесные проповеди, основанные на Виная-питаке, оперировали лозунгами нищенства. Монахи, принимавшие эти лозунги всерьез, стали в больших количествах уходить в лесные и пустынные местности и вести там аскетический образ жизни. Группы таких аскетов (арана) стали объединяться для совместной жизни в землянках и пещерах, и эти пункты стали новыми очагами благочестия, привлекавшими внимание верующих мирян. Быстро распространился обычай приношения в места проживания аскетов продуктов питания, посуды и других предметов быта. Развернулся парадоксальный процесс обогащения аскетов, ведший к тому, что их дикие «лесные убежища постепенно превращались в монастыри, вскоре сравнявшиеся по своему богатству с роскошными вихарами Пагана.
Это само по себе достаточно поучительное явление известно и в других религиях: возникши как воплощение апологии бедности и аскетизма, тот или иной религиозный институт быстро обрастает материальными богатствами и становится живым опровержением своей собственной идеологической основы. Тогда на первый план начинают выдвигаться другие элементы вероучения, а материальное богатство из греховного явления превращается в божье благословение.
В данном случае мы видим нечто подобное. «Лесные» монастыри вскоре после своего возникновения фактически перешли тот рубеж, который отделял их от старых монастырей Пагана: утратили аскетически-нищенский образ жизни. Но откол уже произошел, и, чтобы он сохранился, нужны были какие-то другие признаки, которые разделяли бы лесные и старые монастыри. Таковые нашлись в том, что учение и культ, которым были привержены старые монастыри, они заимствовали полностью с Цейлона, унаследовав от сингалов еретические элементы, которыми те были заражены. Бывшие же пустынники и аскеты воскресили в качестве истинно буддийских многие индуистские и полидемонические пережитки, имевшие широкое распространение среди населения. Раскол стал фактом.
Он имел определенную социальную основу. Монастыри Пагана были фактически придворными учреждениями, и их руководители подвизались при дворе в качестве советников и исповедников царей и высшего чиновничества. «Лесные» же монахи выражали интересы более широких кругов народа, в какой-то мере противостоявших верхам. Чем дальше, тем раскол все больше углублялся.
В 1165 г. Паган потерпел поражение в войне с Цейлоном. Это немедленно сказалось на религиозной ситуации в стране. Старые монастыри, стоявшие в вероисповедном отношении на сингальских позициях, оказались в покровительствуемом положении, соответственно ухудшилось положение «лесной» секты. С другой стороны, сопротивление бирманцев цейлонскому господству нашло свое идеологическое выражение и оправдание в деятельности лесных монахов, что обусловило усиление и их религиозных позиций.
В течение XIII–XV вв. преобладающим течением в бирманском буддизме была секта лесных братьев. В ходе дальнейшей истории бирманских государств положение несколько раз менялось, пока наконец в середине XVI в. не произошли решительные события в политической истории полуострова, связанные с тем, что царю одного из бирманских государств Табиншветхи (1531–1550) удалось объединить их и создать одну Бирманскую империю, причем сам царь провозгласил себя Чакравартином, т. е. «буддийским завоевателем мира». Характерно это религиозное освящение чисто светского политического акта создания нового государства. Преемник объединителя Байиннаун (1550–1581) был еще более активен в использовании религиозно-политических мотивов в своей административной и военной деятельности. Опирался он при этом не на лесных братьев, а на «ортодоксальный» бирманский буддизм. К этому побуждал его ряд причин, в частности стремление к сохранению добрых отношений с Цейлоном. Подробности ослабления и исчезновения секты лесных братьев неизвестны; не исключено, что против нее были предприняты репрессии, которые окончательно доконали ее.
Следует отметить то внимание, которое уделял царь Байиннаун буддийскому культу. Он сам возглавлял публичные религиозные церемонии, строил пагоды и подносил им богатые пожертвования, много жертвовал в пользу цейлонской сангхи, приобретал за большую цену реликвии и мощи. В частности, он приобрел у монастыря в Канди знаменитый зуб Будды, который был, правда, лишь дубликатом подлинного; неизвестно, знал ли об этом благочестивый царь, или он был обманут столь же благочестивыми продавцами святыни.
Теснейшая связь бирманских государств с буддизмом нашла свое выражение при попытке португальского конкистадора Де-Бриту в начале XVI в. обратить в христианство монов королевства Пегу. В 1599 г. он воспользовался благоприятной обстановкой, чтобы захватить город Сириам и объявить себя там королем. Вначале Де-Бриту занимал дружескую позицию в отношении буддизма и держался на троне довольно прочно. Но, когда он перешел в своего рода наступление и принялся конфисковывать имущество у монастырей и пагод, а тем более когда начал насильственное обращение своих подданных в католицизм, он тут же лишился их поддержки. В 1613 г. войска араканцев напали на Сириам и фактически без сопротивления его жителей овладели им. Де-Бриту был взят в плен и с поистине религиозной, в частности буддийской, кротостью посажен на кол. Буддизм остался в Бирме непоколебимым устоем государства.
Это особенно ярко сказалось в период существования империи Конбаунов (1752–1885), когда после ряда столетий феодальной раздробленности вся Бирма представляла собой единую империю, в которой царствовали монархи указанной династии.
В религиозно-идеологическом плане незыблемость царской власти покоилась на учении о карме, по которому каждый человек перевоплощается после очередного акта сансары в таком положении, которое он заслужил своими деяниями в предыдущем существовании: в худшем случае он мог родиться черепахой, собакой, змеей, в лучшем — аристократом-богачом или даже царем. Какую карму заслужил человек своими деяниями, видно по тому, в каком положении он оказался в новой карме. И если он достиг царского трона, то такова карма, заслуженная им в предыдущем существовании. И верующему подданному остается только подчиниться. Такая концепция придавала царской власти большую моральную устойчивость. Цари, конечно, пользовались таким положением и, как это водится в абсолютных монархиях, возводили себя в высочайшие степени высокомерия и зазнайства. Достаточно того, что они титуловались чакравитинами, т. е. повелителями Вселенной.
Благочестивые буддийские цари не пренебрегали, однако, и той поддержкой, которую мог дать им индуизм. При дворе были в большом ходу ритуалы этой религии. На видных местах были расставлены статуи индуистских божеств. Коронация совершалась по причудливому смешанному буддийско-индуистскому сценарию; смешение доходило до того, что участвовавшие в коронационном шествии двенадцать пуна (брахманы) несли при этом питаку. В некоторых случаях царь сам проводил индуистские церемонии, например ритуальную пахоту. Он же совершал магические обряды вызывания дождя.
Династия Конбаунов окончательно подчинила себе сангху и закрепила это подчинение тем, что постепенно конфисковала ее земли и обратила их в государственную собственность. Работали на этих землях рабы, которые формально считались принадлежащими сангхе, но фактически плодами их трудов пользовалось государство. Внешне взаимоотношения сангхи и государства выглядят довольно противоречиво.
В Бирме сангха получила строго централизованную иерархию во главе с татанабайином (охранителем порядка). Его назначал царь, и в дальнейшем личности этих двух верховных руководителей были связаны: если царь умирал, то назначенный им татанабайин уходил со своего поста. И в то же время некоторые придворные обычаи были призваны показывать подчиненность светской власти сангхе. Так, если татанабайин приходил на аудиенцию к царю, тот сходил со своего трона и уступал его гостю, а тот давал хозяину поучения с высоты трона. Это, однако, была только видимость, ибо подлинным хозяином оставался царь. В глазах своих подданных-буддистов он был к тому же не только чакравартином — «повелителем Вселенной», но и предшественником нового Будды — Майтрейи. Полагалось верить в то, что в своем новом воплощении он и будет этим долгожданным персонажем. Парадоксальность и удивительная устойчивость религиозных верований сказались здесь в том, что постоянные провалы этих ожиданий не колебали самую веру, на которой они основывались.
Государственная власть активно вмешивалась и во внутренние вероисповедные дела сангхи, решала спорные догматические проблемы, подавляла возникавшие сектантские образования. Большой интерес представляет собой в этом плане и сама по себе судьба возникшей в конце XVIII в. секты зоди. Католический миссионер Мантегазза, живший в то время в Бирме, так описывает учение и судьбу сектантов зоди: «По их учению, мир был сотворен могучим На-том (один из богов добуддийского полидемонического пантеона. — И. К.)… Они отвергают пагоды, статуи, монастыри и монахов. Название «зоди» происходит от имени монаха Зоди… Сектантов преследовали и ранее ввиду их веры, но теперешний король, горячий поборник местного буддизма, решил стереть секту с лица земли одним ударом так же, как он покончил с другими отклонениями… Он схватил основных зоди, многие сдались, четырнадцать предпочли умереть, нежели притворяться в поклонении пагодам» 15. Есть сведения, что участники секты исповедовали ее вероучение и культ подпольно. Секта просуществовала после первой расправы с ней еще несколько десятилетий, пока не была окончательно задавлена жесточайшими репрессиями.
Если в споре сангхи с сектой зоди налицо были серьезнейшие разногласия вероисповедного порядка, то выглядит несколько курьезной борьба в сангхе по другому поводу — носить ли монашескую одежду на одном или на обоих плечах. А эта борьба разгорелась с большой силой во второй половине XVIII в.
Виная-питака предусматривала ношение монашеской тоги так, что она закрывала оба плеча. В начале XVIII в. нашлись в бирманской сангхе монахи и должностные лица, которые требовали того, чтобы одно плечо у монаха, просящего милостыню, было обязательно открыто. Сторонники той и другой позиции присвоили себе определенные названия: одни назывались «атан», другие — «арум». Разгорелась кровавая борьба между ними.
Вмешалась в нее, конечно, и государственная власть. Царь Алаунпая в середине века признал атанов, но его преемники изменили курс. В 1814 г. царь Бодопая организовал специальную дискуссию между приверженцами разных точек зрения. Ее тон может быть иллюстрирован высказыванием главы атановцев Айютомангала, который заявил: «Глава этих неправильно бритоголовых должен быть посажен в клетку и, подобно дикому зверю, отправлен вниз по реке. И тогда религия воссияет вновь» 16. Царь Бодопая признал единственно верным решением ношение тоги на обоих плечах, а с противниками такого решения обошелся так, как советовал Айютомангала; в частности, глава арумов Атулу был голым и, вероятно, связанным посажен в лодку и пущен по реке Иравади. Последовали затем массовые казни других приверженцев еретического учения, чем непогрешимость Винаи была неопровержимо доказана.
Надо полагать, что в основе борьбы между приверженцами различных способов ношения тоги существовали более важные противоречия, чем вопрос о форме одежды. Вероятно, сказалось то, что сторонниками ношения по Виная-питаке были монахи, ориентировавшиеся в политическом и религиозном планах на Цейлон, считавшийся блюстителем Типитакского направления, а их противники, наоборот, больше стремились к идеологической и вероисповедной независимости.
Уже незадолго до завоевания Бирмы англичанами чуть не разгорелась новая внутриисповедная борьба в бирманском буддизме. Некий монах Сая По, известный своей ученостью, выступил за коренные изменения в структуре и жизни сангхи. Он требовал ликвидации земельных и прочих богатств церкви, решительного изменения образа жизни ее служителей и чуть ли не возврата их к традиционно-нищенскому образу жизни. Сая По не успел создать свою секту.
Его схватили, подвергли осуждению на духовном форуме и выдали на расправу царю Миндону, который расправился с ним в истинно буддистском духе: еретика возили по городам Бирмы, всюду подвергая публичной порке, потом обезглавили, и в назидание другим тело его выставили на центральной площади.
Перед нами еще одна иллюстрация того, какие образцы нечеловеческой жестокости оставила любая религия в памяти человечества. Буддизм не уступает в этом отношении ни христианству, ни иудаизму, ни исламу.
Когда Великобритания вступила в длительную кровавую борьбу за порабощение Бирмы, народ оказал ей упорное сопротивление. Борьба против колонизаторов имела одним из своих основных идеологических лозунгов защиту буддизма как национальной религии Бирмы. Этому способствовало то обстоятельство, что вместе с предпринимателями и солдатами английское наступление открывало дорогу в страну многочисленным кадрам католических и протестантских миссионеров, всеми силами старавшихся совратить население Бирмы с пути буддизма. Сангха выступила против колонизаторов не только с проповедями, но и с оружием в руках. Большое количество ее деятелей в течение десятилетий воевало в партизанских отрядах, многие из них командовали этими отрядами и показывали образцы воинской доблести. Активность сангхи в борьбе против англичан в немалой степени возбуждалась и тем, что, захватив господство, они лишали ее земельных и прочих богатств.
При всем этом верхушка сангхи в лице татанабайины шла на переговоры с захватчиками, заключала компромиссные соглашения и в конце концов покорилась беспощадному насилию. В дальнейшем эта верхушка потеряла свое значение, и сама должность татанабайинов ряд лет оставалась незамещенной.
В развернувшейся в 20—30-е гг. нашего века национально-освободительной борьбе монастыри и монахи играли видную роль. Для характеристики значения религиозной идеологии в борьбе против англичан показательна клятва, которую давали участники подпольной освободительной организации талонов. Там содержалась, в частности, формула: «Мы объединились для того, чтобы изгнать всех неверных и освободиться от ига англичан… Я буду подчиняться своим руководителям для того, чтобы наша религия была спасена от неверных. О, великие и малые наты, помогите нашей религии и дайте нам добиться свободы, а царю талонов власти над нашей землей» 17. Обратим внимание на то, как в этой формуле сказались верования не столько буддизма, сколько до-буддийского полидемонизма. Наты — боги, но отнюдь не буддийского, а добуддийского пантеона. Что же касается самого наименования талонов, то слово это обозначает мифологическую птицу, убивающую дракона-нага.
КИТАЙ (18)
Время проникновения буддизма в Китай трудно установить. Несомненно лишь, что во II в. буддизм там уже занимал прочные позиции; его принесли монахи-проповедники из Индии и из Центральной Азии. Разнородность источников китайского буддизма обусловливала и двойственность его вероисповедного характера: вначале были и хинаянистская и махаянистская его разновидности. В дальнейшем различие между этими направлениями здесь стерлось, как в силу того, что первое, теряя своеобразие, все больше приближалось ко второму, так и в силу процесса, который советский исследователь Л. С. Васильев назвал китаизацией буддизма 19.
Вначале проповедниками новой религии в Китае были иноземцы. С середины III в. началось регулярное посвящение в монахи самих китайцев. К этому времени уже существовали монастыри, на китайский язык были переведены десятки сутр и другие сочинения буддийской литературы. В течение ближайших столетий буддизм завоевывал все большее количество приверженцев. В конце V в. в Южном Китае было уже около 2 тыс. монастырей, где «спасалось» 32 тыс. монахов и послушников, в VI в. монастырей было уже 2846, а их обитателей — 82 700 человек. На севере страны к VII в. насчитывалось 30 тыс. монастырей и около 2 млн монахов и послушников 20. Наряду с мужскими монастырями появились и женские.
Государственные власти относились сначала выжидательно и пассивно к распространению буддизма, но уже в конце IV в. император Сяо Ди объявил себя буддистом и построил лично для себя дворцовый храм 21. Таким образом, буддизм стал государственной религией, правда, без того монопольного права, которым в других случаях пользуется государственная религия. В дальнейшем отношение государства к буддизму в Китае колебалось от наибольшего благоприятствования в одни эпохи до запрещения и преследований в другие. Период V–VIII вв. считается «золотым веком» китайского буддизма. Тем не менее на отдельных этапах его последователи подвергались ограничениям и даже преследованиям. Это происходило тогда, когда возраставшие экономическая мощь и идеологическое влияние буддийской религии ставили под угрозу силу светской власти в Китае, а богатство монастырей и храмов разжигало аппетиты императоров. В таких случаях большое количество монастырей и храмов закрывалось, их имущество, и прежде всего земли, подвергалось секуляризации, монахи лишались податных и прочих привилегий. Подобные меры были приняты в 446 г. императором У Цзуном 22.
Сильный удар был нанесен буддизму императорскими указами, датируемыми 842–845 гг.23 Ими предписывалось обращение в светское состояние огромного количества монахов, не удовлетворявших сформулированным в указах требованиям; в общем число «расстриженных» представителей духовенства (после возвращения к светской жизни им предоставлялась возможность растить волосы) достигало 260 тыс. Монахи, сохранявшие свое положение, обязаны были личное имущество сдавать в казну. Количество рабов, которое оставлялось при сохранившихся монастырях, строго ограничивалось и резко сокращалось: при каждом монахе оставался один раб, при монахине — две рабыни. Бронзовые статуи будд и других богов переплавлялись в монету, из железных изготовлялись сельскохозяйственные орудия, драгоценные металлы поступали в казну.
Золотой век китайского буддизма кончился, но сам буддизм не только не исчез в этой стране, а временами достигал новых успехов. Подъемом, в частности, были ознаменованы XIII–XVI века, когда в Китае господствовала монгольская династия. Хубилай-хан не только принял буддизм, но и распорядился уничтожить даосские произведения, полемизировавшие с ним 24. В XIII в. в Китае вновь было около 40 тыс. монастырей и храмов с 400 тыс. монахов и 61 тыс. монахинь25. Тем не менее в силу ряда причин буддизм в дальнейшем не занял в Китае господствующего положения. Его соперники — даосизм и в особенности конфуцианство — оказались сильнее. Дело даже не в том, что спорадически те или иные императоры выступали с указами, направленными против буддизма; так, изданный в 1662 г. императорский указ осуждал буддизм за неосновательность проповедуемых им идей. Главная причина того, что буддизм не стал в Китае господствующей религией, заключается в той гибкости, которую проявили к нему аборигенные религии Китая — даосизм и конфуцианство 26.
С начала распространения буддизма в Китае идеологи даосизма и конфуцианства проявляли к нему полную терпимость. Больше того, они даже использовали ряд элементов буддийского вероучения и культа в своем религиозном обиходе. Сам Будда был включен в даосский пантеон, где занял место рядом с Хаунди и Лао Цзы. Значительно меньшей была готовность конфуцианства к синкретизации с буддизмом, но серьезного сопротивления этому процессу оно тоже не оказало.
Буддийские проповедники иногда пытались отмежеваться от исконно китайских религий. Один из крупных буддистских деятелей, Хуэй Юань, живший в IV в., заявил, что в сравнении с буддизмом конфуцианство, даосизм, как и все остальные учения, представляют собой лишь отбросы. Все же и он был не прочь включать в свои сочинения даосские и конфуцианские термины и идеи. А в общем буддизм тоже не уклонялся от синкретизации с другими религиями, что значительно облегчало ему борьбу за распространение и особенно за влияние на народные массы 27.
Если эта синкретизации оказывалась возможной на богословско-философском уровне, то тем легче она осуществлялась в культовом обиходе и в сознании широких масс верующих: немалое количество храмов посвящено одновременно буддистским, даосским и даже индуистским божествам. Правда, в этих храмах изображения небуддистских божеств и святых занимают несколько подчиненное положение: если Будды стоят, то другие сидят и т. д. Тем не менее мирное сожительство богов разных религий символизирует сосуществование самих этих религий.
«Миролюбие» даосизма и конфуцианства в отношении буддизма облегчило последнему выживание и приспособление к условиям Китая. Но в периоды, когда буддизм достигал особой силы и начинал предъявлять претензии на монополию, возникала острая борьба между религиями. И в ходе истории коренным китайским религиям удавалось помешать буддизму занять господствующее положение.
Этому способствовало еще и то, что, проникнув в Китай, буддизм стал подвергаться процессу «китаизации» как в идеологии и догматике, так и в культе. Перевод священных книг на китайский язык не мог не повлечь изменения в его идеях, ибо специфическая буддийская терминология выражалась на китайском языке привычным даосским лексиконом. Со временем все большее влияние на буддизм оказывало конфуцианство, и здесь дело было уже не в одной терминологии. В специфически китайском духе менялся пантеон буддизма, преобразовывались представления о сверхъестественном мире, об угодном богам поведении людей, о «надлежащем» культе.
Сам Будда все больше отходил на задний план, уступая место, правда, не даосским богам, но буддистским же бодисатвам, претерпевшим в условиях Китая специфические изменения. Интересен приводимый в монографии Л. С. Васильева подсчет количества изображений разных богов в храмовом комплексе Лунмыня: «Если в VI–VII вв. в дотанском Китае великий Будда по традиции еще стоял на первом месте (ему было посвящено 43 надписи, Майтрейе — 35, остальным еще меньше), то, начиная с Тан, картина изменилась. На передний план вышли типично китайские, т. е. получившие особую популярность именно в китайском буддизме Амитаба и Гуань Инь. В результате общий подсчет количества изображений и надписей в том же храмовом комплексе Лунмыня, который формировался в основном с V по IX в., дал следующие результаты: число надписей, посвященных Будде, в храмах Лунмыня равно 94, тогда как на долю Амитабы приходится 222, на долю Гуань Инь— 197. Только Майтрейя по-прежнему уступал Будде — ему посвящены 62 надписи» 28.
Каким образом буддийские боги меняли свой облик и характер на китайской почве, можно видеть на примере Майтрейи. В китайском варианте этот грядущий Будда превратился в толстобрюхого идола с несколько идиотической улыбкой; по исконно китайским представлениям, большой живот должен был символизировать богатство и довольство, которые будущий приход Майтрейи на землю принесет людям. Другие буддийские боги тоже получали в китайском варианте функции, далекие от метафизической бесплотности и от стремления к нирване; в частности, Амитаба должен был обеспечивать верующим посмертные райские удовольствия. Примечательную эволюцию пережил образ Авалокитешвары. Около VIII в. он превратился в богиню, по имени Гуань Инь, функцией которой являлось покровительство материнству и младенчеству, лечение от бездетности, а также доставка душ умерших в рай, глава которого Амитаба считался отцом этой богини. Вообще Гуань Инь воплощала в своем облике милосердие и благожелательность, уравновешивавшие в фантазии верующих психологическую нагрузку от чудовищных драконов, которых в буддийском пантеоне было много, особенно в его тибетском варианте, проникавшем в Китай не менее интенсивно, чем южный хинаянистский.
Идолопоклонническая фетишистская сущность буддийского культа богов нашла в Китае особенно яркое выражение. Буддийские храмы были здесь больше, чем где бы то ни было, заполнены статуями богов, которым воздавался фетишистский культ. При освящении нового идола ему смазывали глаза, рот, нос, уши, а иногда руки и ноги кровью или красной краской. Беттани сообщает о таких особенностях культа богов-идолов в Северном Китае, особенно в Пекине: «Принято всякие статуи, медные, железные, деревянные или глиняные, снабжать внутренними органами, согласно китайским, не совсем, впрочем, правильным, понятиям об анатомии; но головы у них всегда делаются пустыми (!). Брюшные органы окутаны большим куском шелка, исписанным молитвами или заклинаниями, и состоят из мешка с золотом, серебром, жемчугом и пятью главными сортами зерна»29. По существу здесь нет отличия от первобытного фетишизма и идолопоклонства.
Сообщая эти и многие другие материалы о китайском буддизме, Л. С. Васильев пишет, что у крупного зарубежного ученого де Гроота вызвала удивление противоречивость буддийской идеологии в ее китайском варианте. В частности, оказывается, что в китайских источниках содержится немало упоминаний об участии буддийских монахов в военных действиях.
Это-де никак не согласовывается с буддистскими заповедями «не убий», «не тронь ничего живого» и т. д. Примирение противоречия или, как, кажется, считает вслед за де Гроотом и Л. С. Васильев, «необычного несоответствия» оказывается возможным благодаря одному тексту из писаний буддийского писателя начала V в. Кумарадживы. Он усмотрел в призыве к сохранению всего живого санкцию «в вооруженной борьбе отстаивать… подвергаемых опасности людей»30. Это объяснение выглядит наивным. «Несоответствие», так поразившее де Гроота, является правилом почти во всех религиях. Расхождение одних верований с другими является для буддизма не исключительной чертой, а, наоборот, прямо характеризующей его, как и всякую другую религию.
Выше уже говорилось о том месте, которое заняли в китайско-буддистских верованиях представления о рае; в соответствии с ламаистским учением он именовался «западным раем» — Сукавати, — полным всяких земных благ. Несовместимость этого представления со всем духом буддизма и его ориентацией на нирвану подчеркивается еще и теми приемами, которыми верующий рассчитывал обеспечить себе место в раю. Кроме культовых обрядов группа верующих связывалась союзом и общей, данной друг другу клятвой: кто первый попадет в Сукавати, должен сделать все от него зависящее, чтобы при помощи непосредственных ходатайств перед Амитабой или другими способами добиться такого же места и для своих товарищей по братству. До норм буддистской или какой бы то ни было иной добродетели здесь довольно далеко.
Как известно, буддийские монахи именовались бхикшу — нищие. Они должны были питаться подаянием, ходить в лохмотьях, не есть мяса и т. д. В Китае эти установления приняли довольно забавный вид. Пройдя по городу с чашей для подаяния и собрав в нее несколько горстей рису, монах приносил его в монастырь, там он поступал в общий котел, где готовилась пища для рабов и младших послушников; сами же «нищие» вкушали обильный обед, тем временем приготовленный для них в монастырской кухне. Чтобы выполнять предписание о ношении лохмотьев, подвижники разрезали свои дорогие шелковые одежды и сшивали их.
Заповедь о равенстве людей и о всеобщем милосердии находила свое «воплощение» в существовании монастырского рабства. Рабы, безвозмездно трудившиеся для прокормления монахов, состояли из государственных преступников, из людей, купленных монастырем у других владельцев, а также детей, проданных в рабство. Таким образом, религия, в которой проповедовалась любовь к ближнему, поощряла самые бесчеловечные нравы современной ей эпохи, а идеологи этой религии пользовались такими нравами для своего благоденствия и обогащения.
В истории китайского буддизма сказывалось его взаимовлияние с даосизмом и конфуцианством, особенно в той форме, которую последнее приняло в развивавшемся с XI в. неоконфуцианстве. Боги беспрепятственно кочевали из одного пантеона в другой, таким же образом мигрировали и представления о потустороннем царстве, и морально-этические нормы. Некоторая разнородность трех взаимодействовавших религий не только не мешала их сосуществованию, а, наоборот, создавала возможность известного разделения сфер влияния: конфуцианство больше распространялось на этику и социально-политическую жизнь, даосизм поставлял фантастико-мифологический материал, буддизм удовлетворял потребность людей в религиозном утешении.
Синкретизация трех религий была различной на двух уровнях религиозности: богословско-философском и народно-культовом. Там, где рассматривались тонкости догматики, произносились проповеди для посвященных, сочинялись богословские трактаты, обучались будущие проповедники и богословы, различия между религиями оставались в силе. То обстоятельство, пишет Л. С. Васильев, что все три учения дожили до наших дней как раздельные доктрины31, связано в значительной степени с тем, что различия между ними сохранялись на высшем уровне религиозной жизни. На нижнем же уровне синкретизм господствовал безраздельно. Верующий одинаково относился ко всем трем религиям и не всегда видел их различие. Он мог явиться в храм любой из них и обратиться через священнослужителя за помощью к любому из богов, принеся ему соответствующую жертву, курение, молитву и т. д. Л. С. Васильев считает, что здесь возник комплексный народный культ, который не мешал не только раздельному существованию трех религий, но и дальнейшему их дроблению.
В каждой из этих религий, особенно в буддизме, на всем протяжении их существования образовывались различные школы, секты, направления, которые в отличие от западных религий того же времени не вступали в борьбу между собой, а мирно сосуществовали. В китайском буддизме особое распространение получили секта «чань» (то же, что японская «дзэн») и секта воздававших особое поклонение Амитабе, обычно именуемая в литературе амитаистской сектой или амитаизмом.
По имеющимся небесспорным данным, основанным на традиционных представлениях, чань-буддизм был занесен в Китай индийским монахом Бодхихармой в начале VI в. в виде учения о дхиане, т. е. медитации, внутреннем сосредоточении, приводящем к просветлению. По преданию, Бодхихарма заявил китайскому императору У Ди, что вся его благочестивая деятельность по поддержке сангхи, по строительству монастырей и пагод, по выполнению обрядов представляет собой совершенно ненужную жизненную суету, а главное заключается во внутреннем состоянии человека. Независимо от того, верны ли предания о Бодхихарме, заметным общественно-идеологическим явлением чань-буддизм стал значительно позже, в период деятельности Шань Сю, т. е. в VII в.
Содержание учения чань-буддизма с трудом поддается приведению в некую систему и его изложению в этой системе. Определенно различаются между собой северное и южное ответвления чаня. Если первое мало чем отличалось по своему содержанию от других направлений китайского буддизма, то второе ушло в сторону от них и по существу превратилось в самостоятельную буддийскую секту.
Своего рода программным документом южного чань-буддизма явилось произведение Хуэй Нэна «Сутра шестого патриарха», появившаяся в VII в. В основе ее лежал исходный пункт всего чань-буддизма — учение о невозможности выразить истину человеческим языком, о бессилии слова и интеллектуальных усилий, выражаемых в словесных формулах, дать человеку истинное знание. Нам представляется, что глубокомысленные философские рассуждения чань-буддистов, приводимые в литературе, надо трактовать именно как направление к доказательству бессмысленности и беспомощности слова и словесных рассуждений.
Ставятся вопросы, нелепые с точки зрения здравого смысла и бессмысленные по существу: «Удар двумя ладонями — это хлопок, а что такое удар одной ладонью?»; «Допустим, что ты умер, твое тело сожгли, а пепел развеяли по воздуху, — где ты после этого будешь?» Такая словесная акробатика при помощи «коанов» — трудных вопросов — демонстрировала именно ненужность рационалистического мышления при помощи вербального аппарата. Не нужно рассуждать о нирване и сансаре, о грехе и добродетели, ибо это занятие бесполезное. Больше того, некоторые из проповедников чань-буддизма яростно нападают на тех идеологов, в том числе и на Будду, которые внушают верующим какие-то позитивные взгляды и догматы. Один из этих проповедников, И Сюань, так наставлял своих последователей: «Убивайте всех, кто стоит на вашем пути. Если встретите Будду, убивайте Будду. Если встретите патриархов — убейте патриархов, если встретите на вашем пути архатов — убивайте их тоже»32. Надо полагать, что такой экстравагантный призыв был рассчитан на тот случай, если «встреченный» пытался рассуждениями обратить встретившего в ортодоксальный буддизм, выраженный в форме словесной проповеди.
А что же вместо нее, вместо рационалистически сформулированной догматики? Просветление как внутреннее переживание — «да-у». Впрочем, и это состояние сознания может быть выражено в словах, но это будут какие-то бессмысленные слова, может быть, междометия, восклицания, не связанные в один речевой поток, или бессмысленные утверждения, не являющиеся ответом на заданный вопрос или даже не связанный с ним. Приведем типичный диалог. Вопрос: «Куда ушел Нансен после смерти?» Ответ: «Когда Сэкито был еще послушником, он увидел Шестого патриарха» 33. С точки зрения данной концепции чань-буддизма — можно в этом смысле говорить не о чань-буддизме в целом, а о той или иной концепции его — разумная, логически связанная и последовательная речь будет «мертвым словом», а беспорядочную болтовню или набор бессмысленных междометий следует считать «живым словом». Если человек к нему прибегает, значит, он либо достиг уже состояния просветления, либо находится на пути к нему.
А как достичь этого вожделенного состояния? Разные концепции чань-буддизма рекомендуют разные пути к этому. На первом плане здесь стоит медитация, погружение в самого себя. Не следует думать, что имеются в виду углубление в размышление, интенсивная внутренняя духовная жизнь. Нет, надо просто, расслабив все свои члены, устремить взгляд в одну точку, например в собственный пуп, сидеть неподвижно и ни о чем не думать, можно и не сидеть, а находиться в другой позе, лишь бы не двигаться, исключив свое сознание. Все дело в том, чтобы дождаться некоего озарения, просветления, вышеуказанного «да-у», которое должно грянуть внезапно. Можно наступление этого момента ускорить со стороны, оказав какое-то действие на ищущего просветления — толкнув его, ударив, испугав криком и т. д.
Нельзя не признать, что здесь перед нами вершина религиозного иррационализма. В других формах религиозного культа можно, став на позицию религиозного вероучения, найти какие-то элементы последовательности. Например, в молитве человек обращается к сверхъестественному существу с просьбой о помощи. Это тоже в достаточной мере нелогично, потому что это мнимое сверхъестественное существо, как считает верующий, все само знает, что кому нужно, и к тому же оно абсолютно справедливо, так что без всяких напоминаний ему и без всяких указаний о виде молитвы должно сделать все как надо. И все-таки какой-то элементарный смысл в действиях молящегося есть: он обращается к всевышнему так, как обратился бы к любому земному начальству с жалобой или просьбой. В случае же с чань-буддистским стремлением к просветлению невозможно обнаружить даже тень какого-либо смысла.
Достичь этого просветления — значит сразу, одним рывком поймать наивысшую истину. Никак нельзя понять, чего касается эта истина, к чему она относится, знание чего она дает. Мира, человека, самого себя? Нет, ибо ничего этого не существует, все есть с точки зрения самого же чань-буддизма пустота. Знание о пустоте есть, конечно, не что иное, как пустота.
При всем этом нельзя не отметить, что в ряде важнейших жизненных вопросов чань-буддизм занимает более здравые позиции, чем ортодоксальные направления этой религии. Он отвлекал верующих от рассуждений о Будде и потусторонней жизни и ориентировал их на участие в реальной жизни. В частности, он провозгласил иное, чем это было принято в старом буддизме, отношение к труду. Если до этого буддизм считал труд совершенно неподходящим занятием для монаха, то чань-буддизм, наоборот, провозгласил обязанность монахов трудиться. Весь жизненный распорядок в чаньских монастырях был в середине VIII в. перестроен с расчетом на то, что их обитатели должны непрестанно работать, исходя из лозунга, по которому «день без работы — день без еды». В то же время чань-буддизм выступал против погони за наживой и за накоплениями.
ЯПОНИЯ (34)
Проникновение буддизма в Японию датируется серединой VI в. По преданию, в это время из Кореи на Японские острова прибыло несколько буддийских монахов, привезших с собой изображения Будды и некоторые книги Священного писания35. Видимо, однако, помимо Кореи источником буддийских идей для Японии служили и другие страны, в том числе Индия, так как эти идеи были не только махаянистскими, но и хинаянистскими.
В Японии того времени различные феодальные кланы боролись между собой за власть. Они старались использовать в своей борьбе и религию: некоторые монополизировали в этих целях жреческие функции в местных старинных культах, другие пытались ориентироваться на новые веяния и вновь возникающие культы. Последние с интересом отнеслись к появившемуся в стране буддизму.
Когда в конце VI в. властью в стране овладели ставленники клана Сога, уже принявшие буддизм 36, для распространения новой религии возникли благоприятные условия. В 604 г. принц-регент Сётоку Тайси опубликовал законодательный кодекс из 17 отдельных указов, из которых второй повелевал населению почитать три буддийские святыни — Будду, дхарму (учение) и сангху (общину, церковь) 37. Он всячески поощрял распространение буддизма в стране, строил храмы, руководил изготовлением священных изображений и их расстановкой в крупнейших святилищах.
К 621 г. в Японии насчитывалось 46 буддийских монастырей и храмов, 816 монахов и 569 монахинь38. В 685 г. был издан императорский указ, фактически возводивший буддизм в положение государственной религии. Согласно указу, во всех государственных учреждениях должны были быть воздвигнуты алтари с изображением Будды39. В 741 г. император Синму распорядился о постройке буддийских храмов в каждой провинции. Кодекс законов, изданный в 702 г., устанавливал равные для буддийских и синтоистских храмов нормы наделения землей. Таким способом было выражено равноправное положение старой аборигенной для Японии религии синто и сравнительно недавно завезенного буддизма.
Это равное положение было оформлено в указе, изданном императрицей Сётоку в 765 г. Указ был настоящим богословским трактатом. Императрица провозглашала свою верность «трем сокровищам» буддизма— Будде, его вере и общине40. Тут же, однако, она изьявляла свою преданность и синтоистским богам. Богослов-законодательница полемизировала со взглядом, по которому синтоистские боги не связаны с буддизмом, наоборот-де, в сутрах говорится, что боги сами исповедуют учение Будды. Практическим выводом из этих вероисповедных положений являлось указание буддийским монахам и синтоистским жрецам о совместном участии в богослужениях и празднествах. Установился своего рода компромисс между синтоизмом и буддизмом 41.
В указе императрицы Сётоку нашло отражение распространившееся представление о том, что синтоистские божества являются лишь перевоплощением буддийских богов и святых, а некоторые из этих божеств (ками) рассматривались даже как бодисатвы, т. е. не рядовые, а достигшие просветления и перевоплощения.
Идеологи буддизма не препятствовали синкретизации его с синтоизмом. Это была гибкая тактика, ибо вместо того, чтобы вести трудную борьбу за преодоление глубоко укоренившихся синтоистских культов, буддизм мог использовать их для своего укрепления и распространения. Благодаря такой тактике и ряду других благоприятных обстоятельств буддизм в IX–XI вв. достиг не только официального статуса государственной религии, но и вообще господствующего положения в Японии.
Япония покрылась густой сетью буддийских монастырей, представлявших собой большую экономическую, политическую и даже военную силу. Им принадлежали огромные земельные владения вместе с трудившимися на этих землях рабами и крепостными. При многих монастырях существовали вооруженные отряды наемников, которые под командованием монахов не только охраняли имущество служителей божиих, но и выполняли более агрессивные функции. Известно, что, когда некоторые монастыри обращались к правительственным органам по какому-нибудь делу, они вместе с ходатаями направляли к соответствующему учреждению и вооруженный отряд. Такая практика была широко распространена в XI в.
В дальнейшем монастырские вооруженные отряды стали использоваться для внутренней борьбы между разными буддийскими сектами, базировавшимися в том или ином монастыре. Советские авторы С. А. Арутюнов и Г. Е. Светлов пишут: «Монастыри превратились в настоящие крепости, которые наводняли вооруженные монахи. Отряды монахов одних сект нападали на монастыри других сект и подвергали их разграблению. Так, в XV в. монахи секты Тэн-дай спустились с горы Хиэй, ворвались в Киото и сожгли монастырь секты Син, перебив значительную часть его обитателей. 1532 год стал свидетелем ожесточенной вооруженной борьбы между сторонниками Тэн-дай и Нити-рэн, в которой последние потерпели поражение. Монахи по сути дела превратились в банды вооруженных разбойников, враждовавших друг с другом, терроризировавших население, разорявших страну так же, как и банды светских феодалов» 42. В теории эти вооруженные разбойники, конечно, придерживались якобы буддистских правил поведения, предписывавших полный отказ от мирских благ и решительное запрещение не только убийства чего бы то ни было живого, но и нанесения ему какого-нибудь вреда.
Как и в других странах, буддизм в Японии распространился в виде многочисленных направлений, сект, толков, школ. Пожалуй, в Японии это многообразие буддийских разветвлений было еще более пестрым, чем в других странах распространения буддизма. Здесь шло к тому же непрерывное движение: одни секты (будем применять этот термин, хотя он и не выражает с достаточной точностью всего многообразия данных явлений) возникали, другие исчезали, третьи проникали из других стран. В итоге выделилось несколько сект, завоевавших наибольшее количество приверженцев; среди них следует отметить Тэн-дай и Сингон, а также ряд сект, объединяемых общим наименованием амидаистских. В XII–XIII вв. большое распространение получила завезенная из Китая секта Дзэн (Чань) 43. Остановимся на характеристике некоторых из них.
В начале XII в. возникла первая секта из группы относящихся к амидаистским. Основой этого названия является трансформированное по-японски имя одного из махаянистских Будд — Амитабха; у японских буддистов оно получило форму Амида-буцу. По представлениям его поклонников, Амида является господином «чистой земли» — потусторонней райской обители для праведников (у дзёдо). Почитатели бога Амиды делились на два толка: «Дзёдо-сю» — «секта чистой земли» и «Дзёдо Син-сю» — «истинная секта чистой земли». Объединили их общая вера в Амиду как верховное божество и обязательство непрестанно повторять молитвенную формулу, носившую характер заклинания: «Наму Амида-буцу», что значит «О, Будда Амида!». По преданию, некоторые наиболее рьяные поклонники Амиды повторяли эту формулу до 70 000 раз в сутки. Монахи собирались группами и толпами в монастырях и непрерывно хором повторяли свое «Наму»; рекомендовалось при этом еще приплясывать и звонить в колокола. Независимо от того, какой жизнью живет тот или иной человек, если он непрестанно повторяет «Наму», ему гарантировано место в раю Амиды. Одному из идеологов амидаизма, Дзендо, приписывается такой призыв: «Повторяйте лишь имя Амида, вкладывая в это всю свою душу, не переставайте повторять ни на мгновение — ходите вы или стоите, сидите или лежите. Это обязательно принесет спасение»44.
Конечно, формула «Наму» представляет собой ярко выраженный образчик колдовского заклинания. Впрочем, и в других так называемых высших религиях, в том числе и в христианстве, таких молитв, ничем не отличающихся от заклинаний, достаточно много. Технология подсчета количества произнесенных заклинаний — при помощи четок — тоже аналогична.
В состав форм религиозного поведения, обеспечивающего верующему потустороннее спасение, у приверженцев амидаистских сект входили и добродетельные поступки. Здесь вовсе не имелись в виду поступки, характеризующие нравственный облик человека: его трудолюбие и миролюбие, доброта и отзывчивость в нужных случаях. Подразумевались ритуальные «добрые дела» — «кудоку», охватывавшие различные виды благочестивой деятельности: переписка священных книг, изготовление моделей буддийских храмов, а также изображений будд в виде статуэток и портретов на бумаге или ткани, особенно с надписями «Наму». Эта практика имела громадное распространение; некоторые верующие в течение своей жизни изготовляли десятки тысяч таких фетишей и на этом основании считали место в райских чертогах заранее себе забронированным независимо от своего жизненного поведения или морального облика.
В дальнейшем появились новые толки амидаистской секты, в частности группа, известная под названием Дзи — «Время» (XIII в.). В общем амидаистская секта получила большое распространение в Японии и стала одной из наиболее многочисленных среди всех направлений буддизма.
Не меньшее распространение получила секта, название которой связано с именем ее основателя Нитирэна (1222–1282). В отличие от идеологов других буддийских сект, для которых была характерна известная терпимость в отношении к другим сектам, Нитирэн выступил с решительным осуждением всех несогласных с ним и с категорическим требованием ко всем следовать его учению.
В учении и деятельности Нитирэна проглядывают отчетливо выраженные социальные мотивы, заключавшиеся в требовании установления «справедливости» в отношениях между людьми. Эти мотивы сказывались и в самом религиозно-догматическом учении данной секты. Нитирэн проповедовал, что Будда присутствует во всех элементах мироздания, в любой частице Вселенной, в любом человеке и что для реального превращения человека в собственно Будду не нужно, чтобы он был «благородного происхождения» или чтобы был высокообразованным. Это давало секте притягательную силу в глазах широких народных масс и обеспечило ей довольно большое распространение.
При всем этом добиться своей цели — объединения разрозненных буддийских сект и толков Японии под своей гегемонией Нитирэн и его последователи не смогли. В некоторой степени здесь, вероятно, сыграли роль те преследования со стороны государственной власти, которым подверглись и сам Нитирэн, и его последователи.
Особо большое значение и распространение получила в Японии та разновидность буддизма, которая в Китае именовалась чань-буддизм (у японцев трансформировалась в дзэн-буддизм) 45. В Японию секта проникла через Корею в XIII в. и быстро завоевала поклонников. Ее догматическое содержание в основном совпадает с содержанием китайской чань. То же отрицание возможности познания рациональным путем и передачи каких бы то ни было знаний при помощи слов и речевых оборотов, установка на непосредственное взаимообщение духовного мира людей. Как и в чань, единственной целью человека и всей его деятельности провозглашалось просветление, в японской терминологии — сатори, непосредственное озарение. «Деятельность», могущая привести к сатори, вернее, бездеятельность, должна проходить в полной неподвижности: человек долгие часы сидит, поджав под себя ноги, стараясь ни о чем не думать и в крайнем случае сосредоточив внимание на одном из органов своего тела. В монастырях и школах, где послушники и ученики проходили курс «дзадзэн», господствовала жестокая дисциплина: сидевший в общем ряду в течение многих часов «просветляемый» подвергался ударам палки духовного наставника при малейшей попытке пошевелиться. Казалось бы, именно в дзэне должны были с наибольшей яркостью выразиться отрыв буддизма от жизни, абстрактность и аскетичность всего вероучения. Но как раз дзэн оказался той религиозной философией и практикой, которая в наибольшей степени соответствовала интересам феодального самурайства, а впоследствии — и японской буржуазии. Дух покорности и бессловесного подчинения, самодисциплины, физической выносливости, который культивировался дзэном в народных массах, вполне устраивал господствующие классы Японии на разных ступенях ее истории. Поэтому дзэн прочно вошел в идеологический обиход Японии, оказав влияние не только на политическую и военную идеологию, на литературу и искусство, но и на специфически японские виды спорта, например борьбу дзюдо. Разумеется, первоначальный смысл сатори с его пассивным молчаливым самоуглублением остался в области чистой теории.
Расхождения между различными сектами приобретали важное практическое значение, когда дело касалось тактики в отношениях с другими религиями — с синтоизмом и японским вариантом конфуцианства, а также взаимоотношений между различными буддийскими же сектами. Одна из таких сект (Сингон), например, проповедовала наибольшую терпимость в отношении синтоизма; в ее вероучение входило пантеистическое положение о том, что «все есть Будда» и что, следовательно, ничто не должно исключаться из этого вселенского комплекса; стало быть, и синтоистские боги должны были в него включаться. Именно деятельность сингон и сыграла главную роль в сближении и частичном слиянии буддизма с синтоизмом. И наоборот, Нитирэн проповедовал воинствующую нетерпимость в отношении к инакомыслящим: он именовал их предателями и дьяволами, призывал уничтожить всех иноверцев. Что же касается буддийского запрета убивать, то он легко согласовывался с призывами Нитирэна при помощи «убедительного» аргумента о том, что уничтожение неправильно верующего не есть убийство46.
Различие интересов социальных и политических группировок находило свое идеологическое выражение в оттенках догматики многочисленных сект буддизма. При этом здесь не было прямой зависимости между смыслом того или иного из этих оттенков и интересами соответствующей группировки, значение имело лишь то обстоятельство, что борющиеся стороны выбирали то или иное вероучение в качестве своего отличительного признака, девиза, символа. Еще большее значение имели детали культа, в особенности произносимые верующими молитвенные, а по существу магические формулы. Для сторонников амидаистской секты Юдзу Нэмбуцу в XII–XIII вв. залогом спасения верующего было, как учил основатель секты Хонен, повторение имени Амида в формуле «Наму Амида-буцу!».
Для Нитирэна формула «Наму Амида-буцу!» была греховной. Каждое ее повторение он рассматривал как долженствующее принести человеку многие годы адских мучений. Нитирэн требовал от верующих столь же неустанного повторения другой формулы — единственно спасительной: «Наму ме хо рэнге ке!», которая переводится примерно так: «О, Сутра лотоса таинственного закона!» 47 Ясно, что для верующих, которые должны выбирать между разными спасительными формулами единственную, главное заключалось не в их смысле, которого фактически нет ни в одной из них, а в том, кто защищал ту или другую из них и на позицию какой группировки становится человек, принявший ту или иную формулу.
В период с XII по XIII в. буддизм занимал в Японии положение не только государственной религии, но и весьма влиятельной в экономическом и политическом отношении силы. Он сохранял такое положение при помощи гибкой тактической линии. В раннее средневековье буддизм был таким же оплотом императорской власти, как и синтоизм, в вероучении которого культ императоров занимал центральное место. Когда в 1192 г. Япония оказалась под властью сёгунов, а императорская власть превратилась в фикцию, буддизм сумел быстро перестроиться и взять на себя идеологическое обслуживание новой формы политического господства феодалов. Междоусобицы внутри феодального лагеря, длившиеся на протяжении XIV–XVI вв., создали для буддийских монастырей благоприятное положение. Выступая в качестве арбитров между различными феодальными кликами, принимая военное участие в междоусобных войнах, они сильно обогатились и постепенно превращались в решающую политическую силу. Так длилось до тех пор, пока во второй половине XVI в. не возобладали процессы, ведшие к объединению Японии. Крупный феодальный властитель Ода Нобунага, стоявший во главе объединительного движения, усматривал в положении буддийской церкви одну из сторон той феодальной раздробленности, которая вообще царила в стране. Он предпринял ряд военных операций против наиболее крупных и богатых монастырей, в частности в 1571 г. разрушил монастырь на горе Хиэй. В дальнейшем были истреблены десятки тысяч буддийских священнослужителей 48.
С этого времени буддийская церковь перестала играть в Японии роль самостоятельной политической силы. В новых условиях она еще более верно служила властвовавшим над народными массами феодалам клана Токугава, захватившим сёгунатство в 1603 г. и удерживавшим его до переворота Мэйдзи в 1868 г. Со своей стороны сёгуны понимали, какое важное место может занимать буддизм и его духовенство в той системе классового угнетения, которую представляло собой японское феодальное общество. Они обеспечили ему это место законодательными мероприятиями.
Синтоизм был для сёгунов несколько менее приемлем, поскольку был тесно связан с культом императоров. Но о запрещении или вытеснении синтоизма не могло быть и речи, ибо это было бы связано с сильными социальными потрясениями. Целесообразнее была избранная сёгунами тактика соединения синтоизма и буддизма при гегемонии последнего. Строились храмы синто-буддистского назначения, священники тоже облекались двойственными полномочиями. Официальным статусом объединенной церкви оставался все же буддизм.
Положение буддийской церкви в стране было зафиксировано специальными узаконениями токугавских сёгунов 49. В соответствии с ними каждый японец был прикреплен по месту жительства к определенному буддийскому приходу, причем не имела значения принадлежность храма и верующего к той или иной из сект. Государственное положение гражданина оформлялось документом, который выдавался ему приходским храмом. Посещение храма по определенным праздникам было обязательным. Вся повседневная жизнь человека находилась под контролем приходского священника: без его позволения человек не мог вступить в брак, отправляться в путешествие и т. д. Неподчинение священнику или другое нарушение религиозной дисциплины могло повлечь за собой отбор документа, что ставило человека в тяжелое положение.
Таким образом, буддийская церковь превратилась в важную часть государственного аппарата Японии. Это была в полном смысле слова духовная полиция, при помощи которой сёгунат держал под контролем не только жизнь и деятельность подданных, но и их мысли.
К этому времени в Японию стали проникать европейцы, пытавшиеся вести проповедь христианства. Одновременно с официальным узаконением буддизма был издан указ о запрещении христианства в стране, что было мероприятием не столько религиозного, сколько общеполитического государственного значения: правители Японии ставили преграду проникновению в страну европейских влияний.
Формально все же государственной религией в Японии признавалось конфуцианство. Феодальным властям Японии больше импонировало политическое, чем религиозное, содержание этого учения. По существу конфуцианство так и осталось в Японии политическим и этическим учением, религиозные же потребности верующих удовлетворялись буддизмом и подчинившимся ему синтоизмом, что целиком соответствовало интересам японского феодализма, на протяжении столетий воплощенного политически в форме сёгуната.
В XIX в., когда в условиях постепенного развития буржуазных отношений сёгунат стал приходить в упадок, поколебалось и положение буддийской церкви. В ряде провинций господствовавшие в них оппозиционные по отношению к сёгунам князья стали предпринимать антибуддийские действия, ориентируясь на реставрацию синтоизма как самостоятельной религии, которую можно было бы объявить государственной. Так, в 1843 г. князь провинции Мито ликвидировал на своей территории 190 буддийских храмов и приказал перелить на пушки их колокола; тут же были запрещены некоторые буддийские обряды, в том числе похоронные, вместо них предлагалось прибегать к синтоистскому ритуалу. Были приняты меры к консолидации синтоистского духовенства, и преимущественно его антибуддистских элементов. Революция Мэйдзи (1868), уничтожившая сёгунат и установившая в Японии самодержавие микадо, имела одним из своих последствий преследование буддийской религии и духовенства.
Была взята линия на воскрешение синтоизма как государственной религии. Таким образом буддийской церкви был нанесен серьезный удар. Указом микадо буддийское и синтоистское богослужения были строго разграничены, буддийским священникам запрещалось выполнение синтоистских церемоний. Буддийско-синтоистские храмы были переданы в руки синтоистского духовенства, причем последнее подверглось чистке с целью удаления пробуддийских элементов. Большое количество земель, принадлежавших буддийским храмам, правительство конфисковало, а многие храмы ликвидировало. Так, в префектуре Тояма в 1870 г. было 1730 буддийских храмов, а в 1871 г. оставалось только 7. Микадо демонстрировал и собственный отказ от буддизма. Он ликвидировал буддийское святилище в своем дворце, удалил из дворца статую Будды, отменил ранее проводившийся буддийский праздник императора.
Однако вскоре императорской Японии пришлось ослабить, а затем и прекратить свою антибуддийскую политику. Выяснилось, что буддизм пустил прочные корни в быту и сознании народных масс, которые в ряде случаев оказывали сопротивление властям, вступаясь за права и прерогативы буддийской церкви. В некоторых случаях властям приходилось быстро отменять свои антибуддийские мероприятия. Когда в 1868 г. прописка населения по буддийским приходам была заменена пропиской по синтоистским приходам, это вызвало такое сопротивление населения ряда провинций, что уже в 1873 г. реформа была отменена и принят порядок, по которому прописка производится в храме той или иной религии в зависимости от того, какой существует в данной местности. Организованный сразу после переворота и преобразованный вскоре в министерство департамент по делам синтоистской религии, ставивший ее своим существованием в исключительное положение, был упразднен, а все религиозные вопросы переданы в ведение министерства просвещения. Наконец, принятая в 1889 г. конституция провозгласила принцип свободы совести, таковым буддизм был опять легализован, правда, уже на равных основаниях с синтоизмом. К тому же буддийская церковь потеряла значительную часть своих материальных богатств 50.
Видимо, в этих условиях руководители буддийской церкви поняли, что надо удерживать те позиции, которые еще можно отстоять. Они стали доказывать правительству свою полную лояльность в отношении существующего строя и свою готовность проповедовать культ императоров не менее активно, чем синтоизм.
КОРЕЯ (51)
Буддизм стал распространяться в Корее в IV в., его привезли китайские монахи, специально с миссионерскими целями посещавшие страну. Первоначально очагом этой религии на Корейском полуострове стало Когурё, одно из трех существовавших тогда в Корее государств (остальные именовались Пэкче и Силла). Немного позже, но в том же столетии он распространился в Пэкче и через полтора столетия — в третьем корейском государстве. К тому времени, когда Силла сумела подчинить себе остальные государства и создать одно общее (VIII в.), буддизм во всех трех государствах был уже признанной государственной религией.
В это время, однако, такое же положение государственной религии занимало в Корее конфуцианство. Немного позже проник в страну и даосизм. В общем буддизм не вел с этими религиями прямой борьбы. Были, правда, периоды конфронтации буддизма и даосизма. Так, например, в середине VII в., когда представитель когурёсской сангхи Подок повел борьбу против даосизма, убеждая вана (властителя) Поджана не допускать даосизма под предлогом того, что новая религия вызовет духовный разброд в стране, ван не согласился с этим, и даосизм стал распространяться, ослабляя позиции буддийской сангхи. То, что вскоре Когурё потеряло свою независимость, объясняется некоторыми авторами именно тем, что оно не пользовалось в это время былой поддержкой, которую оказывали ему сангха и вообще буддисты.
До появления буддизма в Корее среди ее населения были распространены все верования и культы первобытной религии — фетишизм и вера в душу, полидемонизм, поклонение небесным светилам, культ предков. С появлением буддизма эти верования, связанные с ними культы не исчезли, они продолжали бытовать, синкретизируясь с буддизмом. Конечно, верования и их состояние труднее прослеживаются, чем выполнение обрядов, составляющих культ, но именно по выполнению обрядов можно судить о состоянии тех или иных верований и степени приверженности к ним населения. В данном случае факты говорят о том, что население Кореи с принятием буддизма ни в коей мере не отказалось от добуддийских верований и культов. На протяжении многих столетий бытовала синкретизированная религия буддизма с добуддийскими религиями. «По-прежнему, — пишет Р. Джарылгасынова, — в 10-ю луну приносились жертвы небу, причем основные жреческие функции в этом обряде выполнял «ван». «Ван» участвовал и в церемонии жертвоприношения пещере Сухель». Жертвоприношения небу приносились и перед войной, и в других сложных случаях жизни корейского общества.
Небо было не единственным астральным объектом поклонения корейцев, ставших буддистами. К этим объектам относились и солнце, и луна, и многочисленные планеты и звезды. «Культ семи звезд Большой Медведицы, — пишет та же исследовательница, — бытовал у корейцев до недавнего времени» 52. Вместе с поклонением светилам имело значение и астрологическое их использование, по состоянию светил гадали о грядущих общественно важных событиях: о войне и мире, засухе и наводнении, землетрясении или извержении вулкана.
Горы, реки, моря, пещеры были, по представлениям корейцев, населены сверхъестественными существами-демонами, которым надо было в определенные даты приносить жертвы, возносить молитвы, это делалось, помимо того, в экстраординарных случаях.
Культ предков, занимающий такое важное место в конфуцианстве, казалось бы, плохо гармонировал с буддийским вероучением, в котором он не играл роли. Тем не менее он сохранился в полной силе и в последующие времена, чему способствовало его государственное значение; особенно почитались предки здравствующего вана и действительный или мифический или полумифический ван — основатель государства. Публичные жертвоприношения своим предкам регулярно совершали сами ваны.
К появлению буддизма в Корее государственные власти относились в общем благожелательно. В каждом из трех государств он скоро стал государственной религией, что отнюдь не упраздняло конфуцианства в качестве таковой. А с распространением даосизма и он был принят на вооружение властями.
Ценность буддизма для государства обусловливалась тем, что он давал идеологическое освящение централизаторским тенденциям, присущим деятельности властей, как в период существования трех государств, так и после их объединения. Наивысшую ценность в этом отношении представляло конфуцианство, прямо воплощавшее идею государства как высшей ценности. Немалый вклад в распространение этой идеи внес и буддизм, имевший то преимущество перед конфуцианством, что он оказывал духовное воздействие на более широкие массы, ибо он был более доступен для них образным характером своих верований и обрядностью. Поэтому государственная власть опиралась одновременно на обе эти религии.
В некоторые периоды ранней истории Кореи сангхе удавалось в какой-то мере ослабить свою зависимость от государства. Так, с конца VIII в. она воспользовалась его ослаблением и в значительной мере вышла из-под его контроля. Но до этого времени сангха находилась под непосредственным управлением ванов и их бюрократического аппарата. Все должностные лица в управлении ею назначались ванами, а на низших «этажах» — наместниками округов. В государстве Силла, чтобы гражданин мог поступить в монастырь, он должен был получить специальное разрешение вана, что достигалось не без труда.
Поступление в монастырь было притягательной целью для человека из народных низов: он освобождался от тяжелого крестьянского или ремесленного труда, от многочисленных налогов и повинностей, в том числе и от военной повинности. Власть не была заинтересована в поощрении таких намерений и с трудом давала разрешение на поступление в монастырь. По отдельным оказиям это все же иногда делалось даже в массовом масштабе. Так, например, чтобы снискать благоволение сверхъестественных сил и исцеление от постигшей его болезни, ван Хындок в 830 г. дал разрешение на уход в монахи одновременно 150 претендентам.
В период господства династии Корё (X–XIV вв.) буддизм переживал состояние расцвета. Это выразилось в большом увеличении количества монастырей и пагод, построенных, как правило, за счет государства, в колоссальном росте их богатств, земельных и прочих, в относительной независимости, которой пользовалась в это время сангха.
Процесс высвобождения из-под контроля государства начался еще в конце VIII в. Это стало возможным в условиях постепенного ослабления самого государства. Новый этап наступил во второй половине XIV в., когда в условиях разгоревшейся междоусобной борьбы различных феодальных группировок разбогатевшая и, так сказать, разжиревшая сангха стала выглядеть как остров благополучия и процветания, как лакомый кусок для каждой из группировок, боровшихся за власть. Сама церковь в этой борьбе не занимала определенной позиции, она лавировала между разными группировками и в меру своих сил препятствовала урегулированию положения и централизации государства. Наконец, междоусобная борьба закончилась, и на трон в 1392 г. воссел предводитель одного из боровшихся кланов Ли Сонг, положивший основание династии, царствовавшей в течение пяти столетий. Уже его ближайшие преемники стали активно прибирать к рукам сангху и ее многочисленные монастыри. В начале XV в. 4 раза подряд производилась конфискация монастырских земель и проживавших на них крепостных. А в 1424 г. государство реформировало сангху, произведя существенные изменения в ее организационном строении и внутреннем управлении.
В это время буддийская церковь в Корее состояла из большого количества сект и толков. Различались они между собой тонкостями культовыми и догматическими, но по существу эти тонкости представляли собой, как правило, лишь предлог для самостоятельного существования соответствующих группировок духовенства. Государство распорядилось в этом деле решительно и безапелляционно: все секты были сведены в две — сонджон и кеджон. Для каждой из них было установлено право иметь 17 монастырей, а каждому монастырю была указана норма земли, которой он может владеть, и количества крепостных душ (ноби). Все, что оказывалось у него сверх этого, подлежало конфискации в пользу государства. Площадь монастырского землевладения в итоге уменьшилась в 4–5 раз. Соответственно уменьшилось и количество монахов, «спасавшихся» в этих монастырях. Ослабление экономического могущества не могло, конечно, не сказаться и на общей роли сангхи в стране. В течение последующих столетий она в общем не изменилась, так что далеко в прошлое ушла ее роль могущественного политического и экономического фактора в стране.
В вероисповедно-догматическом отношении корейский буддизм вначале строился полностью по одному из китайских образцов. Потом постепенно стали появляться местные варианты и в соответствии с этими вариантами, как это характерно для буддизма, новые секты и толки. Помимо возникших на корейской почве укажем на известные уже нам буддийские направления, «импортированные» из других стран Азии: амидаизм и чань или дзэн, в корейском варианте названия «сон».
Как и в других странах, амидаизм требовал поклонения не столько Будде, сколько Амитабе, повелителю райской Чистой Земли. Привилось в Корее и такое направление буддизма, как чань. Появившись в начале IX в., оно сразу завоевало большое количество сторонников. Однако и «сон» вскоре разветвился на различные направления. За столетие их образовалось девять, они именовались «девятью горами».
Не следует представлять себе дело так, что обилие сект и толков было связано в Корее с непрестанной борьбой внутри общебуддийского лагеря. Секты возникали не в противовес одна другой, а рядом с ней, сопутствуя ей. Они легко совмещались, и во многих случаях один и тот же человек мог одновременно принадлежать к двум или нескольким сектам. Рядовые верующие часто даже не имели представления об отличительных особенностях вероучения той секты, к которой они принадлежали, и помнили свою принадлежность к ней лишь по той словесной формуле, которую они постоянно повторяли в качестве спасительной.
Персонажи общебуддийского пантеона пользовались почитанием и в Корее. Наиболее популярными среди верующих были четыре божества: Шакья-Муни, Майтрейя, Амитабха и Авалокитешвара. Почитание Майтрейи имело почти практическое в своем роде значение: это было божество, которому надлежало в более или менее близком будущем появиться на земле в образе Будды и от которого в этом образе следовало ждать реальных деяний, способных оказать воздействие на жизнь людей. Особое значение приобрел культ Майтрейи в VIII в., когда в условиях феодальных междоусобиц дела до крайней степени запутались. Кроме этих четверых в пантеоне фигурировало столь же бесчисленное множество божеств и полубожественных существ, как и в остальных странах распространения буддизма.
На практическую жизнь буддийская догматика оказывала мало влияния. Интересна в этом отношении позиция ортодоксального буддизма в вопросе о насилии и убийстве.
Как известно, эта позиция была выражена в формуле ахимсы — непозволительности нанесения вреда кому бы то ни было, тем более недопустимости убийства какого бы то ни было живого существа. Теоретически эта позиция была неоднократно выражена на корейской почве самыми авторитетными инстанциями. В государстве Силла в 529 г. был издан специальный указ вана, запрещавший убийство чего бы то ни было живого. Впрочем, нет никаких сведений о том, чтобы ван и его приближенные перешли на вегетарианский образ жизни. То же относится и к государству Пэкче. Там указ о запрещении убийства живых существ был издан ваном Попом в 599 г., был подтвержден в 705 г., а еще через несколько лет специальным указом было запрещено забивать скот. А упомянутый выше ван Поп требовал еще от корейцев отпустить на волю всех охотничьих соколов и уничтожить приспособления для рыбной ловли. Если в отношении скота представляется весьма сомнительной действенность указов, запрещавших убийство, то тем более это относится к обращению с людьми. Войны велись всеми корейскими государствами без каких бы то ни было ограничений. Активными участниками войн во многих случаях были монахи. Советский автор С. В. Волков сообщает: «Во время войны Когурё против танского Китая из когурёсских монахов была сформирована целая армия, насчитывавшая до 30 тыс. человек, которая успешно воевала против китайских войск… Участвовала она в боях и в 668 г. на завершающем этапе войны» 53. А потом, когда страну заняли китайцы, монахи приняли деятельное участие в партизанской войне; одним из прославившихся военачальников партизан был монах Точхим.
Не приходится выражать удивление по поводу такого кричащего несоответствия слова делу в буддизме, это обычно для всякой религии. Достаточно вспомнить в этой связи ветхозаветное «не убивай» и новозаветное непротивление злу насилием…
Как и в других странах, распространение и бытование буддизма давало стимул и форму для развития некоторых областей культуры. Для архитектуры и строительного искусства имело большое значение строительство пагод, ступ и других культовых зданий. Для искусства скульптуры важно было изготовление огромного количества статуй Будды и других персонажей пантеона, а также производство инструментария для богослужения.
Примечания и ссылки на источники
1 Беттани и Дуглас. Указ. соч. Т. I. С. 84.
2 Кожевников А. Н. Указ. соч. Т. I. С. 647.
3 Maung Н. A. History of Birma. N. Y.; L., 1987. P. 124.
4 См.: Семека /С. М. История буддизма на Цейлоне. М., 1969. С. 30–35.
5 Там же. С. 98.
6 Там же. С. 58–59.
7 Там же. С. 60.
8 Там же. С. 61.
9 Цит. по: там же. С. 23.
10 См.: Корнев В. И. Тайский буддизм М, 1973.
11 Там же. С. 27–30.
12 Там же. С. 75.
13 См.: Всеволодов И В Бирма: религия и политика М., 1978.
14 Там же. С. 92.
15 Там же. С. 98.
16 Там же.
17 Там же. С. 165.
18 Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. С. 291–359; Ch’en К. Buddhism in China. A Historical Survey. Prinstone, 1964.
19 Васильев Л. С. Указ. соч. С. 312.
20 См. там же. С. 322.
21 См. там же. С. 312.
22 Ch’en К. Op. cit. Р. 147–151.
23 См. там же. С. 229.
24 Ch’en К. Op. cit. P. 415–424.
25 См: Васильев Л. С. Указ. соч. С. 353.
26 См.: Беттани и Дуглас. Указ. соч. Ч. I. С. 218.
27 Ch’en К. Op. cit. Р. 103–104, 112.
28 См.: Васильев Л. С. Указ. соч. С. 325.
29 Беттани и Дуглас. Указ. соч. Ч. I. С. 220.
30 См.: Васильев Л. С. Указ. соч. С. 321.
31 См. там же. С. 375.
32 Там же. С. 141, 142.
33 Корнев В. И. Указ. соч. С. 56.
34 См.: Арутюнов С. А., Светлов Г. Е. Старые и новые боги Японии. М., 1968.
35 См.: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1961 С. 127–128.
36 Жуков Е. История Японии. Краткий очерк. М., 1939. С. 10; Иофан Н. А. Культура древней Японии. М., 1974. С. 89–90.
37 См: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. С. 130.
38 См.: Иофан И. А. Указ. соч. С. 91, 105.
39 Eliot Ch. Japanese Buddhism. L., 1964. P. 219–220, 224
40 См.: Арутюнов С. А., Светлов Г. E. Указ. соч. С. 35–36.
41 См.: Жуков Е. Указ. соч. С. 15.
42 Арутюнов С. А., Светлов Г. Е. Указ. соч. С. 69–70.
43 Eliot Ch. Op. cit. P. 233–415; Anthology of Zen. L., 1961.
44 Kitagava J. M. Religion in Japanese History. N. Y.; L., 1966. P. 118–122.
45 Le bouddhism japonnais, textes fondamentaux de quatre grands mois de Kamakura. P., 1965. P. 283–315.
46 Jschii M. Honen the Luther of Japan. Tokyo, 1940. P. 29.
47 См: Арутюнов С. А., Светлов Г. E. Указ. соч. С. 52, 56.
48 См.: Жуков Е. Указ. соч. С. 37.
49 Eliot Ch. Op. cit. P. 282.
50 См.: Арутюнов С. A, Светлов Г. E. Указ. соч. С. 78–80.
51 Волков С. В. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985.
52 Джарылгасынова Р. Ш. Древние когурёсцы. М., 1973. С. 170.
53 Волков С. В. Указ. соч. С. 116.
Глава шестая. БУДДИЗМ-ЛАМАИЗМ (1)
ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ
Среди всех направлений и разновидностей буддизма представляется особо своеобразным завоевавший господство в Тибете и Монголии ламаизм. Следует отметить, что это наименование не является самоназванием адептов данной религии, оно дано ей европейскими исследователями; в его основе лежит термин «лама», обозначающий священнослужителя данной религии, его буквальный перевод — «выше нет» 2.
В Монголию ламаизм проник в XVI–XVII вв. из Тибета, именно последний является колыбелью этой религии. О времени появления буддизма в Тибете имеются разноречивые сведения, некоторые из них датируют это событие V в. На историческую почву наука становится в данном вопросе лишь с царствования в Тибете Сронцзангамбо, приходившегося на время примерно с 620 по 650 г. 3
Тибет, окруженный со всех сторон высочайшими горными хребтами, суровый по климату, находился в относительной изоляции от соседей. Примитивное горное земледелие в сочетании со скотоводством, местами кочевым, с трудом обеспечивало скудный жизненный уровень населения, подвергавшегося интенсивной эксплуатации со стороны феодалов, которые владели основными массивами обрабатываемой земли. Распространенные религиозные представления и культы составляли так называемый бон, довольно типичную систему полидемонизма и шаманизма 4.
Буддизм проник в Тибет из Индии, откуда в V и VI вв. население северных районов переселялось в соседние страны; какие-то контингенты его просачивались через южные перевалы в Гималаях на территорию Тибета. Может быть, есть доля истины в сообщении о том, что индийские буддисты пытались обратить в свою веру царя Латотори, что вызвало сопротивление со стороны населения и шаманов. Только через 100–200 лет царь Сронцзангамбо, видимо, по политическим соображениям принял буддизм в качестве государственной религии и сделал все от него зависящее для распространения буддизма среди населения. Это дало ему возможность завязать необходимые матримониальные связи, взяв себе двух жен-буддисток из Непала и Китая. Царь вел широкую завоевательную политику, объединив под своей властью не только весь Тибет, ранее раздробленный, но и ряд соседних государств, включая Непал и Ассам. Очевидно, при помощи буддизма можно было идеологически скреплять созданную из разнородных элементов империю, тем более что эта идеология проповедовала полное подчинение властям и непротивление злу. Для тех же из завоеванных стран, в которых буддизм был и раньше распространен, переход завоевателей в эту религию был дополнительным аргументом в пользу подчинения им.
Хотя тибетские источники изображают буддизацию страны при Сронцзангамбо событием сверхъестественного значения, а царя описывают как исключительно могущественного деятеля (воплощение Авалокитешвары!), обращение населения в буддизм было трудным процессом, затянувшимся на несколько столетий. Даже из скупых сохранившихся источников видно, с какой внутренней борьбой этот процесс был связан. Лет через сто после царствования Сронцзангамбо, в период детства царя Тисронг Детзана, при дворе и, очевидно, по всей стране начались волнения, направленные против буддизма: храмы уничтожались, священные книги зарывались в землю или сжигались, чудотворные «чу» (статуи богов и святых) истреблялись. Главное же последствие антибуддийской реакции заключалось в том, что монастыри лишались их земельной собственности, которая передавалась светским феодалам. Достигнув совершеннолетия, царь Тисронг сумел, однако, не только реставрировать все потерянное буддизмом, но и завоевать для него новые позиции 5. Разумеется, такого успеха ему удалось добиться не только за счет собственной энергии, но и прежде всего благодаря тем экономическим и военно-политическим позициям, которые уже завоевал к этому времени буддизм.
Царь Тисронг построил большое количество новых монастырей и храмов, приказал перевести на тибетский язык ряд священных книг буддизма, по-новому организовал корпорацию ламаистского духовенства и предоставил ей огромные права и привилегии. Все ламы были разделены на три группы: послушников, созерцателей и совершенных (гелюнгов), причем последние имели большое число крепостных. Ламаистские историки утверждают, что в результате религиозного рвения Тисронга благоденствие населения Тибета достигло наивысшей степени. Однако в действительности рост благосостояния ламства и огромные расходы, вызванные строительством монастырей и храмов, имели своим последствием обнищание народных масс и рост антибуддистских и антиламских настроений. Вряд ли можно считать случайностью, что царь счел нужным обнародовать специальный указ следующего содержания: «Строго воспрещается презрительно смотреть на мое духовенство и указывать на него пальцами; кто на будущее время позволит себе это, у того будут выкалываемы глаза и отсекаем указательный палец» 6. Недовольство было, однако, настолько сильным, что заговорщики из ближайшего окружения царя убили его в собственном дворце.
Не довольствуясь услугами тибетских лам, Тисронг приглашал представителей индийского духовенства, которые должны были заниматься богословским обучением лам. Из иностранных наставников приобрел большую известность Падма Самбава. Под его руководством был построен огромных размеров храм, сооружению которого придавалось такое большое значение, что празднества по случаю его открытия длились три года. Падма обучил тайнам буддийского культа (дарани) царя и специально подобранных 25 юношей. Обученные, как сообщают тибетские историки, обрели способность совершать чудеса: ездить на солнечном луче, летать как птицы, превращать трупы в золото и т. д. 7 В «науке» Падмы было столько же буддизма, сколько шиваизма и первобытной магии. Последняя облегчала приятие коренным населением премудростей новой религии, поскольку они не так далеко ушли от примитивного колдовства и шаманизма религии бон.
И все же через некоторое время антибуддийское движение в Тибете вновь развернулось при поддержке властей. На этот раз инициатором и руководителем гонений на ламаизм и ламаистов был царь Лангдарма 8. В условиях наступившего в стране голода и падежа скота было объявлено, что виновата во всем буддийская религия, под влиянием которой оказались забытыми древние боги религии бон, защищавшие благосостояние тибетцев. Разрушались буддийские храмы, бросались в воду или сжигались священные книги, уничтожались «чу» и т. д. В панике ламы покидали Тибет и переселялись в соседние страны. 23 года продолжалось искоренение ламаизма в главной его цитадели; оно было остановлено фанатиком ламой, убившим Лангдарму. Но и после этого за реставрацию ламаизма пришлось бороться не менее столетия.
Вопрос решался железом и кровью, непрестанными междоусобными войнами. В борьбе между буддизмом и старой тибетской религией в действительности имели место столкновения различных группировок феодалов, поддерживаемых теми или иными слоями крепостных крестьян, ремесленников и мелких торговцев. Ламаизм представлял собой не только религиозно-идеологическую, но и экономическую и военную силу. В руках духовенства в период господства буддизма находились основные земельные угодья и пастбища, оно являлось главным феодальным эксплуататором. Светские феодалы, стремившиеся завладеть этими реальными жизненными благами, облекали свои требования в форму лозунгов борьбы за старую, «истинную» веру, а народные массы находили в этих лозунгах и в борьбе за их осуществление выражение и выход своей классовой ненависти к эксплуататорам-ламам.
В конце концов ламаизм все же победил. Сыграла при этом известную роль реформа вероучения и культа, осуществленная в середине XI в. прибывшим в Тибет из Индии буддийским религиозным деятелем Атишей 9. Он организовал перевод с санскрита на тибетский язык ряда канонических документов буддизма, сам написал ряд богословских трудов, провел в 1050 г. Собор тибетской церкви. Основным направлением его деятельности было очищение буддизма от наиболее ярко выраженных форм магической обрядности, от шамаизма и полидемонического культа бон. Он отнюдь не до конца преуспел в своих начинаниях, но сделанное им укрепило вероисповедную и организационно-церковную основу буддизма в Тибете.
В течение первых двух веков нашего тысячелетия Тибет покрылся густой сетью пагод и монастырей, захвативших командные позиции и в хозяйстве, и в политической, и в идеологической жизни. Шла, однако, борьба и внутри ламаистской церкви, между разными монастырями. Особенно выделились три монастыря (Рэсенг, Саскья и Бригунг), каждый из которых претендовал на главенство во всем Тибете 10. Видимо, монастыри облекали свои претензии на господство в форму утверждений о превосходстве своего учения над учением остальных. Но не осталось свидетельств о характере этих разногласий, похоже на то, что они были не существенны даже с точки зрения буддийского богословия. Некоторые из них, вероятно, касались деталей облачения лам, например цвета их головных уборов, мелких различий в порядке богослужения (число и адресат поклонов, чередование молитвенных формул). Но так как за этим скрывались жизненные интересы, то пустяковым деталям придавалось преувеличенное значение и они превращались в повод для ожесточенной междоусобной борьбы.
Из указанных трех монастырей в дальнейшем продолжали борьбу лишь два — Саскья и Бригунг. В конце XI в. они, будучи не в состоянии решить исход борьбы собственными силами, обратились за решением к китайскому императору. Последний отдал духовное первенство Саскье, а светское господство, важным элементом которого было землевладение, предложил разделить на три части, причем одну треть отдать Бригунгу, а остальные две — светским феодалам. Видимо, данное решение осталось лишь пожеланием, так как и в дальнейшем страна продолжала переживать сложные перипетии борьбы между многочисленными группировками лам, боровшихся за власть и за земли и избравших своими плацдармами различные монастыри.
Влияние на ход этой борьбы могли оказывать китайские власти, а также другие соседние государства. Но географические условия Тибета делали трудным вторжение в его центральную часть, поэтому в итоге проблема власти решалась внутренними силами. Внешнее вмешательство оказывалось более действенным лишь тогда, когда та или иная из борющихся сторон обращалась за помощью к иностранному государству. Такой момент наступил во второй половине XIII в., когда настоятель Саскья обратился к китайскому императору, основателю монгольской династии Хубилаю.
Император не только отнесся с полным вниманием к просьбе ламы, но и усмотрел в ней повод к религиозной реформе в Китае11. Хубилай сам принял буддизм и стал ревностно насаждать его в империи. Он построил большое количество монастырей и храмов, приобрел в Индии и Тибете реликвии Будды и святых, организовал перевод на тибетский и китайский языки многих священных книг буддизма, предоставил ламам возможности для активной пропаганды в Китае. Буддийское благочестие Хубилая было обусловлено определенными политическими соображениями: он стремился, с одной стороны, при помощи общей религии укрепить единство и централизацию страны, а с другой — приобрести опору в Тибете в лице фактически владевших страной лам.
Преемники Хубилая пошли еще дальше в союзе с ламами. При них ламаистское духовенство свободно хозяйничало не только в Тибете, но и на территории собственно Китая. Сохранилось относящееся к 1326 г. донесение одного чиновника из провинции Шанси, в котором утверждалось, что тибетские ламы являются настоящим бедствием страны: «Они объезжают западные провинции, наводняют города и вместо подворий останавливаются в частных домах, выгоняют домохозяев, чтобы удобнее пользоваться их женами. Но недостаточно того, что они ведут распутную жизнь: они отбирают у народа и то небольшое количество денег, какое он имеет. Следовало бы арестовывать этих пиявок, но как действовать против людей, которые изъяты от местного суда и снабжены охранными грамотами свыше, под защитой которых они считают для себя все позволительным?» 12
Когда в 1368 г. монгольская династия Юань уступила свое место династии Мин, то императоры новой династии, оставшись верными ламаизму, изменили тактику в отношении характера использования духовенства в Тибете. Если раньше императоры действовали там через один подчиненный им духовный центр, то теперь им представлялось целесообразным раздробить власть, чтобы использовать в своих интересах противоречия между различными духовными инстанциями. Это им понадобилось и для того, чтобы лишить власти господствующую группировку Саскьяйского монастыря, тесно связанную со свергнутой монгольской династией. Уже первый миньский император разделил власть в стране между четырьмя монастырскими центрами, а его преемник в начале XV в. увеличил это количество до восьми.
РЕФОРМА ЦЗОНКАБЫ И ЛАМАИЗМ
К рассматриваемому времени относится и религиозная реформа тибетского буддизма, связанная с именем Цзонкабы. Значение ее расценивается некоторыми авторами настолько высоко, что ею даже датируется начало превращения тибетского буддизма в ламаизм 13.
В ламаистской историографии личность Цзонкабы окружена ореолом, сравнимым, пожалуй, с тем прославлением, которым была окружена личность самого Будды. Его зачатие и рождение были связаны с потрясающими чудесами. Новорожденный появился на свет с седой бородой и величественным выражением лица и сразу стал произносить мудрые проповеди. Реформаторская же его деятельность коснулась преимущественно организации и деятельности ламства 14.
Ламы-последователи Цзонкабы были объединены общим внешним видом — головным убором желтого цвета, отчего все направление получило наименование желтошапочного. Ламы-желтошапочники должны были пребывать в безбрачии, что было обязательным далеко не во всех направлениях и сектах буддизма. Безбрачие последователей Цзонкабы послужило основанием к наименованию всего направления «гелюгпа» — «учением добродетельных». Кроме того, Цзонкаба внес некоторые изменения в характер культа, ограничив в нем элемент магии и изгнав наиболее грубые практиковавшиеся ламами фокусы вроде глотания ножей, испускания пламени изо рта и т. д. Борьба желто-шапочников с другими группировками ламаистского духовенства была упорна и длилась около двух столетий, завершившись победой этого направления.
С именем Цзонкабы нередко связывают сосредоточение всей ламаистской духовной и светской власти в руках двух верховных руководителей — далай-ламы и панчен-ламы. Это основывается на легенде, согласно которой Цзонкаба перед смертью назначил двух своих учеников руководителями ламаистской церкви, причем поручил им в дальнейшем постоянно возрождаться в новых воплощениях. На самом деле титул далай-ламы установлен лишь с середины XVI в., хотя ламаистская историография считает первого его носителя Соднамджамцо (1543–1588) третьим далай-ламой после первых двух «великих лам», существовавших после Цзонкабы. Институт же панчен-лам возник еще позднее. Он был установлен пятым далай-ламой Агванлобсаном-джамцо (1617–1682). Таким образом, окончательное формирование института, связанного с двумвиратом далай-ламы и панчен-ламы, относится лишь к XVII в.
Второй по счету преемник Цзонкабы, Гедюн-джамцо (1476–1542), еще не именовавшийся далай-ламой, сыграл большую роль в истории ламаистской церкви. Он прочно закрепился в руководстве ею и страной, провел важные административные реформы, в частности учредил должность хутухты для заведования церковными делами и должность типы — для руководства государственно-светскими. Он чувствовал себя во главе государства и церкви так прочно, что стал проводить независимую политику в отношении Китая. Гедюн-джамцо отказался, например, явиться в Пекин по приглашению императора, а когда за ним прибыл отряд войск, ему было оказано сопротивление и нанесено решительное поражение. Фактически именно в это время Тибет окончательно стал теократическим государством.
При Гедюне-джамцо была оформлена и теория, дававшая теологическое обоснование всевластию далай-ламы и процедуре их назначения. В соответствии с буддистским учением о перевоплощении признавалось, что далай-лама, умирая, перевоплощается в живущего человека, притом младенца, так что после смерти очередного главы церкви и государства остается только найти того хубилгана — воплощенца, в которого вселилась личность далай-ламы, и посадить его на престол. До совершеннолетия нового далай-ламы его функции исполняются состоящими при нем регентами.
Именуемый третьим далай-ламой Соднам-джамцо был предприимчивым и ловким политиком. Период его правления ознаменован обращением в ламаизм вновь возникшей монгольской империи.
Через 200 лет после изгнания из Китая монгольской династии многочисленные мелкие княжества, образовавшиеся в степях Центральной Азии, вновь слились в сильное государство. Стоявший во главе его Алтан-хан стремился создать империю, подобную той, которая когда-то была основана Чингисханом. Первым шагом на этом пути должно было быть присоединение Тибета, вторым — завоевание Китая. Тибет можно было завоевать путем принятия ламаизма и разделения власти с далай-ламой. Вполне своевременно Алтану явился во сне Авалокитешвара, который велел ему отправить послов к далай-ламе с приглашением в свою ставку и с просьбой о посвящении в великие истины ламаизма. Далай-лама счел это предложение приемлемым и угодным: не отказываясь от феодального союза с Китаем, он мог использовать тактику лавирования между двумя мощными силами. Он поехал к Алтан-хану, где его встретили с почестями, в числе которых были и особого рода: по пути его следования распространялись слухи о творившихся им чудесах. Всех драконов, обитавших в стране, он по дороге выловил и при помощи заклинаний привел к полной покорности. В случае надобности он без особого труда заставлял реки течь в обратную сторону; копыта лошади, на которой ехал далай-лама, оставляли следы, в начертании которых легко прочитывались слова молитвы, а у самого святейшего было четыре руки. В том же стиле далай-лама сообщил Алтан-хану, что он уже имел удовольствие знать его триста лет назад, а будучи далай-ламой и пребывая в образе настоятеля Саскьяйского монастыря, вел переговоры со своим теперешним собеседником, который тогда находился во плоти китайского императора Хубилай-хана. В итоге Монголия была буддизирована.
Последовавшая в 1682 г. смерть пятого далай-ламы явилась поводом к следующему историческому эпизоду. Правивший светскими делами типа Сангдже-джамцо вместе с группой церковных и светских сановников решил скрыть смерть далай-ламы как от народа, так и в особенности от китайского императора. Было объявлено, что воплощение Авалокитешвары уединилось в глубине своего дворца, чтобы предаться там богословским размышлениям и мистическому созерцанию, так что доступа к нему никто не имеет. Целью этой аферы было, очевидно, обеспечение условий для реализации честолюбивых планов самого типы и его приближенных лам и феодалов, стремившихся к внешним завоеваниям. Пользуясь именем умершего далай-ламы, типа в союзе с джунгарским ханом Галданом начал кровопролитную войну с монголами. Только через 16 лет он признал, что далай-ламы нет в живых. Были устроены грандиозные похороны, в которых приняло участие около 100 тыс. лам, а затем был возведен на престол новый живой бог, при котором вскоре начались междоусобные вооруженные столкновения. После длительной борьбы положение несколько стабилизировалось.
Одним из важных деяний пятого далай-ламы было установление института панчен-ламства: он дал титул панчен-ринпоче (великий ученый-драгоценность) своему наставнику, настоятелю монастыря в Трашилхунпо. Вместе с тем панчен-ринпоче был объявлен воплощением будды Амитабы. Вероятно, при установлении нового института пятый далай-лама исходил из того, что этим он обеспечивал себе поддержку одного из наиболее авторитетных представителей ламаистского духовенства. Но последствия данного акта оказались значительно шире первоначального замысла. В ламаизме образовалось своеобразное двоецентрие, и, хотя значение далай-ламы формально и фактически всегда было выше значения панчен-ламы, в некоторые моменты истории ламаистской церкви последний выходил на первый план и играл решающую роль. Соперничество между двумя верховными главами ламаизма использовали в своих интересах китайские императоры, а со второй половины XIX в. — англичане.
Формально в течение XVIII и XIX вв. Тибет был вассальным владением Китая. Но власть последнего над тибетской теократией была в значительной степени эфемерной. Географические трудности делали связь китайского императора со своими эмиссарами эпизодической; изолированные от него, они сами становились одним из элементов всей теократической системы. В середине XVIII в. китайский император Цянь Лун ликвидировал разделение светской и духовной администрации в Тибете и предоставил далай-ламе всю полноту власти, оставив при нем несколько высших чиновников, утверждаемых им в должности. Государство стало и формально теократическим.
ЛАМАИСТСКАЯ ТЕОКРАТИЯ
В сознании народных масс картина мира выглядела весьма впечатляющей. На верху общественной пирамиды стоит живой бог, хубилган Авалокитешвары, а через него — самого Будды. Он пребывает в недосягаемых сферах и является народу на несколько мгновений по редким, особо торжественным случаям. Любой предмет, находящийся даже в кратковременном контакте с ним, приобретает свойства святости и магической силы. Почти так же свят и панчен-лама. Иллюстрации в этом отношении дает история поездки панчен-ламы в Пекин летом 1779 г. 15 В пути приближенные панчена продавали сделанные на бумаге отпечатки его руки. Святой изрядно потрудился, окрашивая свою руку шафраном и прикладывая ее к бумаге. Но эти труды неплохо окупились: в одном лишь монастыре, где панчен сделал кратковременную остановку, было выручено 300 лошадей, 70 мулов, 100 верблюдов и 40 тыс. серебряных монет. В Пекине панчен-лама благословлял верующих, причем в зависимости от того, к какой социальной группе они принадлежали: представители высшей знати удостаивались возложения святой руки на голову, к голове чиновника та же рука прикасалась завернутой в ткань, народ довольствовался прикосновением деревянного скипетра.
Такая реклама своей святости была нужна руководителям ламаистской церкви и феодалам для оправдания их экономического и политического господства в стране. Верующим массам внушали, что все зависит от сидящего на далай-ламском троне бога, чьи решения всегда непогрешимы, так что народ должен безропотно повиноваться и трудиться для обогащения феодалов, прежде всего духовных.
До совершеннолетия далай-ламы от его имени управляли регенты, а потом они уже старались не отдавать завоеванных позиций. У них была возможность увеличивать сроки пребывания ребенка на троне далай-ламы. Для этого было нужно, чтобы подраставший живой бог вовремя умирал, и тогда на его месте оказывался очередной ребенок, который тоже мог не дожить до совершеннолетия. Вряд ли было случайным, что в XIX в. четверо далай-лам подряд умерли, не достигнув совершеннолетия. Это произошло с девятым далай-ламой (1805–1815), десятым (1816–1837), одиннадцатым (1835–1855) и двенадцатым (1856–1875). Тринадцатому далай-ламе удалось избежать участи своих предшественников, и он, вступив на престол, занимал его до 1933 г. Регент, управлявший в годы его детства страной и собиравшийся своевременно сменить далай-ламу, сам стал жертвой заговора враждебной группировки, которая нашла общий язык с молодым далай-ламой и сочла целесообразным оставить его в живых 16.
На протяжении XIX в. продолжалась борьба между Китаем, Англией и Россией за овладение Тибетом. Тринадцатый далай-лама ловко лавировал между этими государствами, но особенно остерегался Англии. В 1900 г. он даже прислал делегацию к русскому царю, имея в виду создать противовес английскому давлению своей ориентацией на Россию. Но, когда Россия вступила в войну с Японией на Дальнем Востоке, Англия предприняла поход в Тибет и даже захватила Лхасу, из которой далай-лама своевременно скрылся в Монголии. В дальнейшем три государства вынуждены были в интересах сохранения международного равновесия договориться о невмешательстве во внутренние дела Тибета. Англичане ушли из страны, удовлетворившись рядом предоставленных им торговых привилегий. Китай же в 1910 г. вторгся в Тибет, и его войска заняли Лхасу. И на этот раз живому богу пришлось бежать, теперь уже в Индию. Когда вскоре в Китае в 1911 г. произошла революция, свергшая монархию, войска богдыхана ушли из Тибета. Далай-лама возвратился в свой дворец, и все могло бы пойти по-прежнему. Но в XX в. у отсталой страны, хотя и управляемой непосредственно богом, было мало шансов сохранить свою независимость. Вокруг государства началась дипломатическая возня трех государств, ход которой был нарушен и в какой-то мере определен начавшейся первой мировой войной.
Нередко в литературе ламаистская церковь характеризуется как восточный аналог Ватикана. Действительно, между этими двумя церковными организмами есть немало общего: оба они возглавляются «непогрешимыми» религиозными монархами божественного или почти божественного достоинства, оба представляют собой не только религиозный, но и государственно-политический и экономический институт; нельзя, правда, пренебрегать и различием, коренящимся в том, что Ватикан всегда представлял собой организацию международного масштаба и размаха, ламаистская же церковь распространяла свое влияние почти исключительно на собственную страну. Укажем еще на одно историко-религиозное явление, которое может рассматриваться в качестве аналога ламаистскому Тибету, — арабско-исламский халифат, который по признаку географического охвата ближе, правда, к Ватикану.
Общим же признаком всех трех рассматриваемых явлений следует признать то, что их экономическая и государственно-политическая мощь, их значение в качестве феодальных эксплуататорских организаций зиждутся в значительной мере на религии, — на том, что народные массы веруют в истинность и святость и сакрально-магическую силу тех людей, которые образуют организм церкви, и в особенности тех, которые его возглавляют. Именно поэтому факты истории указанных церковных организаций относятся к истории религии, а не только хозяйства, государства и государственных отношений, истории войн и т. д.
РЕЛИГИОЗНО-ДОГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛАМАИЗМА
В научной литературе распространено мнение, что не только северный буддизм отличается от южного в качестве чуть ли не другой религии, но и тем более ламаизм следует выделить в особую категорию 17. В основе такого разделения лежит представление о том, что в первоначальном, южном варианте буддизм представлял собой абстрактно-философскую систему, чуждую не только идолопоклонству, но и вообще культу, чуждую даже мифологии и вере в бога. Махаяна с этой точки зрения была уже отступлением от истинного буддизма на вульгарно-религиозные позиции, а ламаизм окончательно порвал с буддизмом. В основе такой концепции лежит неправильное представление и о первоначальном буддизме, и о его последующем развитии. Основные положения догматики и культа махаяны не возникли вновь, а явились продолжением и развитием хинаяны. Точно так же и ламаизм, если рассматривать его со стороны догматики и культа, был закономерным продуктом развития махаянистского буддизма.
Изложение догматики ламаизма представляет собой исключительную трудность, особенно в той части, где приходится связывать его мифологию и культ с некоторыми основными положениями буддизма. Впрочем, эти противоречия, может быть в меньшей мере, выявляются при анализе вероучения и южного буддизма. Да и вообще внутренняя противоречивость религиозной фантастики обнаруживается с особой силой именно при анализе ламаистской догматики. В некоторых случаях возникает мысль о наличии здесь какой-то особой ориентации сознания. Впрочем, это не выходит за пределы норм, которые установил Л. Леви-Брюль для той разновидности мышления, которую он назвал мистической и алогической.
Трудность в освещении рассматриваемого вопроса в применении к ламаизму заключается еще и в том, что не всегда можно установить, происходит ли данное представление или верование из основного ядра буддизма, или оно возникло в самом ламаизме.
На формирование догматических представлений ламаизма оказали большое влияние, с одной стороны, верования бон, бытовавшие у тибетцев, а с другой — представления шиваизма, проникавшие из Индии. Наличие «посторонних» влияний не составляет, однако, специфической особенности ламаизма, так как оно характерно и для хинаяны, и тем более для махаяны.
Все существующее с точки зрения ламаизма, как и вообще буддизма, сводится к двум элементам: сансаре и нирване 18. Первая означает реальный мир с его предметами и явлениями, с живыми существами, их страданиями и переживаниями. Второе — небытие, то, чего нет и что в то же время есть. Эта концепция еще соответствует «чистому» буддизму. Однако в ламаизме она расшифровывается и развивается в таких необузданно-фантастических формах и масштабах, что оставляет в этом отношении далеко позади себя и хинаяну и махаяну.
Миров существует невообразимое множество. Чтобы помочь представить себе их количество, священные книги ламаизма прибегают к такому сравнению: если в пространство, вмещающее 100 тыс. «коти» (коти равно 10 млн миров) и окруженное достигающим до самого неба валом, насыпать дополна горчичных зерен, то их количество не достигнет даже и половины того числа миров, которое существует в одном лишь небе. А небес тоже чрезвычайно много. Могущество Будды частично и заключается в том, что он охватывает своим восприятием всю бесчисленность миров.
Центром каждого мира является гора Сумеру, или Меру, одна половина которой находится в воде, другая возвышается над водой. Каждая половина имеет около 84 тыс. иоджанов (3 360 тыс. верст) высоты. Детально описывается строение Сумеру и омывающих ее морей, а также окружающих эти моря скал. Дается описание и пород, из которых состоит мировая гора: золото, серебро, яхонт, лазурит. За скалами, окружающими море, расположены 12 материков — двибов, окруженных колоссальным железным валом окружностью свыше 150 млн км. За ним начинается другая Вселенная со своим Солнцем, звездами и планетами, горой Сумеру, морями, материками и т. д.
В каждом из миров над Сумеру возвышается анфилада небес. Первые шесть небес составляют сансару. За ними следует мир форм, охватывающих четыре «дхьяны» (области созерцания) и 18 небес. Размеры каждого отделения сферы форм выражаются в колоссальных цифрах, относящихся к мирам, межмириям, тысячемириям; по некоторым сообщениям, цифра отделений в сфере форм включает в себя 4 456 448 нулей. За сферой форм следует, наконец, сфера «бесформенности», наивысшая по своей духовной ценности, наиболее чистая от каких бы то ни было элементов и признаков бытия и существования. Это чистое ничто, хотя такой трактовке высочайшей сферы противоречит наличие ее числового определения: с ней каким-то образом связана цифра «4», которая обозначает существование чего-то, поддающегося количественному выражению.
В основе приведенных выше космологических представлений лежат не столько наблюдения над миром и теоретические выводы из них, сколько игра фантазии, ориентированной на сверхъестественное и не связанной с реалистическим подходом к явлениям действительности. Такая «космология» представляет собой религиозную догматику. Входят ли в ту или иную область Вселенной четыре или 18 небес, окружена ли Сумеру, которую никто никогда не видел, океаном воды или, допустим, вулканической лавой, все решается лишь авторитетом священной книги.
Бесчисленные миры ламаистской космологии заселены столь же бесчисленной массой живых существ, которых насчитывается шесть типов: боги, люди, животные, асуры, преты и обитатели ада. Перечисленные живые существа обозначают также и возможные пути перерождения, ибо при каждом акте перерождения подвергающееся ему существо может попасть в любую из этих категорий. Из шести типов живых существ четыре принадлежат к сверхъестественным.
Асурами именуются в ламаизме злые демоны, антиподы богов, обитающие у подножия Сумеру 19. К ним примыкают злые демоны, известные под именами ракшасов, нагов, кумбандов, живущие в воздухе, в воде, пещерах и оврагах. Не все они в одинаковой мере злокозненны по отношению к людям и богам, некоторые даже состоят в услужении у последних. По внешности все асуры и другие злые демоны одинаково, хотя и по-разному, безобразны и страшны. В злых демонов, очевидно, должны перерождаться грешники и преступники.
Люди, которые при жизни особо грешили по части скупости и корыстолюбия, перерождаются в претов — существа, вечно мучимые голодом и жаждой. Они никогда не могут насытиться, ибо, имея тело величиной с гору, для насыщения его располагают горлом, не превышающим по своей пропускной способности игольное ушко.
Ламаистские боги отнюдь не являются совершенными существами и воплощением всех мыслимых красот и добродетелей. Практически они не так далеко ушли от остальных обитателей неба, в том числе и асу-ров. Живут боги и в низших небесах, составляющих сансару. Чем выше небо, служащее их местопребыванием, тем совершеннее разряд богов. На нижней ступени этой иерархии расположены начальники тех демонов, которые состоят в услужении у богов; в их функции входит также охрана вышестоящих небес и богов от нападений асуров. Вот почему такие боги изображаются обычно в полном вооружении и с обнаженными мечами. Остальные небеса освещаются не солнцем или другими светилами, а тем светом, который исходит от их обитателей.
Боги антропоморфны и материальны. Они не свободны от желаний, страстей и даже пороков, если считать таковыми присущие живым существам слабости. Они даже размножаются, причем разными способами, в зависимости от положения данного бога на той или иной ступени небесной иерархии.
Среди обитателей низшего неба, составляющего сансару, находится и злой бог Мара. Трудно сказать, чем этот бог-искуситель отличается от асуров и других злых демонов и почему ему предоставлено место среди богов. У него в подчинении находятся демоны-вредители, именуемые шимнусами; с их помощью он творит злокозненные деяния как на небесах, так и на земле.
В более высокой небесной сфере — мире форм — также находятся многочисленные боги и другие сверхъестественные существа. Каждая из четырех дхьян, составляющих мир форм, населена богами разной степени абстрагированности от чувственных форм и влечений. В первой дхьяне размещены боги, примыкающие к Брахме. Во второй живут уже «боги света», в свою очередь делящиеся на три категории: света ограниченного, неограниченного и полного. Боги третьей дхьяны характеризуются чистотой, также градуирующейся по указанным трем ступеням. И наконец, в четвертой дхьяне пребывают боги, равнодушные ко всем желаниям и привязанностям. Это высшая ступень перерождения, которой может достигнуть человек. Они знаменуют выход из жизненного круговорота и переход в нирвану.
Высшая ступень всего существующего — бесформенный мир. Его отличительным признаком является отсутствие каких бы то ни было черт и характеристик, связанных с бытием.
В этой чудовищно парадоксальной схеме есть своя мистическая логика, определяющаяся парадоксальностью всего буддийского учения. Но «личный состав» ламаистского пантеона в указанную схему все же не укладывается. По количеству входящих в него богов это, вероятно, самый богатый пантеон из тех, которые когда бы то ни было существовали в фантазии разных религий. Рассказать о всех его обитателях невозможно, коснемся лишь некоторых 20.
Если в классическом буддизме не было образа верховного бога-творца, то здесь он появился в лице Ади-будды, представляющегося первичным звеном всех дальнейших воплощений будд, начиная с Шакья-Муни. Среди его воплощений — Авалокитешвара, особо почитаемый в ламаизме, вселяющийся в очередного далай-ламу, а также Манджушри, Амитаба и другие боги. Влияние индуистских культов вызвало появление в ламаизме женских бодисатв помимо мужских. Боди-сатвы-богини являются женами бодисатв мужского рода, но есть и самостоятельные богини.
Помимо тех сведений о ламаистских богах, которые можно извлечь из священных книг Ганджура и Танджура, характеристика ламаистского пантеона дополняется массой находящихся в храмах бурханов — скульптурных и плоскостных изображений богов. Бур-ханами именуются и изображения богов, и их оригиналы. Таким образом, поклонение богам оказывается здесь идолопоклонством.
Бурханы делятся на «блаженных» и «свирепых», или докшитов21. Среди первых существуют особо блаженные и просто блаженные. Докшиты делятся на три группы в зависимости от того, в каких позах они изображаются — в сладострастных, богатырских или устрашающих. Сладострастные позы докшитов представляют собой скульптурные изображения нагих мужчины и женщины. Докшиты богатырского жанра соответствуют своей характеристике необыкновенно развитой мускулатурой, большим количеством рук, ног и зубов. Устрашающие докшиты очень безобразны, но их нельзя рассматривать как злых демонов. Их уродливая наружность, свирепое выражение лиц, оскаленные громадные зубы, мечи и прочие предметы вооружения, постоянно при них находящиеся, призваны лишь внушать людям отвращение к грехам и пугать тех, кто может их совершать, так что по существу докшиты, очевидно, являются наставниками нравственности. Трудно понять религиозную логику, выражающуюся в изображении богов сладострастными существами. Официальная богословская трактовка этого сюжета чрезвычайно туманна, речь идет о символическом выражении того состояния самоудовлетворения и блаженства, в котором пребывают боги. Если вспомнить, что ортодоксально-буддийское понимание блаженства связано с отсутствием каких бы то ни было желаний, то удивительная противоречивость всей этой системы религиозных взглядов станет очевидной. Действительная разгадка рассматриваемого феномена заключается в том, что религиозные изображения явились здесь лишь формой воплощения художественных потребностей и замыслов человека. Жизненные эмоции его должны были находить художественное выражение, а в условиях того времени формой художественного самовыражения могло быть прежде всего создание религиозных образов.
Наряду с тибетскими и монгольскими добуддийскими богами в ламаизм проникли и боги индуизма. В его пантеоне фигурируют Индра и Агни, Яма и Варуна, Сома, Брахма, Ананда и др. Все они имеют свою иконографию и красуются на своих местах в ламаистских храмах вместе с бесчисленными вариантами будд, Авалокитешварой, Манджушри, Варджапани и т. д. При этом не существует определенного порядка и иерархии размещения богов различного происхождения и ранга.
Пожалуй, какие-то следы соблюдения иерархии обнаруживаются в том, что в большинстве случаев второстепенные боги воплощаются не лепными и резными статуями больших размеров, а изображениями на полотнищах, развешанных в храмах. Помимо «портретных» изображений в храмах есть и сложные сюжетные картины, иллюстрирующие догматику ламаизма. Наиболее содержательный сюжет такого рода полотен — сансариин хурде — «колесо жизни», изображающее по существу всю ламаистскую догматику 22.
Многочисленные рисунки на этом холсте разделены на три концентрических кольца, каждое из которых в свою очередь делится на секторы, а внутри последних изображено множество сюжетов, выражающих отдельные элементы вероучения. Не останавливаясь подробно на изложении этих сюжетов, укажем лишь на несколько элементов изображения в целом.
Все «колесо жизни» извне объемлется неким чудовищем; верхняя часть колеса находится в зубах дракона, среди которых выделяются огромные клыки, а низ опирается на безобразные ступни со страшными когтями. Очевидно, это означает господство над всем миром некоего могущественного, если не всемогущего существа, стоящего не только над людьми, но и над бесчисленными существующими богами. При желании здесь можно усмотреть монотеизм, родственный любому другому. Может быть, оно так и есть, но такая трактовка может служить не столько «облагораживанию» и рафинированию ламаизма, сколько характеристике всякого так называемого монотеизма, поскольку любая разновидность его допускает существование большого количества второстепенных, младших богов, подчиненных верховному.
Один из секторов «колеса» изображает ад с массой отделений горячего и холодного истязания. В другом изображен рай, обитателями которого являются лишь боги. Поскольку, однако, праведные люди могут перевоплощаться в богов, то, очевидно, рай предназначен и для них; к тому же боги в нужных случаях перевоплощаются в людей, так что в общем рай может считаться местом общего пользования для людей и богов. Обитатели его восседают на прекрасных цветах лотоса, вместе со своими подругами наслаждаются буддистским учением, сулящим праведникам в качестве высшей награды за добродетельную жизнь нирвану — отсутствие переживаний, связанных не только со страданием, но и с наслаждением.
Ламаизм не отказался от учения о нирване, но он отодвинул ее настолько далеко, что стремление к нирване оказалось для верующего неактуальным, а перспектива достижения такого состояния стала выглядеть весьма далекой от реальности. Если бы ламаизм, как и буддизм в целом, не перестроился таким образом, он не имел бы распространения в широких массах, ибо религия потеряла бы в этом случае всю свою притягательность для простого человека.
Место нирваны в ламаизме занял рай, хотя формально не отрицается и нирвана. Реально верующий должен представлять себе, что если он будет выполнять все требования ламаистской морали, то после хлопотной, полной страданий и лишений сансары его ждут успокоение и блаженная жизнь в раю. Впрочем, можно уловить в этом представлении и мотив, соединяющий рай с сансарой: после райского блаженства праведника в конце концов ждет нирвана: если семь дней подряд, сидя в раю, непрестанно повторять имя Амитабы и не думать ни о чем мирском, то нирвана обеспечена. Во всяком случае имеющиеся изображения рая показывают его обитателей, и прежде всего самого Ами-табу, в состоянии такой полной безмятежности, которая напоминает о нирване.
Существует в ламаистской литературе достаточно подробное описание рая «Сукавади». Обстановка в нем такова: «Почва его состоит из как бы превращенных в муку и рассыпанных кораллов, лазурита, лазоревых камней, хрусталя, золота, серебра и других драгоценностей, она очень плодородна… Пыль не пылит там, а по виду похожа на пахучее масло… Там все прекрасно, и, куда ни посмотри, ничего не найдешь нехорошего, что не было бы приятно для глаза, поучительно для ума и радостно для сердца». Описание по своему содержанию — довольно беспомощное, свидетельствующее о скудости воображения рассказчика и о неконкретности порожденных этим воображением представлений. А кое-что более или менее бессмысленно. Зачем, например, в раю плодородная почва, если его обитателям не приходится ее обрабатывать?!
Сами же они изображены в таком виде: «Если изучать нагие тела жителей страны той, то жестокого ничего нет в них, они мягки, как шелковые подушки, набитые ватой». И моральные их качества — отменные: «Нет там лжецов, клеветников, грубиянов, сплетников, умножающих зло и вред». Дальше идет нагромождение странностей и прямых бессмыслиц: «Так как все имеют признаки мужчин, то женщин нет там. А так как существа появляются там из цветка лотоса, то и рождения из чрева там нет». Рождения там вообще-то вроде и не должно быть, ибо население рая пополняется за счет прибывающих с земли праведников. На это, впрочем, есть ответ: душа праведника переносится в рай заключенной в цветок лотоса, там этот цветок распускается, и из него выходит маленький человечек, который потом, очевидно, вырастает в полноценного праведника. Как ни удивительно к тому же, в раю умирают, правда особым образом: «При смерти там не бывает мучений, и с отшествием души исчезает и труп» 23. Не будем приводить других деталей, ибо уже ясно, что религиозное воображение и здесь оказалось бессильно придумать нечто принципиально иное, чем то, что человек видит в реальной жизни, оно только комбинирует отдельные элементы его, притом делает это фантастически-запутанно, иногда до нелепости.
Любопытно отметить, что автор приведенного выше описания рая не может совсем избавиться от представлений о чувственных удовольствиях, которые могут оказаться доступными раежителям. «Если есть охота, — говорит он, — то обитатели того царства в каждом доме услаждаются пением и плясками, исполняемыми 7000 дев». Оказывается, женщины там все-таки есть. Тут же, однако, автор спохватывается и делает оговорку: «Но это наслаждение не возбуждает в них страстей, и они всегда бывают тверды в законе». Чистый, значит, вокал и балет, а о нарушении закона (какого закона?) не может быть и речи. Далеко, значит, не все удовольствия доступны праведнику в раю. Надо признать, что мусульманский рай куда как либеральнее и щедрее. Впрочем, влияние мусульманских представлений чувствуется в самом этом мотиве, связанном с 7000 дев.
Нет никакой логической возможности связать представление о райском будущем, ожидающем праведника, с верой в кармические перерождения. Умерший возрождается в новом существе, и каково будет это существо, зависит от того, как он жил. Можно домыслить такое решение вопроса: по прошествии определенного, видимо, очень большого количества самых лучших и возвышенных перерождений эта карусель кончается, и человек идет в рай. Кончается сансара, а начинается неизвестно что…
Для характеристики ламаистской картины мира имеет известное значение верование ламаизма в существование (неизвестно где) Шамбалы, неведомого баснословного государства, которому предстоит сыграть когда-нибудь решающую роль в истории Вселенной и нашей Земли. Наступит время, когда Шамбала вступит в борьбу со всем остальным миром, и в результате этой так называемой шамбалийской войны будет окончательно побеждено и ликвидировано зло. Какого рода зло имеется в виду, предоставляется судить фантазии верующего. Можно подразумевать социальное зло в виде страданий, причиняемых человеку человеком, можно подразумевать здесь зло биологическое в виде страданий, причиняемых человеку болезнями и процессом умирания. Скорее всего, однако, имеется в виду зло религиозное — «неистинные» злые боги и демоны. Во всяком случае перед нами типичное эсхатологическое учение, выражающееся в ожидании конца света и в представлении о том, что раньше или позже этот конец наступит.
ОБРЯДЫ В ЛАМАИЗМЕ
Культ, как система обрядов, в первоначальном буддизме был весьма слабо представлен, но в ходе развития возник такой пышный сложный театрализованный комплекс ритуалов и церемоний, какой вряд ли известен какой-либо другой религии мира. Особенно это относится к ламаизму 24.
По своему смыслу ритуалы, составляющие ламаистский культ, мало чем отличаются от практикуемых в других религиях. По своей форме ламаистские обряды включают словесный и музыкально-вокальный элементы, а также жертвоприношения, процессии, ритуальные телодвижения, даже танцы, причащение. Пожалуй, все эти элементы лишь ярче выражены и более интенсивно проводятся, чем в других религиях.
К молитвам в ламаизме относится прежде всего исповедание веры 25, которым обычно начинается ламаистское богослужение. Участник богослужения изъявляет свое «преклонение» перед «четырьмя святынями» — перед Буддой, дхармой, общиной и перед своим духовным руководителем. Иногда исповедание веры требуется с подробным перечислением догматов, составляющих вероучение буддизма. Затем следуют красноречивые многословные хвалы различным божествам. Существуют, правда, хвалебные гимны, состоящие лишь из повторяющихся восклицаний типа: «О славный, о великий, о могущественный!» и т. п.
Перечисленные молитвы имеют целью подготовить божество к приятию конкретных прошений молящегося. Просьба общего типа, обычно фигурирующая в богослужении, заключает в себе два элемента: изгнание или по меньшей мере обуздание злых демонов и дарование вечной или в крайнем случае продолжительной жизни. Умилостивив богов или доброжелательных демонов жертвоприношением (например, горсткой риса, смоченного святой водой), лама обращается к злым демонам с грозным предупреждением: «Если же вы откажетесь уйти, то я, могущественный Хаягрива (имеется в виду, что лама выступает теперь от имени божества. — И. К.) у князь гневных демонов, сокрушу вас, ваше тело, речь и дух превращу в прах. Слушайте моего приказания и уходите каждый в свое убежище, или горе вам!» После этого все молящиеся громогласно констатируют: «Боги осилили, демоны удалились!» Перед нами обряд, во многом аналогичный соответствующим церемониям изгнания Сатаны и подчиненных ему бесов в других «высших» религиях. Довольно близкую аналогию ему составляет и шаманская практика борьбы со злыми демонами при помощи добрых.
Как уже говорилось, существенным элементом молитвенного прошения является мольба о даровании жизни. Сопровождаемая жертвоприношением, она звучит примерно так: «Да будет жизнь постоянна как адамант, победоносна, как знамя царя, да будет она тверда и сильна, как орел, и длится вечно. Да буду я благословен даром жизни вечной, и да исполнятся желанья мои…» 26
И здесь нельзя не отметить то вопиющее противоречие, в котором находится молитва с учением буддизма о ничтожестве и суетности жизни, о спасительном стремлении к избавлению от жизни и ее круговоротов. Это еще раз подтверждает тот факт, что, когда догмы религии приходят в противоречие с жизненными потребностями людей, они либо отбрасываются, либо остаются в области чистой теории и никак не определяют чаяния и практическое поведение верующих.
Каждая молитва в той или иной мере носит на себе черты магического заклинания. Существуют, однако, такие, в которых характерные черты магической формулы выражены с особой ясностью. Ламаистский ритуал содержит в себе особенно много таких заклинаний. Они либо произносятся на санскрите, непонятном молящимся, и носят, следовательно, формальный характер, либо представляют собой набор бессмысленных слов и фраз, произношение которых призвано обеспечить нужный молящемуся эффект. При помощи этих так называемых дарани ламаист рассчитывает избавиться от болезней, от укусов змей, от козней драконов, от неприемлемого перерождения, от ветра и дождя и даже от неверия.
В ламаизме существует универсальная заклинательная формула, более популярная, чем, пожалуй, все остальные молитвы. Это знаменитое «ом мани падме хум». Буквальный смысл ее достаточно темен, точнее сказать, его нет. Значение отдельных элементов данной формулы расшифровывается рядом исследователей так: первый слог «ом» есть то мистическое слово, которым шиваиты обозначают свою Троицу из Брахмы, Шивы и Вишну. «Мани» есть название каких-то мистических драгоценных камней, при помощи которых можно получить все, чего только пожелаешь. «Падме», или «бадме», — это название цветка лотоса, который считается местом возрождения божественных существ. Наконец, слово «хум», или «хоум», значит воистину, поистине 27. Нетрудно видеть, что в совокупности этих «смыслов» реальный смысл отсутствует. Тем не менее по своему значению в ламаистском культе «ом мани» не имеет себе равных.
Произносить эту молитву надо постоянно и непрерывно, как только предоставляется возможность. Считается, что верующий ламаист произносит ее несколько сот раз в день. Найдена, однако, возможность облегчения этой повинности для верующего. Существуют вращающиеся при помощи рукоятки металлические или деревянные цилиндры, на стенках которых вырезана чудодейственная магическая формула и которые, помимо того, наполнены бумажками, исписанными ею. Каждый поворот цилиндра производит то магическое действие, которое в сумме дало бы повторение «ом мани» сотни раз, сколько повернулись все бумажки плюс стенки цилиндра. Если достаточно быстро вертеть его, то можно заработать капитал в миллионы произнесенных заклинаний. Английский автор XIX в. Джилл так описывает это своеобразное религиозно-бытовое явление: «Целый день не только ламы, но и народ шепчет всеобщую молитву и вертит цилиндр в направлении часовой стрелки. При входе в каждый тибетский дом стоит один или несколько больших цилиндров; член семьи или гость, проходя мимо, не преминет покрутить его за процветание этого дома. Почти на каждой речке видишь маленькое строение, которое можно принять за водяную мельницу; но на деле оказывается, что там находится цилиндр, приводимый в движение течением реки и воссылающий благочестивые молитвы к небу… Иногда огромные сараи наполнены такими ярко раскрашенными цилиндрами. Вообще в Тибете на каждом перекрестке и на каждом шагу это изречение в той или иной форме обращает на себя внимание путника» 28.
Механизация магической техники распространяется не только на «ом мани», но и на другие дарани. Строятся специальные длинные стены, на которых начертываются различные магические формулы или религиозные изречения; пройти вдоль такой стены означает то же, что прочитать все на ней написанное. Таким образом и неграмотный получает возможность обрести религиозную заслугу чтения священных книг. Есть и другие средства многократного усиления молитвенных возможностей человека, например развевающиеся по ветру флаги и полотнища с начертанными на них письменами.
Как правило, ламаистское богослужение сопровождается музыкой и пением. Большую роль играет колокольчик, звон которого служит сигналом для перехода к очередной фазе богослужения. Такую же роль играют звуки, извлекаемые из огромных морских раковин. Эти инструменты вместе с сильными трубами составляют оркестр, играющий чрезвычайно мощно, но какофонично и вразброд. Практикуется также хоровое пение: обычно поет хор мальчиков, причем в отличие от звучания оркестра — торжественно и мелодично.
В жертву богам и демонам ламаисты приносят во время богослужения кроме риса специальные хлебы, именуемые балин. Аналогия с христианской просфорой здесь тем более полна, что из трех видов балина, приносимых на хурал, два раздаются верующим; третий остается в храме, откуда его выносят после богослужения и сжигают. Существует в ламаизме и такой ритуал, близко напоминающий таинство причащения в христианстве: после ряда церемоний и произнесения молитвенных формул ведущий хурал лама раздает присутствующим по глотку освященного вина и по три пилюли, изготовленные из муки с сахаром и маслом по специальному рецепту. Проглотив все это, верующий считает, что он приобщился к благодати тех богов, в честь которых совершалось богослужение 29.
Особенностью ламаистского культа является то, что миряне играют в нем самую незначительную роль. Хуралы происходят в монастырях, и их исполнителями являются многочисленные проживающие там ламы. Верующие чаще всего во время богослужения даже не имеют доступа в храм, им предоставляется право извне слушать доносящиеся звуки молитв и музыки, твердя про себя несчетное число раз формулу «ом мани» и давая многократные обеты избегать пяти главных грехов. Помимо того, верующий ламаист имеет возможность совершать у дверей храма молитвенные телодвижения, в числе которых на первом плане коленопреклонения и простирание ниц на землю.
Важнейшую роль в становлении ламаистского культа сыграло то, что при этом не отвергались, а, наоборот, ассимилировались добуддийские культы, бытовавшие у соответствующих народов. Наиболее ярким примером этого является культ так называемых обо.
С незапамятных времен у монгольских и тюркских народов почитались отдельные местности, чем-либо выдававшиеся в окружающей природной обстановке, — горы, пещеры, перевалы, берега озер и рек и т. д., они назывались обо. Точнее сказать, объектом почитания здесь были не сами эти места, а их духи, демоны или божества, считавшиеся связанными с ними. Для установления контакта с этими сверхъестественными существами люди должны были приносить им жертвы. Как правило, это были жертвы символического характера — палки, воткнутые в землю, куски ткани, камни, чаще всего — последние. Из этих камней складывались целые кучи, впоследствии именно они стали именоваться обо.
В ранние времена каждое обо было индивидуальным, оно посвящалось определенному «хозяину» данной местности; в дальнейшем появились и такие, которые были посвящены группе демонов, а некоторые из них заполучили по целому пантеону. Постепенная ламаизация культа обо приводила к тому, что в число имен хозяев каждого из них наряду с доламаистскими демонами включались и имена буддийско-ламаистских божеств, начиная с самого Шакья-Муни и Майтрейи (Майдари в тибетско-монгольском варианте) вплоть до Авалокитешвары и рядовых докшитов — охранителей жилища.
Простая куча камней была для ламаизма слишком примитивным символом святости. Религия, располагавшая архитектурно-изысканными монастырями-дацанами и храмами, должна была и в данном случае прибегнуть к более сложным формам культового инструментария и культовых сооружений. Результатом этого было появление двухслойных обо: внизу это куча камней, а над ней надстроена кумирня или буддийская часовня. Такие комбинированные святилища чрезвычайно многочисленны в странах распространения ламаизма, а культ, связанный с ними, занял у ламаистов по распространенности первое место среди внедацанских обрядов.
Ламаизм унаследовал доламаистские обряды, связанные с обо, в частности наряду с эпизодическими, случайными жертвоприношениями и заклинаниями периодические службы. Ламаистский обряд служения обо заключается в следующем: лама читает некоторые тексты по служебнику, потом начинается своего рода «крестный ход» вокруг обо, в течение которого участники брызжут в воздух молоко, чай, водку, оставшееся выпивают сами. Адресат жертвоприношений, указываемый ламой, ведущим обряд, включает в себя имена как ламаистских божеств, так и доламаистских демонов. Тексты же молитв и гимнов, возносимых первым, нередко буквально повторяют шаманские заклинания и выкрики, адресованные демону данной местности.
В семейном быту ламаистов занимает немалое место культ докшитов — богов-охранителей. С распространением ламаизма он вступил в своего рода борьбу с бытовавшим ранее культом онгонов — демонов до-ламаистского пантеона. Дело кончилось миром: почитают и тех и других. Иногда сразу приносят жертву и докшиту и онгону, но при этом стараются, чтобы ни тот ни другой не узнал, что и соперник сподобился той же чести, что и он.
Верующий ламаист носит на шее оберег от козней злых демонов. Это либо кусок бумаги или материи, обшитый кожей, с начертанными на нем заклинаниями, либо находящаяся в маленьком футлярчике статуэтка Будды. Новорожденному этот оберег надевается на шею, руки и ноги. Аналоги мы знаем в христианстве — нательные крестики или иконки, и в иудаизме — надеваемые на голову и на левую руку ящички с текстом «Слушай, Израиль» (тефилим). Правда, в последнем случае этот своеобразный фетиш надевается только на время молитвы.
В трудных случаях жизни ламаист обращается к ламе, исполняющему обязанности астролога, за тем, чтобы тот, ознакомившись с положением небесных светил и посоветовавшись с соответствующими дружественными демонами, дал указания, как «правильно» поступить и заодно какие магические обряды надо совершить, чтобы предотвратить возможные неприятности. Эти обряды совершит сам лама за соответствующую, конечно, мзду.
Особенно часто ламаист обращается за магической помощью к ламе в случаях болезни или вообще тяжелого физического состояния. Вступают в дело обычные шаманистские приемы информации от дружественных демонов о причине болезни, после установления таковой начинается магическое же врачевание. Широко распространен предрассудок, по которому ламаистское врачевание сближается или даже прямо отождествляется с так называемой тибетской медициной. Вероятно, в том, что именуется этим названием, есть какие-то элементы стихийного опыта народных масс, но их никак нельзя смешивать с шаманско-ламаистскими понятиями о причинах болезней и методах их лечения.
Представляет известный интерес и совокупность обрядов, связанных в ламаизме со смертью и погребением. Эти обряды выглядят в глазах буддиста особенно важными, так как смерть, с его точки зрения, есть не конец существования человека, а реализация процесса перехода в новое существование. И хотя характер этого перерождения заранее определен тем, как покойник провел свою жизнь, все же точное исполнение всех предписаний может ему с точки зрения ламаизма облегчить переход в новое существование, а может быть, даже в какой-то мере повлиять на характер последнего.
Прежде всего важно обеспечить душе умершего наилучшие условия ее выхода из тела. Надо, чтобы она вышла через макушку, а не через какое-нибудь другое место, например через ноги или задний проход. Чтобы осуществить это, лама, распоряжающийся обрядом, смазывает макушку трупа особым составом — именно через смазанное место и будет выходить душа. После этого надо узнать у ламы-астролога, какие в данном случае надо соблюсти условия: число и порядок погребальных хуралов, каким образом выносить тело, кто из лам и близких покойника должен участвовать и в какой роли в обряде погребения.
Важное место в семейном быту ламаистов занимают домашние алтари. Это своего рода шкафчики, заполненные статуэтками и другими изображениями буддистских и прочих божеств и демонов. Тут же, как правило, имеется полочка, на которой стоят чашки, предназначенные для жертвоприношений вином, маслом, кумысом, курильница или свечи для курения, цветы. И здесь напрашивается аналогия с «красным углом» в хате русского крестьянина с иконами и лампадой.
Наряду с личным и семейным культом в ламаизме существует публичный культ, отправляемый в дацанах и храмах. В нем также наличествует синкретизированный с ламаизмом культ аборигенов данной местности, имеющий древнее добуддийское происхождение.
В ламаистских монастырях 3 раза в день происходят малые хуралы — богослужения. Кроме того, периодически, применительно к фазам луны и к некоторым другим природным явлениям и общественным событиям проводятся большие хуралы. В различных монастырях организуются торжественные богослужения по поводам, связанным именно с праздником данной местности. В одних особо пышно инсценируется и празднуется «изгнание злых духов», в других — проводится «праздник лампад», «праздник цветов» и т. д.
Великими и по придаваемому им значению, и по продолжительности являются часто проводимые хуралы в честь докшитов. Практически именно с культом докшитов чаще всего имеет дело верующий ламаист.
Наиболее пышным централизованным дацанским обрядом в ламаизме является цам. Целью этого действа, исполняющегося большим количеством лам, является очищение данной местности от злых демонов. В течение нескольких часов длится пляска, происходящая сначала в самом дацане, а потом на открытом воздухе; она изображает борьбу между охранителями-докшитами, с одной стороны, и злыми духами, врагами религии — с другой. Участники представления одеваются в фантастические костюмы и маски, изображающие тех или иных персонажей пантеона и пандемониума. Пляска сопровождается оглушительной музыкой и пронзительно громким пением участников. Как телодвижения их, так и страшный шум, производящийся ими, призваны напугать «противника», но, разумеется, не меньше его оказываются подавленными и напуганными тысячи мирян, пассивных зрителей мистерии. Дело кончается, разумеется, победой благочестивых докшитов и публичным сожжением аксессуаров, изображающих «мусор», в который превращены враги религии и их приверженцы.
Из других дацанских публичных церемоний следует отметить Цаган-сара, что значит буквально «Белый месяц». По существу это праздник в честь ожидаемого прихода грядущего Будды — Майдари. Праздник носит еще название Майдари-хурала. Мы приведем его описание со слов очевидца 1840 г.
Цаган-сара празднуется ежегодно на новомесячие начала Нового года по монгольскому лунному календарю. Самой церемонии Майдари-хурала предшествуют две недели полупраздничного положения, когда люди ездят друг к другу в гости и большие массы верующих собираются к дацану в ожидании предстоящей церемонии. Накануне самого праздника верующие вынимают бурханов-идолов из сундуков и обряжают их в праздничные одежды. С утра в дацане происходит большой хурал. Прибывает хамбо-лама (высокое должностное лицо в иерархии лам), его привозят ламы на деревянной тележке. В самом дацане происходит освящение «аршияна» — святой воды. Младшие ламы обходят с этой водой сидящих полукружием старших, бросают каждому в горсть несколько капель, а те мочат святой водой глаза, нос и рот; считается, что этим они открывают свои души для приема Майдари. Потом происходит обряд освящения хлеба-зерна; для этого кучки этого зерна бросают на мандалу. Освященное зерно бросают вверх — в жертву многочисленным идолам-бурханам, заполняющим помещение храма. Все это время ламы, находящиеся в храме, поют речитативом молитвенные тексты.
После окончания хурала из алтаря выдвигается громадный ящик со статуей Майдари и с непрестанным пением выносится наружу. Там уже ждет колесница с балдахином, задрапированная тканями. Приведем описание очевидца: «Русские сани (роспуски) на четырех колесах и деревянные кони, выкрашенные зеленой краской, с гривой и хвостом из гаруса и шелка, кони запряжены в русскую упряжь с дугами. Когда шкап с бурханом поставили на колесницу, ламы, схватив концы веревок, прикрепленных к поддону, на котором были утверждены кони, повезли его в ворота, предшествуемые двумя знаменами вроде хоругвей и каким-то восьмиугольным зонтиком с лоскутами и кистями по углам…» За процессией следуют музыканты. Что это была за музыка, можно получить представление из следующего описания того же очевидца: «Оглушительные, как гром, барабаны и малые литавры, сиплые звуки огромных медных труб (бурэ), пискливые гоплины, раздирающие душу удары медных тарелок, звон колокольчиков и бубенчиков». Сопровождаемая этим невообразимым шумом, процессия во главе с Майдари на колеснице двинулась вокруг дацана. Достигнув северного угла его, остановилась, ламы полукругом уселись на войлоке на снегу и повели хурал. Опять пошла в ход святая вода. Потом было проведено церемониальное чаепитие, после чего процессия двинулась дальше, останавливаясь и на остальных трех углах и повторяя ту же церемонию. После этого можно было считать, что подготовка к приему Майдари в земное существование проведена достаточно основательно 30.
Причудливо соединились таким образом в ламаистской обрядности элементы разных культов и религий: и собственно буддийские обряды, и шаманизм полидемонистического культа бон, и формы культа, весьма близкие как по форме своего выполнения, так и по смысловому содержанию к христианству. Достаточно вспомнить в этой связи святую воду, освященный хлеб, в данном случае зерно. То, что молитвы читаются на непонятном в Монголии и в Бурятии тибетском языке и смысл их поэтому недоступен молящимся, тоже не новость. В иудаизме молитвы произносятся на древнееврейском и арамейском языках, неизвестных большинству молящихся, в католицизме литургию служат на латинском. Главный же мотив всего праздника Майдари — эсхатологический — наличествует во многих религиях, где ожидают прихода мессии, двенадцатого имама или махди. Социальный смысл такого ожидания понятен: жить людям тяжело и плохо, вот фантазия и строит образ долженствующего прийти сверхъестественного существа, которое наконец наведет должный порядок.
Количество лам, проживающих в тибетских монастырях, исчислялось в XIX — начале XX в. сотнями тысяч. Почти в каждой семье один из сыновей посвящался духовному служению и по прошествии длительного курса обучения достигал ламской степени. Вначале он становился «банди», или «манджи», — послушником, обязанным в течение ряда лет точно исполнять возложенные на него десять обязанностей и обетов, доказывая право на собственное ламское достоинство. От 15 до 30 лет банди мог получить сан гецюля, связанный уже с 36 обетами, а заодно и новые права. Вершиной иерархии «невоплощенных» лам был сан гелюнга, носитель которого выполнял уже 253 обета. Было бы ошибкой полагать, что каждое возвышение ламы по иерархической лестнице было связано для него, со все более суровым аскетизмом образа жизни. В общем ламы вели очень свободную жизнь, о чем сохранилось много сведений и в народной памяти, и в официальных документах.
Помимо указанных трех ступеней иерархии церковнослужителей в ламаизме существует и система учено-ламских степеней, включающая около 30 наименований. Среди лам этого рода имеются специалисты не только по истолкованию догматов веры, но и по магическим заклинаниям (дарани), по магически-шаманскому врачеванию, по астрологии. Последняя «специальность» была связана с указанием счастливых и, наоборот, неподходящих дней для совершения тех или иных действий. В жизни каждого ламаиста консультация, которую он получал по важному жизненному случаю от ламы, играла существенную роль. Фактически ламы выступали в роли советчиков по всем вопросам жизни и деятельности верующего, а в общественно-политической жизни Тибета они были, как мы уже видели, диктаторами.
Перечисленные выше категории составляют лишь нижний и средний этажи ламаистской иерархии. На этих ступенях ламы еще не являются перевоплощенцами, а представляют лишь самих себя. Над ними стоит высшая категория, каждый представитель которой является хубилганом — воплощением того или другого небожителя. Верх данной пирамиды занимают, конечно, далай-лама и панчен-лама, воплощающие соответственно Авалокитешвару и Амитабу. За ними идут хутухты — ламаистские архиереи, возглавляющие церковную и гражданскую администрацию в отдельных областях страны и составляющие, кроме того, штат высших чиновников при дворах далай-ламы и панчен-ламы. Наконец, низшую ступень категории воплощенцев занимают просто хубилганы, из которых обычно назначаются настоятели монастырей и к которым, помимо того, относятся наиболее почитаемые и старые обитатели этих монастырей.
Таким образом, государственно-церковная система тибетского ламаизма располагала к началу XX в. огромным штатом функционеров, живших за счет народа и составлявших по существу эксплуататорский класс. Его привилегии и положение в обществе основывались на исторически сложившемся безусловном религиозном авторитете.
БУДДИЗМ И БУДДО-ЛАМАИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
До недавнего времени считалось, что буддизм проник на территорию современного СССР только в форме ламаизма через Тибет и Монголию. Теперь археологическими исследованиями установлено, что буддизм имел уже известное распространение в Средней Азии в первые века нашей эры и что, очевидно, проникнуть на эту территорию он мог непосредственно из Индии.
Известно, что в Тохаристане, государстве, охватывавшем в раннее средневековье южную часть современных Узбекистана и Таджикистана, в V–VIII вв. буддизм был распространен. Об этом сообщают путешественники того времени 31. Больше того, похоже, что в домусульманской Средней Азии он вообще играл довольно большую роль. Ряд археологических открытий, сделанных советскими учеными начиная с 30-х гг., подтвердил это предположение.
Особо существенные открытия были сделаны на холме Кара-Тепе в Туркмении близ города Старый Термез. Там найдены остатки большого буддийского монастыря, существовавшего в первые столетия нашей эры. Монастырь включал в себя помимо наземных построек еще довольно большое количество пещерных сооружений, служивших помимо своего храмового назначения еще и «убежищем», где «спасались» отшельники. В недавнее время был открыт большой монастырь в долине р. Вахш (Южный Таджикистан), известный под названием Аджина-Тепе, относящийся примерно к середине VII в. Был сделан и ряд других открытий, давших основание одному из ученых, производивших эти исследования, В. А. Литвинскому, прийти к такому выводу: «Логично… предположить, что в доисламской Средней Азии буддизм являлся одним из важных компонентов идеологической жизни. Не только в крохотные монастырские кельи и в обширные дворцовые палаты, но и в дом бедняка ремесленника и в лачугу крестьянина — всюду проникала эта религия, во всяком случае, в Тохаристане» 32.
Монгольское завоевание этих местностей и последующая исламизация завоевателей положили конец существованию здесь буддизма. В дальнейшем он появился на территории современного СССР уже значительно позднее в виде ламаизма, занесенный из Тибета и Монголии 33.
В Забайкалье буддизм появился в конце XVII в. и довольно быстро распространился среди забайкальских бурят. Считается, что уже к середине XIX в. все они были ламаистами. К 1842 г. в Забайкалье было 34 дацана и около пяти с половиной тысяч лам. Само собой разумеется, что верования и культы ламаизма переплетались в сознании и быту новообращенных с имевшими до этого среди них распространение полидемонизмом и шаманизмом. Примерно в это же время из Центральной Азии переселились на территорию Нижнего Поволжья и северного побережья Каспийского моря предки современных калмыков — ойраты. Так же, как и буряты, они исповедовали ламаизм, тоже перемешанный и синкретизированный с первобытными полидемонистическими верованиями и шаманством. Третьим этническим контингентом, среди которого распространен ламаизм, явились на нашей территории тувинцы. Эта народность была принята под протекторат России в 1914 г., между 1921 и 1944 гг. вела государственное существование в форме Тувинской Народной Республики, потом была принята в состав СССР. Ламаизм тувинцев был настолько тесно связан с первобытными верованиями и культами, что некоторые обряды у них даже совершались совместно ламами и шаманами.
Во всех этих случаях царское правительство с полной готовностью принимало ламаизм и ламаистскую церковь под свое покровительство. Оно усматривало в ламаизме существенные возможности идеологического и политического воздействия на соответствующие народы. Рядом законодательных и административных актов оно легализовало эту религию в качестве официальной для этих народов.
Царская администрация сделала предметом своей постоянной заботы комплектование и подбор кадров ламаистского духовенства. Так, заключавший от имени России мирный договор с Китаем С. В. Рагузинский оставил местной администрации инструкцию, смысл которой заключался в том, что самое важное — готовить лам из местного населения, не допуская через границу лам из Тибета, «дабы российских подданных пожитки не чужим, а своим доставались…» 34.
Главное же заключалось в необходимости использования ламаистской церкви в политических и идеологических целях самодержавия.
При Николае I в 1853 г. был принят специальный закон, подписанный царем, — «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири». Он гласил: «Высшее управление делами ламайского духовенства в Сибири принадлежит Министерству Внутренних Дел». Тому же самому министерству, в ведении которого находились и полиция, и корпус жандармов. Стать ламой буддист мог, как это установило положение, опять-таки только с разрешения властей. «Возведение, — говорилось там, — в ламское достоинство, т. е. в степени гелюнга и гецюля, делается по представлению бандидохамбо (глава ламаистского духовенства в Бурятии. — И. К.), с утверждения Забайкальского военного губернатора». А сам бандидо-хамбо-лама утверждался в своем сане царем. По существу, таким образом, буддийская церковь в России становилась такой же государственной, как и некоторые другие.
В составе буддийского духовенства были твердые, утвержденные государством штаты. В том же 1853 г. были установлены контингенты лам, которые так и именовались штатными, всего их количество устанавливалось в 235 единиц. Штатные ламы находились в привилегированном положении, они были освобождены от разных повинностей и не подлежали, в частности, телесным наказаниям. Наряду с ними существовало, однако, большое количество нештатных лам, не признававшихся властями. Так, в Агинском дацане при 21 штатном ламе было одновременно свыше тысячи нештатных. Всего считается, что на каждые десять штатных лам было около тысячи нештатных.
Не следует полагать, что власти предъявляли людям, принимавшимся ими в ламы, требования высокой «профессиональной» квалификации, знания буддийского вероучения и буддийско-ламаистских священных книг. В 1864 г. в правительстве возник спор относительно того, какими соображениями руководствоваться при комплектовании кадров калмыцкого духовенства. Проект инструкции по этому вопросу, представленный Министерством государственных имуществ (?!), гласил, что к должностям штатных лам должны быть допускаемы лица, знакомые с учением своей веры. Министерство внутренних дел опротестовало эту установку по тем соображениям, что ламы, квалифицированные в своей вере, будут препятствием на пути христианизации бурятского населения. В качестве основного требования, предъявлявшегося к возводимым в сан ламам, настаивало Министерство внутренних дел, надо выдвинуть «знание русского языка и нравственные качества… а не догматическую ученость»36. Под нравственными качествами, конечно, подразумевалось не что иное, как преданность «царю и отечеству». В середине XIX в. хамбо-лама был лишен права назначать настоятелей монастырей (ширатуев). Вместо него это делала комиссия чиновников с участием православного архиерея.
Когда в 1877 г. руководство Гусиноозерского дацана попыталось создать при дацане школу для подготовки лам, это было ему запрещено. Власти руководствовались при этом такими соображениями: «Не должно быть в видах правительства настаивать на учености лам и познаниях их в догматах языческого суеверия». Видимо, буддизм-ламаизм рассматривался царскими властями как серьезный соперник христианства, и не в интересах правительства было помогать ему в его борьбе за вероисповедную принадлежность населения.
Зависимость ламаистской церкви от властей была установлена не только на высших ступенях иерархии, но и внизу. Дацаны и проживавшие в них ламы были в полной зависимости от земской полиции, которая осуществляла повседневный надзор за их деятельностью. По этому поводу пишет дореволюционный автор: «Так как в каждом дацане земской полиции… всегда можно усмотреть какие-нибудь беспорядки и нарушения чего-нибудь, то обыкновенно дацану приходится откупаться»37. И автор приводит многочисленные факты лихоимства и взяточничества, которому подвергались дацаны в пользу полиции и чиновников.
Еще в 1741 г. был установлен порядок, по которому ламы должны были принимать специальную присягу «на верноподданность России», т. е. царскому правительству. Они действительно занимали верноподданническую позицию в отношении самодержавия и внушали соответствующие чувства верующим. Царица Екатерина II была ламами провозглашена воплощением богини Царан-дара-Эхе, а следующие за ней цари уже автоматически в качестве ее потомков оказывались воплощением той же богини. В дацанах портрет царя, занимавшего в данный момент престол, красовался на стене среди изображений «других богов». Высокопоставленный бурятский лама Вамбоцыренов в специальном письме к царю Николаю II утверждал, что он убежденный монархист; «наше стремление, — писал он о себе и своих единомышленниках, — такое же, как стремление Союза Русского народа» 38. Вплоть до революции ламаистское духовенство усердно служило царизму и эксплуататорским классам России.
К этому времени ламаистское духовенство представляло собой мощную — по меньшей мере по количеству — силу. У селенгинских и хоринских бурят было 11 276 лам и хувараков (послушников), что составляло почти 10 % всего мужского населения Бурятии. В Калмыкии было 89 хурулов (монастырей) и 80 храмов; монахов насчитывалось свыше 3 тыс., т. е. около 3 % мужского населения. В Туве было 20 хурэ (монастырей), лам и хувараков — свыше 3 тыс.39 Примечательно, что в той же Туве одновременно насчитывалось до 2 тыс. шаманов и никакой розни между ними и ламами не было, наоборот, сплошь да рядом они сотрудничали и в выполнении обрядов, и во многих других отношениях.
Как правило, ламы вели весьма зажиточный образ жизни. Они не занимались производительным трудом, за них работал народ. В монастырях накоплялись большие богатства, источником которых были систематическое «подаяние», богатые пожертвования со стороны скотопромышленников и купцов, доходы от паломничества. Некоторые из монастырей, особенно в Туве, сами вели большое скотоводческое хозяйство с применением труда батраков и широкую торговлю как продуктами животноводства, так и другими товарами.
Хотя в целом ламаистское духовенство занимало в политической жизни царской России реакционные позиции, революционное движение начала XX в., и особенно революция 1905 г., не могло полностью пройти мимо него. В стране шла классовая дифференциация; и среди бурят, и среди калмыков образовывались слои кулачества и даже национальной буржуазии. Они в какой-то мере приобщались к тем политическим требованиям, которые выдвигались в стране либеральной буржуазией, и пытались привлечь к борьбе за эти требования и ламаистское духовенство. В некоторой степени это удавалось, тем более что в число таких требований входили и такие, которые касались ламаизма и статута ламаистской церкви в России. Не могло также не испытывать на себе ламаистское духовенство политического и идеологического давления все больше втягивающихся в революционное движение народных масс. Все это породило появление либерально-обновленческого крыла в ламаистской церкви.
Идеологи бурятской буржуазной интеллигенции Барадин и Жамцарано, а вместе с ними известные деятели ламства Доржиев и Очиров выдвигали перед царским государством ряд требований, исполнение которых должно было в какой-то мере снять с ламаистской церкви стеснения, связанные со знаменитым положением 1853 г.: институт «штатного» ламства, ограничение строительства новых дацанов и храмов, а также ограничения на организацию и функционирование богословских школ различных степеней, запрещение публикации проповеднической литературы и т. д. Вместе с тем обновленцы строили проекты, относящиеся к реформе самого вероучения и культа ламаизма.
Жамцарано требовал того, чтобы ламаизм вернулся к «истинному» буддизму в его первоначальном философско-абстрактном виде и отказался бы от шаманистических и магических верований и культов, «засоряющих» его. Он утверждал, что главное в буддизме — его «альтруистический» и даже атеистический характер, воспитывающий в человеке стремление к справедливости и равенству, «любовь к человеку, свободу личности и веру в человека». Обновленцы требовали даже переименования ламаизма в буддизм. Нетрудно усмотреть здесь аналогию с другими религиями, в истории которых также отмечаются направления, призывающие вернуться к «первоначальному христианству», «первоначальному исламу». Проповедь этого рода неминуемо связана с идеализацией ранних стадий развития соответствующих религий; к тому же она утопична сама по себе; это наглядно видно из того, что никогда такие призывы не реализовывались в действительности.
Оба направления ламаистского обновленчества — ориентация на царское правительство, с одной стороны, и собственно ламаизм — с другой, — не достигли поставленных целей.
В течение 900-х гг. одно за другим шли в адрес правительства всевозможные прошения и ходатайства об удовлетворении указанных выше требований, связанных с изменением правового положения ламаистской церкви вплоть до ее уравнения в правах с православной церковью. В мае 1905 г. правительство даже учредило для рассмотрения этих прошений особое совещание, но, ничего не сделав, это совещание было через год упразднено. В 1906 г. в Петербург поехала специальная делегация бурятского духовенства во главе с хамбо-ламой. Ее намерением было добиться приема у царя; это, конечно, не удалось. В дальнейшем обновленец— лама Очиров, избранный депутатом II Государственной думы, примкнувший там к фракции кадетов, пытался действовать через Думу, но и из этого ничего не получилось.
Наряду с либерально-кадетствующей группировкой ламаистского духовенства существовала и фактически господствовала основная масса консервативного и демонстрировавшего свою реакционность ламства. Его возглавлял лама Вамборыценов. В своем отношении к самодержавию и к господствующему порядку ламство в общем стояло на позициях угодничества и прислужничества к власть держащим. Так продолжалось до самой революции. Временное правительство наконец добралось до пересмотра положения 1853 г., для чего создало специальную комиссию при Министерстве исповедания, но что-нибудь сделать эта комиссия так и не успела, не по своей воле, как известно.
Из собственно религиозной реформации ламаизма тоже ничего не вышло. Он остался на старых вероисповедных и культовых позициях, хотя уже в годы Советской власти обновленцы во главе с Агваном Доржиевым продолжали свои попытки провести такую реформацию.
Наподобие всех других религиозных организаций нашей страны ламаистское духовенство отнеслось к Октябрьской революции враждебно и в разгоревшейся гражданской войне в общем стояло на стороне контрреволюции. Уже в ноябре 1917 г. Собор духовенства Агинска и Бурятии вынес решение организовать отряд добровольцев в поддержку атамана Семенова. В дальнейшем шло тесное сотрудничество ламства как с Семеновым, так и с бароном Унгерном. Эти два оголтелых кровавых белогвардейца были объявлены хубилганами — воплощениями докшита Махакалы. Ширетуй Цугольского дацана лама Санкиев писал в своем обращении к верующим: «Вся наша надежда в сохранении религии Будды — в руках нашего дорогого по крови (на этот случай можно было объявить Семенова бурятом. — И. К.) Григория Михайловича Семенова». А глава ламаистского духовенства бандидо-хамбо-лама Цыремпилов рассылал по дацанам циркуляры, в которых указывал: «Нам нужно на деле участвовать в падении власти Советов в Забайкалье». И действительно, ламы не ограничивались проповедями, в ряде случаев они самолично вступали в белогвардейские банды и участвовали во всех их действиях.
Упомянутый выше лама Цыремпилов вообще отличался неуемной активностью в служении контрреволюции. В 1919 г. он предпринял поездку в Омск к Колчаку. Тот его принял любезнейшим образом, утвердил в должности главы ламаистского духовенства в Забайкалье, одарил большой суммой в серебре, установил ежемесячное ассигнование в 30 тыс. руб. серебром на содержание дацанского духовенства. Такую же поездку на поклонение к Колчаку совершил и глава тувинского духовенства Лушан Чамзы. Он руководствовался провозглашенной им публично формулой: «Октябрьская революция — страшное зло, надвигающееся на Туву». И предпочитал этому «злу» как Колчака, так и любую антисоветскую силу.
Такими же установками руководствовался и глава калмыцкого духовенства, именовавший себя «ламой калмыцкого народа», Чимит Балданов. Он писал: «Октябрьская революция — дьявольская, она угрожает разрушением нашей веры». Бороться с ней, считал Балданов, надо всеми средствами, не беспокоясь по поводу того, что соответствует буддийскому учению и что, наоборот, противоречит ему. В обращении к хурульным бакшам (настоятелям монастырей) он заявлял: «Хотя учение Будды и говорит щадить живые существа, не убивать все живое, но я думаю, что сейчас, когда нашему духовенству угрожает… зараза Севера, мы должны встать на стороне монархии» 40. И стало быть, можно убивать «все живое». К Колчаку Балданов сам не ездил, но посылал делегации. Дело не ограничивалось контактами с Колчаком и Семеновым. В не меньшей мере объектами ласкового поклонения были и генералы Алексеев, Деникин и все прочие руководители белогвардейщины.
При всем этом ламство в некоторых своих направлениях стремилось завоевать для себя и «независимость» от какой бы то ни было светской власти. Особенно известна деятельность в этом отношении ламы Кижингинского дацана Сандана Цыденова. Еще в 1896 г. он ездил в Петербург и Москву на коронацию царя Николая II. После революции он связался с Семеновым. Скоро, однако, от верноподданнической политики перешел к «теократической»: объявил себя «ханом трех царств», выше которого «на сей земле нет никого». В апреле 1919 г. он созвал суглан (собор духовенства), на котором была провозглашена и принята «Конституция теократического государства» и создано «правительство» этого государства. От дацанов в адрес новоявленного государства шли обращения: «Просим ламу Сандана Цыденова принять нас в свое подданство» 41. Теократическое государство, конечно, вызвало противодействие со стороны Семенова, который вскоре арестовал весь состав правительства. После того, как они заявили о своем раскаянии и выразили верноподданнические чувства, их освободили. Показательно, что атаман не применил особо жестких репрессивных мер в отношении деятелей и идеологов теократического режима: он считал невыгодным пренебрегать сотрудничеством с ламаистским духовенством.
Больше того, он даже сделал попытку использовать идею ламаистского теократизма в своих интересах и в интересах своего покровителя — империалистической Японии. Было задумано создать «Великое Монгольское государство» во главе с высокопоставленным представителем монгольского ламства Нэсей-Гегеном. В Даурии была проведена конференция, которая приняла соответствующую декларацию, предусматривающую, кстати сказать, протекторат Японии над «теократическим» государством. С этой декларацией Нэсей-Геген обратился даже к проходившей в Париже мирной конференции. Монгольская революция 1921 г. положила конец всей теократической возне в этом регионе.
Примечания и ссылки на источники
1 См.: Кочетов А. Н. Ламаизм. М., 1973; Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
2 Возможен и другой перевод — «небесная мать» (см.: Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1911. С. 153).
3 The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston / Translated from Tibetian by Obermiller. Heidelberg, 1932. P. 184–185; Богословский В. А. Очерк истории тибетского народа. М., 1962. С. 39–41. Автор именует Сронцзангамбо несколько по-иному: Сонг-цэн-гам-по. Мы придерживаемся здесь и далее более привычного старого написания.
4 Hoffman Н. Quellen zur Geschichte der tibetischen Bonreligion. Wiesbaden, 1950; Idem. Die Religionen Tibets. Bon und Lamaismus in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Munchen, 1956.
5 См.: Попов И. Ламаизм в Тибете, его история, учение и учреждения. Казань, 1898. С. 156–158; Lalou М. Les Religions du Tibet. P., 1957. P. 27–30. Как и в других работах на иностранных языках, Тисронг именуется здесь Khri-srong-ldebcan. Богословский В. А. (Указ. соч. С. 55 и др.) употребляет имя Три-сонг-дэ-цэн.
6 См.: Попов И. Указ. соч. С. 160; Schulemann G. Geschichte der Dalai-Lamas. Leipzig, 1958. S. 72–73; Lalou M. Op. cit. P. 25.
7 Bell Ch. The Religion of Tibet. Oxford, 1968 P. 36—39
8 Bell Ch. Op. cit. P. 42–48; Schulemann G. Op. cit. S. 76–77.
9 Schulemann G. Op. cit. S. 81–83.
10 Ibid. S. 86–87.
11 Ibid. S 92 et al.
12 Попов И. Указ. соч. С. 171–172.
13 См.: Большая советская энциклопедия Т 42. С 408, Беттани и Дуглас. Указ. соч. Ч 1. С 208.
14 Kaschewsky R. Das Leben der lamaistischen Heiligen: Tson-khapa Bonn, 1967; Пубаев P. E. Биография Цзонхавы, написанная монгольским ученым Чахар-Гэбши Лобсан-Цультимом // Материалы по истории филологии Центральной Азии Вып. 4. Улан-Удэ, 1970. С. 40–53.
15 См.: Попов И. Указ. соч. С. 183–205; Hoffmann Н. Die Reli-gionen Tibets. Bon und Lamaismus in ihrer geschichtlichen Ent-wicklung. S. 170–175; Schulemann G. Op. cit. S. 194–309.
16 Schulemann G. Op. cit. S. 374–401.
17 Ibid. S. 137–145.
18 Буддийский катехизис: Пер. с монгольского. СПб., 1902. С. 5; Архимандрит Хрисанф. Религии древнего мира в их отношении к христианству. Т. 1. СПб., 1873. С. 411–416.
19 См.: Ковалевский О. Буддийская космология. Казань, 1837. С 130–139; Архимандрит Хрисанф. Указ. соч. С. 416–419.
20 Общее представление о пантеоне ламаизма см.: Куртин Б. А. Краткий обзор пантеона северного буддизма и ламаизма в связи с историей учения. М., 1927; Schulemann G. Op. cit. S. 145–146.
21 См.: Остроумов Н. Бурханы — священные изображения буддистов-монголов. Казань, 1886; Позднеев А. Очерки быта буддистских монастырей и буддистского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. СПб., 1887. С. 44–51.
22 См.: Позднеев А. Указ. соч. С. 72–77.
23 Цит. по: Кочетов А. Н. Ламаизм. С. 97, 98.
24 Подробное описание ламаистского богослужения в различных его разновидностях см.: Позднеев А. Указ. соч. С. 275–474.
25 См.: Попов И. Указ. соч. С. 333–336.
26 Беттани и Дуглас. Указ. соч. Ч. 1. С. 244, 245.
27 Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. С. 137; Гюк Э., Габэ. Путешествие через Монголию в Тибет к столице талеламы. М., 1886. С. 265–267.
28 Цит. по: Беттани и Дуглас. Указ. соч. Ч. 1. С. 212.
29 См. там же. С. 243–244.
30 Миссионер. 1875. № 40. С. 327–328.
31 Кочетов А. Н. Буддизм. С. 113.
32 Там же. С. 116.
33 О распространении ламаизма на территории России до революции и о его социальной роли см.: Кочетов А. И. Ламаизм. С. 42–61.
34 Цит. по: там же. С. 44–45.
35 Позднеев А. Ламаиты в Восточной Сибири. СПб., 1887. С. 130.
36 Там же. С. 99.
37 Птицын, В. Буддизм в Забайкалье//Вестник Европы. 1892. № 1. С. 175.
38 Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье. Улан-Удэ, 1957. С. 116.
39 Овчинников В. С. Борьба партийных организаций с реакционной деятельностью ламаистского духовенства // Ученые записки Читинского педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. Вып. 15. 1968. С. 50.
40 См. там же.
41 Там же. С. 53.
Глава седьмая. БУДДИЗМ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ БУДДИЗМА И ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОБУДДИЗМ
На всем протяжении истории буддизма неоднократно возникали «новые веяния», новые методы интерпретации учения Будды, порождавшие различные секты, направления и школы. Присущая буддизму терпимость, как правило, позволяла всем сектам оставаться в лоне общей религии и в случае надобности сливаться, порождая объединенные церкви. Этих сект и направлений было так много, что, казалось бы, все возможные варианты истолкования буддийской догматики были исчерпаны еще в средние века. Тем не менее во второй половине XIX в. в буддизме возникли новые течения, основой которых являлась тенденция к модернизации вероучения и культа этой религии. Носителями такого стремления были, с одной стороны, представители буддийского духовенства и буддийские политические деятели преимущественно стран распространения хинаяны, получившие частично европейское образование, и, с другой — некоторые европейские богоискатели, усмотревшие в буддизме возможность реализации своих стремлений к созданию «возвышенной» и благородной религии 1.
В условиях все прогрессировавшей дискредитации старых догматических религий получили большое распространение поиски утонченных и модернизированных их разновидностей, способных сопротивляться наступлению науки и атеистического мировоззрения. Одна из группировок таких богоискателей в буддизме (теософы), возглавляемая небезызвестной Е. П. Блаватской, усмотрела в южном ответвлении буддизма родственное ее мировоззрению религиозное учение2. В 1879 г. группа членов «Нью-Йоркского теософского общества» предприняла поездку на Цейлон, с тем чтобы, вступив в контакт с близкими ей по духу буддийскими деятелями, основать вместе с ними религию «эзотерического», т. е. тайного, доступного лишь для посвященных, буддизма. К этому времени в Сиаме (современный Таиланд) и на Цейлоне появилась доктрина, вносившая в традиционный буддизм некоторые изменения, соответствовавшие стремлениям европейских теософов. Она была сформулирована в книге сиамского министра Чао-Фиа-Типакона «Книга, объясняющая многое». Высказывалось предположение, что ее действительным автором был не указанный выше министр, а король Сиама Сомдет-Фра-Парамендра. Европейцам она стала известна в изложении англичанина Элебестера 3. Очевидно, именно данную книгу следует считать основным документом необуддизма.
Вероятно, личные контакты европейских теософов с необуддистскими идеологами, хотя и были дружественными, не привели к организационному оформлению движения как такового, во всяком случае на базе этих контактов не возникло никакой церкви. Тем не менее анализ некоторых программных документов, принадлежащих необуддистам, представляет с историко-религиозной точки зрения известный интерес. Рассмотрим в этой связи концепцию сиамского короля (или министра), а также составленный английским теософом-буддистом Г. Олкотом и согласованный им с видным буддистским деятелем Сумангалой Катехизис буддизма 4.
Общей для обоих документов является провозглашаемая почти во всех реформационных движениях тенденция к восстановлению первоначальной чистоты вероучения. И здесь речь шла о реставрации учения Будды, «очищенного» от последующих наслоений: от «идолопоклонства» и вообще грубой обрядности, от «суеверий» и примитивно-фантастических образов и мифов. В свете этой тенденции можно было трактовать буддизм как своего рода философскую религию, рассчитанную на взыскательный и просвещенный интеллигентский вкус.
Чао-Фиа-Типакон требовал такого исторического подхода к буддийскому вероучению, при котором на каждой последующей ступени культурного развития человечества можно вкладывать в данное учение новое содержание. Это открывает возможность для произвольной трактовки любого вероучения, но именно такая возможность вполне устраивала идеологов буддийского модернизма.
В духе христианско-протестантского богословия Ф. Шлейермахера Чао-Фиа-Типакон рассматривал буддизм как путь, связывающий человека с бесконечностью. Личный бог растворяется в тумане бесконечности, зыбкими и призрачными становятся представления и мифы о чудесах, учение о переселении душ превращается чуть ли не в философское учение о круговороте материи. В книге Чао-Фиа-Типакона реальность метемпсихоза аргументируется тем, что пресловутое буддийское «колесо закона» выражает лишь закономерность причин и следствий, из которой человек не может вырваться и после смерти без экстраординарных обстоятельств, которых ему удается добиться — если удастся — специальным поведением. Шаткость этой аргументации подчеркивается тем, что, когда возникает вопрос о механизме и реальных путях перевоплощения, реформатор признает, что ничего конкретного по этому поводу он сказать не может, так как здесь для него, как и для всех других людей, тайна религиозной истины остается нераскрытой. Нет ничего удивительного в том, что та реформа, которой Чао-Фиа-Типакон хотел подвергнуть буддизм, осталась лишь на страницах книги и других аналогичных изданий, а в религиозный обиход не вошла.
Катехизис Олкота и Сумангалы дает хотя и сжатое, но конкретное и обстоятельное изложение содержания необуддийских концепций. Авторы его претендуют на то, что их учение основывается на данных современной науки. При помощи непонятных логических приемов буддийская доктрина перерождения обосновывается биологической теорией эволюции, из которой выводится иерархия различных бодисатв, закон причинности используется для обоснования учения о карме, и все это до крайней степени софистично и надуманно. «Научность» своей концепции авторы Катехизиса пытаются доказать еще тем, что их учение не признает чудес, и в частности такого чуда, как сотворение мира сверхъестественной силой. Более того, они утверждают, что их учение вообще не признает сверхъестественных сил. Все это, однако, на поверку оказывается казуистическими вывертами, не заслуживающими доверия.
Ставится вопрос: «Признает ли буддизм, что человек по своей природе обладает такими тайными силами, которые могут вызвать явления, всем известные под именем чудес?» Следует ответ: «Да, но они естественные, а не сверхъестественные». А после нескольких промежуточных вопросов и ответов выясняется, что способность творить чудеса развивается в каждом человеке, проходящем через ряд аскетических действий, известных под именем «дхияна». Чудес, значит, не бывает, но они бывают. Творить их, конечно, могут не только люди, но и боги.
Существования богов Катехизис не признает. Будду он тоже не считает богом. На вопрос: «Был ли Будда богом?» — следует недвусмысленный отрицательный ответ. Правда, когда тут же спрашивается: «Был ли он человеком?» — Катехизис отвечает несколько двусмысленно: «По внешности он был человеком, но внутренне он не был подобен другим людям». Таким способом вопрос о существе Будды подменяется вопросом о том, на кого он был похож. Отметим, что, описывая смерть Будды, авторы Катехизиса отступают от известных исторических данных, с тем чтобы придать этой смерти характер божественного акта, заранее запланированного учителем: он приготовился к смерти, велел устроить себе специальное ложе, произнес все нужные проповеди, после чего «перешел во внутреннее состояние Самадхи». По преданию же, Будда умер от несварения желудка.
Независимо от того, считать ли богом основателя буддийского вероучения, вопрос о существовании богов и других сверхъестественных существ решается авторами Катехизиса на словах отрицательно, а на деле — положительно. Спрашивается: «Что окончательно побудило его (Будду) расстаться со всем, что так дорого людям, и уйти в лес?» Следует ответ: «Четырехкратное явление дэв (божеств) в четырех разных видах…» Дэвы не ограничились одним лишь явлением царевичу Гаутаме, они помогли ему чудесами: ниспослали глубокий сон на дворцовых привратников так, что они не услышали даже топота конских копыт, раскрыли ворота «без малейшего шума» и т. д. Дальше в Катехизисе говорится о трех разрядах дэв, «обитающих в отдельных собственных мирах и сферах». Никакой другой трактовки понятия «дэвы», кроме как обозначения божеств или вообще сверхъестественных существ, быть не может. А если это так, то каков смысл заявлений реформаторов буддизма о том, что, основываясь на «первоначальном чистом» учении Будды, они отрицают существование сверхъестественных сил?
Такую же позицию мнимого непризнания занимают авторы Катехизиса в отношении веры в душу и в ее бессмертие. На вопрос: «Признает ли буддизм бессмертие души?» — дается следующий ответ: «Душа есть не что иное, как слово, употребляемое невеждами для выражения неверной идеи. Если все подвержено изменению, то и человек включается в это правило, и каждая материальная частица в нем должна меняться. Все, что подвержено изменению, непостоянно, так что не может стать бессмертным». Непонятно, как это заявление согласовывается с буддийским учением о переселении душ. Оказывается, оно достигается при помощи применения не имеющих реального смысла, но многозначительно звучащих словесных формул. Бессмертие якобы является уделом не души, а «индивидуальности». В каждом человеке существует «Танха, или неудовлетворенное стремление к жизни». И именно эта Танха дает возможность «пройти через возрождение под влиянием Кармы». Возрождается же новое соединение скандх, или такая индивидуальность, которая сложилась под влиянием «последних стремлений умирающего». Скандх существует пять, и каждая из них имеет санскритское название. В переводе они означают ощущение, направление ума, умственные способности и т. д. Иначе говоря, нет цельной души, а есть пять элементов, в своей совокупности образующих душу. Почему пять, а не более или менее — остается тайной. Для подтверждения именно этой цифры достаточно сослаться на авторитет священных книг.
Апологеты буддизма заявляют об этической ценности буддийского учения. Они не прочь даже свести весь смысл этой религии к этике. В Катехизисе говорится, что Будда выразил все свое религиозное учение в одном четверостишии: «Отрешение от греха, достижение добродетели, очищение собственной души — такова религия Будды». Перечисленные моральные нормы крайне неопределенны и дают возможность вкладывать в них любое содержание.
Сами фразы о сводимости буддизма к одной лишь этике не новы в истории религии. По отношению к иудаизму их произносил в I в. н. э. раввин Гиллель. Что касается христианства, то буквально нет числа тем его идеологам, которые усматривают все его содержание в евангельской проповеди любви к ближнему. Во всех этих случаях, как и в разбираемом нами Катехизисе, этика ставится на фундамент догмы, а у последней своего фундамента и не оказывается.
Буддистский модернизм не вносит в «реформируемую» им религию ничего существенно нового и того, что дало бы ей основание претендовать на ее возрождение.
БУДДИЗМ В XX в.
В наше время международная идеологическая и общественно-политическая роль буддизма резко возросла в сравнении с непосредственно предшествовавшей эпохой. В иностранной литературе часто повторяется теперь формула о «ренессансе», который переживает эта религия, особенно начиная с 20—30-х гг. нашего столетия. Немецкий автор Г. Ротхермундт, приведя ряд высказываний этого рода, суммирует основные показатели этого ренессанса в следующих направлениях: 1) усиление политической роли буддизма в ряде стран Юго-Восточной Азии; 2) возникновение новых религий, в вероучении которых доминирует буддийское «духовное наследство» (особенно в Японии); 3) новобуддийское движение в Индии, где раньше эта религия фактически исчезла; 4) своего рода экуменизм, связанный со стремлением объединить многочисленные разрозненные секты; 5) активизация миссионерской деятельности и проникновение буддизма в страны Запада 5. В той или иной степени все эти явления имеют место.
Уже в первые десятилетия нашего века в разных странах Юго-Восточной Азии стали возникать объединения духовенства и мирян под знаменем буддизма («Буддийская ассоциация молодежи» в Бирме и др.). Между национальными объединениями завязывались отношения, приводившие к созданию международных буддийских организаций. В 1950 г. в Коломбо (Шри-Ланка) было организовано Всемирное братство буддистов; в дальнейшем резиденция этой организации была перенесена в Бангкок (Таиланд). В 1956 г. в связи с отмечаемым буддистами разных стран 2500-летием с момента смерти Будды6 в Рангуне (Бирма) был созван Всемирный буддийский собор, положивший начало периодическим, раз в несколько лет, мероприятиям этого рода.
Большую роль в росте общественного значения буддизма в XX в. сыграло то обстоятельство, что он в ряде стран выступал в качестве идеологической оболочки антиколониального движения порабощенных народов, а в некоторых случаях давал ему и организационные формы. Это происходило там, где национальное самосознание связывалось в общественной мысли и в политической практике с религиозно-буддийским. Лозунг защиты буддизма переходил в этих случаях в общенациональный лозунг завоевания народом своих прав, необходимым этапом которого было свержение империалистического ига. Дело доходило до сближения и даже отождествления буддизма с социализмом, явление, в некоторой мере аналогичное христианскому социализму. В высказываниях идеологов «буддийского социализма» можно встретить даже заявление о том, что марксизм якобы является чуть ли не разновидностью буддизма, а сам Маркс «прямо или косвенно находился… под влиянием Будды»7. Объективное значение этих, само собой разумеется, совершенно несостоятельных утверждений в некоторых случаях могло быть прогрессивным, поскольку способствовало вовлечению в освободительное движение ряда групп верующих буддистов. Но по мере освобождения стран Юго-Восточной Азии и возникновения на месте прежних колоний ряда самостоятельных государств все больше давала себя знать классовая дифференциация внутри этих государств, что в ходе общественной жизни вело к отмежеванию буддизма от социализма. Сказанное относится прежде всего к таким странам Юго-Восточной Азии, как Бирма, Шри-Ланка, Таиланд, на несколько более раннем этапе— Вьетнам, Лаос, Кампучия. Вместе с тем следует отметить, что теория буддийского социализма нашла распространение и в Японии, где ее приверженцами оказались социально-политические группировки, выступающие против американского засилья и против милитаристско-реваншистской пропаганды.
Особо следует сказать о роли буддизма и буддийской сангхи во Вьетнаме в период его борьбы за освобождение от колониального владычества, за воссоединение страны и за социалистический путь ее развития. До победы народа в этой борьбе правящие круги, включая клику американской марионетки Нго Динь Дьема и его преемников, причисляли себя к приверженцам христианства и не только держали сангху в неполноправном положении, а и подвергали ее деятелей жестоким преследованиям. В то же время наиболее реакционное крыло американских политиков пыталось заигрывать с буддийским духовенством Вьетнама: подогревался «научный» интерес к буддизму, делались благоприятные дипломатические заявления по его адресу и т. д. Это, однако, не подействовало. Отдельные группы духовенства склонялись к сближению с реакционным режимом, но сангха в целом выступала против него. Некоторые монахи шли на демонстративное публичное самосожжение в знак протеста против господства проамериканской хунты. Так, в Сайгоне 11 июня 1963 г. сжег себя семидесятитрехлетний монах Куан Дык, в июле 1970 г. эту акцию повторили еще два монаха. Похороны самосожженцев выливались в массовые демонстрации протеста против проамериканского режима. В ходе освободительной борьбы некоторые монастыри становились очагами вооруженного военного сопротивления.
В ряде районов распространения буддизма отдельные группы его духовенства становились на сторону реакционных сил в их борьбе с силами мира и прогресса. Так, в Шри-Ланке деятельность главы прогрессивного лагеря Соломона Бандаранаике была в 1959 г. пресечена убившими его буддийскими монахами. Правда, тут же другими группами сангхи убитый был провозглашен новым божеством по имени Ридава Баияс Бандара; это является еще одной иллюстрацией разнообразия политических ориентировок различных группировок сангхи не только в Шри-Ланке, но и в других странах распространения буддизма 8. В некоторых же странах сангха занимает довольно последовательную консервативную позицию и стоит на службе реакции. Так, в современной Японии буддизм активно используется реакционными политическими силами в целях подогревания и распространения милитаристского духа в стране.
Буддизм служил в этом отношении милитаристской политике и идеологии Японии на протяжении ряда десятилетий XX в. Рекламировалась идея «триады буддийских стран» — Японии, Китая и Индонезии, конечно, под эгидой и владычеством первой. В период перед второй мировой войной и во время самой войны буддистская пропаганда активнейшим образом использовалась японскими милитаристами в целях мобилизации народов Восточной и Юго-Восточной Азии на борьбу против антифашистских сил в интересах империалистической Японии. Эти интересы получили религиозное выражение в буддийско-ламаистском учении о «шамбалийской войне». Как уже отмечалось, по этому учению, некая благочестивая страна Шамбала должна раньше или позже довести до победного конца свою войну против нечестивых врагов Будды и буддизма. Применяя некоторое насилие в отношении логичности построения и даже элементарного его смысла, можно было отождествлять шамбалийскую священную войну с той, которую вела империалистическая Япония. Известно, однако, что из этого вышло.
В послевоенный период японский буддизм завоевал в стране новые позиции за счет некоторого ослабления воинствующе-монархистского и милитаристского синтоизма. Число его приверженцев возросло. Следует отметить в то же время и развернувшийся процесс дробления буддизма на толки и секты. В условиях фактической ликвидации государственного контроля над религией в первые послевоенные годы число буддийских сект росло таким образом, что к середине 60-х гг. оно достигло 165. Некоторые исследователи объясняют такое интенсивное дробление нежеланием отдельных групп духовенства делиться доходами с другими группами.
Ряд сект, возникших в это время, именуется новыми, но по существу они представляют собой разновидности давних ответвлений буддизма, ведущих свое происхождение со времен средневековья или еще более ранних. Следует особо отметить новообразования, исторически связанные с учением и движением Нитирэна и среди них — наиболее многочисленное, именуемое Сока-Гаккай. Не менее, а, может быть, еще более значительное явление в религиозной жизни современной Японии представляет собой возрожденный и разросшийся дзэн-буддизм. Общая характеристика того, что отличает «новые» секты от их прежних прообразов, лаконично и четко сформулирована советскими исследователями так: «Самое важное отличие большинства их от всех старых сект — высокая миссионерская активность, сравнительно малое внимание, уделяемое вопросам веры, догмы и буддийской философии, и повышенный интерес к политическим и социальным вопросам» 9. Общественно-политическая активность ряда буддийских сект в настоящее время направлена в некоторой степени к участию в борьбе за мир. Довольно большое количество монахов участвует в проводимых пацифистскими силами антивоенных демонстрациях и походах.
Ламаистское ответвление буддизма, резиденцией которого является Лхаса (Тибет) и главой — далай-лама, претерпело в течение рассматриваемого периода серьезнейшие изменения. После возникновения Китайской Народной Республики в 1949 г. власти Тибета долго не могли принять решение о вхождении его в состав КНР. И все же в 1951 г. было заключено соглашение между тибетскими властями и правительством КНР о присоединении Тибета. Он стал провинцией КНР. Однако в 1959 г. в Лхасе разразилось восстание, и после его подавления далай-лама был вынужден бежать в Индию, где он пребывает в изгнании до сих пор. В 1965 г. был создан Тибетский автономный округ Китайской Народной Республики.
На территории СССР разгром белогвардейщины побудил ламаистское духовенство «перестроиться» в политическом отношении. В общем оно стало на путь лояльности к Советскому государству и к делу строительства социализма, хотя не обошлось и без внутренних разногласий по вопросу о формах участия в этом строительстве; более последовательные обновленцы формулировали взгляды буддийского социализма, другие ограничивались рамками терпимости.
Структура ламаистской церкви в СССР была конституирована в 1946 г., когда в Улан-Удэ собрались представители ламаистского духовенства всех народов, среди которых распространена эта религия, на Собор. Там было создано Центральное духовное управление буддистов в качестве центра ламаистской церкви Советского Союза; его глава именуется бандидо-хамбо-ламой. Управление (ЦДУБ) объединяет три региональных управления по народам — бурятскому, калмыцкому и тувинскому.
Победа Октябрьской социалистической революции и последовавший разгром белогвардейщины поставили перед бурятским и калмыцким ламаизмом ряд сложных задач. Прежде всего возник вопрос о политической ориентации ламаистской сангхи, а он был связан с характеристикой социально-политической сущности ламаизма. Обновленческое крыло идеологов и церковнослужителей ламаизма выступило с изъявлением своей полной лояльности в отношении социалистической революции. Такая политическая позиция основывалась на интерпретации буддизма как учения, по своему содержанию весьма близкого к марксизму и даже чуть ли не тождественного ему. В январе 1927 г. в Москве происходил съезд ламаистского духовенства, на котором были сформулированы соответствующие установки. Один из главных идеологов этого направления, Агван Доржиев, в своих выступлениях на съезде выдвинул концепцию, по которой учение Будды было первой в истории социалистической программой, которую Маркс впоследствии развернул, а Ленин претворил в практику. В вышедшей за год до съезда в Улан-Баторе (Монголия) анонимной брошюре эта концепция была выражена следующим образом: «Великий Готама дал миру законченное учение коммунизма… Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников общего блага, но учение их распылилось сотнями веков… Современное понимание общины дает прекрасный мост от Будды Готамы до Ленина» 10.
Перед автором стояла дилемма: либо, поскольку он ставит Маркса и Ленина в один ряд с Буддой, надо признать всех их богами, либо, наоборот, свести Будду до человеческого уровня. Он выбирает второе решение и характеризует Гаутаму как «великого революционера», добавляя к сему сентенцию: «Всякая попытка сделать из великого революционера бога приводит к нелепости» п. Со стороны духовного лица это очень серьезная жертва: из собственно религиозного содержания понятия религии исключается его основа, собственно то, что составляет специфичность самого этого понятия.
Идеи «буддийского социализма» получили довольно широкое распространение в Японии. В 30-х годах там развернул свою деятельность «Новый буддийский союз молодежи», проповедовавший единство «истинного буддизма» с социализмом. «Истинным» оказывался ранний первоначальный буддизм, выступавший против кастовой системы, проповедовавший якобы социальное равенство и всеобщую справедливость. В своем дальнейшем развитии эта религия потеряла, мол, свою революционную сущность, и задача заключается в восстановлении ее революционности, причем следует включить в подлежащий установлению синтез революционные учения основателей и других религий, будь то Христос, Конфуций и др. Развернуться этому движению в Японии не пришлось: оно было подавлено властями и официальной сангхой в военных условиях 30-х и первой половины 40-х годов, после чего больше в широких масштабах не воскресало.
В ряде других стран Востока модернизация буддизма также шла в направлении его сближения с социалистическими идеями. В Кампучии стоявший там одно время у власти принц Сианук на VI Генеральной конференции Всемирного Братства Буддистов заявил: «Буддизм является единственной этической системой, единственной религией, которая может подходить к большинству революционных концепций» 12.
Идеологи необуддизма в разных странах стремятся охватить своим учением все существующие в мире политические и научные идеологии. Так, например, активно действующая в Японии и весьма влиятельная необуддийская секта Сока-Гаккай претендует даже на то, чтобы объединить своей доктриной все нации и государства мира. Опираясь на учение средневекового буддийского деятеля Нитирэна, глава секты Дайсаку Икеда провозглашает: «Несомненно, буддизм Нитирэна в ближайшее время распространится по всему Востоку и в конце концов по всему миру. Благосостояние отдельных наций и мир между ними могут быть достигнуты только тогда, когда истинная религия станет основой духовной жизни всех людей на земле» 13. В таком свете буддизм даже теряет свой специфически религиозный характер и превращается в некую абстрактно-всеобщую политическую, религиозную и идеологическую систему. Само собой разумеется, что противоположность между наукой и религией таким образом смазывается, точнее сказать, наука оказывается составным элементом религии. Прием не новый в истории религии и, без всякого сомнения, совершенно несостоятельный.
С доктринально-догматической стороны вероучение буддизма было всегда многообразным и допускавшим большое количество различных толкований — и близких по содержанию, и очень далеко расходившихся. Такому разнобою в толкованиях способствовали расплывчатость и «темнота» смысла канонических текстов, что давало возможность разным теологическим школам нередко толковать одни и те же тексты совершенно различным и противоположным образом. Отсюда огромное количество направлений и сект как в тхераваде, так и в махаяне. Теперь это дробление еще больше усилилось, так что в рамках данного краткого изложения нет возможности дать их конкретный анализ. Остановимся только на одной проблеме, решение которой имеет непосредственное отношение к социальной практике людей и к общественно-политической роли буддизма в разных странах его распространения.
В буддистской литературе всегда существовало сложное отношение между направлениями, которые условно обозначаются терминами «нирванизм» и «кармизм». Теперь это разногласие приобрело особую актуальность.
Традиционная трактовка учения буддизма о нирване всегда противоречила жизненной практике людей. В настоящее время, в условиях общественной и прочей активизации буддизма, это противоречие делается особо вопиющим. Достижение нирваны как высшей цели человеческого существования осуществляется, по традиционному учению, через знание, через пассивное постижение мудрости. А это в свою очередь достигается медитацией, погружением верующего в самого себя. С такой ориентацией несовместима общественная активность, тем более в политической области: духовным лицам противопоказаны даже простые контакты с мирянами, тем более с иноверцами. Правда, и в прошлом такая практика, по существу запрещающая нормальную жизненную деятельность, мало кем соблюдалась и фактически оставалась в плоскости благих пожеланий, таким же образом, как, например, евангельская проповедь непротивления злу и многие другие благочестивые предписания. Тем не менее, поскольку теперь перед буддизмом жизнь поставила новые задачи, многие богословы стали по-иному оценивать систему взглядов и догматов, проповедующихся до сих пор, с точки зрения их соответствия тем нормам поведения, которые теперь жизнь поставила перед народами. В этом плане учение о нирване как центральном пункте буддийской религии должно было подвергнуться пересмотру.
Понятно, что для основной массы населения жизненная практика, рассчитанная на «спасение верой» и по существу на отказ от практической деятельности, не подходит, ибо ей надо по меньшей мере добывать средства к жизни. Исповедовать нирванический буддизм в точном его смысле могут только монахи в условиях обеспеченной монастырской жизни. Но имеет важнейшее значение то обстоятельство, что такое жизненное поведение связано с отказом и от участия в политической деятельности, к которому современная сангха никак не склонна.
Нирвана означает выход из сансары — из круга житейских переживаний, в ходе которых человек, умирая, перевоплощается в другое существо, обретает другую карму. Нирвана пресекает процесс кармического перевоплощения. Перед верующим буддистом стоит дилемма: ориентироваться на окончательное исчезновение в нирване или на карму — временную смерть с перспективой воскресения в перевоплощении. При второй альтернативе остается в силе перспектива благоприятного воплощения в более высоком, чем раньше, социальном и всяком прочем статусе.
Исследователи современного буддизма отмечают, что в настоящее время «кармическая» установка начинает все больше теснить нирваническую как в теологической литературе, так и в сознании широких масс верующих. Это зафиксировано прежде всего в кхмерском буддизме 60-х и начала 70-х гг., но в некоторой мере может быть распространено и в других буддийских странах. С этой точки зрения верующий должен стремиться к «спасению делами», к постоянному накоплению заслуг, максимально положительному балансу добрых и недобрых дел, заслуг и «незаслуг», ибо только такой баланс сулит благоприятную карму и соответствующее социальное положение в новом воплощении. Играет при этом роль и уровень этого баланса: если заслуги намного превышают «незаслуги», то человек возродится богатым купцом или помещиком, если поменьше — мелким торговцем или крестьянином. А уж если превысят незаслуги, то носитель кармы воплотится в нищем рикше или даже в животном — собаке или в еще более низменном образе змеи или ящерицы.
В потоке того богоискательства, которое в последние десятилетия стало модным на буржуазном Западе, в особенности в США, и прежде всего среди молодежи, буддийские мотивы чувствуются весьма сильно. В ряде стран появились в довольно большом количестве общины последователей дзэн-буддизма. Буддийские влияния дают себя знать также во многих других сектантских новообразованиях типа общин Харе-Кришна и подобных им, заимствованных не только из буддизма, но и из индуизма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не прекращающиеся до сих пор споры о сущности буддизма как идеологического явления вплоть до вопроса о правомерности признания его религией имеют своей основой известное своеобразие буддизма в ряду других религий. Мы не считаем, однако, правильной характеристику этой религии как «уникальной», к которой неприложимы общие понятия и критерии марксистско-ленинского религиоведения.
Ряд признаков, характеризующих своеобразие буддизма как религиозной системы, указывался выше. Отметим здесь еще один, заключающийся в том, что все стороны и все элементы буддизма как религии в нем гипертрофированы и «преувеличены».
В пантеоне буддизма — не просто боги, а бесконечное количество богов. Столь же неисчислимы святые, воплощенны, перевоплощенцы, кандидаты в Будды. Количество священных книг буддизма значительно больше, чем в любой другой религии. Исключительно велико число служителей культа — священников, монахов. Но гипертрофированность в буддизме не только количественная, она относится и к содержанию его верований и представлений. Буддийские чудеса потрясающе чудесны и предельно фантастичны; таковы же и представления о загробной жизни, о рае и аде. До невероятных размеров раздуто и богословие буддизма, тесно связанное с философией. Велико и многообразие философских школ, связывающих себя с буддизмом, что и дало многим исследователям повод к тому, чтобы признавать последний не религией, а философией. Но философия остается философией, а религия — религией. То же можно сказать и об этике, которая опять-таки некоторыми авторами признается сущностью буддизма, «отменяющей» характеристику последнего как религии. Аналогично другим религиям, буддизм дает этике религиозную санкцию, что вовсе не сводит его к одной лишь этике. Интересно, однако, что обычное во всех религиях противоречие между проповедуемыми нормами морали, с одной стороны, и этической практикой церквей, их деятелей и просто верующих — с другой, доведено в буддизме до предельной остроты и в этом смысле опять-таки гипертрофировано.
Примечания и ссылки на источники
1 Общий обзор необуддийского движения в Европе второй половины XIX в. см: Лесевич В. Новейшие движения в буддизме, поддерживаемые и распространяемые европейцами // Русская мысль. 1887 № 8. С. 1 — 17 (2-я паг.).
2 Соловьев Вс. Современная жрица Изида: Мое знакомство с Е. П Блаватской и «теософическим обществом» // Русский вестник. 1892 № 2. С. 2, 4, 5.
3 См: Лесевич В. Новейшие движения в буддизме, поддерживаемые и распространяемые европейцами // Русская мысль 1887. № 8 С 80 (2-я паг.)
4 Olcott Н. S. A Buddhist Catechism According to the Sinhalese Canon. L., 1882. Имеются русские переводы. Ниже цитаты приводятся по этому изданию
5 Rothermundt G. Buddhismus fiir die moderne Welt. Stuttgart, 1979; Корнев В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1893.
6 2500 Years of Buddhism. New Dehji, 1956.
7 См.: Кочетов A H. Буддизм. С. 140.
8 Талмуд И. Д. Некоторые особенности буддийской идеологии в республике Шри-Ланка // Религия и общественная мысль стран Востока. М., 1979. С. 194.
9 Арутюнов С. А., Светлов Г. Е. Указ. соч. С. 113.
10 См.: Абаева Л. Л., Жуковская Н. Л. Традиция и модернизация в истории ламаизма // Религии мира. 1983. М., 1984. С. 136.
11 Там же.
12 Там же. С. 138.
13 Тамгинский И. И Япония: религиозно-политическое движение Сока-Гаккай-Комэйто // Религии мира. 1982 М, 1983 С. 111.
НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ
При всей своей консервативности религия в ходе общегражданской и собственной истории не может не переживать некоторую эволюцию. Изменения происходят даже в областях вероучения и культа, хотя в этих областях традиции с наибольшим трудом поддаются ломке. Это касается и мировых и локальных религий, и отдельных ответвлений мировых религий.
В православии, например, все большее распространение получает общая исповедь вместо единоличной и тайной; крещение практикуется не только при помощи погружения, но и обливанием (отметим, что раньше этот способ клеймился в качестве проявления ереси обливанцев). В католицизме, в котором спокон веков богослужебным языком был латинский, теперь, в зависимости от желания прихожан, можно служить литургию и на их народном языке. Что же касается догматики вероучения, то здесь для всех религий есть спасительный выход из любых затруднений: можно сослаться на то, что в том или ином пункте вероучения содержится великая тайна, недоступная для нашего разума, — нам остается верить в ее истинность. И надо сказать, что этой спасительной лазейкой пользуется большинство современных религий.
Но особенно большое значение имеют изменения тех элементов религии, которые связаны с церковными учреждениями и институтами, с иерархией духовенства, со всевозможными клерикальными учреждениями, проникающими во все сферы общественной жизни — от политических партий и профсоюзов до кооперативов и спортивных обществ. Здесь уже дело не ограничивается удовлетворением духовных потребностей верующих, здесь религия выступает в непосредственно общественном и даже общественно-политическом значении. В тексте книги мы приводили фактический материал, призванный рассмотреть этот вопрос в отношении отдельных мировых религий. В данном контексте мы обобщим его в свете некоторых событий, характерных для последнего времени.
Разобраться в этом вопросе можно лишь на основе общей характеристики переживаемой человечеством эпохи.
В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии «мир, в котором мы живем в преддверии третьего тысячелетия», характеризуется следующим образом: это «мир, полный надежд, ибо никогда прежде люди не были столь всесторонне оснащены для дальнейшего развития цивилизации». Но он же «и мир, перегруженный опасностями и противоречиями, побуждающими говорить о едва ли не самой тревожной полосе истории». Гонка ядерных вооружений и возможность ядерной войны угрожают самому существованию человечества. Известно, какое громадное количество ядерного оружия уже произведено в разных странах и какие колоссальные усилия употребляют наши партия и правительство для того, чтобы сократить его и по возможности уничтожить. И если уж не самому существованию человечества на земле, то цивилизации, среде его обитания, природе земли нашей тоже угрожает смертельная опасность: действуют законы экологии, с которыми далеко не везде и не всегда люди считаются. В этой обстановке религиозные институты претендуют на роль носителей истины в последней инстанции, указывающих человечеству, как жить, чтобы избежать грозящих ему опасностей, чтобы, наоборот, достигнуть более высоких, чем это было в любое другое время, степеней процветания.
Перед нами парадокс многотысячелетней давности. Если принимать вероучение любой религии, и прежде всего мировых, то получается, что под непогрешимым руководством высших сил (бога или богов) люди живут в обстановке непрекращающегося социального и биологического зла: классовой эксплуатации, мучительных болезней и т. д. И сами они под тем же благостным божественным руководством проливают моря крови и слез, мучая и истребляя «ближнего своего». Теперь же человечество вообще пришло к ситуации, когда ему грозит гибель!
И в этих-то условиях церкви и прочие религиозные институты вновь и вновь предлагают свои рецепты спасения, претендуют на роль руководителей человечества, чтобы не только вывести его из состояния кризиса, но и повести вперед по пути благоденствия и процветания. Особенно рьяно заявляет такие претензии католическая церковь, выступившая в 1988 г. с энцикликой «Sollicitudo rei sociali». Это, можно сказать, последнее слово «католической социологии», которое папа Иоанн Павел II приурочил к двадцатилетию энциклики Павла VI «Populorum progressio».
Через двадцать лет, прошедших между двумя опусами глав католицизма, новая энциклика продолжает твердить все те же старые формулы, призывать людей к тому же топтанию на благочестивых путях христианского вероучения, и прежде всего в ее католической разновидности.
Папа Иоанн Павел II в своем новом обращении к верующим повторяет констатации и оценки, которые были актуальны и двадцать лет назад: много на земле нищих, убогих, голодающих, а есть богатые, эксплуататоры, преуспевающие владельцы собственности. Есть «Север» и «Юг», т. е. имеются в виду, с одной стороны, промышленно развитые страны, а с другой — народы, отставшие в технико-экономическом отношении. При этом оставляется в тени то отнюдь немаловажное обстоятельство, что и «Север», и «Юг» включают в себя противоположные в социальном отношении миры, из которых один стремится к прогрессу как в технико-экономическом, так и в социальном отношении, для другого же важно лишь продолжать обогащаться за счет трудящихся и эксплуатируемых и сохранять, елико возможно, этот угодный богу порядок.
И пожалуй, лишь в одном вопросе энциклика «Sollicitudo…» расходится со своей предшественницей, на которую она опирается, — в вопросе о собственности. В «Populorum…» частная собственность не считается абсолютным и неотъемлемым правом, признается даже возможность ее отчуждения в некоторых случаях; в новой же энциклике нет даже никаких намеков на возможность такого поворота событий. По существу единственное направление социальной области, рекомендуемое Иоанном Павлом II человеку, — это любовь к нищим и убогим, помощь им, помощь бедным народам в их развитии, т. е. по существу благотворительность. При этом папа подчеркивает, что экономические проблемы, стоящие перед «нищими и убогими», далеко не охватывают всех трудностей их бытия, очень-де важны проблемы моральные, т. е. собственно религиозные. И тут он напоминает о «духовном наследстве Авраама» — о Ветхом завете, на основе которого должны объединиться исповедующие его народы, в том числе иудеи и мусульмане. Само собой разумеется, под главенством Ватикана…
В остальном же надо надеяться на бога, на второе пришествие Христа, который наведет наконец на земле полный порядок. Впрочем, надо, не дожидаясь его, самим людям продолжать свою деятельность в указанном выше направлении помощи убогим… Нельзя сказать, чтобы новая энциклика содержала в себе много нового!
Необходимо, впрочем, указать на то, что вполне консервативная позиция римского папы разделяется далеко не всем современным католическим духовенством. Есть среди него группировки, настаивающие на значительно более реакционных взглядах и соответствующей политике. Вспомним, например, пресловутого епископа Лефевра, оголтело реакционного защитника не только культовых традиций католицизма, но и экстремизма в социально-консервативном плане, в противодействии борьбе за мир и ядерное разоружение. Есть, с другой стороны, и противоположные по направлению многочисленные группы представителей духовенства, которые выступают за ядерное разоружение, за социальный прогресс. Совершенно очевидно, что с указанными группами прогрессивного духовенства, как и с массами верующих трудящихся, борющихся за мир и прогресс, мы находим общий язык и столь же общие позиции в борьбе за лучшее будущее человечества.
Особенно важно отметить ту политическую роль, которую играет в настоящее время православная церковь. Московская патриархия относится вполне лояльно к Советскому государству и его внешней и внутренней политике. Она полностью поддерживает те внешнеполитические акции, которые предпринимает наше государство в борьбе за разоружение и за предотвращение военной опасности, прежде всего ядерной. Патриархия активно поддерживает контакты со всеми миролюбивыми силами, в частности с иностранными церквами разных религий и вероисповеданий. В своей проповеднической деятельности среди советских православных верующих церковь активно пропагандирует тот дух борьбы за мир и разоружение, который господствует в нашем народе.
Нельзя в то же время не видеть той агрессивно-реакционной позиции, которую занимают православные зарубежные церкви, гнездящиеся за рубежом, в частности в Соединенных Штатах. Это прежде всего так называемая «православная церковь за границей»; исторически она объединяет тех белогвардейских церковников, которые после поражения белогвардейцев обосновались в Сремских Карловцах (Югославия). После второй мировой войны карловчане перебрались в Соединенные Штаты и продолжают там свою поджигательскую антисоветскую деятельность. Показательно то обстоятельство, что Московская патриархия не поддерживает никаких отношений с реакционерами-карловчанами.
Если говорить о других мировых религиях, то прежде всего следует отметить то сложное в политическом отношении положение, которое сложилось в лагере ислама. Большое количество государств именуют себя исламскими и стараются оправдать это свое наименование практически. Реальные и важнейшие проблемы сегодняшнего дня, связанные с борьбой за мир и за демократическое развитие общества, мусульманские деятели, будь то сунниты, шииты, друзы и иже с ними, подменяют давно потерявшими реальный человеческий смысл разногласиями по догматическим вопросам. При этом все эти разногласия фактически прикрывают реальные жизненные интересы разных групп населения, а иногда и отдельных личностей: диктатура аятоллы Хомейни находит свое «полное оправдание» в истинности шиитства, а пакистанский диктатор Зия уль-Хак творит суд и расправу над народом, оправдывая свои деяния волей суннитского Аллаха. Сколько уже лет идет кровавая война между Ираном и Ираком, а воля и покровительство Аллаха и Мухаммеда, как уверяют участники кровопролития, помогают каждой из сторон истреблять участников другой.
Что же касается исламского советского духовенства, то и оно, как в основном и действующие в нашей стране церкви других религий и вероисповеданий, использует существующую у нас свободу совести в соответствии со своими правами и задачами, сохраняя полную государственную лояльность.
* * *
Одна из особенностей, характеризующих современное идеологическое развитие, заключается в том, что постепенно, но неуклонно религия уходит в прошлое, становится историей в собственном смысле слова. Это происходит прежде всего в социалистических странах, где преодолеваются ее социальные корни, и — главное — гнет, испытываемый человеком в условиях антагонистического общественного строя, а также и там, где социализм еще не победил. Безысходный кризис религии констатируется сегодня не только атеистами, но и ее приверженцами и даже апологетами. Он принципиально отличен от тех в историческом плане эпизодических кризисов, которые неоднократно претерпевались различными религиями в разные эпохи и были связаны с поворотными пунктами социальной истории, на каждом из которых отдельные религиозные системы должны были перестраиваться. Закат капитализма влечет за собой и закат религии как идеологии и социального института.
В общем ходе человеческой истории религия занимает особое место, отличающее ее от всех других идеологических форм, как и от других форм социального поведения людей. При всей сложности этого явления, при всем многообразии и противоречивости той роли, которую оно играло в перипетиях исторических судеб народов и стран, остается незыблемой та общая характеристика ее, как опиума народа, которую дал в свое время К. Маркс. Все «поправки», которыми ревизионисты и прочие ренегаты марксизма пытались «обезвредить» эту бессмертную формулу Маркса, лишь обнаруживают убожество их собственных философских и политических взглядов, несостоятельность их мировоззренческих позиций.
Религия была в истории человечества не случайным, а закономерным, и в этом смысле неизбежным явлением. Но данное обстоятельство никогда не делало ее нужной, полезной человеку и обществу. Она была, как является и в настоящее время, отходом социального процесса, его шлаком, пустоцветом, как писал В. И. Ленин, на древе человеческого познания и, добавим, общественного бытия и человеческого поведения. Освобождение людей от тех духовных оков, которые накладывала на них религия, будет иметь важное прогрессивное значение в дальнейшем развитии общества.
Констатация этого отнюдь не отменяет, а, наоборот, усугубляет необходимость исследования и изложения истории религии на всех ступенях исторического процесса. Показ ее действительной роли в социально-политической, идеологической и культурной истории человечества дает в руки пропагандистов материалистического и, следовательно, атеистического мировоззрения огромный и очень важный материал. Но к этому не сводится значение работ по истории религий. Роль религии в истории человечества была до сих пор столь значительной и существенной, что без ее учета и исследования невозможно с достаточной полнотой и глубиной разобраться в сущности многих исторических явлений и общественных движений. Буржуазная историография проявляет большую активность в разработке проблем истории религии, разумеется, с идеалистических и религиозно-апологетических позиций. Тем большую важность приобретает задача разработки этих проблем марксистско-ленинской наукой, дающей историко-материалистическое, следовательно, истинное освещение общественных явлений в их историческом развитии.



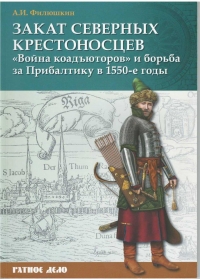




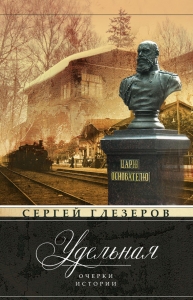
Комментарии к книге «История религий. Том 2», Иосиф Аронович Крывелев
Всего 0 комментариев