Б.Н. Сопельняк ТАЙНЫ РУССКОЙ ДИПЛОМАТИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Историки считают, что за время своего существования человечество пережило 14 тысяч войн. Само собой разумеется, что речь идет о войнах, упоминаемых во всякого рода летописях, легендах и сказаниях, а также занесенных во всевозможные анналы и скрижали. И еще одна небезынтересная цифра: в этих войнах было уничтожено более 4 миллиардов человек. До недавнего времени именно столько составляло население земного шара. Так вот представьте себе на минуту, что наша планета в мгновение ока обезлюдела. Представили? Жуткая картина, не правда ли?! Вот во что обходятся все эти забавы с луками, стрелами, мечами, ружьями, пушками, танками, самолетами и ракетами.
Я думаю, не будет преувеличением сказать, что войн на планете было бы гораздо больше, а значит, еще больше разрушенных городов и сел, не говоря уже о миллионах загубленных человеческих жизней, если бы не тихие и скромные люди, которых называют дипломатами и которые по долгу службы «уполномочены осуществлять официальные сношения с иностранными государствами».
Так сложилось, что на Руси официальными сношениями с иностранными государствами занимались не только дипломаты, но и великие князья, цари и императоры. Скажем, великие князья Олег, Игорь и Святослав были не только прекрасными воинами, но и хитроумными дипломатами. Не уступала им в искусстве переговоров и заключении выгодных союзов и премудрая Ольга. Они перехитрили даже могущественную Византию: то проигрывая, то выигрывая нередкие войны, они закрепили за собой Северное Причерноморье и Таманский полуостров.
Но всех дальновиднее, благоразумнее и предусмотрительнее был, конечно же, Владимир Красное Солнышко, который не только заключил военно-союзный договор с могущественной Византией и женился на византийской принцессе, но и ввел на Руси Православие. Это был гениальный ход! А ведь князя искушали и магометане, и иудеи, и посланцы от папы. Так Русь стала христианской страной, а после падения Византийской империи — оплотом Православия.
Так же активно вела себя русская дипломатия и в более поздние времена, когда центром государства стала Москва. Именно тогда Европа узнала имена таких выдающихся русских дипломатов, как Висковатый, Грамотин, братья Щелкаловы, Ордин-Нащокин, Голицын, а несколько позже Панин, Воронцов, Безбородко, Румянцев и Горчаков.
Бывало и так, что, казалось бы, верные союзники становились невольными пособниками врага: именно такая история чуть было не произошла осенью 1941-го. Мало кто знает, что в те дни, когда гитлеровские войска подошли к Москве, английское правительство разработало план бомбового удара по Баку, дабы кавказские нефтепромыслы не достались немцам. Назывался этот план «Английский подарок солнечному Баку». Остановить англичан смогли все те же дипломаты. А ведь если бы не они, то под Сталинградом заправлять советские танки было нечем.
Мирно разрешившийся Карибский кризис и не перешедшая в большую войну малая война с китайцами на острове Даманский — это тоже весьма значимые победы дипломатов.
Но бывало и так, что за подобного рода победы дипломаты платили своей кровью, а порой и жизнью. Первым в этом печальном списке стоит имя Александра Грибоедова. В те времена вся Россия почитала Грибоедова как автора знаменитой комедии «Горе от ума», но совсем не знала как талантливейшего дипломата. А ведь в Тегеране он работал, если так можно выразиться, в двух ипостасях: в качестве посла и в качестве резидента российской разведки. Закончилось все это печально: 30 января 1829 года фанатически настроенная толпа ворвалась на территорию российского посольства и перебила всех, кто там находился.
Случалось и так, что самых толковых и самых преданных дипломатов казнили по приказу тех, кому они служили. Именно так произошло с первым руководителем созданного в 1549 году Посольского приказа Иваном Михайловичем Висковатым. По свидетельству современников, Иван Грозный любил его, «как самого себя», доверял ему самые тайные и самые секретные дела. И надо же так случиться, что Иван Михайлович ввязался в чисто теоретический церковный диспут, мало того, в диспуте он победил. Но Ивану Грозному это почему-то не понравилось. В итоге отдел в Посольском приказе Висковатого отстранили, обвинили в изменнических сношениях с турецким султаном и казнили.
Как ни странно, много лет спустя эстафету уничтожения умнейших и преданнейших людей России с энтузиазмом подхватили большевики. Именно от их рук погибли такие люди, как Лев Карахан, Яков Давтян, Николай Крестинский, Григорий Сокольников, Христиан Раковский, Федор Раскольников и многие другие.
Особые испытания выпали на долю советских дипломатов, работавших на территории Третьего рейха. Как только началась война, многих из них арестовали, бросили в подвалы гестапо и начали пытать, требуя выдать шифры, а также имена и адреса разбросанных по стране нелегалов. Но такие люди, как Николай Логачев и Аркадий Баранов, прошли все круги ада, вплоть до имитации расстрела, но никого и ничего не выдали. А Александр Коротков и Валентин Бережков смогли не только сохранить контакт с подпольщиками «Красной капеллы», но даже передать им шифры, рацию и деньги.
Война еще только начиналась, и каждый толковый специалист был на вес золота, но 250 сотрудников Наркомата иностранных дел сменили авторучку на автомат и отправились на передовую, 67 из них пали на полях сражений.
Но справедливости ради нельзя не сказать, что дипломатический фрак основательно испачкан немалым количеством мерзейших пятен, а иначе говоря, среди них были и предатели, и изменники, и отступники, или, говоря высоким стилем, самые настоящие иуды. Сомнительная честь стать самым первым иудой среди русских дипломатов еще во времена Алексея Михайловича выпала подьячему Посольского приказа Григорию Котошихину, более известному как вор Гришка. Шведский король, на которого работал Котошихин, предателей не любил и за совершенное им бытовое преступление приказал бывшему русскому дипломату голову отрубить, а из останков сделать скелет, который стал учебным пособием для студентов Упсальского университета.
Казалось бы, это ли не урок для всех потенциальных изменников! Так нет же, предательства среди дипломатов не прекратились. История Александра Огородника и Аркадия Шевченко, которые стали предателями практически в наши дни, — ярчайшее тому подтверждение.
Но были и другие — самые настоящие герои холодной войны. Война в Корее и Вьетнаме, бесчеловечные провокации в Тель-Авиве, кровавые события в Праге, Будапеште и Браззавиле — все это вынесли на своих плечах русские дипломаты.
Все эти годы деятельность Министерства иностранных дел напоминала айсберг: народ знал лишь то, что ему позволяли знать, а все секретное, конфиденциальное и не подлежащее оглашению лежало в архивах. Не буду рассказывать, как мне удалось приоткрыть стальные двери архивов, но в этой книге я поведу речь о том, что многие годы широкой публике было неизвестно, о чем ходили слухи, а правда скрывалась за семью печатями.
ПРЕДОТВРАЩЕННЫЕ ВОЙНЫ
Одна из главных заслуг дипломатов перед человечеством в том, что они не дали разгореться многим военным конфликтам, тем самым предотвратив разорение сотен городов и тысяч деревень, не говоря уже о том, что именно дипломаты спасли сотни тысяч, если не миллионы человеческих жизней, не дав пролиться рекам крови.
НЕВЕДОМЫЕ ХИТРОСТИ КУТУЗОВА
Истории хорошо известны успехи русской внешней политики времен Петра I и Екатерины П. Выход к Черному и Балтийскому морям Россия получила не только благодаря русскому оружию, но и в не меньшей степени благодаря уму, дальновидности и, если хотите, ловкости таких выдающихся людей, как Шафиров, Панин, Воронцов и Безбородко, а несколько позже — Кочубей, Румянцев и Горчаков.
Но вот ведь как бывает: мы знаем имена великих россиян по их широко известным свершениям и почти ничего не ведаем о том, что их заслуги в делах других не менее значительны, чем те, о которых знает весь мир. Именно так случилось с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Всем известно, что фельдмаршал Кутузов — великий полководец, разбивший самого Наполеона, но мало кто знает, что князь Кутузов был искуснейшим дипломатом и дальновидным политиком, предотвратившим несколько кровопролитных войн.
Правда, прежде, чем предотвращать войны, Кутузов научился их успешно вести. Службу он начал 14-летним подростком в чине капрала артиллерии, но уже через два года командовал ротой в Астраханском пехотном полку, командиром которого был Суворов. Первый раз Михаил Илларионович должен был погибнуть, когда ему не исполнилось и тридцати: турецкая пуля попала в левый висок и вылетела у правого глаза. Как правило, от таких ранений умирают, но Кутузов выжил: лишился глаза, долго болел, но в строй вернулся. Через несколько лет Кутузов должен был погибнуть во второй раз и снова от турецкой пули: на этот раз она попала в щеку и вылетела через затылок. Тогда-то и появилась хорошо известная запись пришедшего в недоумение врача: «Надобно думать, что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна».
Ну а дальше был легендарный штурм Измаила, захват Осман-паши и другие, сугубо военные подвиги. Екатерина II не скрывала своих симпатий к Кутузову, называла его не иначе как «мой генерал», осыпала наградами и наказывала своим сановникам «беречь Кутузова». Судя по всему, у матушки императрицы на молодого генерала были свои виды: она прекрасно знала, что Кутузов говорит на семи языках, что, кроме военного, отлично знает инженерное дело, но самое главное, она хорошо запомнила характеристику, которую дал своему подчиненному легендарный Суворов: «Ой, умен! Ой, хитер! Никто его не обманет».
Для дипломата лучшей характеристики и быть не может! Недолго поразмышляв (все-таки жалко было отвлекать от дел боевого генерала), императрица принимает совершенно неожиданное для двора решение — назначает Кутузова Чрезвычайным и Полномочным послом в столицу враждебной Турции. С самого начала новоиспеченный посол стал действовать как-то не так: не так, как принято. Скажем, вместо того, чтобы что есть духу мчаться в Стамбул, Кутузов от Днестра до столицы вместо двух недель добирался… три месяца. Ехал он в роскошной карете, часто останавливался, закатывал пиры. Да и свита у него была, так сказать, не по чину: 650 человек, не считая поваров, портных и всякого рода посыльных.
Турки только посмеивались: с таким-то послом совладать будет проще простого — сибарит, барин и, судя по всему, лентяй. Знали бы султан и его великий визирь, как жестоко они ошибаются, ни за что не дали бы так называемый агреман[1] отставному генералу и на пушечный выстрел не подпустили бы его к Стамбулу. Ведь большая часть свиты Кутузова состояла из неприметно одетых офицеров создающегося военно-топографического бюро, которые делали подробнейшие планы местности. Еще более неприметными были люди «смышленые и к дознанию благополезные», которые под видом купцов, художников или артистов шныряли по городам и селам, добывая компромат на влиятельных вельмож и даже на волооких красавиц из гарема.
Прибыв наконец-то в Стамбул, Кутузов всех буквально покорил. И министры, и великий визирь, и даже султан Селим III быстро забыли о том, что Кутузов пролил реки турецкой крови, и стали закадычными друзьями русского посла. Используя где деньги, где компромат, где просто личное обаяние, Кутузов довольно быстро выполнил все поручения императрицы: французы получили строгий приказ покинуть Стамбул, враждебно настроенный к России молдавский господарь Мурузи был смещен, безопасное плавание русских купеческих судов гарантировано.
Что касается беспрепятственного прохода через проливы военных кораблей, то тут турецкие флотоводцы были категорически против. Но Кутузов их переиграл: на одном из приемов он вскользь заметил, что, будь русские и турки заодно, никто и никогда не посмел бы покуситься на проливы. Эти слова попали в газеты, а работавшие на русского посла «доброжелатели» начали подогревать толпу, активно обсуждая этот вопрос на рынках и в кофейнях, само собой, склоняя правительство к такому союзу.
Не будет преувеличением сказать, что Кутузов буквально купался во всякого рода интригах, каверзах и приключениях — и все они на пользу делу, на пользу России. Со временем он стал так популярен, что его дипломатических подвохов начали опасаться в Париже, Лондоне и Вене. А сам Кутузов так вошел во вкус, что написал жене: «Дипломатическая карьера сколь ни плутовата, но ежели ее делать как надобно, не столь мудрена, как военная».
Не знал тогда Михаил Илларионович, ох не знал, что главные его подвиги — и военные, и дипломатические — еще впереди. Шли 90-е годы XVIII века, Европа бурлила, с невиданной скоростью набирал силу Наполеон, взбунтовалась Польша, а Кутузов купался в неге и роскоши Востока. Так бы оно, наверное, было и дальше, если бы императрица не поняла, что никто, кроме ее любимого генерала, не сможет унять разгулявшегося Костюшко. Покряхтев и повздыхав, Кутузов сменил так полюбившийся ему дипломатический фрак на военный мундир и отправился усмирять восставших поляков. По своей давней привычке он не стал давать им генерального сражения, а неожиданно зашел в тыл. Поняв, что попал в ловушку, Костюшко сдался в плен, а тысячи русских солдат и польских повстанцев остались живы.
Императрица не преминула отметить заслуги Кутузова, приблизив его к себе настолько, что не могла провести без него ни одного вечера.
Был он с государыней и в последний вечер ее жизни… Как это ни странно, Павел I, люто ненавидевший всех любимцев матери, к Кутузову благоволил и послал его в Берлин вести переговоры о заключении союзного договора с Пруссией. Поручал он Кутузову и более деликатные миссии: Михаил Илларионович дважды встречал на границе шведского короля Густава IV и сопровождал его до Петербурга.
Но в 1802-м, сославшись на нездоровье, Кутузов попросился в отставку. Не думал он тогда и не гадал, что отставка будет недолгой: как оказалось, России без него не обойтись. Через три года Михаила Илларионовича назначают командующим армией и отправляют на борьбу с Наполеоном. Начало этой борьбы было неудачным: после вчистую проигранного Аустерлицкого сражения Александр I отстранил Кутузова от командования и назначил военным губернатором Киева.
Между тем Наполеон покорял одну европейскую державу за другой и катастрофически быстро приближался к границам России. В Петербурге понимали, что открытого столкновения с Францией не избежать, что на счету каждая пушка, каждый солдат, а тут, как на беду, русские войска ввязались в очередной конфликт с Турцией. Войны на два фронта не выдержать, это ясно. Но как, не потеряв лица, замириться с турками? Тогда-то и вспомнили о старом лисе, как его несколько позже стал называть Наполеон, сибаритствующем в своем имении Кутузове.
Приняв командование Молдавской армией, Кутузов повел себя довольно странно: он всячески поощрял распространение слухов о слабости вверенного ему войска, а также о своем нездоровье и чуть ли не старческом маразме. Турки, которых было раза в три больше, только посмеивались: зубы, мол, у старого тигра уже не те, ему бы сидеть на манной каше, а не охотиться на зубров и косуль. Их активно поддерживали французы, которые предлагали султану заключить военный союз против России, объявить своему северному соседу священную войну и во главе всех стран Востока двинуться на Москву.
Эта угроза была отнюдь не гипотетической — и тогда Кутузов решил показать зубы. В июне 1811 года он блистательно разгромил передовые отряды турецкой армии, но, когда в бегство ударились и основные силы, Кутузов их преследовать не стал и даже приказал оставить уже захваченную крепость Рущук. Многие сочли это большим просчетом Кутузова, недовольство выразил даже Александр I, но старый хитрец затеял такую многоходовую комбинацию, что до ее завершения никто ничего понять так и не смог. А Кутузов добился того, что турки разделили свою армию на две части и, считая, что под Рущуком Кутузов слаб, переправились на левый берег Дуная, где попали в западню и были наголову разбиты. Затем была окружена и уничтожена вторая часть турецкого войска.
Великий визирь Ахмет-паша, бросив солдат, бежал, но Кутузов преследовать его не стал. Больше того, он не спешил с пленением окруженной турецкой армии и даже взял на себя заботу о снабжении ее продовольствием. Этих действий Кутузова никто не понимал. Как полководец он просто должен был воспользоваться плодами победы и пленить ненавистных турок! Но Михаил Илларионович действовал не как удачливый военачальник, а как дальновидный дипломат. Он прекрасно понимал, что позор поражения, а потом и пленения тяжким бременем ляжет на нацию как таковую, кроме того дискредитирует Ахмет-пашу, который стал сторонником быстрейшего заключения мира с Россией.
И Кутузов оказался прав: в октябре 1811-го было заключено перемирие, а вскоре начались и мирные переговоры. Проходили они довольно сложно, в них то и дело вмешивались французы, которые обещали Турции всеобъемлющую помощь, если она пойдет на Москву. Подбрасывали огня в этот костер и англичане. Но Кутузов, у которого были свои информаторы еще с тех времен, когда он был послом в Стамбуле, прекрасно знал об этих каверзах и тут же запустил, говоря современным языком, такую дезу, что за голову схватились и турки, и французы. В Бухаресте, где шли мирные переговоры, а потом и в Стамбуле поползли слухи о том, что Наполеон предлагает России заключить союз против Турции, изгнать всех турок из Стамбула, а проливы поставить под совместный франко-русский контроль.
А тут еще подоспел договор о союзе Франции и Австрии: Кутузову удалось убедить турецких уполномоченных, что он направлен против Турции. Немалым аргументом в пользу возможного союза России и Франции, направленного опять же против Турции, был широко разрекламированный визит личного адъютанта Наполеона графа Нарбонна в ставку Александра I.
И турки сломались! 16 мая 1812 года они подписали мирный договор на благоприятных для России условиях. Для Наполеона это было полной неожиданностью! Он пришел в неописуемую ярость и обвинил министра иностранных дел в бездарности и неспособности защищать интересы своей страны. А несколько позже Наполеон признался, что, узнав о договоре, заключенном между Россией и Турцией, он должен был отказаться от русского похода. К сожалению, эти слова были сказаны уже после бесславного похода на Москву. А тогда, в июне 1812-го, Наполеон двинул свои полчища в Россию. Но встретили их не только две Западные армии, но и 50-тысячная Молдавская армия, которая ушла с турецких границ и влилась в противостоящие французам русские войска.
Казалось, после того, что сделал для России Кутузов-дипломат, можно было уйти на заслуженный отдых — ведь ему было 67 лет, но Россия не смогла обойтись без Кутузова-полководца. Что было дальше, хорошо известно: Бородино, Тарутино, Смоленск, Березина, форсирование Немана, а потом и Одера. И всюду «этот Бонапарте, этот бич человечества», как называл Наполеона Кутузов, бежал от него, «как дитя от школьного учителя». При этом, как бы оправдывая когда-то сказанные о нем Суворовым слова, Михаил Илларионович неизменно приговаривал:
— Наполеон? Разбить он меня может, но обмануть — никогда!
АНГЛИЙСКИЙ ПОДАРОК СОЛНЕЧНОМУ БАКУ
От Баку до Хельсинки — несколько тысяч километров, в конце 30-х — начале 40-х годов прошлого века это расстояние не мог преодолеть ни один военный самолет, и тем не менее именно финны могли стать первопричиной того, что от столицы Азербайджана не осталось бы камня на камне. Правда, известно это стало лишь в сентябре 1941-го, когда от резидента советской разведки в Лондоне пришло несколько тревожных телеграмм.
Тогда же в Москве получили одну из английских газет, в которой было опубликовано интервью личного секретаря Черчилля.
На вопрос о том, как Черчилль отреагировал на известие о нападении Германии на Советский Союз, тот ответил:
«Когда я ранним утром от наших военных получил это сообщение, то, конечно же, побежал будить премьер-министра — эта новость была из тех, которую надо было немедленно довести до сведения главы правительства. Но тут же вспомнил, что он раз и навсегда запретил мне будить его раньше восьми утра. Приказ можно было нарушить только в одном случае: если бы немцы высадились в Англии. Четыре часа я мучился подле его двери, не смея нарушить утренний сон патрона. А когда пробило восемь, я тут же Черчилля разбудил и сообщил экстраординарную новость.
— Так, значит, они все-таки напали! — это было первое, что сказал Черчилль.
Должен заметить, что сказал он это с явным облегчением. Оно и понятно, это означало, что Гитлеру теперь будет не до Англии. Я бы даже сказал, что решение Гитлера напасть на Советский Союз для Черчилля было даром богов».
В Кремле над этим интервью посмеялись, но когда добрались до телеграмм, то стало не до смеха. Одна из них была настолько ошарашивающе-циничной, что в Москве отказывались ей верить. Ведь буквально на следующий день после нападения Германии на Советский Союз Черчилль выступил по радио с такой откровенно просоветской речью, что каждый русский человек готов был его расцеловать. Вот что сказал тогда Черчилль:
— Я вижу русских солдат, стоящих на рубежах родной страны, охраняющих землю, которую их отцы населяли со времен незапамятных. Я вижу нависшую над ними немецкую военную машину, тупую, вымуштрованную, послушную, жестокую армаду немецкой солдатни, надвигающуюся как стая саранчи. И за ними я вижу ту кучку негодяев, которые планируют и организуют весь этот водопад ужаса, низвергающегося на человечество. У нас, у Великобритании, только одна цель: мы полны решимости уничтожить Гитлера и малейшие следы нацистского режима. Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем! Опасность для России — это опасность для нас и для Америки, и борьба каждого русского за свой дом и очаг — это борьба каждого свободного человека в любом уголке земного шара, — закончил он.
И вдруг шифровка из Лондона: «Все расчеты англичан базируются на неизбежном поражении Красной Армии в самом ближайшем будущем». Еще более беспардонным было переданное через Лондон сообщение из Вашингтона. «Сенатор Трумэн (впоследствии президент США. — Б.С.) заявил: “Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше”».
Нетрудно представить, какие чувства вызвали бы у русских людей эти откровения англо-американских союзников, просочись они в печать! Но так как никто, кроме кремлевских бонз, ничего об этом не знал, в СССР продолжали верить, что на Западе у нас надежные союзники и искренние друзья.
А лондонская резидентура продолжала бомбардировать Центр все более тревожными телеграммами. Одна из них цитировала отрывок из речи Черчилля, произнесенной в те же дни: «Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. За последние двадцать пять лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. И я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем».
Слова — словами, но вскоре последовали и дела. Вернее, разработка планов, которые помогли бы реализовать эти дела на практике. Но наша разведка не дремала и тут же сообщила об этом в Москву.
«Произнося публично патетические речи о необходимости оказывать помощь Советскому Союзу, — говорилось в очередной шифровке, — Черчилль и не думает пресекать действия английских спецслужб и начальника штаба ВВС сэра Портела. Как нам стало известно, они предлагают ускорить подготовку бомбежки нефтяных промыслов Баку английской авиацией, базирующейся в Индии и на Ближнем Востоке, мотивируя это тем, что иначе они достанутся немцам».
В Кремле не на шутку забеспокоились! Бомбардировка Баку? Английской авиацией? Но это же невозможно! Англичане — наши союзники. Если бакинские нефтяные промыслы будут уничтожены, не взлетит ни один советский самолет и не сдвинется с места ни один танк! «А не подлая ли это дезинформация, подброшенная Гитлером, с целью поссорить нас с англичанами?» — привычно подумали в Кремле и поручили стократно перепроверить полученную информацию.
Перепроверили… И вот что сообщил Сталину, Молотову и Берии начальник разведуправления НКВД Павел Фитин:
«По имеющимся у нас агентурным данным, английское командование Ближневосточной армией вскоре после начала советско-германской войны получило санкцию английского военного министерства на организацию специальной миссии. Перед этой миссией была поставлена задача разрушения наших кавказских нефтепромыслов для того, чтобы не допустить их перехода в руки немцев в случае, если бы такая опасность оказалась реальной.
Эта миссия, получившая условное название “Миссия № 16(Р)”, обосновалась в Северном Иране, где находится в полной готовности для переброски в нужный момент на самолетах на Кавказ».
А в те дни, когда немцы подошли к Москве и блокировали Ленинград, англичане сняли личину добропорядочности и поручили своему послу Стаффорду Криппсу поставить вопрос о сотрудничестве в деле уничтожения советских источников снабжения, в том числе и бакинских нефтепромыслов, перед самим Сталиным. Той же ночью Криппс сообщил в Лондон более чем сдержанный ответ Сталина: «Советское правительство само решит, когда именно наступит время для такого сотрудничества».
Англичане на эту удочку попались — они думали, что Сталин колеблется, и начали самый настоящий торг, обещая всевозможные компенсации, правда, после окончания войны. А так как все расчеты англичан строились на неизбежном поражении Красной армии, то, как вы понимаете, ни о какой компенсации не могло быть и речи.
Но пока шли все эти разговоры-переговоры, выяснилась одна прелюбопытнейшая деталь. Оказывается, идея о бомбардировке Баку возникла у англичан еще в декабре 1939 года как ответная мера на действия советских войск в Финляндии. Но почему эта бомбардировка не была осуществлена? Что им помешало? Кто их остановил? Ответ на этот вопрос удалось найти в архивах. Как оказалось, подняться в воздух и взять курс на Баку английским «ланкастерам», «галифаксам» и «спитфайерам» помешали советские дипломаты. Они действовали так напористо, стремительно и целеустремленно, что, несмотря на далеко не бесспорные успехи Красной армии, сумели заключить мир, причем на выгодных для Советского Союза условиях.
Напомню, как это было… Все началось с семи выстрелов, каких-то семи выстрелов в районе местечка Майнола. Финны говорили, что первыми начали русские, а наши — что они лишь ответили на огонь со стороны Финляндии. Судя по всему, этого повода ждали обе стороны, так как к 30 ноября 1939 года Финляндия сосредоточила на границе около 600 тысяч человек, 270 самолетов и 60 танков. Советский Союз выставил несравненно большие силы: 960 тысяч солдат и командиров, около 3 тысяч танков, 3250 самолетов, 11 200 орудий и минометов, не говоря уже о кораблях Балтийского и Северного флотов, а также Ладожской военной флотилии. А разгорелся сыр-бор из-за того, что Москва просила отодвинуть советско-финляндскую границу подальше от Ленинграда, которая в то время проходила всего в 32 километрах от Северной столицы, и сдать в аренду полуостров Ханко, на котором предполагалось построить военно-морскую базу. В обмен предлагалась вдвое большая территория в советской Карелии. Финны, поддерживаемые Англией, Францией и даже находящейся в состоянии войны с этими странами Германией, заупрямились. Ну а потом были те самые выстрелы у Майнолы…
Война продолжалась всего 105 дней, но была невиданно кровопролитной. Советский Союз потерял убитыми 70 тысяч человек и более 170 тысяч было ранено и обморожено. У финнов на поле боя полегло 23 тысячи солдат и офицеров и 44 тысячи было ранено. Эта война могла бы продолжаться гораздо дольше и потерь было бы куда больше, если бы… не дипломаты. Среди них особое место занимает дочь царского генерала, потом проповедница свободной любви и одновременно жена героя Гражданской войны бывшего матроса Павла Дыбенко Александра Михайловна Коллонтай, которая в те годы была советским полпредом в Швеции.
Будучи мудрой женщиной и дальновидным дипломатом, Александра Михайловна еще 19 августа 1939 года записала в своем дневнике:
«Финляндию гитлеровцы крепко обрабатывают. От их газет тошнит, готовят для себя подступ к СССР. Всячески льстят финнам и напоминают им политику русификации при царизме, преступления России против независимости Финляндии… Так лгут и клевещут на Советский Союз, проповедуя прогерманизм и восхваляя порядок и “правосудие”, установленные в Третьем рейхе. Финляндию немцы явно готовят для удара на нас. Удержит ли Швеция свою нейтральность в этом случае?.. Война близится, и что ни день, то все яснее чувствуешь ее неизбежность».
Но предчувствовать войну — это одно, а пытаться ее предотвратить — совсем другое. И Коллонтай начинает действовать! Она встречается с представителями министерства иностранных дел Швеции, зондирует почву в Финляндии — и видит, что и в Стокгольме, и в Хельсинки настроение не просто неуступчивое, а откровенно воинственное: еще бы, за спиной все страны Запада, и все обещают поддержку. Чтобы четче представлять позицию Советского Союза, Александра Михайловна едет в Москву. Там она несколько часов ждет приема у Молотова, а когда вошла в кабинет, то была буквально ошарашена вопросом наркоминдела:
— Ну что, приехали хлопотать за ваших финнов?
Этим было все сказано, и можно возвращаться в Стокгольм. Но Молотов решил объясниться подробнее:
— Договориться с ними невозможно. Финны упорствуют. И нам ничего другого не остается, как заставить их понять свою ошибку и принять наши предложения. А ваша задача — удержать шведов от вхождения в войну. Пусть себе сидят в своем излюбленном нейтралитете. Одним фронтом против нас будет меньше.
Коллонтай возвращается в Стокгольм и делает все возможное, чтобы выполнить поручение Молотова. И ей это удается! Больше того, в разгар боев, когда Советский Союз исключили из Лиги Наций, а в Париже и Лондоне били окна советских посольств, когда Англия и Франция обратились к шведам с просьбой пропустить их войска для оказания помощи Финляндии, Александра Михайловна пустила в ход все свои связи и добилась того, что шведское правительство отказало в пропуске этих войск и еще раз подтвердило свой нейтралитет.
А потом Александра Михайловна сделала то, за что ей надо было бы поставить прижизненный памятник. Выйдя на влиятельных шведов, а через них на министра иностранных дел Финляндии Таннера, она заманила его в Стокгольм, тайно встретилась с этим непримиримым воякой на конспиративной квартире и за несколько часов «ястреба» превратила в «голубя». Хоть и со скрипом, но Таннер согласился принять все условия Москвы и поехать в Советский Союз для ведения мирных переговоров.
Как это ни странно, но начавшиеся 7 марта 1940 года переговоры больше всего встревожили англичан и французов. Александра Михайловна пишет в своем дневнике, что их нажим перешел все границы, что они обещают прислать «бомбовозы и другие воздушные военные объекты», лишь бы финны удержались от подписания мирного договора с Советским Союзом. Как видите, опять возникают бомбовозы. А ведь те самые «Ланкастеры» и «галифаксы» могли долететь не только от Ирана до Баку, но и от Хельсинки до Москвы. Сто один самолет англичане все же прислали, не меньше их было и в Ближневосточной армии, но ни один из них взлететь так и не успел: 12 марта между Советским Союзом и Финляндией был подписан мирный договор, а на следующий день прекратились военные действия.
В тот же день в дневнике Александры Михайловны Коллонтай появилась ликующая запись:
«Неужели сегодня кончится эта мука и можно будет жить, как обыкновенный человек, без этой ответственности за жизнь бойцов и за правильное выполнение задачи, поставленной страной?! А министры иностранных дел Англии и Франции Галифакс и Деладье остались “с носом”!
Послала поздравительную телеграмму Сталину и Молотову и получила в ответ от них “поздравление и признание моих заслуг в успешном доведении этого дела до благоприятного конца”».
Как ни грустно об этом говорить, но благоприятного конца не получилось: как только Гитлер напал на Советский Союз, Финляндия выступила на стороне Германии. И снова в дело пришлось вступать Александре Михайловне Коллонтай. Как известно, Финляндия не стала дожидаться полного разгрома гитлеровских войск, а вышла из войны в сентябре 1944-го, и в этом огромная заслуга не только советских солдат, но и советских дипломатов, которые путем сложных и необычайно тонких комбинаций смогли склонить финское правительство к перемирию, а затем и заключению мирного договора. А мир для дипломата — это главная цель его жизни и профессиональной деятельности.
ЯДЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ У ВИСКА ВАШИНГТОНА
Никогда современный мир не был так близок к атомной войне, как в семь дней и ночей конца октября 1962 года. Все началось с довольно странной шутки, которую Хрущев повторял изо дня в день, причем чаще всего своим гостям из капиталистических стран. Прогуливаясь по пляжу крымской дачи, Хрущев вдруг начинал пристально вглядываться в даль и спрашивал высокопоставленных представителей капитала, не видят ли они турецкий берег. Те тоже начинали щуриться, пытаясь заглянуть за горизонт, но в конце концов сдавались и говорили, что ничего не видят.
— Ну, это у вас близорукость, — ухмыляясь, замечал Хрущев. — А вот я прекрасно вижу не только турецкий берег, но даже наблюдаю за сменой караулов у американских ракетных установок, нацеленных в сторону СССР. Наверное, на карту нанесена и эта дача. А вы как думаете?
Гости тут же скисали: они-то понимали, о чем идет речь. В те годы американцы действительно вели себя нагло и вызывающе, где надо и не надо демонстрируя свои бицепсы: они разместили ракеты среднего радиуса действия не только в Западной Германии и Италии, но даже в Турции, прямо у берега Черного моря. И если учесть, что ядерных зарядов у США было 5 тысяч, а у Советского Союза всего 300, обеспокоенность главы Советского правительства можно было понять.
И вот однажды шутка Хрущева получила совершенно неожиданное продолжение: в его бедовой голове родилась мысль «приставить ядерный пистолет к виску Вашингтона». Как это сделать? Да проще простого! Ведь в каких-то 140 километрах от США расположена Куба, та самая Куба, которая сбросила ярмо капитализма и невиданно быстрыми темпами строит социализм, в чем мы ей, конечно же, помогаем.
Из Гаваны был вызван бывший корреспондент ТАСС (на самом деле сотрудник КГБ) Александр Алексеев, который к этому времени числился советником нашего посольства и, по достоверной информации, поддерживал дружественные и доверительные отношения с Фиделем Кастро. Алексеев тут же был доставлен в Кремль, и не куда-нибудь, а прямо в кабинет Хрущева. По воспоминаниям Алексеева, беседа проходила с глазу на глаз, без каких-либо советников и референтов.
Хрущев так подробно расспрашивал о Кубе и особенно о ее руководителях, что очарованный приемом специалист по Кубе выложил все, что знал. И вдруг, в разгар беседы, Хрущев стал прощаться, правда, попросив из Москвы пока что не уезжать, так как не исключено, что его интересный рассказ захотят послушать и коллеги из Политбюро.
Уходя из Кремля, Алексеев недоумевал безмерно. Неужели из-за этого непринужденного разговора понадобилось вызывать его в Москву?! Ведь все, что он рассказал, можно было изложить письменно и переслать с диппочтой.
Хитроумный ход Хрущева прояснился через четыре дня, когда Алексеева снова вызвали в Кремль. На этот раз его внимательно слушали не только политики, но и военные, в том числе командующий ракетными войсками стратегического назначения маршал Бирюзов. Вначале Алексеев не придал этому никакого значения, но, когда заговорил Хрущев, у него упало сердце: он понял, зачем здесь главный ракетчик Советского Союза.
— Мы назначаем вас послом на Кубу, — начал Хрущев. — Ваше назначение связано с тем, что мы приняли решение разместить на Кубе ракеты с ядерными боеголовками. Только это сможет оградить Кубу от прямого американского вторжения. Как вы думаете, согласится ли Кастро на такой наш шаг?
Для Алексеева все это было полной неожиданностью. Назначение послом — это, конечно, прекрасно. Но ракеты? Это же прямой вызов американским «ястребам», которые ждут не дождутся какого-нибудь повода для развязывания войны! Да и Фидель… Одному богу ведомо, как отреагирует Фидель. И новоиспеченный посол решил возражать. С трудом преодолев замешательство, Алексеев выразил сомнение в том, что Фидель с таким предложением согласится, так как концепцию обороны острова строит на боеготовности всего народа и на солидарности мирового общественного мнения. Кроме того, советское военное присутствие наверняка будет использовано американцами для полной изоляции Кубы на Латиноамериканском континенте.
Хрущеву эта реплика не понравилась. Он взял слово и в своем напористом выступлении не оставил камня на камне от аргументов Алексеева. Он сказал, что ни секунды не сомневается в том, что в отместку за позорное поражение на Плайя-Хирон американцы предпримут новое вторжение на Кубу, причем не с помощью наемников, а собственной морской пехотой. И это не голые домыслы, а выводы, основанные на данных советской разведки. Что может удержать зарвавшихся янки от этого рокового шага? Только угроза того, что они будут иметь дело не только с вооруженной автоматами маленькой Кубой, но и со всей ядерной мощью великого Советского Союза. Это во-первых. А во-вторых, надо заставить американцев влезть в шкуру советского народа, который живет в окружении военных баз и всевозможных ракетных установок с ядерными боеголовками: пусть почувствуют на себе, что значит постоянно находиться под прицелом атомного оружия.
Тогда же всплыла еще одна любопытная деталь. По разведывательным каналам поступили данные о том, что Пентагон еще в феврале 1962 года разработал так называемый «кубинский проект», в соответствии с которым окончательным сроком свержения режима Кастро назван октябрь того же года. А чуть раньше должны быть проведены учения по высадке американского десанта на одном из островов Карибского моря. Американцы не были бы американцами, если бы не привнесли элемент голливудщины даже в такое серьезное дело: целью учений объявили освобождение островного государства от злобного диктатора по имени Ортсак. Выговорить это имя чрезвычайно трудно, зато если его прочитать с конца, то получится — Кастро. Так что намек был всем понятен.
В конце своего выступления Хрущев подчеркнул, что «ракеты необходимо доставлять и размещать незаметно, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы поставить американцев перед свершившимся фактом». Самое странное, что с международно-правовой точки зрения никаких мер предосторожности можно было и не предпринимать. Если правительства той же Турции и Италии дали согласие американцам на размещение ракет на своей территории, то это было совершенно законно, потому-то Москва и оставила эти акции без каких-либо последствий. И если Куба давала согласие на размещение советских ракет, то это тоже было совершенно законно… Правда, пока что не было решения Фиделя, но чтобы его получить, в Гавану срочно вылетела целая делегация, в состав которой вошел и маршал Бирюзов, но под другой фамилией.
Как вспоминает Алексеев, делегацию приняли Фидель и его брат Рауль. Они с пониманием отнеслись к озабоченности Советского Союза развитием событий вокруг Кубы и выразили благодарность за предлагаемое содействие в укреплении обороноспособности молодой республики. Но все это было прелюдией к главной фразе, которая прозвучала из уст только что назначенного советского посла:
— Если кубинские друзья сочтут для себя полезным такое средство устрашения потенциального агрессора, то Советское правительство готово рассмотреть вопрос о размещении на территории Кубы ракет средней дальности.
Фидель не проявил никаких эмоций… Он лишь задумался, правда не надолго, а затем сказал, что ему «эта идея кажется интересной, поскольку она, кроме защиты кубинской революции, послужит интересам мирового социализма и угнетенных народов в их борьбе с обнаглевшим американским империализмом». Потом он снова задумался и через некоторое время добавил:
— Это очень смелый шаг. И чтобы его сделать, мне надо посоветоваться со своими ближайшими соратниками. Но если принятие такого решения необходимо социалистическому лагерю, я думаю, мы дадим свое согласие на размещение советских ракет на нашем острове. Пусть мы будем первыми жертвами в схватке с американским империализмом!
Вы только вдумайтесь в последние слова Фиделя, представьте всю меру ответственности, которую брал на себя молодой руководитель Кубы! Он прекрасно понимал, что если советские ракеты с ядерными боеголовками полетят на Америку, то США непременно ответят тем же. И что тогда останется от Кубы, от только начинающего вылезать из вечной нищеты народа?! Но на следующий день советская делегация получила однозначный ответ: «Да, мы согласны с размещением советских ракет».
В тот же день к делу приступил генерал Грибков, который отвечал за переброску ракет СС-4 на Кубу. Всего их было 42, и все с ядерными боеголовками. Мощность каждой из этих боеголовок равнялась мощности атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки. А если учесть, что ни одну из ракет на таком близком расстоянии перехватить невозможно, то можно было без всякого преувеличения сказать, что ядерный пистолет оказался у самого виска Вашингтона.
Первыми тревогу забили западногерманские союзники США: они сообщили в ЦРУ, что количество советских судов, идущих на Кубу, увеличилось в десять раз. Неужели кубинцам понадобилось так много сеялок, тракторов и комбайнов? Американцы на эту информацию не обратили никакого внимания. Не обратили они внимания и на письма, в которых кубинцы сообщали своим родственникам, бежавшим в США, о каких-то здоровенных ящиках, выгружаемых по ночам с прибывающих советских судов. И лишь 14 октября, после того как разведывательный самолет У-2 сделал фотосъемку стартовых площадок, американцы схватились за голову: не было никаких сомнений, что на Кубе стоят советские ракеты, способные нести ядерные боеголовки.
Доложили президенту Кеннеди, который тут же создал «кризисную группу», в которую вошли и «голуби», и «ястребы». Представители Пентагона выступали за немедленную бомбардировку Кубы, причем если понадобится, то и атомными бомбами. К счастью, в окружении Кеннеди были и не столь горячие головы, которые склонили президента к разрешению возникшей проблемы методами дипломатии, переговоров и поисков компромиссов. Но с кем вести переговоры, если даже советский посол в США Анатолий Добрынин ничего не знал о переброске наших ракет на Кубу. Он прямо так и пишет:
«Москва умышленно, в целях сохранения тайны, не только не информировала меня о таком драматическом развитии событий, как поставка ядерных ракет на Кубу, но и фактически сделала своего посла невольным орудием обмана, поскольку я упорно повторял американским собеседникам, что на Кубе находится только оборонительное оружие. А ведь в моих верительных грамотах, врученных президенту Кеннеди, правительство СССР призывало его верить всему, что будет говорить посол от имени правительства… Несколько позже я узнал о том, что в Белом доме даже обсуждался вопрос о том, не потребовать ли моего отзыва с поста посла в Вашингтоне за то, что я сознательно вводил в заблуждение правительство США».
Еще большее удивление вызывает другой, не поддающийся объяснению факт. 18 октября состоялась встреча президента Кеннеди с министром иностранных дел Советского Союза Громыко. Они говорили о чем угодно, но только не о советских ракетах, стоящих на Кубе и нацеленных на США. Кеннеди по каким-то причинам этот вопрос обходил, хотя, как несколько позже выяснилось, снимки стартовых площадок лежали на его столе, а Громыко, раз у него не спрашивали, разговор на эту щекотливую тему тоже не начинал.
Но почему Кеннеди промолчал? Почему не потребовал немедленных объяснений? Одни считают, что он еще не сделал окончательного выбора, с кем он — с «ястребами» или «голубями», то есть бомбить Кубу или попытаться договориться. Другие, ссылаясь на мнение Хрущева, считавшего Кеннеди «слабаком, не способным на решительные контрдействия», уверяли, что дело именно в этом, в мягкотелости и нерешительности президента.
Как бы то ни было, Кеннеди и Громыко расстались, так и не затронув ракетно-ядерную тему. А Добрынин в своих воспоминаниях уверяет, что даже в аэропорту Нью-Йорка, где он провожал Громыко, всесильный министр не сказал ему ни слова о ракетах.
«Как только в полдень улетел самолет Громыко, — пишет далее Добрынин, — ко мне подошел сотрудник американской миссии при ООН и передал просьбу госсекретаря Раска посетить его в Госдепартаменте в тот же день в шесть часов вечера. Мне стало ясно, что речь идет о чем-то серьезном, ибо Раек никогда не настаивал так категорично на определенном часе наших встреч. Я срочно вылетел в Вашингтон и в назначенное время был у Раска.
Госсекретарь сказал, что у него есть поручение президента передать через меня личное послание президента США Хрущеву по кубинскому вопросу, а также вручить для сведения текст обращения президента к американскому народу, с которым он намерен выступить в семь часов вечера по радио и телевидению».
Выступление Кеннеди повергло весь мир в шок! Он не только потребовал немедленного вывода всех ракет, но и объявил военную блокаду Кубы. В море вышли эсминцы и крейсеры, в небо поднялись эскадрильи бомбардировщиков и перехватчиков, у побережья сосредотачивались батальоны морской пехоты. В полную боевую готовность, включая готовность к ядерной войне, было приведено Стратегическое воздушное командование.
А по коридорам советского посольства носились возбужденные сотрудники. Совещание следовало за совещанием. Было введено круглосуточное дежурство. Чтобы отслеживать обстановку в стране, резидентура разведслужб подняла на ноги всю свою агентуру. Членам семей велели лишний раз не выходить на улицу. На всякий случай начали уничтожать наиболее ценные документы. Все понимали, что обстановка без всяких преувеличений предвоенная, и готовились к самому худшему.
На следующий день пришло ответное послание Хрущева — и оно подлило масла в огонь. Хрущев категорически отвергал право США устанавливать контроль над судоходством в международных водах, обвинял Америку в недопустимом вмешательстве во внутренние дела Кубы, ее праве на оборону от агрессора и выражал туманную надежду на здравый смысл и «во избежание катастрофических последствий для всего мира» на отмену всех мер, объявленных США. Министр обороны Макнамара тут же заявил, что американцы не остановятся перед потоплением советских судов, если они откажутся подчиниться требованиям их военных кораблей.
И надо же так случиться, что буквально на следующий день представилась возможность проверить серьезность заявления Макнамары. К этому времени американцы уже остановили и проверили одно идущее на Кубу судно, но оно шло под канадским флагом и было всего лишь зафрахтовано нашим пароходством. Ничего, кроме сельскохозяйственных машин, на борту не было, и его отпустили. Но одно дело канадский капитан, и совсем другое — русский. Наши парни, хоть руководство их и просило не лезть на рожон, дико возмутились. «Это что же такое? — негодовали они. — Какие-то вшивые янки будут шастать по нашим трюмам и каютам и рыться в рундуках?! Да никогда этому не бывать! Да мы лучше на рее повесимся, нежели позволим ступить на палубу хоть одному американцу!»
И русские капитаны пошли на прорыв! Цедя сквозь сжатые зубы бессмертного «Варяга» и не обращая внимания на нацеленные жерла орудий, они рванули прямо на американские эсминцы. «А-а, на таран — так на таран! — кричали они. — Пощады никто не жела-а-ет!» Этого американцы никак не ожидали и… расступились. Но за один танкер американцы все же зацепились, и сделали они это, скорее всего, потому, что буквально изо всего привыкли делать шоу. Целый день вся Америка не отрывалась от телевизоров, глядя, как к установленной американской декларацией о блокаде Кубы черте приближается советский танкер. На требования повернуть он только качнул носом и попер на американцев. Те — врассыпную! Но самолеты не отстают… Вот до условной черты осталось три мили… две… одна. Пора открывать огонь! Но танкер-то может быть не с оружием, а с горючим, и тогда так полыхнет, что загорятся эсминцы, а на них горячо любимые американские парни. Уфф! Всеобщий вздох облегчения пронесся по Америке: американские парни решили не рисковать и пропустили русских парней к этой чертовой Кубе.
Но если события в Карибском море стали предметом захватывающего шоу, продолжавшегося всего один день, — и об этом узнал весь мир, то в это же время произошло куда более интересное и драматичное чрезвычайное происшествие, о котором знали единицы, но из которого можно было сделать многосерийный фильм. Дело в том, что в разгар Карибского кризиса, а точнее, в ночь на 23 октября 1962 года, в Москве был арестован сотрудник Главного разведывательного управления и одновременно американский шпион Олег Пеньковский.
Несколько позже американский ученый Гартхофф, сам не один год работавший в ЦРУ, рассказал, что роль детонатора третьей мировой войны мог сыграть именно Пеньковский. Дело в том, что связь со своими хозяевами он поддерживал только через тайники, но так как и англичане, и американцы им очень дорожили, то на случай чрезвычайных обстоятельств дали ему два условных неречевых сигнала, которые он должен был передать по телефону. Один из таких сигналов означал: «Меня пришли арестовывать», а другой: «Грядет война», что значило, что СССР вот-вот нанесет ядерный удар. Так вот когда за ним пришли, Пеньковский передал не первый, а второй сигнал!
Когда этот сигнал дошел до Лэнгли, там запаниковали: во-первых, в ЦРУ всегда верили своему самому ценному и самому информированному агенту, и во-вторых, ситуация у берегов Америки без всякого преувеличения была предвоенной. К счастью, нашлись сотрудники среднего звена, которые, взяв на себя колоссальную ответственность, руководству доложили лишь об аресте Пеньковского, но не о переданном им сигнале. Как считает Гартхофф, дойди слова Пеньковского до генералов, они тут же объявили бы состояние наивысшей степени готовности к началу военных действий, включая применение ядерного оружия. А дальше все зависело бы от нервов дежурных офицеров: у кого-то они могли сдать, потом поворот ключа, нажатие на кнопку — и все, конец света. Как уверяет Гартхофф, не исключено, что именно к этому стремился Пеньковский. «Когда ему пришел конец, — пишет бывший сотрудник ЦРУ, — он, очевидно, решил сыграть роль Самсона, обрушив храм, под развалинами которого погибли бы и все остальные».
Но вернемся в Вашингтон, тем более что начиная с 23 октября солистами в этом рискованном спектакле стали дипломаты. Добрынин вспоминает, что поздно вечером к нему пришел Роберт Кеннеди. Он был сильно возбужден и сразу заявил, что явился по своей личной инициативе, чтобы сообщить, что его брат Джон чувствует себя обманутым, что, поверив всему, что ему говорила и писала Москва, он поставил на карту свою политическую судьбу, публично заявив, что поставки на Кубу носят чисто оборонительный характер, в то время как там появились ракеты, поражающие почти всю территорию США. Само собой разумеется, что нанесен серьезный ущерб и личным отношениям между президентом и советским премьером, а ведь от этих отношений зависит очень и очень многое.
Это была первая и далеко не последняя встреча Добрынина с Робертом Кеннеди, которые проходили, как правило, поздно ночью либо в доме посла, либо в министерстве юстиции США, куда Добрынин приходил через особый подъезд. Тогда же начался обмен письмами между Кеннеди и Хрущевым: и тот и другой вели себя довольно воинственно, не желая сдавать своих позиций.
Тем временем в Гаване готовились к бомбежкам и отражению американской агрессии. Посол Алексеев каждый день встречался с Фиделем и рассказывал ему о переписке между Кеннеди и Хрущевым. Фидель был спокоен. Он знал, что американцы запаниковали, что они срочно приводят в порядок противоатомные убежища, что население сметает с прилавков продукты, что радио и телевидение хоть и призывают уничтожить советские ракеты, но при этом замечают, что бомбить Кубу едва ли надо.
Так было до 27 октября, названного американцами «черной субботой». Вот как рассказывает о событиях того дня Добрынин:
«Поздно вечером меня пригласил к себе Роберт Кеннеди. В его кабинете был большой беспорядок. На диване валялся скомканный плед, видимо, хозяин кабинета здесь же урывками спал. Важный разговор состоялся наедине. Кубинский кризис, начал он, продолжает быстро углубляться. Только что получено сообщение, что сбит американский самолет, осуществлявший наблюдательный полет над Кубой. Военные требуют от президента отдать приказ отвечать огнем на огонь… Но если начать ответный огонь, пойдет цепная реакция, которую будет очень трудно остановить. Что касается ракетных баз, то правительство США полно решимости избавиться от них — вплоть до их бомбардировки. Но тогда погибнут советские люди, и СССР ответит нам тем же. Начнется самая настоящая война, в которой погибнут миллионы американцев и русских. Мы хотим избежать этого во что бы то ни стало».
Потом был длительный разговор, в ходе которого выяснилось, что в обмен на вывод ракет правительство США готово снять блокаду Кубы и дать заверения, что никакого вторжения на остров не будет. Когда же Добрынин упомянул об американских ракетах в Турции, то Роберт сказал, что его брат не видит непреодолимых трудностей в решении этого вопроса. Единственная проблема — гласность. Если взяться за это дело без шума и треска, то в течение четырех-пяти месяцев эти базы в Турции можно свернуть. А чтобы никто не пронюхал о контактах с советским послом и на случай оперативной связи, Роберт Кеннеди дал Добрынину номер своего прямого телефона в Белом доме.
На том и расстались… Но если учесть, что в посольстве ничего не знали о сбитом самолете, пришлось связываться с Гаваной. А там произошло следующее. Средь бела дня в небе появился американский разведывательный самолет У-2. Он шел на высоте 22 тысяч метров, и зенитным орудиям его было не достать. Но на Кубе уже стояли советские ракеты класса «земля — воздух». Командовал этим дивизионом советский офицер, который знал о приказе Фиделя сбивать все военные самолеты, появляющиеся в воздушном пространстве Кубы, поэтому он без тени сомнения отдал приказ об уничтожении воздушной цели. Самолет был сбит первой же ракетой. Его пилот Андерсон погиб.
Потом было немало разговоров о том, что кнопку пускового устройства нажимал сам Фидель, однако это чистой воды газетная «утка» — Фидель в это время находился совсем в другом месте.
Как оказалось, 22 октября американцы решили прощупать надежность советской системы ПВО не только на Кубе, но и… на Чукотке. Там тоже в воздушное пространство, но теперь уже не маленькой Кубы, а Советского Союза, вторгся самолет-шпион У-2 и тоже был сбит первой же ракетой.
Видимо, в эти дни и президент Кеннеди, и Хрущев поняли, что в обмене «любезностями» зашли слишком далеко, и вняли голосу разума: 28 октября по московскому радио прозвучало послание Хрущева президенту Кеннеди, в котором он соглашался убрать ракеты в обмен на гарантии США не только не нападать на Кубу, но и удерживать от этого своих союзников. Как свидетельствует посол Алексеев, это решение было принято без согласования с Фиделем, что его сильно обидело и надолго испортило советско-кубинские отношения.
А потом был хорошо известный визит Микояна — сперва в Вашингтон, а потом и в Гавану, который, по сути дела, подвел окончательный итог Карибскому кризису. Мир уцелел, мир устоял, ядерная война не разразилась — это было главным итогом «хождения по лезвию бритвы», как сказал в одном из интервью Хрущев.
Дипломаты извлекли из этой поучительной истории времен холодной войны свой, чисто профессиональный, урок: никогда нельзя ставить партнера по переговорам в безвыходное положение. Всегда и всюду нужно оставлять возможность для поиска компромиссных решений, не забывая о том, что ни одно из этих решений не должно унижать партнера и даже самое безрадостное не должно вести к потере лица.
РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ БРАТЬЯ НАВЕК
Именно так пели в Москве и Пекине лет пятьдесят назад… Пели, пели, а потом начали стрелять. Первые выстрелы прозвучали 2 марта 1969 года на острове Даманский. Вот что тогда произошло…
Под прикрытием темноты около 300 китайских солдат, нарушив государственную границу, перешли через протоку реки Уссури и заняли боевые позиции на Даманском. Они были одеты в белые маскхалаты и залегли в засаду. Ранним утром еще 30 китайцев пошли к Даманскому в открытую. Навстречу им вышло шестеро советских пограничников во главе со старшими лейтенантами Стрельниковым и Буйневичем.
В соответствии с существовавшим тогда приказом офицеры были безоружны, а солдаты шли с не примкнутыми к автоматам рожками — это делалось для того, чтобы избежать случайного, несанкционированного выстрела. А шли наши ребята лишь для того, чтобы заявить протест по поводу очередного нарушения границы — так было уже не один раз.
Не успел Стрельников сказать и слова, как загремели выстрелы! Китайцы били в упор. Стрельников и Буйневич были убиты первыми. Пока наши солдаты заряжали автоматы, по ним ударили из засады. Командование уцелевшими принял младший сержант Бабанский. В его распоряжении, вместе с подошедшими на помощь, было всего десять человек, но зато с ручным пулеметом, — и они приняли бой. Потом к месту сражения прибыла группа пограничников во главе с командиром соседней заставы Бубениным. Он зашел на бронетранспортере с тыла и открыл шквальный огонь. Но китайцы перегруппировались и подбили бронетранспортер. Раненый Бубенин успел выскочить из горящей машины и продолжал руководить боем.
Когда китайцы отступили, оказалось, что наши потеряли 32 человека убитыми и 14 ранеными. В группе Стрельникова погибли все, кроме одного солдата: китайцы добивали его штыком, но он прошел в миллиметре от сердца. Многие другие тоже были добиты штыками или выстрелами в упор. А у нескольких ребят лица изуродовали до неузнаваемости.
Само собой разумеется, о случившемся тут же сообщило ТАСС, а Советское правительство направило в Пекин ноту протеста, в которой, в частности, предупреждало, что «оставляет за собой право принять решительные меры для пресечения провокаций на советско-китайской границе».
Китайцы это предупреждение проигнорировали и 15 марта снова ринулись на Даманский. На этот раз бой был более серьезным, с применением танков и артиллерии. Семь часов сдерживали пограничники натиск регулярных частей китайской армии. Во время этих боев наши потеряли 16 человек, в том числе полковника Леонова, только после этого было принято решение о применении более мощного оружия. К Даманскому подтянули дивизион установок «Град» (практически это усовершенствованные легендарные «катюши») и так долбанули по острову, а заодно и По противоположному берегу, что там не осталось ничего живого. После этого китайцы угомонились и на Даманский больше не лезли.
Но провокации на этом не закончились. Пронюхав о том, что разрешение на открытие огня пограничники получают не откуда-нибудь, а непосредственно из Москвы, да еще от руководства ЦК КПСС, а на это уходит много времени, китайцы решили воспользоваться этой люфтпаузой и попробовали прощупать нашу границу на Памире, в районе под названием Жаланашколь. 15 августа 1969 года они перешли границу и заняли так называемый спорный участок. Они думали, что, пока русские будут запрашивать разрешение Москвы на контратаку, их солдаты успеют закрепиться и как следует окопаться.
Не тут-то было! Командир стоявшего неподалеку полка, не запрашивая никаких указаний и разрешений, такого врезал дрозда обнаглевшим от безнаказанности китайцам, что те драпали чуть ли не до самого Пекина, оставив на поле боя десятки трупов и множество оружия.
После этого стрелять китайцы перестали, ограничившись воплями через громкоговорители и всякого рода мелкими пакостями. Это — на границе. А в Пекине готовились к большой бойне: живой силы в Китае было предостаточно, да и атомная бомба имелась в наличии. На стенах домов висели плакаты с недвусмысленной надписью: «СССР — наш враг!» Любимый вождь Мао Цзэдун открыто заявил, что «русские являются еще более опасными врагами, чем американцы». А в расклеенных повсюду дацзыбао опьяненные яростью хунвейбины писали: «Довольно! Довольно! Довольно! В наших сердцах клокочет вся старая и новая ненависть! Мы не забудем о ней ни через сто, ни через тысячу, ни через десять тысяч лет. Мы обязательно отомстим. Когда настанет это время, мы сдерем с вас шкуру, вытянем из вас жилы, сожжем ваши трупы и прах развеем по ветру!»
И вот в этой обстановке, впервые после вызванного культурной революцией перерыва, на землю Китая ступили советские дипломаты. Задача у них была очень и очень непростая: во-первых, урегулировать пограничные споры и, во-вторых, не дать разразиться широкомасштабной войне. Инициатива переговоров исходила от Москвы, и первым этот шаг сделал отнюдь не генсек Брежнев, а глава правительства Косыгин.
Сразу же после окончания боев на Даманском Алексей Николаевич вызвал одного из сотрудников, который хорошо владел китайским, и попросил позвонить по «горячей линии» в Пекин. Он сказал, что хотел бы поговорить с главой правительства Чжоу Эньлаем. Какой-то дежурный клерк, который еще несколько лет назад сомлел бы от счастья, что беседует с такой высокопоставленной особой, бесцеремонно процедил в трубку, что «с советскими ревизионистами нам разговаривать не о чем». Косыгин все понял и попросил позвонить еще раз, подчеркнув, что он хотел бы поговорить не с рядовым сотрудником, а с человеком, который полномочен принимать решения на государственном уровне, то есть с главой правительства Чжоу Эньлаем. Ответ зарвавшегося клерка был еще более жестким и наглым.
Так сорвалась первая попытка Москвы вступить в переговоры с Пекином. К счастью, Косыгин был не из тех, кто при неудаче опускает руки и думает не о деле, а об ущемленном самолюбии. Раз не удалось связаться с Чжоу Эньлаем напрямую, надо искать обходные пути — таков был его наказ дипломатам. И они эти пути нашли! 11 октября 1969-го в пекинском аэропорту состоялась встреча Косыгина и Чжоу Эньлая. Она была очень сложной и, не боюсь этого слова, жесткой, но главы правительств договорились о главном — о поездке советской делегации в Пекин, где в ходе переговоров должны быть решены все спорные вопросы.
Буквально через несколько дней, а точнее 19 октября, советская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Василием Кузнецовым прибыла в Пекин. В качестве эксперта в составе делегации был Юрий Галенович, который рассказывал, что обстановка в китайской столице была не просто напряженной, а откровенно враждебной. Больше того, китайцы в пограничном конфликте считали себя победителями и, видимо, поэтому переговоры начали в откровенно ультимативной форме. Но наши эту эйфорию потихоньку свели на нет, начали выдвигать свои требования и в конце концов довели дело до того, что в печати было опубликовано «Соглашение о временных мерах по сохранению статус-кво на границе». Очень важно, что в одном из главных пунктов стороны были единодушны. В «Соглашении» на этот раз не кровью, а черным по белому было записано: «Обе стороны соглашаются избегать вооруженных конфликтов. Обе стороны обязуются, что все вооруженные силы каждой из них, включая ядерные вооруженные силы, не будут нападать на другую сторону и не будут открывать огонь по другой стороне».
И еще. Подписывая это соглашение, Москва и Пекин договорились, что все спорные вопросы отныне будут разрешаться «путем консультаций через дипломатические каналы».
Что касается Даманского, то в соответствии с последующими договоренностями он стал китайским. Кстати говоря, мало кто знает, что еще летом 1964-го шли активные переговоры о спорных участках советско-китайской границы и, если бы не резкое обострение отношений и личное вмешательство Мао Цзэдуна, Даманский уже тогда был бы китайским.
Бог с ним, в конце концов, с Даманским. Главное, что пролитая там (да простят меня живые и мертвые за такое выражение) малая кровь не дала пролиться рекам большой крови, не дала разразиться ядерной войне. Ну а то, что все спорные вопросы между Россией и КНР разрешаются «путем консультаций через дипломатические каналы», мы видим, если так можно выразиться, воочию. И конечно же, ни у кого нет сомнений, что русский с китайцем снова братья навек.
СОЛДАТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ФРОНТА
ЖЕРТВЕННАЯ КРОВЬ ПОЭТА
Во все времена дипломаты были самой желанной и самой легкой добычей для всякого рода разведок, контрразведок, а также королей, шахов, султанов и президентов. И это не случайно. Ведь дипломаты являются носителями самых серьезных государственных тайн и секретов, они заранее знают, что замышляет тот или иной король или президент, именно они приезжают в резиденции глав государств с горькими сообщениями о начале войны, они же подают первые весточки о том, что пора бы замириться.
И при всем при том, находясь на территории того или иного государства, дипломаты совершенно беззащитны: им запрещено носить оружие, иметь телохранителей, не говоря уже о том, что редко какое посольство располагает своей собственной охраной. А всякие там соглашения и договоры, на основании которых государство места пребывания должно выделять для охраны посольств полицейских, карабинеров или жандармов, — это не более чем бумажный щит и картонный меч. При желании ворваться в посольство и арестовать или даже убить находящихся там дипломатов проще простого. История этот грустный вывод подтверждает чуть ли не на каждом шагу по своей ухабистой дороге.
Еще в XVIII веке, как только Турция и Россия где-нибудь на Дунае или в Крыму начинали военные действия, русские послы тут же оказывались в Семибашенном замке, где содержали самых опасных преступников. Первым проложил туда дорогу доверенный представитель Петра I граф Толстой — он побывал в замке дважды и чудом уцелел. Чуть более полувека спустя путь Толстого повторил А.М. Обресков. Он был куда дальновиднее, предусмотрительнее и, если хотите, пронырливее: даже находясь в тюрьме, оставался в курсе всех планов султана и ухитрялся передавать эти сведения не просто на волю, а прямо в Петербург. То же самое делал и наш посол Я.И. Булгаков: томясь в Семибашенном замке, он умудрился раздобыть план турецких военных операций и переслал его в Россию.
Еще более дерзко и рискованно действовал российский посол в Париже И.М. Симолин. В годы Великой французской революции он был в самой гуще событий и даже, рискуя жизнью, стал очевидцем штурма Бастилии. Это зрелище так его потрясло, что он тут же отправил в Петербург непривьино взволнованную депешу: «Революция во Франции свершилась. Это восстание сопровождалось убийствами, вызывающими содрогание. Жестокость и зверство французского народа проявились во всех этих событиях в тех же чертах, как в Варфоломеевскую ночь, о которой мы до сих пор с ужасом читаем».
А чуть позже он ввязался в куда более рискованную историю, связанную с попыткой освобождения и бегства Людовика XVI из страны. Российский посол пошел на то, что выдал королю паспорт на имя… вдовы полковника царской службы баронессы Корф. Несколько застав «баронесса» проскочила нормально, но в Варение ее опознали и вернули в Париж. Над Симолиным нависла нешуточная угроза расправы! Это прекрасно понимали в Петербурге и посоветовали под благовидным предлогом покинуть Париж.
Первая кровь посла пролилась в январе 1829 года… За два года до этого началась Русско-персидская война, закончившаяся освобождением Еревана и присоединением к России Ереванского и Нахичеванского ханств. Переговоры о заключении мира шли в Туркманчае. Окончательный проект Туркманчайского договора составил и отредактировал Александр Грибоедов, которого вся Россия почитала как автора знаменитой комедии «Горе от ума», но почти не знала как талантливейшего дипломата. Грибоедов одним из первых понял, что успехи на полях сражений — это, конечно, прекрасно, но главное, — не захваченные знамена противника, а… деньги. «Деньги — это также род оружия, — писал Грибоедов, — без которого нельзя вести войну. Требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время».
Именно поэтому он настаивал на том, чтобы Персия выплатила России контрибуцию в размере 20 миллионов рублей серебром. И персам пришлось на это согласиться! Вернувшись в Петербург, Грибоедов был обласкан и щедро награжден императором. «Государю угодно меня пожаловать 4 тысячами червонцев, Анною с бриллиантами и чином статского советника», — не без гордости писал в одном из писем Грибоедов.
Но как раз в это время Россия затеяла очередную войну с Турцией. В Петербурге опасались, как бы турки не заключили союз с персами и не ударили по южным границам вместе. Чтобы предотвратить этот альянс, Грибоедова срочно направляют в Персию. Инструкция, которую ему дал министр иностранных дел граф Нессельроде и утвердил лично Николай I, была довольно пространной и недвусмысленно откровенной.
«Непременной целью Вашей работы в Персии, — говорилось в инструкции, — является упрочение мирных отношений между нашими странами, соблюдение нейтралитета Персии в русско-турецких делах, а также развитие взаимовыгодной торговли. При этом нельзя забывать о покровительстве подданным Персии, которые оказывали услуги российскому войску во время русско-персидской войны, в сборе статистических и политических сведений о Персии, ее истории, географии, о состоянии ее экономики, торговли и взаимоотношениях с соседями. Особое внимание следует обратить выяснению состояния древних и современных караванных путей, идущих от Каспийского моря в Индию и сопредельные с нею страны.
Но более всего МИД встречает надобности в сведениях, почерпнутых из верных источников, об отношении Персии к туркоманам (туркменам) и хивинцам, о степени ее приязни к оным и влияния могущества ее на сии кочевые племена, а с другой стороны, о случаях к опасению, к взаимным враждебным действиям их и о способах Персии к отражению их набегов».
Читая эту инструкцию, невольно возникает вопрос: «Так в каком же качестве отправляли Грибоедова в Персию — дипломата или разведчика?» Укреплять мирные отношения и развивать взаимовыгодную торговлю — это задача дипломата. Но собирать сведения о дорогах, состоянии экономики и взаимоотношениях с соседями, да еще почерпнутыми из верных источников, — это обязанность разведчика. Значит, Грибоедов работал в двух ипостасях? Значит, он был не только послом Российский империи, но и резидентом российский разведки? Увы, но это так.
Подтверждением служит довольно обширный раздел инструкции, посвященный так называемым «чрезвычайным расходам». «Для успешного выполнения всего, что Вам предначертано, необходимы связи в том крае, где Вы будете иметь постоянное пребывание, и содействие людей усердных. Самые вельможи и даже сыновья шахские нуждаются иногда в незначительном вспоможении наличными деньгами, от которых внезапно восстанавливается их вес и зависит нередко их спасение. Такая услуга с Вашей стороны, вовремя оказанная, может приобрести Вам благодарность лиц полезных и сделать их искренними, следовательно, решения по сему предмету предоставляются Вашему благоразумию.
Впрочем, многие местные обстоятельства в Персии нам в совершенной полноте неизвестны, а потому я ограничиваюсь выше изложенными наставлениями, по Высочайшему повелению предначертанными Вам в руководство. Но при сем долгом поставляю сообщить Вам, что Его Императорское Величество в том приятном удостоверении, что Вы при всяких случаях и во всех действиях постоянно будете иметь в виду честь, пользу и славу России».
Прибыв в Тегеран, Грибоедов быстро разобрался в довольно тревожной ситуации, суть которой была в том, что поддерживаемый англичанами шах намеревался разорвать Туркманчайский мирный договор и выступить на стороне Турции, а наследник престола Аббас-Мирза придерживался ориентации на Россию.
А тут еще подошел срок выплаты контрибуции! Шах расставаться с деньгами не хотел. Грибоедов настаивал. И тогда с русским послом решили разобраться по-восточному, то есть чужими руками, обставив дело так, что шах и его окружение к планируемой акции не имеют никакого отношения.
Формально не имели к этому отношения и англичане, но их участие в разжигании антирусских настроений и подталкивании к нападению на русское посольство не вызывает никаких сомнений. Ведь если исходить из того, кто больше всего выигрывал от обострения русско-персидских отношений и даже вполне возможной войны — а именно к этому по замыслу заговорщиков должен был привести разгром русского посольства, — то это были англичане. В те годы Россия активно искала пути продвижения на юг, а Англия — на север от жемчужины британской короны Индии. Каждый шаг России на юг Англия считала угрозой для Индии, поэтому не только везде и всюду разоблачала «агрессивный курс России», но и делала все возможное и невозможное, чтобы стравить с Россией Персию и Турцию.
Безвозмездные кредиты, поставка современных вооружений, командирование военных советников — это давным-давно стало нормой. И вот когда англичане, а также шах и его окружение посчитали, что время «Ч» настало, перед исполнителями провокационной акции зажгли зеленый свет. Повод подвернулся как нельзя кстати: из гарема Аллаяр-хана, который был зятем шаха, сбежали две женщины и укрылись в русском посольстве. Вскоре к ним присоединился и любимый евнух самого шаха. Мирза Якуб, которого юношей увезли из Еревана, а потом оскопили и посвятили в ислам, стал одним из самых доверенных лиц шаха: кроме чисто гаремных дел, он ведал всеми финансами. И женщины, и Мирза Якуб хотели вернуться в родной Ереван, который теперь принадлежал России, и просили у Грибоедова помощи и содействия.
В принципе, защита пленных и оказание им помощи в возвращении на родину входили в круг полномочий Грибоедова, поэтому, уведомив персидскую сторону, он разрешил беглецам до отъезда находиться в здании посольства. Это взбесило фанатично настроенных мусульман! Мирза Якуб был провозглашен отступником от веры, а русский посол — его покровителем и защитником. Шах и его зять умело подогревали эти настроения: вскоре на базарах и в мечетях стали раздаваться призывы к разгрому русского посольства. 30 января 1829 года фанатически настроенная толпа ворвалась на территорию посольства и не только перебила всех, кто там находился, но и, надругавшись над трупами, буквально их растерзала. Грибоедова опознали лишь по скрюченному пальцу, следствию полученного на дуэли ранения. В живых остался только секретарь миссии Иван Мальцов.
Вот что он написал несколько позже в своем отчете: «С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим на часах, выстрелить холостыми зарядами, и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать наших людей.
Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни».
Как и было задумано в том самом, чисто восточном сценарии, шах тут же объявил о полной непричастности к этим трагическим событиям и даже попытался обвинить самого Грибоедова, спровоцировавшего праведный гнев истово верующих мусульман. Заодно он попытал счастья в реализации своей главной задумки — не платить оговоренную Туркманчайским договором контрибуцию. Но… не вышло. На турецком фронте русские войска перешли в решительное наступление. Шах, изрядно струсив и опасаясь, как бы они не двинулись на Тегеран, принес Николаю I официальные извинения. Больше того, он отправил в Петербург целую делегацию, которая привезла самую дорогую и почитаемую ценность Персии — легендарный алмаз «Шах». С подачи главного казначея в Тегеране его называли «Ценой крови».
Примечательно, что возглавлять эту делегацию шах поручил своему сыну. Этим персидский властелин хотел сказать, что, мол, доверяюсь вам, Ваше Величество, полностью. Делайте что хотите и с алмазом, и с моим наследником.
Русский император извинения принял, с наследником персидского престола обошелся милостиво, а алмаз велел хранить в подвальном сейфе Зимнего дворца. Несколько позже его перевезли в Оружейную палату Московского Кремля, где он пребывает и поныне.
Надо сказать, что волшебная сила «Шаха» возымела свое действие. Обласкав наследника персидского престола, Николай I сказал: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». После этого инцидент посчитали исчерпанным, и дипломатические отношения между Россией и Персией были сохранены.
Но личный представитель Николая I генерал-майор Долгоруков, прибывший в Тегеран для улаживания последствий инцидента с разгромом посольства и зверским убийством Грибоедова, возвращаясь в Петербург, написал в качестве наказа остававшимся в Персии дипломатам: «В Азии не так, как в Европе. Здесь каждый день является перемена в мыслях и весьма часто в действиях. Чтобы не дать дурного хода делам и чтобы иногда успеть предупредить какие-либо действия, нужно быть скоро и верно извещену. Успех в деле от сего происходит. Чтобы дойти ж до намечаемой цели, надобно иметь людей, а людей без денег и подарков невозможно приобрести. Я совершенно того мнения, что не должно дозволять больших экстраординарных расходов, но необходимо также назначить сумму, чтобы отыскать одного или двух чиновников персидских, которые бы доставляли верные известия. По приезде же моем я не нашел ни одного человека, который бы хоть немного придерживался к нашей миссии, тогда когда всё валит к англичанам».
Понятно, почему Долгоруков не нашел ни одного человека, «который бы хоть немного придерживался к нашей миссии», — они были вырезаны в дни кровавого антирусского шабаша. Но преемники Грибоедова не сидели без дела и не предавались восточной неге: они действовали в соответствии с инструкций, полученной Александром Сергеевичем, и довольно быстро обросли нужными связями. Недаром на Руси говорят, что после Бога деньги первые. Судя по всему, они первые и после Аллаха. Во всяком случае, больших проблем во взаимоотношениях между Россией и Персией больше не было.
Но трагический инцидент, произошедший 30 января 1829 года, вошел в историю и навсегда остался в памяти россиян. К сожалению, такого рода события в истории российской дипломатии были отнюдь не последними. XIX век — это непрерывная череда восстаний, переворотов, революций, и всюду — то в Греции, то во Франции, то в Испании — дипломаты оказывались на переднем крае этих кровавых событий.
Чтобы шифры и архивы не достались охочим до них бунтовщикам, приходилось их укрывать, перепрятывать, а то и сжигать. Бывало и так, что в смертельной опасности оказывались и сами дипломаты, бывало и так, что они гибли, становясь легкой мишенью для всякого рода «борцов с ненавистным строем».
ГЛАВНЫЙ ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ИМПЕРИИ
Но вернемся к истокам, вернемся к тому времени, когда Петр I, прорубив окно в Европу и заложив Санкт-Петербург, обратился к своей давней мечте — пробиться к теплому Черному морю. Азов, который половцы, а потом и турки называли Азак, он уже взял и к Азовскому морю прорвался. Но узкий Керченский пролив контролировали турки, а это значит, что выхода к Черному морю у России не было. Честолюбивые планы Петра Алексеевича еще долго оставались лишь планами: боеспособного флота у России в тех краях еще не было, а без этого соваться в Черное море означало тут же пойти на дно от пушечного огня многочисленных турецких фрегатов.
Поэтому пока что главной задачей было не спровоцировать турок на войну против России. Все силы Петра I отнимала Северная война. А тут еще досаднейшее поражение под Нарвой.
Это случилось в ноябре 1700-го. Петр I рвался к Балтике, но на пути были Нарва и Ивангород. Осадить-то их Петр I осадил, но взять не смог. А когда на выручку осажденным подошел Карл XII и атаковал позиции русских войск, многие офицеры-наемники бежали к шведам. Армия тут же превратилась в толпу, которая повалила через мост у острова Кампергольм. Мост, конечно же, рухнул, и сотни солдат пошли на дно. Всего в том сражении русская армия потеряла около 8 тысяч человек и полторы сотни орудий. Но самым большим позором было то, что шведам пришлось отдать и знамена.
Турки тут же оживились и решили вернуть отвоеванный Петром I Азов. Армии у российского самодержца не было, флота — тоже, поэтому он решил использовать доселе неведомое секретное оружие: он направил послом в Турцию графа Толстого. Вообще-то с Петром Андреевичем у царя были давние счеты: во время Стрелецкого бунта сановник выступил на стороне Милославских и призывал к расправе над Нарышкиными, родственниками матери юного Петра. Придя к власти, Петр I припомнил эту обиду и сослал Толстого в Великий Устюг. Двенадцать лет служил там воеводой граф Толстой. Там бы, наверное, и скончался, если бы не случай…
Занесло как-то в эти богом забытые края Петра I. Встречу ему воевода организовал по высшему разряд: гром пушек, двухметровый осетр, ряженые девки и, что уж совсем поразительно, вся прислуга в камзолах, чулках и париках. Царь-батюшка растаял, облобызал опального воеводу и спросил, чего тот хочет.
— Моряком хочу стать, — потупив взор, ответствовал Толстой.
— Ке-е-м? — аж подпрыгнул захмелевший правитель. — Ты хоть знаешь, что такое бушприт или, скажем, фок-мачта?
— Не знаю, государь, — вздохнул Толстой. — Но усердным учением надеюсь преодолеть сие незнание и через год-другой осмелюсь доложить тебе не только правила соединения шпангоутов с килем, но и как управлять парусом под названием стаксель.
— Ишь ты-ы-ы, — удивился царь. — Слова-то эти откуда знаешь?
— А книжки читаю, — скромно потупился Толстой.
— Какие? — вскинулся царь. — А ну-ка, покажи!
— Вот аглицкие, вот италийские, — протянул Толстой два увесистых тома по науке кораблевождения.
— Так ты что же, и языки знаешь?
— Читать-то читаю, а вот поговорить не с кем, — снова вздохнул Толстой. — В нашей глухомани — ни одного иностранца.
— Лет-то тебе сколько? — опрокинув жбан медовухи, поинтересовался Петр Алексеевич.
— Пятьдесят два, — махнул рукой воевода.
— А не поздно учиться-то? В такие годы готовятся к встрече с Господом Богом.
— Так кто ж его знает, когда она будет, эта встреча? А учиться, государь мой, никогда не поздно.
— В чем-чем, а в этом ты прав… Ладно, быть по сему: отправлю тебя, старого греховодника, в Италию. Постигай морскую науку зело усердно, а по возвращении я сам устрою тебе экзамен. Ты у меня побегаешь и со стакселем, и с кливером, и с фор-бом-брамселем! — хохотнул Петр Алексеевич.
Как это ни странно, но не первой молодости граф оказался прекрасным гардемарином. Пораженные итальянцы только руками разводили, а князь Венеции вручил Толстому специальный аттестат, в котором говорилось, что «предъявитель сего освоил множество морских профессий и по своим личным качествам является мужем смелым, рачительным и способным».
За годы пребывания в Италии Толстой действительно многому научился, и не только в области кораблевождения. Он читал философские трактаты, изучал историю европейских государств, интересовался искусствоведением, постигал правила хорошего тона и, самое главное, обзаводился нужными связями.
По возвращении в Россию Толстой предстал перед императором и сказал, что готов сдать экзамен по управлению самым современным фрегатом.
— Не сомневаюсь, — отмахнулся Петр Алексеевич и озабоченно продолжал: — Нисколько не сомневаюсь. Но сейчас не до этого… Ты знаешь о нашем позоре под Нарвой? Люди — ладно, бабы нарожают. Но вот пушки и знамена! Этого я не забуду и не прощу. Ты помнишь, как меня ругали за отрезанные бороды и за приказ ходить в чулках и кафтанах? Дурьи головы, они того не понимали, что дело не в чулках, а в мозгах. В мозгах и душах! Пока они не поймут, что знамя — это не тряпка, а пушка стоит как какое-нибудь имение и, до коли жив, отдавать их врагу нельзя ни под каким видом, супостата мы не победим. С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским не так. Если бы я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Ты меня понимаешь? Или в Европе размягчал?
— Понимаю, государь. Я все понимаю и готов служить, не жалея живота своего, на благо России.
— Вот и ладно, граф, — приобнял он Толстого. — Вот и ладно… А благо России сейчас находится в Турции. Да-да, в Турции, — продолжал Петр I с нажимом. — Пока мы тут возимся со шведами, а без решительного сражения с ними не обойтись, на юге нас за хвост держит Турция. На два фронта мы воевать не сможем. Главное — шведы. Будем готовиться к решительной битве с Карлом. Но Турция должна молчать. Надо сделать так, чтобы султан если не стал нашим союзником, то, уж во всяком случае, не угрожал войной. Поэтому, граф, направляю тебя послом в Стамбул, столицу Османской империи… Не надо, не благодари, — поморщился Петр Алексеевич и отдернул руку, которую хотел поцеловать Толстой. — Я же не на бал тебя отправляю, а в пасть давнего врага. Ничего, придет время возьмемся и за турок! Не я, так мои потомки прорвутся к Черному морю, и порядки там будет диктовать не турецкий полумесяц, а наш Андреевский флаг.
Через несколько дней длиннущий обоз новоиспеченного дипломата двинулся в сторону Стамбула. Путь был долгий, и по дороге Толстой снова и снова перечитывал наказы и наставления Петра I. Один из этих наказов был не столько дипломатического, сколько разведывательного характера, но граф прекрасно понимал, что в Турции ему придется работать в двух ипостасях.
«Необходимо выведывать и описывать тамошние народы, — писал русский царь. — Состояние. Какое там правление. Какие правительственные лица. Какие у них с другими государствами будут поступки в воинских и политических делах. Какие устроения для умножения прибыли или к войне тайные приготовления. Против кого морем или сухим путем. Какие государства больше уважают. Который народ больше любят. Сколько войска, и где держат в готовности, и сколько дается ему из казны. Также каков морской флот и нет ли особенного приготовления на Черном море. Конницу и пехоту после царской войны не обучают ли европейским обычаям. Бомбардиры, пушкари в прежнем ли состоянии или учат вновь. Кто учит».
В середине 1702 года обоз графа Толстого наконец-то добрался до Стамбула. Встретили русское посольство не просто настороженно, а откровенно недоброжелательно. Причина была более чем прозаическая: оказывается, свинью русским подложили запорожские казаки, которые накануне ограбили турецких купцов. Пришлось Толстому раскошеливаться и компенсировать купеческие убытки. И коммерсанты, и двор отнеслись к этому одобрительно: они поняли, что граф Толстой натура широкая, радеет об интересах государства и мелочиться не будет.
Первый визит, который нанес Толстой после вручения верительных грамот, было посещение патриарха Иерусалимского Досифея. Формально Иерусалим находился под владычеством султана, но духовная власть патриарха ничем не ограничивалась и распространялась на все православное население Османской империи. Патриарх и раньше время от времени оказывал дружеские услуги Москве, но сейчас, когда Толстой привез ему грамоту от русского царя, в которой выражалась нижайшая просьба «дабы к тому послу нашему был еси во всяких приключающихся ему делах способник делом и словом, елико возможно, а также патриарху Досифею быть послу Толстому советником и искренним помощником», Досифей сказал, что до конца дней своих по мере сил будет помогать братьям по православной вере.
Для начала они провели совместную акцию по устранению антирусски настроенного министра, который препятствовал встрече Толстого с султаном. Досифей дознался, что мать султана за определенное вознаграждение готова замолвить нужное слово сыну. Петр Андреевич отсчитал дюжину соболей и горностаев, присовокупил к ним алмазное перо на шапку, кушак с отделкой из драгоценных камней и через Досифея передал все это султанше. Это была первая взятка, или, как тогда говорили, «дача», в жизни Толстого. Со временем он станет самым главным взяткодателем России, больше того, граф Толстой будет утверждать, что нет такого человека, которого нельзя было бы склонить к получению «дачи» и таким образом добиться нужного решения. А та, первая «дача» была более чем результативной: строптивого министра казнили.
Большую помощь оказывал Толстому племянник патриарха Спилиот. Это он доставлял секретную переписку, которая шла между Досифеем и Толстым, это он подсказывал, как поступить во время тех или иных переговоров с турецкими властями, это он помог заглянуть в письма французского посла Ферриоля, который убеждал султана начать войну против России. Узнав об этом, Толстой тут же пустил в дело свои главные контраргументы, то есть песцов, соболей и драгоценные камни, которые разошлись по резиденциям министров. Когда султан собрал заседание дивана, чтобы принять коллективное решение о начале войны против России, неожиданно для него победила партия мира: почти все министры начали очень аргументированно убеждать его, что с Россией сейчас связываться не стоит, что армия Петра I одна из лучших в Европе — это доказывают победы русского оружия при Эресфере, Кексгольме и Ямбурге, а также успешный штурм Нарвы, Дерпта и Ивангорода. Ахмед III внял голосу рассудка, послушался своих министров и от развязывания войны отказался.
Граф Толстой торжествовал! Но больше всего он ликовал от того, что Ферриоль, который тоже давал взятки, потратился впустую, а его, графа, песцы и соболя сохранили России мир, а значит, и тысячи жизней.
Но партия войны с поражением не смирилась. Отношения между Россией и Турцией становились все напряженнее, а война со Швецией требовала все новых сил, и отвлекаться на конфликт в Причерноморье не было никакой возможности. Из Москвы последовало указание делать все возможное и невозможное, «дабы Порту до зачинания войны не допустить (також бы и татарам позволения на то не давали), не жалея никаких иждивений, хотя бы превеликие оные были».
И снова Толстому пришлось развязывать свой посольский кошель: по некоторым данным, за несколько дней он потратил полтора миллиона талеров — астрономическую по тем временам сумму, но войне начаться не дал. А вот весной 1709 года война чуть было не началась, и причиной мог стать, как это ни странно, сам Петр I. Дело в том, что он решил съездить в Азов. В Турции это восприняли как желание царя самолично возглавить находящиеся там войска и напасть на турецкий флот. С великим трудом Толстой пробился к Великому визирю, а потом и к султану и убедил их в том, что «русский царь прибыл в Азов ни для чего иного, разве ради гуляния, ибо царское величество имеет нрав такой, что в одном месте всегда быть не позволит».
А в июне того же года грянула Полтавская битва! Шведы были разбиты наголову Они потеряли 9 тысяч человек убитыми, более 18 тысяч сдались в плен, и это при том, что потери русских составили около полутора тысяч человек. Карл XII вместе с предателем Мазепой бежали на территорию Османской империи. Преследовать их Петр I не стал: побежденный враг для него уже не был врагом, а всего лишь частным лицом без армии.
В Стамбуле всполошились! Это тут же отметил Толстой и отправил канцлеру Головкину срочную депешу. «Не изволь удивляться, что я прежде, когда король шведский был в великой силе, доносил о миролюбии Порты, а теперь, когда шведы разбиты, сомневаюсь. Турки не верят, чтоб Его Величество не начал войны, когда будет от других войн свободен».
А потом случилась беда. То ли у Толстого закончились песцы и соболя, то ли кто-то его информаторам заплатил больше, но в ноябре 1710 года Турция объявила войну России. Толстой об этом узнал с опозданием и не успел ни известить царя, ни сбежать из города. Как тогда было принято, его немедленно арестовали, бросили в ветхую колымагу и под улюлюканье толпы отвезли в тюрьму Едикуле. Дом и имущество, само собой, разграбили, а людей из свиты посла заперли в сарае.
В тюрьме графу Толстому пришлось не сладко. «Меня привезли в Семибашенную фортецию, — писал он несколько позже, — посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную». А потом его начали таскать на допросы. Требовали от него лишь одного: назвать имена тех приближенных к султану людей, которым он давал взятки. Толстой только посмеивался и говорил, что всех просто не упомнить. Стали угрожать пытками. Но Толстой, перекрестясь, ронял, что он, мол, человек старый, свое пожил, сладкого и горького попил, пора и перед Богом предстать, так что если его, православного христианина, иноверцы забьют насмерть, на тот свет он попадет как мученик за веру.
Туркам были нужны имена агентов Толстого, а не православный мученик, поэтому пытать его не стали, но от внешнего мира изолировали напрочь. Сотрудников его посольства к этому времени освободили, но глаз с них не спускали и навещать графа не разрешали. И все же Петр Андреевич турецких тюремщиков переиграл. В те годы молдавский господарь Кантемир имел в Стамбуле своего посла, который тайно присягнул на верность русскому царю. Его-то Толстой и попросил пригласить в тюрьму, дабы известить о чисто дипломатических нюансах в отношениях России и Молдавии. Посла в тюрьму пустили, а передать с ним записку на волю было делом техники. Больше того, оказалось, что молдавский посол в курсе военных планов Турции: он рассказывал об этом Толстому, тот составлял по этому поводу зашифрованные послания, молдаванин выносил их на волю и передавал доверенному лицу графа, который отправлял их в Петербург.
Такого еще не было ни в истории разведки, ни в истории дипломатии! Два года провел Толстой в турецкой тюрьме, и все это время Петр I регулярно получал от него послания о турецких планах. Когда наконец был подписан русско-турецкий мирный договор, Толстого отпустили на волю. Петр I встретил его как родного и вручил редчайшую по тем временам награду: свой собственный портрет, украшенный бесчисленным количеством бриллиантов.
А несколько позже самодержец всероссийский доверил Толстому такую тайну и дал такое щекотливое поручение, что многие историки до сих пор ломают голову над тем, хвалить графа за блестяще выполненное задание или хаять. Ведь скажись он тогда больным и откажись от поездки в Вену, история послепетровской России была бы совсем другой: не восседали бы на троне бабы, не бесчинствовали бы их любовники-фавориты, не пресекся бы род Романовых и, как знать, не дожили бы мы и до февраля, а потом и октября 1917-го.
Все дело в том, что Петр I и его сын Алексей терпеть не могли друг друга. Детство Алексея прошло в покоях его матери Евдокии Лопухиной — женщины безыскусной, набожной, не признающей нового стиля жизни, насаждаемого ее мужем. Царевич рос приверженцем старинной московской жизни, ненавидел «еретиков-иноземцев», порицал реформы и, что совершенно противоестественно, люто ненавидел отца. Когда мальчику исполнилось девять лет и у отца нашлось наконец время, чтобы как следует с ним поговорить, Петр I с ужасом обнаружил, что его наследник ничего, кроме молитв, не знает, читает и пишет с трудом и, конечно же, понятия не имеет о географии, истории или фортификации.
«И этому дурню оставлять престол?! — схватился за голову Петр Алексеевич. — Да он же все мои дела загубит! Ну нет, этому не бывать. Я из тебя, мамкин сынок, человека сделаю!»
В тот же день он приставил к сыну ученого немца барона Гюйсена с наказом учить Алексея Петровича иностранным языкам, истории, географии, фортификации, навигации, верховой езде и непременно танцам. Царевичу все это было до глубины души противно, от уроков он под разными предлогами отлынивал, предпочитая беседы с попами и чернецами. Отец все понял: отрока надо было оторвать от нянек, мамок, попов и монахов и погрузить в другую среду. В 1709 году Петр I отправил сына за границу. Отец наказывал учиться, однако что в Дрездене, что в других городах Алексей от учебы увиливал, откровенно валял дурака и бражничал.
А тут еще пришел приказ жениться. Отец отписал, что невесту ему подобрали знатную, принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую, так что будь, сын, счастлив. Какое там счастье?! «Вот навязали мне на шею жену-чертовку, — жаловался он друзьям. — Как к ней не приду, все сердитует, не хочет со мной говорить».
Вернувшись в Петербург, Алексей, если так можно выразиться, сошел с рельсов окончательно. Мачеху, будущую императрицу Екатерину I, он ненавидел так люто, что отказывался с ней общаться. А об отце говорил совершенно непотребно: «Не токмо дела воинские, и прочие отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела». При этом во время встреч с отцом Алексей так пугался, что начинал заикаться и не мог говорить. А когда Петр I поинтересовался успехами сына в черчении и назначил ему что-то вроде экзамена, Алексей прострелил себе руку. Калекой он не стал, но точку в отношениях с отцом поставил жирную!
С горечью великой, а может, и со слезами Петр Алексеевич засел за письмо к сыну. Оно вошло в историю под названием «Объявление сыну моему». Напомнив Алексею о том, сколько он с ним возился, пытаясь наставить на путь истинный и сделать достойным продолжателем своих великих дел, Петр I пишет, что, как оказалось, все это даром и толку, судя по всему, из него не получится. «А потому, — пишет Петр I, — видя, что ничем не могу склонить тебя к добру, избрал я за благо написать сей последний тестамент (завещание), в котором извещаю, что ежели не исправишься и не возьмешься за ум, наследства я тебя лишу и удалю, яко уд гангренный. И не мни себе, что один ты у меня сын и что сие пишу тебе в устрастку. Воистину, богом клянусь, исполню! Ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как же могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».
Размышлял наследник недолго. Получив это письмо, он тут же написал ответное, в котором заявил, что отказывается от престола. Но Петр Алексеевич предложил одно из двух: либо остаться наследником, либо постричься в монахи. Петр I был горяч, но отходчив, поэтому, дав сыну полгода на размышление, уехал за границу.
Антипатия Алексея была так велика, что, наплевав на престол, на реформы и на всю Россию, прихватив девицу Ефросинью, он бежал в Вену. Узнав об этом побеге, Петр I пришел в неистовство! Он потребовал выдачи Алексея, он угрожал войной, но австрийский император пропустил эти угрозы мимо ушей. И тогда Петр Алексеевич вспомнил о хитромудром графе Толстом. Пригласив его к себе и дав неограниченные полномочия, царь поручил ему любой ценой заманить наследника в пределы России и доставить в Петербург. При этом ни один волос не должен упасть с его головы: Петр I был убежден, что без помощников и посредников тут не обошлось и что в Петербурге осталось немало сторонников Алексея, а это значит, противников новой России.
— Если он назовет имена и искренне раскается, я этого недоумка прощу, — сказал в заключение Петр I. — Все-таки родная кровь, с порчинкой, но своя.
— Расстараюсь, Петр Алексеевич, — поклонился Толстой. — Но понадобятся средства. Без «дачи» в этом деле не обойтись.
— Это — само собой. Сколько надо, столько и бери, казна не оскудеет. Но ты все-таки напирай на то, что Алексей — законный наследник российского престола и Вене будет выгодно со временем иметь на нашем троне человека, который симпатизирует Австрии и в случае опасности бежит в ее пределы.
— Именно так я собираюсь действовать, — снова поклонился Толстой. — А если эти слова подкрепить хорошей «дачей», то они будут не только услышаны, но и поняты.
Так оно и случилось… Одних придворных австрийцев он подкупил, других убедил, но, самое главное, уговорил Алексея и его девицу добровольно сесть в карету и отправиться в Петербург. Дальнейшее — хорошо известно. 3 февраля 1718 года в присутствии членов Сената и Синода Алексей Петрович подписал отречение от престола. Отец обещал ему полное прощение, если тот чистосердечно во всем признается и назовет лиц, по совету которых и при помощи которых он бежал. Царевич не стал таиться и назвал имена нескольких вельмож. Их тут же схватили, вздернули на дыбу — и те признались, что существовал заговор, во главе которого стоял Алексей. И царевич, и его сторонники ждали того часа, когда он взойдет на трон: тогда они уничтожат всех любимцев Петра I, столицу вернут в Москву, всех иностранцев выгонят вон. А наиболее нетерпеливые хотели, не дожидаясь кончины Петра I, уже сейчас поднять против него войска и свергнуть с трона. Самой ярой сторонницей этого варианта была мать царевича Евдокия Лопухина.
Услышав все это, Петр I рассвирепел! Он приказал казнить всех, кто так или иначе был замешан в заговоре. Бывшую жену сослал в Новую Ладогу, а сыну объявил, что свое прощение берет обратно, так как прежний «пардон не в пардон», и предал его как государственного преступника суду. Дело царевича Алексея рассматривали и Синод, и Сенат. Не секрет, что в Петропавловской крепости его пытали. В конце концов Верховный суд, в состав которого входило 127 человек, вынес Алексею смертный приговор, который гласил, что «царевич утаил бунтовый умысел свой против отца и государя своего и надежду и желание отца и государя своего скорой кончины». Но публичной казни Алексей не дождался. Он умер за сутки до приведения приговора в исполнение. Почему он умер, осталось тайной за семью печатями. Одни считают, что царевич не выдержал пыток, другие уверены, что его отравили, третьи — что его просто задушили.
А что же наш герой? Как сложилась дальнейшая судьба главного взяткодателя империи Петра Андреевича Толстого? Его судьба сложилась печально. Свою первую ошибку он совершил вдень кончины императора 28 января 1725 года. Как известно, император не успел оставить завещание, а право на престол имели и его жена Екатерина, и дочери старшего брата Ивана, и сын осужденного к смертной казни Алексея малолетний Петр Алексеевич. Когда собрались Сенат и Синод, споры о престолонаследии разгорелись неслыханные! Князь Голицын предложил объявить государем Петра Алексеевича, единственного наследника по мужской линии. А граф Толстой, возражая ему, заявил, что только Екатерина имеет неоспоримое право на престол как по своим добродетелям, так и по желанию самого Петра Великого, который, вне всяких сомнений, корону хотел передать ей — именно с этой целью он короновал ее императрицей, а дочерей от нее — цесаревнами.
В тот день победил Толстой: два года и три месяца на троне восседала Екатерина I. Но для Толстого это была пиррова победа: умирая, своим преемником Екатерина назначила Петра Алексеевича. Так, взойдя на престол, одиннадцатилетний мальчик стал императором Всероссийским Петром II. Конечно же, нашлись доброхоты, которые рассказали юному правителю о роли Толстого в трагической судьбе его отца, о том, что после смерти деда граф был против воцарения Петра Алексеевича на российском престоле.
Император был хоть и юн, но характером пошел в деда. Его решение было кратким и категоричным: Толстого сослать в Соловецкий монастырь. Так 82-летний старец, в недавнем прошлом богач и главный «дачник» империи, оказался в холодном, каменном каземате, и все его имущество состояло из двух полусгнивших халатов и старого, ветхого одеяла. Но старик он был крепкий и еще два года не сдавался, цепляясь за жизнь и надеясь, что в Петербурге вспомнят о его заслугах. Не вспомнили… И хотя внук Петра Великого пережил опального графа всего на один год и умер в 14-летнем возрасте, за три года правления дров наломал немало. Не вспомнили о Толстом и женщины, которые одна за другой восседали на российском престоле.
ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ ЦАРСКОГО ЛЮБИМЦА
Кто сейчас не знает гениально сформулированной поэтом истины, выраженной всего одной строкой: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!» Но тогда, в XVI веке, этих слов еще не знали, а не менее мудрой пословице «Подальше от царей — головушка целей!» особого значения не придавали и делали все возможное и невозможное, чтобы добиться благорасположения царя. Добился его и первый руководитель созданного в 1549 году Посольского приказа — сперва подьячий, а потом дьяк Иван Михайлович Висковатый.
По свидетельству современников, Иван Грозный любил его, «как самого себя», доверял ему самые тайные и самые секретные дела. Висковатый ведал перепиской царя и Боярской думы с иностранными послами, решал вопросы, связанные с представлением царю вновь прибывающих в Москву дипломатов, занимался формированием российских посольств за границей. А какой он создал архив! Раньше рукописные своды и государственные бумаги московских и удельных князей валялись где придется, а Висковатый собрал их воедино, дополнив «ларцы текущей документации» важнейшими посланиями от королей, ханов и беков. Послы иностранных держав, которым довелось с ним общаться, единодушно считали Висковатого «ничему не учившимся московитом, подобного которому не было равных в то время в Москве».
Чего стоит хотя бы дипломатический поединок Висковатого с английским посланником Ричардом Ченслором. Англичане во что бы то ни стало хотели получить так называемую льготную грамоту, которая давала неограниченные привилегии в торговле. Этого же хотели датчане, шведы и французы. Висковатый организовал то, что теперь называется утечкой информации, и до Ченслора дошел слух, что его конкуренты за льготную грамоту готовы заплатить аналогичными льготами для русских купцов. На самом деле ничего подобного и в помине не было. Но Ченслор хорошо помнил, что в свое время Висковатый намекал на то, что государь может пойти навстречу англичанам лишь в том случае, если англичане пойдут навстречу русским.
Льготная грамота английским предпринимателям, купцам и коммерсантам нужна была позарез. О том, чтобы она досталась шведам, а тем более французам, не могло быть и речи: за такое головотяпство можно угодить и в Тауэр — это Ченслор понимал прекрасно. И вот как-то утром, повздыхав и покряхтев, он отправился к Висковатому и заявил, что Англия согласна предоставить русским купцам те же льготы, какие Россия предоставит англичанам. На том и ударили по рукам! Правда, в последний момент Висковатый выполнил еще одно тайное задание царя. В те годы Россия испытывала хронический недостаток в квалифицированных медиках, художниках, ремесленниках и рудознатцах, своих просто не было, а неприязненно настроенные соседи собственных мастеров в Россию не выпускали. И тогда Висковатый, разыграв спектакль о широте русской души, сказал, что раз уж в стране будут беспошлинно торговать английские купцы, то пусть, была не была, так же свободно в Россию приезжают английские медики, ремесленники и рудознатцы.
А помогать им в этом будет Осип Непея, которого государь повелел направить русским послом в Лондоне. Ченслор согласился и с этим…
Мудрым политиком и дальновидным дипломатом проявил себя Иван Михайлович и во время Ливонской войны, которая с переменным успехом шла двадцать пять лет. В те годы Россия активно рвалась к Балтийскому морю, а Швеция, Польша, Ливония и Дания ее туда не пускали. В самый ответственный момент, когда русские войска заняли несколько прибалтийских крепостей, но вряд ли могли их удержать, Висковатый нанес неожиданный удар по блоку четырех держав: он помчался в Данию и заключил с ней союзный договор, потом — в Швецию, откуда привез перемирие на двадцать лет.
Пока Висковатый мотался по дальнему зарубежью, в Москве, видимо, не без молчаливого согласия царя стала поднимать голову партия политических противников руководителя Посольского приказа во главе с Алексеем Адашевым, который имел чин окольничего и пользовался особым доверием царя. Все помнили, что сказал ему Иван Грозный при пожаловании этого высокого чина. «Алексей, — молвил тогда во всеуслышание царь, — взял я тебя из нищих и из самых молодых людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей ради помощи душе моей. Хотя твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал, и не одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою утолил и на людей, врученных мне Богом, призрел. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных, и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных, но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия».
Так вот Адашев и его сторонники были не «западниками», а, если так можно выразиться, «южанами», иначе говоря, они считали, что Балтика России ни к чему и пробиваться надо к теплому Черному морю, объявив войну крымскому хану и турецкому султану. Придворная знать была на стороне Висковатого, служилое дворянство поддерживало Адашева. Разрешить этот спор мог только царь, но он вмешиваться не торопился.
Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы Висковатый не ввязался в чисто теоретический церковный диспут. Дело в том, что один из религиозных мыслителей того времени Матвей Башкин стал отрицать божественное происхождение Христа. В своей неслыханной ереси он пошел еще дальше, утверждая, что все церковные книги, за исключением Нового Завета, не что иное, как баснословие. Самое странное, Иван Грозный не отправил Башкина на плаху, а разрешил провести открытый диспут, в котором бы мог высказаться не только сам Матвей, но и его противники. Самым ярым противником был Висковатый. В диспуте он победил, но Ивану Грозному это почему-то не понравилось.
По воле царя Ивана Михайловича на три года отлучили от церкви. В первый год ему предписывалось стоять около храма и просить православных помолиться за него, грешного. Во второй — разрешалось входить в церковь, но только для прослушивания Священного Писания. На третьем году можно было не только входить в церковь, но и молиться, при этом ни с кем не общаясь и ни с кем не разговаривая.
Отдел в Посольском приказе Ивана Михайловича, само собой, отстранили и должности лишили. Но в покое Иван Грозный его не оставил. Задним числом Висковатого обвинили в попытке заговора с целью сдать Новгород и Псков полякам, а заодно в изменнических сношениях с турецким султаном и крымским ханом, дабы отдать им Астрахань и Казань.
25 июля 1570 года опричники привели на Болотную площадь, которую еще называли Поганой лужей, около ста едва держащихся на ногах дьяков, подьячих и других сановников, приговоренных царем к смерти. Первым в списке был Иван Михайлович Висковатый, человек, которого, как все знали, Иван Грозный любил, как самого себя, и потому надеялись, что в последний момент царь его помилует. Висковатому предложили публично признать себя виновным в преступном заговоре, покаяться и просить о помиловании. Но Иван Михайлович отрицательно покачал головой и крикнул на всю заполненную опричниками площадь: «Будьте прокляты, кровопийцы, вместе с вашим царем!»
Тогда палачи разожгли огромный костер, повесили над ним чан с водой и соорудили распятие. Иван Грозный махнул рукой, и кнутобойцы приступили к делу. Сперва они Висковатого зверски, до живого мяса, выпороли. Потом распяли на кресте из бревен. А затем, еще живого, расчленили на куски и бросили в кипящую воду.
Царь такой казнью остался доволен. Что ни говори, а бульон из строптивого вельможи — хороший урок потенциальным заговорщикам и всякого рода врагам престола. Но… по прошествии тринадцати лет, когда Ивана Грозного стали мучить ночные кошмары и не давала покоя нежданно пробудившаяся совесть, царь прислал в Троице-Сергиев монастырь 223 рубля и на 23 рубля свечей на помин души Висковатого.
Не миновала чаша царской немилости и идейного противника Висковатого — Алексея Адашева. Сперва Иван Грозный передоверил ему всю дипломатию, потом отправил в ссылку, а через несколько месяцев приказал арестовать и посадить под стражу. В сыром, холодном каземате то ли от болезни, то ли от пыток Адашев умер.
Так, буквально за несколько лет, Иван Грозный уничтожил умнейших людей России — создателей и первых руководителей Посольского приказа.
ШЕСТЬ ВЫСТРЕЛОВ В ВАРШАВЕ
Шли годы… Трещали троны, гремели революции, менялись режимы, а профессия дипломата как была, так и осталась смертельно опасной. То, о чем я расскажу, произошло в Варшаве 7 июня 1927 года. Полпред Советского Союза в Польше Петр Лазаревич Войков поспешно собрался и отправился на Главный вокзал: ему надо было встретить поезд из Берлина, в котором возвращались на родину сотрудники советской миссии в Лондоне. Дело в том, что незадолго до этого Англия разорвала дипломатические отношения с СССР — и мир оказался на грани войны. К счастью, сотрудников посольства не арестовали, а просто выслали в Москву, разумеется, в обмен на англичан, работавших в столице СССР.
До прибытия поезда оставалось минут десять, и Петр Лазаревич решил прогуляться по перрону.
«До чего же странные фортели выкидывает судьба, — думал он, усмехаясь и разглядывая так называемую чистую публику. — Мог ли я, простой керченский парнишка, представить себе лет двадцать назад, что буду фланировать по варшавскому перрону и раскланиваться со спесивыми польскими шляхтичами? Да ни за что на свете! Моряком я себя представить мог, учителем или чиновником — тоже, но полпредом, а проще говоря, послом самой большой в мире державы… Вот что может революция!
Не будь Октября, гнил бы я в каком-нибудь провинциальном департаменте или ставил двойки переросткам-лоботрясам».
О том, как его «за увлечение политикой» вышвырнули из гимназии и выпускные экзамены пришлось сдавать экстерном, Петр Лазаревич вспоминать не любил, как не любил вспоминать сложнейшие «игры» с полицией, когда ему чудом, по чужому паспорту, удалось бежать за границу.
А вот тем, что стал профессиональным революционером, окончил университет и работал бок о бок с Плехановым, Лениным и Луначарским, Петр Лазаревич гордился. Но больше всего он гордился тем, что в одиночку покорил Монблан, и вспоминал об этом с удовольствием. Еще бы не гордиться, если в честь этого восхождения в городе Шамони был дан пушечный выстрел!
Дело прошлое, но в самых дальних тайниках души зудело воспоминание, которое Петр Лазаревич всеми силами старался изгнать. Он старался, а оно… оно не исчезало и всплывало в самое неподходящее время. Вот и сейчас ни с того ни с сего перед ним возник образ… самодержца всероссийского Николая II. Чуть позже появилась и его супруга Александра Федоровна. «Ну что я мог тогда сделать? Чем мог помочь? — горестно думал он. — Я простой солдат революции и всего лишь выполнял приказ. А к расстрелу я никакого отношения не имею, хотя и был членом Уральского совета, который принимал решение о проведении этой акции».
Да, многое тогда перепуталось и произошло не так, как было задумано. Ведь после перевода царской семьи из Тобольска в Екатеринбург предполагалось провести открытый судебный процесс, который бы решил дальнейшую судьбу гражданина Романова. И пока бывший царь и его окружение жили в доме особого назначения, заботу о них возложили на областного комиссара снабжений Петра Войкова. Время было голодное, поэтому первое, что сделал Войков, наполнил всем необходимым продовольственную кладовку. Во время ревизии этой кладовки он столкнулся нос к носу с бывшим императором. Узнать его было довольно трудно, но все же можно: от былой надменности и неброской франтоватости не осталось и следа. Вежливо поздоровавшись, Николай II обратился к Войкову с просьбой, которая его сильно удивила.
— Может ли господин представитель Уральского совета объяснить причины отказа в моей просьбе о разрешении вместе с дочерью пилить дрова во дворе? В Тобольске я пилил кругляк вместе со своей дочерью Марией. Препятствий со стороны новых властей не было. Что случилось теперь, я позволю себе спросить?
— В Екатеринбурге другие условия, — ответил Войков. — Строгий режим, установленный для заключенных, не предусматривает выполнения ими работ ради личного удовольствия.
— Позвольте, но я не вижу оснований в отказе! Опасения новых властей напрасны. Я не собираюсь бежать из-под стражи.
— Это было бы невозможно! — твердо заявил Войков. — Здесь охрана из рабочих и крестьян.
В этот миг сзади подошла Александра Федоровна, взяла своего мужа под руку и, уводя его в другую комнату, бросила по-французски:
— Уйдем, Никки! Эти варвары ничего не понимают. «Варвар» Войков прекрасно знал французский, поэтому так
же по-французски поставил бывшую царицу на место:
— Но-но, мадам! Попрошу без оскорблений.
Что было дальше, хорошо известно: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его семья и все приближенные были зверски убиты. Конечно же, Войков был в курсе дел, но, к счастью, к этой кровавой акции непосредственного отношения не имел: в то время он получил сверхсекретное и архиважное задание вывезти из осажденного Екатеринбурга все запасы золота, валюты и других ценностей.
Но то, что он был членом Уральского совета, принявшего решение о расстреле царской семьи, было хорошо известно, и ярлык «убийца» надолго прилип к Петру Лазаревичу Войкову. Даже когда он стал работать в Наркомате иностранных дел и его решили назначить полпредом в Польше, агреман ему выдали далеко не сразу. В Варшаве потребовали разъяснений по поводу участия или неучастия Войкова в расстреле царской семьи, и лишь получив официальные уверения наркома Чичерина в том, что Войков «как человек невоенный не имел отношения к приговору над бывшим царем», агреман новому полпреду выдали.
Петр Лазаревич, конечно же, знал, что бежавшие из Советской России монархисты поклялись перебить не только всех членов Уральского совета, но и вообще всех, кто так или иначе был связан с этой изуверской акцией. То, что он на прицеле, Войков почувствовал сразу же после того, как поезд, в котором он ехал в Варшаву, пересек границу: огромный булыжник вдребезги разбил окно и влетел в его купе. Когда он рассказал об этом в польском МИДе, его недвусмысленно предупредили, что монархистов в Варшаве много и по отношению к большевикам они настроены весьма и весьма воинственно.
А в 1926-м, когда в Польше была установлена диктатура маршала Пилсудского, эти настроения стали еще более откровенными. Войков встречался с Пилсудским, пытался склонить его к заключению взаимовыгодного договора о ненападении, но маршал элегантно отшутился: «Я с Советской Россией уже воевал, причем победно, но теперь — нет. Теперь не хочу. Пока что хватит». Но никакого договора подписывать не стал.
И вот теперь, через год после последней встречи с маршалом, полпред Войков прогуливался по перрону Главного вокзала, прекрасно понимая, что уж если Англия пошла на разрыв дипломатических отношений с СССР, то от Польши, которая всегда следовала в фарватере британской политики, ждать можно чего угодно. Но сейчас его задача более локальна: встретить высланных из Лондона соотечественников, по возможности их ободрить и проводить — до границы тут всего ничего.
Вот, наконец, показался поезд и, мягко затормозив, остановился. Из вагона вышел временный поверенный в Великобритании Розенгольц, они обнялись, расцеловались и пошли в буфет, чтобы выпить кофе по-варшавски. Болтая о том о сем, они вернулись на перрон и двинулись к вагону. И вдруг раздался выстрел! Петр Лазаревич замер… Потом покачнулся и оглянулся. В этот миг к нему почти вплотную подбежал какой-то человек и начал палить в упор! Петр Лазаревич рухнул наземь. Еще падая, он сумел выхватить из кармана револьвер, дважды выстрелил в террориста, но не попал.
До госпиталя Войкова довезли живым. Кровь из шести огнестрельных ран так и хлестала, но Петр Лазаревич дождался первого секретаря постпредства, сказал, чтобы тот забрал из окровавленного пиджака ключи и документы, и, только убедившись, что секретарь все понял, удовлетворенно кивнул и тихо прошептал:
— Хочу уснуть.
Это были его последние слова… Через четыре дня вся Москва хоронила видного советского дипломата, погибшего на своем боевом посту. Убийца, а им оказался 19-летний Борис Коверда, был схвачен прямо на перроне в тот момент, когда пытался перезарядить револьвер. Поняв, что отстреливаться бессмысленно и сбежать не удастся, он швырнул револьвер к ногам полицейских и картинно поднял руки вверх.
А буквально через неделю был суд, на котором Коверда сказал, что возненавидел большевиков еще в те годы, когда учился в Самарском реальном училище и насмотрелся на зверства распоясавшейся краснопузой толпы.
— Я даже видел, — воскликнул он, — как красногвардейцы сожгли в топке паровоза машиниста, который отказался их везти, потому что паровоз был неисправен. Когда нашей семье удалось перебраться в Вильно, я поклялся отдать свою жизнь за дело освобождения России от большевизма.
— Убивая дипломатов в Варшаве? — едко уточнил прокурор.
— Нет, я хотел уехать в Россию. Хотел добраться до их логова, до Москвы, и там приступить к терактам. Чтобы получить разрешение на въезд в Совдепию, я пришел в их представительство в Варшаве, но они мне отказали. И тогда я решил убивать их здесь!
— Вы Войкова знали? — спросил судья. — Где-нибудь с ним встречались?
— Нет, Войкова я не знал и никогда с ним не встречался. Но его лицо мне было знакомо: его портреты довольно часто печатали в газетах.
— А как вы узнали, что он будет на вокзале?
— Опять же из газет. Там писали, что через Варшаву пройдет поезд с советскими дипломатами, высланными из Лондона. Ну а то, что их придет встречать Войков, догадаться было нетрудно.
— Но почему в качестве жертвы вы выбрали Войкова? Чем он вам насолил? Не тем же, что не дал разрешение на въезд в Россию?
— Думаю, что о моей просьбе он даже не знал. И убил я его не как посланника, а как члена международной банды большевиков — именно так я называю их Коминтерн.
— Значит, лично против него вы ничего не имели?
— Нет, не имел… Я признаю, что убил Войкова, но виновным себя не признаю. Я убил Войкова за все то, что большевики совершили в России.
Приговор суда был краток и суров: «Жителя города Вильно Бориса Коверду приговорить к бессрочным каторжным работам и возмещению судебных издержек».
А Петр Лазаревич Войков и после своей трагической гибели продолжал работать на дело мира. Как ни старались англичане разжечь польско-советский конфликт, ничего у них не вышло: многочисленные демонстрации протеста — как в Лондоне, так и в Варшаве, — осуждающие злодейское убийство советского дипломата, надолго отвратили взоры распоясавшихся вояк от границ молодой республики Советов.
Похоронили Войкова у Кремлевской стены радом с его старым другом, наставником и учителем, первым советским послом Вацлавом Воровским. И вот ведь судьба! Шесть выстрелов в Варшаве — и нет Войкова, а за четыре года до этого шесть выстрелов в Лозанне — и не стало Воровского. Послом Вацлав Боровский стал в декабре 1917-го, а до этого учился на физмате Московского университета, потом перешел в МВТУ, откуда его вышибли «за увлечение политикой» и тут же отправили в ссылку.
Тюрем и ссылок в жизни будущего посла было много, но в конце концов он бежал за границу и учебу закончил в Мюнхене. Потом — дружба с Лениным и Плехановым, знакомство с Гапоном, работа в «Искре» и даже в «Одесском обозрении», где его знали как Фавна, а потом и Кентавра. Революция застала Воровского в Стокгольме. Он рвался в Петроград, а ему велели оставаться в Швеции и даже прислали нечто вроде верительной грамоты, которая по-новомодному называлась «полномочие».
Этот документ настолько любопытен, что стоит привести его хотя бы частично.
«Именем Российской Республики.
Гражданин Вячеслав Вячеславович (одному богу ведомо, почему новоиспеченные вожди исказили и имя, и отчество Воровского) Боровский назначается Полномочным дипломатическим агентом Народного Комиссариата по иностранным делам… Всякое уклонение от требований В.В. Воровского будет приравнено к тяжкому государственному преступлению, за которое виновный понесет кару как лично, так и путем конфискации его имущества, находящегося в России».
Так Боровский стал представлять интересы Советской России в Швеции, Дании и Норвегии. Будучи первым советским послом, он заключил первое же торговое соглашение: Петроград поставил в Стокгольм тысячу тонн льна и тысячу тонн пеньки в обмен на пилы, косы, плуги и зубья для борон. Он же предъявил и первую ноту протеста: когда шведы задержали в порту нашего дипкурьера и потребовали вскрыть пакеты с диппочтой, Боровский накатал такую ноту, что курьера тут же освободили и почту оставили в покое.
А потом ему пришлось иметь дело с так называемой «Лигой убийц», которую возглавлял бывший царский полковник Хаджи-Лаше. Члены этой лиги кричали на всех углах, что Боровский хранит в здании постпредства огромное количество золота, драгоценных камней, корону царя, скипетр и даже его горностаевую мантию. Для монархистов все это является святыней, поэтому они были намерены организовать налет на постпредство, захватить эти святыни силой, а всех красных дипломатов перебить, благо смертные приговоры им уже вынесены. Боровский кинулся в полицию, в МИД, но там заявили, что ни о какой «Лиге убийц» знать ничего не знают. И лишь после того, как трое сотрудников постпредства все же были убиты, полиция произвела аресты среди членов «Лиги убийц».
Боровский тогда уцелел, но своей активностью и нестандартностью поведения он так достал шведов, что те прицепились к какому-то пустяку и выслали его из страны. Без дела он не находился ни минуты. Побыв некоторое время директором Госиздата, Боровский получает новую дипломатическую должность: его назначают главой Экономической делегации в Италии. Тогда-то с ним и приключился довольно забавный казус, который вошел в историю дипломатии. Дело в том, что по протоколу глава Экономической делегации должен был являться на заседания и к руководителю государства во фраке. Ни одного фрака в Москве не нашлось! Не нашлось и ни одного портного, который бы мог сшить фрак! И тогда Боровский сел в поезд и отправился в Петроград — там нашли старичка, который умел шить фраки.
Как бы то ни было, до Рима Боровский добрался и развил такую бурную деятельность, что его стал приглашать к себе Муссолини, который на одной из встреч сказал буквально следующее: «Я искренне заявляю вам, что Италия готова идти на сближение с Россией». Он даже извинился за «необдуманные действия несознательных фашистов», которые устроили налет на постпредство и переломали там всю мебель.
Потом была хорошо известная Генуэзская конференция, которая проходила весной 1922 года. Так как в ней принимали участие главы двадцати восьми государств Европы и пяти британских доминионов, советскую делегацию должен был возглавлять Ленин, но после долгих тайных совещаний большевистские бонзы решили, что Лениным рисковать нельзя (мало ли что взбредет в голову империалистам или правоверным монархистам) и вынесли постановление: за границу его не выпускать.
В то же время формально главой, или, как тогда говорили, председателем, делегации оставался Ленин. А чтобы у всяких там президентов и премьер-министров не было вопросов, сочинили довольно любопытную бумаженцию, в которой говорилось, что «из-за перегруженности государственными делами и неудовлетворительного состояния здоровья все права передаются заместителю председателя делегации Г.В. Чичерину». Воровского включили в состав делегации.
Дебют советских дипломатов был более чем успешным! Они не только отвергли домогательства Запада по поводу всякого рода компенсаций, но и выдвинули контрпретензии о возмещении убытков, причиненных Советской России интервенцией и блокадой. А вот самой большой победой было то, что им удалось прорвать единый фронт недругов республики Советов и заключить Раппальский договор с Германией.
Не успела закончиться Генуэзская конференция, как началась новая: на этот раз обсуждался вопрос о черноморских проливах. В те дни Воровский был ближе всех к Лозанне, и ему послали телеграмму немедленно отправиться в Швейцарию, чтобы принять участие в начавшейся там конференции. Воровский подъезжал к Лозанне с юга, а с севера в этот город рвался бывший врангелевский офицер Морис Конради. Он снял номер в престижной гостинице «Европа» и, спустившись в бар, как бы между прочим поинтересовался, в котором часу здесь ужинает русская делегация.
— Господин ошибся, — принимая щедрые чаевые, ответил бармен. — Русские живут не у нас. Они остановились в «Сесили».
— Жаль. Очень жаль, — вздохнул Конради. — А я-то рассчитывал повидать старых знакомых.
Поднявшись в номер, Конради переоделся, зарядил браунинг нарезными пулями и отправился в «Сесиль». Свободных столиков в ресторане не было, но Конради подошел к метрдотелю и, представившись майором французской армии, потребовал, чтобы столик для него нашли. Заказав коньяк, он уселся неподалеку от эстрады и начал вести наблюдение… Через несколько минут в зал вошел Боровский в сопровождении своих сотрудников Аренса и Дивильковского. Как только они заказали ужин, Конради встал, выхватил браунинг, подскочил к Воровскому и выстрелил ему в голову. При этом он еще успел крикнуть: «Вот вам, коммунисты!»
Боровский рухнул на пол. Но Конради продолжал палить. Три пули достались Аренсу, две — Дивильковскому. Конради хотел было перезарядить револьвер, но, увидев, что дело сделано, швырнул его к ногам метрдотеля и потребовал, чтобы оркестр играл траурный марш по русским большевикам.
— Я новый Вильгельм Телль, призванный спасти человечество! — пьяно кричал он на весь зал.
Убийство произошло 10 мая 1923 года, а 5 ноября состоялся суд над Конради и его подельником Полуниным, который был вдохновителем и организатором теракта. В зале казино была разыграна самая настоящая комедия! Прокурор не обвинял убийц, а защищал. Адвокаты пошли еще дальше, заявив, что их подзащитные совершили справедливый акт возмездия. В итоге присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт — и террористы оказались на свободе.
Возмущению честных граждан не было предела! Демонстрации протеста прокатились по многим столицам Европы. Соболезнование выразил даже Ватикан. Советский Союз прервал со Швейцарией какие бы то ни было взаимоотношения и возобновил их лишь в 1946 году. А Максим Горький, который хорошо знал Воровского, в те дни написал в одной из газет: «Конради убил человека огромной культуры и высокого ума, человека исключительной честности».
«МЫ ИДЕМ СКВОЗЬ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ЛАЙ…»
Эту бессмертную строчку Владимир Маяковский посвятил не герою-кавалеристу, разведчику или летчику-испытателю, а дипкурьеру, хотя дипкурьер, по большому счету, не дипломат, а всего лишь «должностное лицо ведомства иностранных дел, доставляющее дипломатическую почту». Проще говоря, дипкурьер — это почтальон. Но работа посольств без этих почтальонов просто немыслима. А если учесть, что так называемые вализы, которые возят дипкурьеры, содержат как государственные, так и военные тайны, нетрудно представить, какой желанной добычей для спецслужб тех или иных государств являются и вализы, и сами дипкурьеры.
Правда, дипкурьеры интересуют этих грабителей лишь как помеха для овладения вализами, поэтому помеху стараются как можно быстрее устранить — и стреляют не для острастки, а с целью физического уничтожения. Первый такой выстрел прозвучал 5 февраля 1926 года в поезде Москва — Рига.
В купе их было двое — Теодор Нетге и Иоганн Махмасталь. Дипкурьер Нетге — на верхней полке, Махмасталь — на нижней. Полшестого утра. За окном кромешная темень. Вот-вот Рига. Проводник объявил, что проехали станцию Икскюль, следующая — столица Латвии. И вдруг шум, гам, крики, удары! Купе, в котором ехал представитель «Льноторга» Печерский, нараспашку. Какие-то люди в масках выволокли Печерского в коридор, а за ним и проводника, который пытался вступиться за пассажира.
— Курьеры! Где дипкурьеры? — орали бандиты, приставив пистолеты к голове проводника.
— Все ясно. Они перепутали купе и ворвались к Печерско-му, — доставая револьвер, крикнул Махмасталь. — Теодор, сейчас они будут здесь.
— Очень хорошо. Мы их встретим! Попробуй закрыть дверь.
— Не получается. Мешают мешки, — кряхтел Махмасталь. — Но я сейчас, погоди…
В этот миг к двери подскочил один из бандитов и завопил на весь вагон:
— Они здесь! Я их нашел!
Тут же подбежал второй. Отшвырнув проводника, с криком «Руки вверх!» он выстрелил в сидевшего на нижней полке Махмасталя. Пуля попала в живот, но он остался жив. В тот же миг лежавший на верхней полке Нетте всадил этому бандиту свою пулю. Падая, тот снова выстрелил в Махмасталя и ранил его в руку. Иоганн перехватил револьвер в левую и бабахнул во второго бандита. Попал! Но тот устоял на ногах и выстрелил в Нетте. Теодор замертво рухнул с полки, прикрыв своим телом Махмасталя.
Ослабевшие от ран бандиты попытались вытащить мешки с диппочтой, но на них лежали трупы, поднять которые налетчики не могли. Поняв, что остались ни с чем, они поплелись в купе проводника, где рассчитывали получить помощь от третьего соучастника нападения.
Между тем на выстрелы сбежались пассажиры из соседних вагонов. На счастье, среди них оказался сотрудник постпредства во Франции Зелинский, который из-под трупа Нетте вытащил обливавшегося кровью Махмасталя.
— Встань у нашего купе и никого к нему не подпускай, — придя в себя, попросил Махмасталь. — Если что, кричи: «Я буду стрелять».
В этот миг из купе проводника раздались два выстрела. Потом оттуда выскочил какой-то тип, бросился в тамбур и выпрыгнул из вагона. Когда заглянули в купе, там валялись два трупа с простреленными головами: такую своеобразную помощь оказал своим коллегам отсиживавшийся в купе бандит.
Тем временем поезд подошел к перрону. Диппочту встречал сотрудник нашего постпредства, которого, на беду, Махмасталь не знал в лицо и потому, размахивая револьвером, кричал:
— Кто ты такой? Я тебя не знаю… К почте не подходи. Убью!
Пришлось вызывать человека, которого Махмасталь знал в лицо. Сдав почту, он тут же потерял сознание… Не один час бились врачи за его жизнь, и героический дипкурьер был все же спасен.
Тем временем было проведено расследование, и оказалось, что нападавшими были братья Габриловичи — граждане Литвы, поляки по национальности. Латвийское правительство принесло официальные извинения — и на этом инцидент был исчерпан.
А Москва между тем бурлила. Похороны Нетте сопровождались невиданно массовыми демонстрациями протеста. И Теодор Нетте (посмертно), и Иоганн Махмасталь были награждены высшими на тот период боевыми орденами — орденами Красного Знамени. Но наибольшее удовлетворение у народа вызвало решение правительства назвать именем Нетте только что спущенный на воду пароход. Тогда-то и родилось широко известное стихотворение Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»:
В наших жилах — кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, Чтобы, умирая, воплотиться В пароходы, в строчки и в другие долгие дела.ЗАЛОЖНИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Как ни трудно в это поверить, но на слово «война» в посольстве Советского Союза в Германии было наложено своеобразное табу. Говорили о возможном конфликте, разладе, раздоре, но никак не о войне. И вдруг поступило указание: всем, у кого жены и дети были в Берлине, немедленно отправить их в Москву «Та-а-к, — зашептались по углам супруги дипломатов, — нехороший признак, можно сказать, первый звонок. Не сегодня завтра начнется война».
Были, конечно, и более продвинутые, в основном это супруги первых лиц, которые говорили, что немцы, мол, не дураки, им еще Бисмарк запретил воевать на два фронта. Но и они примолкли, когда прозвучал второй звонок: директор школы объявил, что из Москвы пришел приказ закончить учебный год не позднее начала мая и детей немедленно отправить в Союз. А когда в Берлин стали возвращаться отпускники, и все как один без жен — их было велено оставить дома, все стало яснее ясного: вот-вот грянет война.
— Какая война? — убеждали их мужья. — А как же заявление ТАСС? Ведь в нем же черным по белому написано, что Германия неуклонно соблюдает условия пакта о ненападении.
— Плевали они на ваше заявление! — пытались раскрыть им глаза жены. — Вы лучше скажите, почему Светку с Нинкой не пустили в Берлин. Мужья приехали, а они остались дома. А детей почему в спешном порядке отправляют в Союз? А нас, баб горемычных? Мы-то уедем, а вот вас возьмут в заложники, чтобы обменять на немцев, которые сидят в Москве.
Откуда им это стало известно, до сих пор является одной из величайших тайн того времени, но случилось именно так, как предрекали эти мудрые женщины.
Между тем в Москве, несмотря на тревожные сигналы из всех европейских резидентур внешней разведки, царила ничем не объяснимая обстановка благодушия. Вот как рассказывал об этих днях в своих воспоминаниях начальник внешней разведки Павел Фитин:
«16 июня 1941 года из нашей берлинской резидентуры пришло срочное сообщение о том, что Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР 22 июня 1941 года. Эти данные тотчас были доложены Сталину. Поздно ночью меня вызвал нарком госбезопасности Меркулов и сказал, что нас приглашает к себе Сталин. Поздоровался он с нами кивком головы, но сесть не предложил, да и сам все время разговора прохаживался по кабинету. Взяв в руки наш документ, он сказал:
— Прочитал ваше донесение… Выходит, Германия собирается напасть на Советский Союз? Что за человек сообщил эти сведения?
— Это очень надежный источник. Он немец, работает в министерстве воздушного флота и очень осведомлен. У нас нет оснований сомневаться в правдоподобности его информации, — ответил я.
После этих слов в кабинете повисла тяжелая тишина. Потом Сталин подошел к своему столу и, повернувшись к нам, жестко произнес:
— Дезинформация! Я в этом уверен. Можете быть свободны. Мы понимали, что может за этим последовать, поэтому тут же отправили шифровку в берлинскую резидентуру с просьбой немедленно проверить сообщение агента, а им был не кто иной, как один из руководителей “Красной капеллы” Харро Шульце-Бойзен, он же “Старшина”. Резидентуре на это понадобилось несколько дней. Ответ мы получили 22 июня, причем и из Берлина, и от пограничников, которые уже отражали первые удары фашистских войск».
В тот же день, в три часа утра, в берлинской резиденции посла Советского Союза раздался звонок из германского министерства иностранных дел: секретарь Риббентропа просил посла немедленно приехать в министерство. Владимир Деканозов, который занимал эту должность чуть более полугода, был хорошо известен не столько в дипломатических, сколько в чекистских кругах. За глаза его называли чрезвычайным и полномочным послом Лубянки. Этот человек с пятиклассным образованием был не только земляком, но и особо доверенным лицом Лаврентия Берии, не зря же он его тянул как по чекистской, так и по партийной линии. В 30-х годах Деканозов был и секретарем ЦК Компартии Грузии, и председателем Госплана Грузинской ССР, а позже, когда Берия перебрался в Москву, он перетащил в столицу и Деканозова, назначив его заместителем начальника Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Но вот как ему удалось сделать Деканозова заместителем наркома иностранных дел и одновременно послом в Германии, одному богу известно!
Забегая вперед, не могу не сказать, что Деканозов оставался верным своему шефу и покровителю до самого конца и даже разделил его участь: в июне 1953-го, почти что в один день с шефом, он был арестован, а в декабре расстрелян.
Но это будет не скоро… А пока что всесильный получекист-полудипломат спешил на встречу с Риббентропом. Вернулся он через час. На вопрос встревоженных сотрудников: «Что случилось?» — Деканозов бросил короткое и страшное слово, которое давно витало в воздухе и, наконец, было произнесено вслух: «Война».
Как это ни покажется странным, больше всех это сообщение потрясло руководителя легальной берлинской резидентуры Амаяка Кобулова. В нижнем белье и тапочках на босу ногу, он выскочил из квартиры, порывался куда-то бежать, но, потеряв тапочки, сел на крыльцо, обхватил голову руками и горестно запричитал: «Вэй, вэй! Ой, вэй! Что же теперь будет?»
А будет то же, что с Деканозовым и старшим братом Амаяка Богданом Кобуловым. Все они были ставленниками Берии, всех он перетащил из Грузии в Москву, все они были повязаны кровью. Богдан дослужится до должности первого заместителя министра внутренних дел СССР — и в декабре 1953-го будет расстрелян. Амаяк доберется до такого же поста, но только на Украине, затем, под крышей советника посольства СССР в Берлине, станет руководить легальной резидентурой внешней разведки, войну проведет в Ташкенте, затем будет проходить по бериевскому делу и — расстрелян.
Но тогда, в июне 1941-го, такой ход событий, конечно же, никому не мог и в голову прийти. Вспомнив, зачем они в Берлине, Деканозов и Кобулов бросились к телефонам, чтобы сообщить в Москву о начале войны. Но сколько они ни бились, сколько ни кричали в трубку, дозвониться до Москвы так и не смогли: все телефоны были отключены. А еще через пять минут посольство было окружено полицией и подразделениями СС.
— Что же делать, что же делать? — обессиленно хрипел посол. — Нам же за это молчание голову снимут! Ведь немецкие танки уже на нашей земле, их самолеты на подлете к советским городам, а в Кремле, наверное, думают, что это провокация, что пакт о ненападении свято соблюдается, и не решаются отдать приказ о вооруженном отражении агрессии.
— А что, если дать телеграмму? — предложил кто-то. — Простую телеграмму из ближайшего почтового отделения?
— Отличная идея! — вскочил посол. — Дежурный, марш в машину! Текст будет простой: «Москва. Наркоминдел. Молотову. Был у Риббентропа. Германия объявила нам войну». Подпись моя.
Но ничего путного из этого не получилось. Как только машина вырулила из ворот посольства, ее тут же задержали, а водителя и сотрудника посольства бросили в гестапо. После этого стало ясно, что с дипломатическим иммунитетом покончено и в любой момент может начаться штурм посольства. Тут же поступил приказ разводить костры и жечь архивы, шифры, всевозможные досье и другие важные документы
Если в здании посольства все действовали более или менее организованно, то никто не знал, что творится в многочисленных советских учреждениях, разбросанных по городу, — торгпредстве, отделении ТАСС, филиале Госбанка и что с работающими там людьми.
Как это ни печально, но худшие опасения вскоре подтвердились. Уже ранним утром эсэсовцы совершили налет на торгпредство. Переломав мебель, они стали ломиться в шифровальную комнату, где закрылся шифровальщик Николай Логачев. Пока выламывали дверь, Николай сумел сжечь и шифры, и важные документы. Разъяренные эсэсовцы избили его до полусмерти и бросили в тюрьму.
В тот день досталось всем — и представителям «Интуриста», и журналистам ТАСС, и сотрудникам филиала Госбанка: их били, морили голодом, шантажировали, склоняли к измене, но никто не дрогнул, никто не согласился обменять советский паспорт на германский. Тяжелее всех пришлось сотруднику военного атташата Аркадию Баранову. Его арестовали, бросили в тюрьму и предложили подписать заявление о предоставлении политического убежища в обмен на признание в том, что работники военного атташата СССР занимались шпионской и подрывной деятельностью. Баранов отказался! Тогда его начали пытать. Не помогло! Заковали в кандалы и бросили в концлагерь. Снова не помогло! Угрожали «снять перчатки», то есть содрать с рук кожу.
— Валяйте, — плюнул им в лицо Баранов. — Я и без кожи буду вас давить на каждом углу.
Тогда его бросили в карцер, надеясь, что упрямый большевик загнется от холода и крыс. Но Аркадий Баранов выжил! И не только выжил, но и добился того, что его вернули на Родину.
Тем временем в посольстве разворачивалась детективно-приключенская история, достойная пера Александра Дюма, Артура Конан Дойла и Агаты Кристи, вместе взятых. Дело в том, что работу глубоко законспирированной антифашистской группы «Красная капелла» курировал заместитель весьма недалекого Кобулова, талантливейший разведчик Александр Короткое.
Как ни трудно в это поверить, но на Лубянку 19-летний Саша Коротков попал, если так можно выразиться, с черного хода. Однажды у чекистов перегорели все лампочки разом, а так как Саша работал электромонтером, его прислали починить проводку. Оказалось, что работы там не на один день, и пока Саша возился с проводами и предохранителями, на спортивного, не лезущего за словом в карман парня положили глаз вербовщики ОГПУ. После соответствующей проверки ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться.
Само собой разумеется, для начала его отправили на учебу — и через несколько лет в Иностранном отделе ОГПУ появился сотрудник, который настолько хорошо владел немецким и французским, так блестяще входил в образ европейского бонвивана, что его тут же направили на нелегальную работу сперва во Францию, а потом в Германию. Был в его жизни и настолько мрачный эпизод, что он просто чудом остался жив. Трудно сказать, кто и что наплел на Александра, но взъелся на него сам всесильный Берия.
— Раз ты был за границей, значит, тебя там завербовали, — заявил он Короткову 1 января 1939 года и тут же из органов госбезопасности выгнал.
Это был период кошмарной чистки, это было время, когда не десятки и не сотни, а тысячи чекистов были расстреляны своими же коллегами. Попал под этот топор и Коротков. Но за него заступились товарищи, которые написали наркому письмо, в котором заявили, что ручаются за Короткова и полностью ему доверяют. Видимо, в тот день у Берии было хорошее настроение, и он свое решение отменил — так что топор на голову Александра не опустился.
Как показало время, таким образом Лубянка сохранила ценнейшего сотрудника, который сделал для блага страны много полезного, дорос до генерала и стал одним из руководителей внешней разведки. Все это будет позже, а тогда, в июне 1941-го, Коротков не находил себе места, ломая голову над тем, как вырваться из окруженного эсэсовцами посольства. Ведь с Корсиканцем и Старшиной встречался только он, и вот теперь, с началом войны, самые важные агенты останутся без связи. Значит, информацию им придется передавать по рации, а ее-то у них нет, она стоит в кабинете Короткова и ждет, когда он передаст ее Старшине.
Однажды вечером Коротков поделился своей проблемой с первым секретарем посольства Валентином Бережковым, впоследствии личным переводчиком Сталина. Зная немцев как облупленных, особенно их прижимистость и склонность к накопительству, Бережков предложил сыграть на этом. От этого плана Коротков пришел в восторг, и они начали действовать.
Дело в том, что как раз в эти дни начались переговоры по поводу обмена сотрудников советского и германского посольств. В связи с этим право выезда из здания посольства — но только по строго определенному маршруту и в сопровождении начальника охраны Хейнемана — имел Валентин Бережков. По дороге они болтали о разных пустяках, о новых фильмах, о сортах пива, о погоде. Но рано или поздно в их беседах возникала тема войны. И тогда Хейнеман начинал сокрушаться по поводу судьбы единственного сына, который оканчивал военное училище, а у него, офицера СС Хейнемана, такое скудное жалованье, что нет денег даже на то, чтобы, как это положено по немецким законам, приобрести сыну сапоги, мундир, шинель и другие предметы экипировки.
— А у нас это выдают бесплатно, — вскользь бросал Бережков. — Не говоря уже о валенках, шапке, теплом белье и даже овчинном полушубке.
— Это вам не поможет, — косясь на шофера и громче, чем это нужно, замечал Хейнеман. — До зимы вы не продержитесь.
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь! — ронял Бережков.
— Что-что?
— Не дели шкуру неубитого медведя! — добавлял Бережков.
— Какой медведь? Какой гоп? Я ничего не понял.
— Это русские поговорки. В переводе они звучат не столь ярко, но суть их в том, что, пока дело не сделано, не надо трубить о блистательной победе.
— Мудрые, очень мудрые поговорки, — после паузы вздыхал Хейнеман. — Завтра же расскажу о них врачу. Обязательно расскажу!
— Врачу? — вскидывался Бережков. — Вы больны?
— Я-то здоров. А вот жена… Доктор говорит, что кризис позади, что она вот-вот пойдет на поправку, а этого «вот-вот», или, как вы говорите, «гоп», нет и в помине. Правда, он намекал на какое-то дорогое лекарство, но мне оно не по карману.
— Знаете, что, Хейнеман, давайте-ка вечерком соберемся в моем кабинете. У русских такие разговоры насухую не ведутся, — выразительно щелкнул он по горлу. — Договорились?
— Натюрлих, — согласно кивнул Хейнеман.
Чтобы не подвести Хейнемана, Бережков накрыл стол не в своем кабинете, а в комнате, смежной с вестибюлем. Дело в том, что в соответствии с установленным немцами порядком солдаты несли наружную охрану, а в вестибюле посольства — их начальник Хейнеман. Но если вдруг кто-то из солдат по какой-то необходимости мог направиться в здание посольства, Хейнемана могли вовремя предупредить, и он встретил бы подчиненного на своем посту.
Первая вечеринка прошла успешно. Потом была вторая, третья… И вот однажды, когда Хейнеман снова заговорил о дорогом лекарстве, Бережков как бы вскользь заметил:
— А у меня проблема с точностью до наоборот. Как вы наверняка знаете, в Берлине я работаю довольно долго и скопил кое-какие деньги. Дело в том, что у меня была мечта — купить хорошую, большую радиолу, настоящий, знаете ли, «Телефункен», от одного вида которого мои московские друзья зашлись бы от зависти. Но теперь — какой «Телефункен»? Через неделю-другую нас отправят домой, и уже сейчас объявили, что не разрешат ничего вывозить, кроме одного чемодана с личными вещами. Так что мои сбережения пропадут… Я очень надеюсь, что вы поймете меня правильно: вместо того, чтобы выбрасывать деньги в клозет, я мог бы предложить их вам. У меня есть тысяча марок, — протянул он конверт с деньгами. — Считайте, что они ваши. Я буду рад, зная, что вы их потратите на такое благое дело, как здоровье вашей супруги. Колебался Хейнеман недолго…
— Спасибо, — сказал он, пряча конверт. — Я вам очень благодарен и… обязан. Если смогу быть вам чем-нибудь полезным, то можете на меня рассчитывать.
— Ну что вы, оберштурмфюрер, о какой благодарности речь?! Хотя… Лично мне ничего не нужно, а вот у одного моего друга довольно странная проблема. У него роман. С немецкой девушкой. Одному богу ведомо, когда они теперь увидятся. Он очень переживает, да и девушка, наверное, тоже. Не исключено, что она… ну, вы сами понимаете, что случается с девушками после интимных встреч. Короче говоря, он хотел бы с ней встретиться хотя бы на часок. Но как? — развел руками Бережков. — Кроме меня, из здания никого не выпускают.
— Как жаль, — вздохнул изрядно захмелевший Хейнеман. — Любовь — это святое. Любовь — это… это… Когда я познакомился с моей бедной Мартой, то ездил к ней на велосипеде. Тридцать километров в одну сторону. Три раза в неделю… Вашему другу надо помочь! Как? Пока что не знаю. Надо подумать. Дайте мне денек-другой…
Ровно через сутки Хейнеман изложил подробный план поездки в город Бережкова и его влюбленного друга.
Как вы понимаете, влюбленным другом был Александр Коротков. Выезд назначили на раннее утро, когда непроспавшиеся эсэсовцы были не очень внимательны. За руль неприметной «опель-олимпии» сел Бережков. Рядом — Хейнеман. Сзади — Коротков с небольшим, но очень модным чемоданом. По версии Бережкова, там были дамские вещи, предназначенные для девушки его влюбленного друга, а на самом деле новейший радиопередатчик, который во что бы то ни стало надо было передать Корсиканцу — таким был псевдоним руководителя подпольной антифашистской группы Сопротивления Арвида Харнака. Несколько позже Корсиканец, а также Старшина, он же Харро Шульце-Бойзен, возглавили широко известную «Красную капеллу», которая несколько лет передавала в Москву сверхважные сведения и была самой большой головной болью гитлеровской контрразведки. А курировал работу этой группы Александр Коротков, и встречался с Корсиканцем и Старшиной он, и только он.
И вот теперь, с началом войны, самые полезные и самые важные агенты остались без связи. Значит, информацию им придется передавать не через кого-то, а по рации, которой у них нет, но которую им должен передать Коротков. Именно ради этого была затеяна вся эта история с Хейнеманом и несуществующей немецкой девушкой.
Как бы то ни было, «опель» беспрепятственно выехал за ворота и остановился у ближайшей станции метро. Сменив несколько маршрутов и убедившись, что хвоста за ним нет, на одной из станций он встретился с членом подпольной группы Элизабет Шумахер. Вручив ей чемодан, Коротков торопливо заметил:
— Времени у нас мало, поэтому буду предельно краток. В чемодане — рация. Исходная цифра для шифровки — 19405. Запомнила? Очень хорошо. И еще. В этом конверте двадцать тысяч марок. Передай их Харнаку, скажи, что это для нужд организации. Скажи так же и то, что теперь, когда началась война, каждое слово, пришедшее в Москву из Берлина, будет на вес золота. При первой же возможности я лично постараюсь выйти на связь.
Не думал тогда Александр Коротков и не гадал, что эта встреча последняя, что век «Красной капеллы» будет недолог, а судьба ее членов трагической. Летом 1942-го гестапо выйдет на след подпольной организации, а осенью арестует более ста ее членов. Потом будет суд — и изуверские приговоры, которые утвердит Гитлер: тридцать одного мужчину отправят на виселицу, восемнадцать женщин казнят на гильотине, несколько человек расстреляют, а остальных бросят в концлагеря.
Но это будет позже, гораздо позже… А тогда, в июне 1941-го, довольный удачно проведенной операций, Александр Коротков, как и было условлено, вышел к универмагу и сел в поджидавший его «опель».
— Ну что, как прошла встреча? Как вела себя ваша Гретхен? — поинтересовался Хейнеман.
— Встреча прошла на высоком уровне, — отшутился Коротков. — А Гретхен, конечно же, расстроена… Когда-то мы теперь увидимся, — с неподдельной грустью вздохнул он.
— Ничего не поделаешь, война, — сочувственно огорчился Хейнеман.
— Вы не возражаете, если я приторможу около газетного киоска? — вмешался в разговор Бережков.
— Пожалуйста, — кивнул Хейнеман.
Вернувшись с пачкой газет, Бережков протянул их Короткову и попросил прочитать их хотя бы по диагонали.
— Если верить газетам, то наши дела плохи, — недовольно ворчал Коротков. — Они уверяют, что путь на Москву открыт… Ого, а вот это признание дорогого стоит! — неожиданно оживился он. — Послушайте-ка, что пишут в «Фолькишер беобахтер», причем на первой полосе: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке».
— Да-а, судя по всему, война с Россией обойдется нам недешево, — вздохнул Хейнеман. — Боюсь я за своего сына, ох боюсь…
Бережков и Коротков многозначительно переглянулись: они поняли, что Хейнемана нужно обихаживать и дальше — он им еще может пригодиться.
Вернувшись в посольство, они тут же начали планировать новую поездку, но выбраться на волю им больше не удалось: количество охранников было удвоено, и за ворота никого ни под каким видом больше не выпускали. А в ночь на 2 июля пришел приказ приготовиться к погрузке в железнодорожные эшелоны. На сборы — ровно час. Вскоре подошли крытые грузовики, в которые затолкали сотрудников посольства и членов их семей, причем работников торгпредства и других советских учреждений по какой-то, чисто немецкой логике, загоняли в отдельные грузовики, а впоследствии и в особые вагоны. Таким образом было составлено два эшелона, которые на рассвете двинулись в долгий, двухнедельный, путь.
Издевательства над людьми продолжались и по дороге — многочасовые переклички под палящим солнцем, сто граммов хлеба и похлебка из брюквы на целый день, ужасающая теснота, невозможность помыться и постоянные намеки на то, что немецкие дивизии войдут в Москву раньше, нежели туда прибудет посольский поезд. Но люди держались и, как могли, подбадривали друг друга. 18 июля составы прибыли на болгаро-турецкую границу. В районе города Свиленграда их встретили представители советского посольства в Турции и переправили на теплоход «Сванетия», где измученные и истерзанные дипломаты смогли наконец привести себя в порядок и, самое главное, получить советские паспорта. Потом их переправили в окрестности Карса, и только 2 августа они пересекли советско-турецкую границу. Второй эшелон мурыжили до 30 августа: видимо, немцы не теряли надежды, что кто-нибудь да сломается и попросит политического убежища у победоносной Германии. Не вышло, в Германии не остался ни один работник посольства, торгпредства или какого-либо иного советского учреждения.
В не менее сложном положении оказалась немногочисленная советская колония в Дании, которая еще в 1940-м была оккупирована германскими войсками. Там тоже были задержания, аресты, всякого рода издевательства, настойчивые предложения политического убежища и неприкрытые угрозы, пока наконец не было принято решение об обмене датских дипломатов на советских. Потом — мучительная поездка в товарняках: Свиленград, Стамбул и только через три недели Ленинакан.
Еще более нагло и вызывающе вели себя власти Румынии. Напомню, что фашистская диктатура во главе с генералом Антонеску там была установлена еще в августе 1940-го, а в ноябре Бухарест официально присоединился к оси Рим — Берлин. С этого момента начались постоянные провокации на советско-румынской границе, а за сотрудниками посольства установлена непрерывная слежка. А тут еще наш плохо обученный летчик перепутал Одессу с Констанцей и, потеряв ориентировку, приземлился на территории Румынии. Газеты подняли такой крик, что казалось, Румыния вот-вот пойдет на Москву, а летчика отправят на эшафот. С великим трудом летчика отбили, а конфликт кое-как замяли.
Не успел стихнуть этот скандал, как грянул новый. Сотрудников посольства Шутова и Еремина, которые сопровождали до болгарской границы нашего дипкурьера, ни с того ни с сего арестовал начальник сигуранцы небольшого городка Меджидия. И не просто арестовал, а сильно избил, требуя, чтобы они рассказали о содержании вализ диппочты. Тут уже шум подняли наши! Информация попала в газеты. И только после этого румынские власти принесли официальные извинения, а излишне ретивого чиновника отдали по суд.
Правда, агенты сигуранцы тут же нашли вариант неприкрыто иезуитской мести: они запретили появляться в посольстве врачам, учителям, шоферам, уборщицам, телефонистам, водопроводчикам и даже почтальонам. Вначале наши лишь посмеивались, но когда у посла Лаврентьева серьезно заболела жена, а потом и ребенок, и, как он ни бился, к нему не приехал ни один врач, все поняли, что дело обстоит более чем серьезно.
А 22 июня Лаврентьева срочно вызвали в МИД и сообщили, что «военные действия между Германией и Советским Союзом уже начались и что Румыния, как союзница Германии, выступила на стороне последней». А это значит, что сотрудники советской миссии должны немедленно покинуть здание и отправиться на пригородную станцию Китила, где их разместят в железнодорожных вагонах. Коварство было не только в том, что в вагонах стояла жуткая жара и на перрон никого не выпускали, но и в том, что время от времени станцию бомбили советские самолеты. Как только начинался налет, охрана разбегалась, а запертые в вагонах люди могли погибнуть под бомбами своих же летчиков.
От нестерпимой жары, недостатка воды и отвратительного питания многие, особенно женщины и дети, начали болеть. Лаврентьев попросил шведского посла сообщить о сложившейся ситуации румынским властям. В ответ — молчок. Тогда весь мужской состав посольства объявил голодовку! Как ни странно, это помогло, и через двое суток румыны прислали детского врача. А еще через сутки поезд наконец-то тронулся… Но на этом злоключения наших дипломатов не закончились: уже на болгарской территории их поезд чуть было не сорвался в пропасть, По дороге были и голод, и холод, и издевательства полицейских, но, сжав зубы, советские люди терпели. В Москве последние заложники Третьего рейха оказались 4 августа. В Наркомате иностранных дел наконец-то облегченно вздохнули: никто не погиб, не сбежал, не потерялся в пути. Война еще только начиналась, и каждый толковый специалист был на вес золота…
Но, даже прекрасно понимая, как важна во время войны работа внешнеполитического ведомства, многие дипломаты сменили авторучку на автомат. На передовую отправилось около 250 сотрудников МИДа, 67 из них пали на полях сражений.
ГЕРОИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
День начала холодной войны известен точно: «боевые действия» начались 5 марта 1946 года после речи Черчилля в Фултоне, в которой он призвал к созданию военно-политического союза Великобритании и США, направленного против Советского Союза и стран народной демократии.
«Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине всемирной мощи, — сказал он, в частности. — Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя неимоверную ответственность перед будущим… Наша главная задача и обязанность — оградить семьи простых людей от ужасов и несчастий еще одной войны. Ни эффективное предотвращение войны, ни постоянное расширение влияния Всемирной Организации не могут быть достигнуты без братского союза англоязычных народов. Это означает дальнейшее использование уже имеющихся средств для обеспечения взаимной безопасности путем совместного пользования всеми военно-морскими и военно-воздушными базами.
На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес.
Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньшего уважения, чем к военной слабости. По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь непригодна. Мы не можем позволить себе действовать с позиций малого перевеса, который вводит во искушение заняться пробой сил».
В этой пространной речи, которая на русском языке впервые была опубликована более чем полвека спустя, да и то в журнале, который читают лишь историки-профессионалы, немало уверений в любви к «доблестному русскому народу». Есть там и теплые слова, обращенные к «товарищу военного времени маршалу Сталину». Но вывод из всего этого следует один: только тесный союз Великобритании и США может устранить опасности войны и тирании.
Ответ Сталина не заставил себя долго ждать. Уже 14 марта в «Правде» было опубликовано интервью с вождем народов, в котором он снял всю словесную шелуху с речи Черчилля и назвал вещи своими именами. Во-первых, было объявлено, что Черчилль стоит на позиции поджигателей войны. Во-вторых, он, как и Гитлер, начинает дело развязывания войны с провозглашения расовой теории, утверждая, что только «нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира». И в-третьих, «установка Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР».
Но Сталин не был бы Сталиным, если бы только констатировал факт установки Черчилля на войну. «Я не знаю, удастся ли г-ну Черчиллю и его друзьям организовать после Второй мировой войны новый поход против “Восточной Европы”, — сказал он в заключение. — Но если им это удастся, что маловероятно, ибо миллионы “простых людей” стоят на страже мира, то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же, как были биты в прошлом, 26 лет тому назад».
Что последовало за этими речами, интервью и заявлениями, хорошо известно: гонка ядерных вооружений, гигантский рост военных бюджетов, взаимное неприятие каких-либо мирных инициатив, поддержка любых режимов, которые наносили мало-мальски ощутимый ущерб противоположной стороне, и т.д. и т.п. Бывали моменты, когда и США, и СССР переходили ту едва ощутимую грань, которая отделяла мир от войны, — так было в Корее, Вьетнаме, Египте, — когда военные действия в этих странах чудом не переросли в третью мировую войну, которая без всяких преувеличений привела бы к уничтожению жизни на планете Земля.
Локальные войны начинались и прекращались, но самая главная, холодная война, основными бойцами которой стали дипломаты, не прекращалась ни на минуту. В этой войне, как и во всякой другой, были свои победы и поражения, свои предатели и герои. О предателях мы еще поговорим, но сегодня речь о героях, о мало кому известных героях холодной войны, которые не понаслышке знают, что такое ковровые бомбардировки и танковые атаки, не говоря уже о тюрьмах и застенках, пытках и имитациях расстрелов.
Первыми всю мощь американского оружия испытали на себе советские дипломаты, работавшие в Корее. Как известно, война между Северной и Южной Кореей началась в июне 1950 года. Вначале успех сопутствовал северянам: без особого труда они взяли Сеул и чуть было не сбросили в океан остатки армии Ли Сын Мана. Тут-то и вмешались в дело американцы. Организовав утечку информации о том, что в случае вмешательства в конфликт Советского Союза по военным базам в Сибири будут нанесены ядерные удары, они добились заверений Москвы о нейтралитете. И только после этого американцы начали перебрасывать свои войска в Корею, причем под флагом ООН. Уже в сентябре они высадили крупный десант в тылу северокорейских войск и вынудили их отступить. Американцы вошли в Сеул, а затем и в Пхеньян.
Наше посольство эвакуировали в город Сыныйджу. Не успели распаковать вещи, как поступил новый приказ: отправляться в никому неведомый поселок Супхун. То ли хорошо работала разведка, то ли у посла Штыкова был прямой контакт с Господом Богом, но если бы не этот приказ, от всех сотрудников посольства остались бы одни обугленные головешки. Дело в том, что, как только от Сыныйджу отошла последняя машина, над городом появились американские бомбардировщики. На этот раз они действовали по новому, более прогрессивному сценарию: сперва город по окружности облили морем горящего напалма — это чтобы никто не сбежал, а потом начали сносить квартал за кварталом сверхмощными фугасами.
Но в ноябре американцы получили нокаутирующий удар! Его нанесли китайские добровольцы, которые перешли в контрнаступление — и от первоклассно оснащенной 8-й американской армии остались одни воспоминания. А Пхеньян снова стал северокорейским. Немалый вклад в эту победу внесли советские летчики, которые в воздушных боях уничтожили 1300 американских самолетов.
Что касается наших дипломатов, то они продолжали жить и работать в Супхуне, который чуть ли не ежедневно подвергался ожесточенным бомбардировкам. Бывало, что люди не успевали добежать до щелей и укрытий. Однажды две бочки с напалмом попали в крошечный домик, где работали машинистки: спасти удалось лишь несколько обгоревших листочков.
В июле 1951-го начались переговоры о перемирии, но яростные бомбежки продолжались. Самый массированный, причем целенаправленный налет на посольство состоялся в ночь на 29 октября 1952 года. В течение нескольких часов на крошечную территорию было сброшено четыреста двухсоткилограммовых бомб, иначе говоря, расчет делался на уничтожение всего живого. Жертвы, конечно же, были, и жертвы немалые, но оставшиеся в живых продолжали делать свое дело.
Три года продолжалась эта мука. Война закончилась практически ничем: как были две Кореи, так они и остались, как проходила граница по 38-й параллели, так она там и проходит. Но не случилось главного — война не переросла в третью мировую. Заплачено за это немалой кровью, и не только советских летчиков и военных советников, но и дипломатов.
А тем временем в тысячах километров от Пхеньяна шла другая война, более тихая, но не менее коварная — это та война, на которой стреляют из-за угла, бросают в окна гранаты и взрывают автомобили. Все «прелести» такой войны в полной мере испытали на себе советские дипломаты, которым выпало в начале 1950-х работать в Тель-Авиве.
Это случилось 9 февраля 1953 года. В тот грозовой вечер в посольстве проходило профсоюзное собрание. Стены здания сотрясались от раскатов грома. Но вот грянул такой удар, что вылетели все стекла!
— Молния! Это шаровая молния! — крикнул кто-то. — Ложись, а то всех спалит!
— Какая там молния! — раздалось со двора. — Тяжело ранена жена завхоза. Весь бок распорот железными осколками.
В это время донеслись стоны со второго этажа. Кинулись туда! У разбитого окна, в луже крови лежала жена посла Клавдия Ершова: осколки стекла изувечили лицо и рассекли крупные сосуды. Ее надо было срочно доставить в госпиталь. Стали звать шофера. Появился он далеко не сразу. Безбожно матерясь и почему-то шепелявя, он шел откуда-то из глубины сада и пытался остановить льющуюся изо рта кровь: оказалось, что у него рассечена губа и выбито несколько зубов.
Прибывшая по вызову полиция быстро нашла и дырку в заборе, через которую проникли террористы, и следы взрывного устройства… Газеты подняли страшный шум, приписывая организацию теракта то проправительственным партиям, то сионистским организациям, то даже арабам, проникшим на территорию Израиля из-за границы. Как бы то ни было, но советское правительство дипломатические отношения с Израилем решило разорвать. Тут же началась морока с уничтожением архивов и организацией эвакуации.
До порта Хайфы сотрудников посольства довезли на машинах, а там погрузили на турецкое судно «Кадэш». Но даже такую операцию, как погрузка на борт судна, израильтяне обставили так не по-людски, что дети плакали, а женщины рыдали: неподалеку от «Кадэша» поставили эсминец с расчехленными пушками, направленными на судно с дипломатами. Но и этого показалось мало: когда судно отошло от пирса, до нейтральных вод его сопровождали два торпедных катера с готовыми для атаки аппаратами. Когда добрались до Стамбула и пересели в поезд, эстафету хулиганских выходок подхватили турки: на всем пути следования вагоны с дипломатами какие-то неизвестные лица забрасывали камнями. До болгарской границы добрались хоть с синяками и шишками, но все же живыми.
Не думали тогда в Москве и не гадали, что взрыв в Тель-Авиве станет провозвестником многолетнего ближневосточного противостояния, когда гром пушек будет заглушать голос разума. Все началось с национализации Суэцкого канала. Когда 26 июля 1956 года президент Египта Насер объявил о национализации канала, в Париже и Лондоне приступили к разработке операции «Мушкетер», в которой должен был участвовать и Израиль. Суть операции была не только в том, чтобы силой вернуть контроль над каналом Англии и Франции, но и свергнуть слишком строптивого президента. В ночь с 29 на 30 октября 1956 года израильские войска вторглись в Синай. А 31-го англо-французская авиация нанесла бомбовый удар по зоне канала, а также по Каиру и Александрии.
От такой неприкрытой наглости тут же встрепенулась Москва и заявила решительный протест. Самое странное, к этому протесту присоединились США и оставили своих западных союзников без поддержки ООН. Этого шанса не упустил Хрущев, решившись на заявление о применении силы. Уже 5 ноября министр иностранных дел СССР Дмитрий Шепилов направил в ООН телеграмму, в которой требовал срочного созыва Совета Безопасности и предлагал проект резолюции, в которой говорилось, что если требования о прекращении агрессии не будут выполнены, то все члены ООН, и прежде всего СССР и США, окажут Египту военную помощь.
Это было крупной победой советской дипломатии! Чтобы СССР и США вместе выступали против западных союзников Америки, такого еще не было! Результаты не замедлили сказаться: буквально на следующий день правительство Великобритании, а затем Франции и Израиля отдали распоряжения о прекращении огня. Но Советскому Союзу этого показалось мало — Москва требовала вывода оккупационных войск с территории Египта. Тут же появилось заявление ТАСС, в котором говорилось, что в противном случае Советское правительство «не будет препятствовать выезду советских граждан-добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость».
Как ни странно, эти демарши, рассчитанные на пугливого партнера, подействовали: тройственная агрессия закончилась провалом, а престиж Советского Союза в арабских странах достиг заоблачных высот. Правда, с годами этот престиж стал падать, и взаимное разочарование стало непреложным фактом.
Практически в эти же дни не менее серьезные события происходили в Будапеште. Там все началось с многотысячной демонстрации, участники которой 23 октября вышли на улицы города и потребовали снести с центральной площади памятник Сталину. Разгоряченная толпа раздобыла где-то тягачи, подогнала подъемные краны и, накинув на вождя народов тросы, стала раскачивать монумент. Ломаются краны, рвутся тросы, лопаются гусеницы, а памятник стоит! Люди начали паниковать, раздались крики, что Сталин здесь поставлен на века, что его охраняет нечистая сила, что лучше оставить его в покое. Но кто-то догадался принести автоген… А когда ноги вождя отрезали от постамента и памятник рухнул наземь, толпа радостно взвыла и потащила его по улицам города.
Если бы этим все ограничилось, не было бы печально известных венгерских событий, не было бы крови, не было бы ситуации, чуть было не приведшей к большой войне. Но подогретые антисоветскими призывами мятежники начали громить витрины советских учреждений, переворачивать машины, стрелять по окнам квартир и даже поджигать танки и бронетранспортеры. Через несколько дней по требованию главы правительства Имре Надя советские войска из Будапешта вывели, но ситуация от этого стала еще более скверной. Активистов партии выволакивали из кабинетов и квартир и тут же убивали, а сотрудников органов безопасности вешали на фонарях. Зачастую на фонарях оказывались люди, не имевшие никакого отношения к тем самым органам: их вешали только за то, что на них были такие же желтые ботинки, которые выдавали офицерам безопасности.
Под горячую руку чуть было не убили нашего посла Юрия Андропова и его помощников. На четырех машинах они ехали на аэродром и попали в засаду. Машины забросали камнями и подкатили бочки с соляркой, чтобы всю эту колонну сжечь. Тогда Юрий Владимирович вышел из машины и двинулся навстречу вооруженной до зубов толпе. Остальные — за ним. На какое-то мгновение толпа онемела, потом начала палить в воздух, а наши дипломаты шли на негнущихся ногах сквозь расступившуюся ораву мятежников, не имея никаких гарантий, что не получат пулю в спину.
Пули, кстати, были. Здание посольства неоднократно обстреливалось, а однажды пуля влетела в окно кабинета посла, чудом не поразив находившихся там сотрудников. О налетах на квартиры дипломатов, об издевательствах над их женами и детьми разговор особый — это уже чистая уголовщина, потому что венгерские «патриоты» и «борцы за свободу» тащили из квартир все, что попадало под руку, — от диванов и холодильников до детских колясок и женского белья.
Эти безобразия прекратились лишь 4 ноября, когда по просьбе вновь сформированного правительства во главе с Яношем Кадаром в Будапешт вошли советские войска.
Что тут началось в больших и малых столицах Запада! Демонстрации протеста, митинги, шествия, манифестации… Наиболее горячие головы начали записываться во всевозможные легионы, чтобы объявить крестовый поход на Москву. К счастью, дальше призывов эти деятели не пошли, так как здравомыслящие люди им вовремя напомнили, что если Советская армия разгромила гитлеровский вермахт, то уж с самодеятельными формированиями безусых юнцов как-нибудь справится. Но крови хотелось! Так сильно хотелось русской крови, что душу решили отвести на дипломатах.
Ну ладно, Канада — там ведь полным-полно бандеровцев, власовцев и прочей недобитой нечисти: они-то и стали главными закоперщиками нападения на посольство. Под бдительным оком полиции налетчики забросали здание бутылками с зажигательной смесью — и лишь чудом никто не пострадал. Тут хотя бы было ясно, с кем мы имеем дело, да и за спиной у новоиспеченных канадцев стояло правительство не только Канады, но и США.
Но Люксембург, крошечный, едва заметный на карте Люксембург, он-то как посмел поднять руку на Советский Союз, имеющий к этому времени не только атомную, но и водородную бомбу?! Между тем на территорию нашего посольства, опять-таки под бдительным оком полиции, ворвалось более трех тысяч юнцов, которые учинили невиданный погром, превратив в ничто два первых этажа здания. Они рвались и на третий, где забаррикадировались дипломаты, но кто-то крикнул, что в подвале хранится пять тонн мазута для отопления — надо поджечь этот мазут и с русскими будет покончено. Кинулись в подвал, но поджечь мазут люксембургские громилы не смогли и с досадой покинули территорию миссии.
Едва закончились венгерские события, как начались новые — на этот раз конголезские. Напомню, что в начале 1960-х существовало два государства с названием Конго: одно со столицей в Браззавиле, другое (ныне Заир) — в Киншасе. Перевороты и убийства лидеров там следовали одно за другим, поэтому нашим дипломатам приходилось довольно часто мотаться из одной столицы в другую, чтобы устанавливать отношения с очередным главой правительства. И вот, во время одной из таких поездок, когда Юрий Мякотных и Борис Воронин возвращались из Браззавиля, едва они сошли с парома на противоположном берегу Конго, таможенники Киншасы заявили, что у них имеется указание досмотреть не только машину, но также портфели и карманы дипломатов.
Наши заявили протест и сказали, что ни о каком личном досмотре не может быть и речи! Тогда на них накинулись сотрудники конголезской охранки. Борис и Юрий кое-как отбились и прыгнули в машину, но закрыть смогли только одну дверцу. У открытой оказался Воронин. Его схватили за ноги и начали тащить наружу. Борис отчаянно сопротивлялся и целый час отбивался от здоровенных негров. С него стащили носки, ботинки, брюки, вывернули все карманы и в конце концов выдернули и его самого. Он был весь в синяках, ранах и царапинах и едва держался на ногах.
Расправившись с Ворониным, держиморды взялись за Мякотных. Чтобы он не мог тронуться с места, шины прокололи штыками, а потом выволокли дипломата наружу и бросили в джип, где уже лежал связанный Борис. Джип тут же рванул с места и через несколько минут их доставили к шефу службы безопасности. Тот немедленно приступил к допросу, но наши отвечать на какие-либо вопросы отказались и потребовали вызова представителя советского посольства.
— Представителя? — усмехнулся шеф. — Будет вам представитель, да такой, каких вы не видели. В тюрьму их, в «Идолу»! — приказал он.
Тюрьма оказалась таким сырым и мрачным казематом, да к тому же наполненным крысами, змеями и ядовитыми пауками, что по замыслу конголезцев изнеженные белые люди должны были тут же сломаться, а затем и расколоться. Видимо, поэтому поздней ночью на допрос приехал сам командующий армией в сопровождении того самого шефа.
— Вы хотели видеть представителя? — поигрывая пистолетом, уточнил он. — Вот вам представитель. Но не посольства, а нашей победоносной армии.
— Да, я генерал, — прихлебывая из бутылки, пьяно заявил дюжий негр. — А вы — шпионы. Вы работаете на Браззавиль. Так что выкладывайте, с кем вы связаны на этом берегу… Не то… это… как его, — снова хлебнул он, — трибунал. Военный трибунал! — погрозил он пальцем. — А там всего один приговор — расстрел. Шлепнули же мы Лумумбу? Шлепнули. Шлепнем и вас!
Наши начали говорить, что они дипломаты, что на них распространяется дипломатический иммунитет, что никаких связей с противниками режима у них нет…
— Ах так! — взъярился генерал. — Расстрелять! Сейчас же! Тебя — первого! — ткнул он пальцем в Воронина.
Бориса тут же вывели во двор и поставили лицом к стенке.
— Отделение, — раздалась за его спиной команда, — заряжай! По вражескому шпиону — пли!
Грохнул залп! А потом раздался смех…
— Ну что, штаны-то, наверное, мокрые? — осклабился генерал. — Сейчас мы пальнули холостыми, но если будешь молчать и дальше, зарядим боевыми.
А Юрия тем временем били, так били, что он часто терял сознание. Когда же приходил в себя, ему предлагали политическое убежище, само собой, взамен на откровенность. На рассвете пытки прекратились, а генерал и его подручные исчезли…
Между тем в советском посольстве били во все колокола! В известность об аресте советских дипломатов поставили даже ООН. В отместку конголезские власти окружили посольство батальоном головорезов, а потом отключили воду, электричество и телефонную связь. Но что-то все же сработало: 21 ноября за Ворониным приехали жандармы, вывезли его из тюрьмы и засунули в самолет, следующий в Брюссель. По пути, когда была посадка в Афинах, какие-то типы пытались снять его с рейса, но Борис оказал такое отчаянное сопротивление, что его, полураздетого и разутого, оставили в покое.
Но на этом его злоключения не закончились. Так как о его прибытии в Брюссель сотрудников советского посольства никто не предупредил, разутый и раздетый Борис оказался на летном поле один-одинешенек. И вдруг он увидел наш Ту-104! Поняв, что это самолет «Аэрофлота», Воронин кинулся к пилотам. Вначале они его рассказу не поверили, но потом, махнув рукой на инструкции, взяли его на борт и доставили в Москву.
Несколько позже примерно таким же путем в Брюсселе оказался и Юрий Мякотных, к тому же не один, а вместе с группой высланных из Конго сотрудников нашего посольства. До Москвы они добрались без приключений, но еще долго вспоминали о перипетиях холодной войны, героями которой, сами того не подозревая, они стали и вошли в историю как мужественные и стойкие солдаты дипломатического фронта.
ИУДЫ В КАЗЕННЫХ ФРАКАХ
Справедливости ради надо сказать, что дипломаты далеко не всегда носили фраки, были времена, когда они щеголяли в боярских шубах, шелковых камзолах или строгих вицмундирах. Но как-то так повелось, что с начала XIX века в багаже дипломатов, направлявшихся в Париж, Лондон или Вену, непременно находился «мужской вечерний костюм особого покроя — короткий спереди и с длинными узкими фалдами сзади».
Как ни грустно об этом говорить, но под отутюженными костюмами особого покроя довольно часто скрывались не «должностные лица ведомства иностранных дел, уполномоченные осуществлять официальные сношения с иностранными государствами» — именно такой смысл заложен во французское слово «дипломат», а самые настоящие иуды, или, проще говоря, изменники, предатели, отступники и христопродавцы. То, что дипломаты всегда были самой желанной добычей для всякого рода разведок, контрразведок, а также королей, шахов, султанов и президентов, ни на йоту не снимает вины с людей, которые являются носителями самых серьезных государственных тайн и секретов.
СКЕЛЕТ С МУДРЕНОЙ БИОГРАФИЕЙ
Сомнительная честь стать самым первым иудой среди русских дипломатов выпала Григорию Котошихину, более известному как «вор Гришка». История Котошихина хоть и давняя, но весьма и весьма поучительная, особенно для тех, кто с порчинкой, кто не прочь подзаработать свои тридцать сребреников, будь они в долларах, фунтах или иенах.
Все началось с того, что один из придворных русского царя Алексея Михайловича перехватил тайное послание шведского комиссара, а проще говоря, посла в Москве Адольфа Эберса. Как ни труден был шведский шифр, но ключ к нему нашли. Когда депешу перевели на русский и положили на стол царя, тот схватился за голову.
Вот что писал своему королю Адольф Эберс в январе 1664 года: «Мой тайный корреспондент, от которого я всегда получаю ценные сведения, послан отсюда к князю Якову Черкасскому и, вероятно, будет некоторое время отсутствовать. Это было для меня очень прискорбно, потому что найти в скором времени равноценное лицо мне будет очень трудно. Оный субъект, хотя русский, но по своим симпатиям добрый швед, обещался и впредь извещать меня обо всем, что будут писать русские послы и какое решение примет Его царское Величество».
Вражеский шпион в ближайшем окружении царя?! Он в курсе его переписки с послами! Он знает не только о тех секретнейших решениях, которые уже принял царь, но даже о тех, которые он еще только собирается принять! Кто этот супостат? Кто этот искариот, отступник и душепродавец? Найти, четвертовать и обезглавить! Ясно, что он из Посольского приказа или из Приказа тайных дел.
Первым под подозрение попал князь Черкасский, который в это время находился под Смоленском и с небольшим войском сдерживал стоявшие на берегу Днепра польские полки. Он хоть и называл себя Яковом, но на самом-то деле Урусхан Куденетович, да и родом он из кабардинцев. Кто их знает, этих Черкасских, которые сто лет назад породнились с самим Иваном Грозным, выдав за него Марию Темрюковну?! А вдруг они хотели с помощью молодой царицы завладеть престолом, а когда не получилось, затаили обиду и теперь мстят?
Прощупать Черкасского поручили князю Прозоровскому. Иван Семенович Прозоровский поручился за Черкасского, как за самого себя! Царю это не понравилось (что ни говори, а когда так крепко дружат воеводы, за спиной которых многотысячное войско, это не очень хорошо), и он отправил Прозоровского предводительствовать Астраханью, тем самым подписав ему смертный приговор: через несколько лет Стенька Разин захватит город и воеводу Прозоровского зверски казнит.
Не избежал проверки и особо доверенный царский воевода Афанасий Ордин-Нащокин, кстати говоря, будущий глава Посольского приказа, который как раз в те дни прибыл в ставку Черкасского, чтобы вести с Польшей переговоры о мире. Так как Афанасия сопровождали его близкий родственник Богдан Нащокин и подьячий Григорий Котошихин, начали трясти и их. Что касается Богдана, то за него поручился Афанасий, заявивший, что тот и шагу не делает без его разрешения, к тому же Богдан не имеет никакого отношения к посольской переписке.
И что же тогда получается? А получается то, что подозрения пали на Григория Котошихина — ведь других-то лиц в ставку Черкасского не приезжало. Поначалу эту версию отвергли как совершенно бессмысленную: все знали, что Григорий пользуется особым доверием у государя, что царь к нему благоволит и продвигает по службе. Был, правда, случай, когда он велел бить своего любимого подьячего батогами, но весь Посольский приказ посчитал это не более чем отеческим внушением, другого за столь чудовищную ошибку, допущенную при написании грамоты, немедля бы казнили. Это ж с какого надо быть похмелья, чтобы вместо «Великий государь» написать просто «Великий»?! Крамола, самая настоящая крамола! Но царь быстро сменил гнев на милость, повелев включить Григория в состав посольства, направлявшегося в Ревель для переговоров со шведами. А вскоре Котошихину было оказано еще более высокое доверие: его направили в Стокгольм для передачи личного послания русского царя шведскому королю.
В Стокгольме царского посланника чуть ли не на руках носили и отпустили с дорогими подарками. Окрыленный Григорий вернулся в Москву и… вдруг увидел, что он в самом прямом смысле слова выброшен на улицу. Оказалось, что, пока он был в Швеции, против его отца, служившего казначеем в одном из монастырей, возбудили дело о растрате. Все имущество, в том числе и дом, тут же конфисковали, а отца и молодую жену царского посланника вышвырнули на улицу. Сколько ни бился младший Котошихин, дом так и не вернули. Пришлось покупать другой, но на это тринадцати рублей его годового жалованья не хватало. Тут-то и подвернулся тот самый Адольф Эберс, который без лишних слов ссудил Григория деньгами, само собой разумеется, в обмен на секретные сведения.
Так Котошихин стал шведским агентом. Если же учесть, что с Эберсом он встречался вполне официально как с посланником короля, то никому и в голову не могло прийти, что самую ценную информацию он сообщал именно в ходе этих встреч.
Все это выяснилось гораздо позже, а пока что люди из Приказа тайных дел, нагрянувшие в ставку князя Черкасского, начали склоняться к мысли, что вся эта история с перехваченным письмом не что иное, как, говоря современным языком, грубо состряпанная деза шведских спецслужб, поставивших целью скомпрометировать наиболее доверенных лиц царя. Скорее всего, именно эта версия легла бы в основу доклада царю, если бы у Котошихина не сдали нервы. Он вдруг решил, что вот-вот будет изобличен, а это значит, жестокие пытки и, как особая милость, топор палача. Не моргнув глазом он сжег все мосты и бежал в Польшу. Там он в открытую обратился к польскому королю Яну-Казимиру с предложением своих услуг в качестве информатора о делах при Московском дворе и в Посольском приказе. Король принял это предложение, положил ему жалованье сто рублей в год, определил находиться при литовском канцлере Паце и впредь велел называться на польский лад Иваном-Александром Селецким.
Но Котошихин жаждал большего. Он хотел быть личным советником короля, он мечтал быть при его особе и давать стратегические рекомендации в случае войны с москалями. То ли Ян-Казимир испытывал естественное недоверие к предателю московского престола, то ли поступавшая от него информация была не заслуживавшей внимания, но общаться с Котошихиным он отказался и до собственной персоны не допускал.
Григорий смертельно обиделся, и пределы Польши покинул, уехав сперва в Силезию, а потом в Пруссию. Но вот ведь как бывает, единожды предавший оказался никому не нужным, ни один двор не захотел иметь дело со столь ненадежным человеком. И тогда Котошихин вспомнил о своих первых хозяевах. На первом же корабле он отправился в Нарву, где в те времена была резиденция шведского генерал-губернатора Ингерманландии Якова Таубе, с которым он познакомился еще во время своей триумфальной поездки в Стокгольм. Таубе немедленно принял Котошихина и пообещал переслать королю Карлу XI его прошение, в котором тот писал: «Я решился покинуть мое отечество, где для меня не оставалось никакой надежды, и прибыл в пределы владений Вашего королевского величества. Я всеподданнейше прошу и умоляю, дабы Ваше королевское величество соизволили принять меня под Вашу королевскую защиту, покров и пр.».
Не забыл он упомянуть и о том, что желание послужить «великомощному и славному государю шведскому» возникло у него еще во время поездки в Стокгольм с царским письмом, поэтому-де, вернувшись в Москву, вступил в тайную связь с Эберсом, регулярно передавая ему секретные сведения.
Тем временем люди из Приказа Тайных дел напали на след предателя. Через своих агентов в Польше они выяснили, что Котошихин уехал в Силезию. Прочесали всю Силезию — пусто. Просеяли Пруссию — тоже пусто. В Любеке вышли на своего тайного агента фон Горна. Тот пришел в неописуемый ужас, когда узнал об измене Котошихина. Оказывается, Григорий с ним виделся, и фон Горн, не ведая о предательстве хорошо знакомого подьячего Посольского приказа, сообщил ему имя шведского полковника, который согласился работать на Москву. Теперь Котошихин у шведов и, конечно же, сдаст им полковника…
Как только узнали, что Котошихин в Нарве, туда немедленно выехал личный представитель новгородского воеводы князя Ромодановского стрелецкий капитан Иван Репнин. Он явился к Таубе и потребовал выдать Котошихина, «учинившего измену и предавшегося польскому королю». А князь Ромодановский в своем послании напоминал, что выдача беглых и пленных, в соответствии с Кардисским договором, совершенно законное требование, которое обязаны соблюдать как московские, так и шведские власти.
Тут уж Котошихин не на шутку струхнул: выдадут, как пить дать, выдадут, не станут из-за него рисковать с таким трудом подписанным договором. Но Таубе его защитил. Он был большим хитрованом и, ничего не отрицая, отписал Ромоданов-скому такую заумную грамоту, что тот только крякнул. «Беглец прибыл сюда, в Нарву, гол и наг, — писал Таубе, — так что обе ноги его от холода опухли и были озноблены, и объявил, что желает ехать назад к своему государю, но по своему убожеству и наготе никуда пуститься не может. Я приказал дать ему одежду и пять риксдалеров для продолжения обратного пути к Царскому Величеству». В конце письма он уверял, что отдал приказ о розыске беглеца, и предложил выделить одного из самых смышленых стрельцов для участия в поисках Котошихина.
Стрельца выделили, дом, в котором жил Котошихин, нашли, но хозяин дома заявил, что его постоялец отбыл во Псков, где воеводой служит Ордин-Нащокин: беглец, мол, решил отдаться в руки своему бывшему начальнику по Посольскому приказу.
Так Яков Таубе преследователей со следа сбил. Пока Репнин скакал во Псков, пока искал воеводу, Государственный совет Швеции заслушал прошение Котошихина и разрешил приехать ему в Стокгольм, чтобы на месте удостовериться, «каков он в самом деле». Льстивый и угодливый подьячий, к тому же хорошо знакомый с тайнами московского двора, произвел благоприятное впечатление, и вскоре король подписал специальный указ камер-коллегии: «Поскольку до сведения нашего дошло, что некий русский по имени Грегори Котосикни хорошо знает русское государство, служил в канцелярии великого князя и изъявил готовность делать нам разные полезные сообщения, мы решили всемилостивейше пожаловать этому русскому двести риксдалеров серебром».
На этом милости Карла XI не закончились: через несколько месяцев Котошихина приняли на королевскую службу и даже удвоили и без того немалое жалованье. А когда его зачислили в штат архива, Григорий засел за сочинение, которое в те годы рассматривалось как разведцонесение, а через двести лет, когда было издано в России, стало называться «драгоценным памятником старины» — именно так именовал книгу «вора Гришки» Виссарион Белинский. Называлась она «О России в царствование Алексея Михайловича».
Что и говорить, эта книга дорогого стоит! Биографии царей, цариц и царевичей, их привычки, пороки и слабости, характеристика ближних бояр, а также чиновных и служилых людей, устройство царского двора и всех существующих приказов, организация и внутренняя структура армии, а также все, что касается рек, дорог, подъездных и объездных путей к главным городам России. Очень красочно и не без юмора описан быт русских людей того времени.
Книга пошла нарасхват! Специальную статью ей посвятил Белинский, с увлечением читали Гоголь, Толстой и Чернышевский. А Герцен пришел в такой восторг, что, не скрывая упоительных чувств, написал далекому Другу: «Умилительная книга, я думаю, ты плакал над нею — и я плачу». Но точнее всех общую точку зрения выразил Добролюбов.
«У Котошихина, — писал он, — взгляд уже более широкий, более человечный, чем у всех русских, до него писавших о России, даже в отрицательном духе. Он является образованным представителем интересов среднего сословия, над которым налегло старинное барство со своим невежеством и спесью. Он уже сожалеет и о грубости семейных отношений, и о невежестве высшего класса, и об административных обманах, и о жестокости пытки, и об отчуждении России от Европы. И замечательна его точка зрения: в нем нет неприязни к России, он не смотрит на ее недостатки как нераздельные с природою народа, он объясняет их обстоятельствами, отношениями различных классов между собою и тому подобное».
Поразительно, но никто из самых уважаемых людей России, ни Толстой, ни Гоголь, ни Белинский, нигде ни словом не обмолвились о личности автора так понравившейся им книги. А ведь он — иуда, он — предатель, мразь и христопродавец. Таким не то что руки не подают, таких без лишних слов отправляют на дыбу. А может быть, они видели в Котошихине диссидента, борца за права человека, противника ненавистного царского режима?..
Неудивительно, что в 1667-м, когда книга вышла в Швеции, вся читающая публика оценила ее по достоинству, а король в очередной раз повысил Котошихину жалованье. Григорий в долгу не остался и тут же обратился с письмом к «Всемощнейшему и Высокорожденному государю Карлусу», в котором клятвенно заверял короля, что будет служить ему «до смерти без измены, а ежели что не так, то достоин смертной казни безо всякой пощады».
Эх, Гришка, Гришка, не искушать бы тебе судьбу и не произносить нехорошее слово всуе! И месяца не прошло, как курносая пришла по его душу, и, как ни странно, была она не русского, а шведского происхождения. Пить надо было меньше, гладишь, баба с косой и прошла бы мимо, а тут… Короче говоря, все произошло по пьяни.
Не имея своего дома, Котошихин квартировал у Даниила Анастазиуса, чиновника того же архива, в котором служил и сам. Ладно бы только квартировал, отлучаясь с работы раньше Даниила, он миловался с его женой Марией. Некоторое время спустя Анастазиус прознал об этом и во время совместной попойки поднял скандал, обзывая жильца самыми непотребными и, что самое неприятное, русскими словами. Этого Григорий не мог снести и схватился за кинжал! На шум прибежала Мария и, увидев обливавшегося кровью мужа, кинулась в полицию. Котошихина тут же скрутили и бросили в каземат. В сентябре 1667-го состоялся суд. Приговор был неотвратимо суров:
«Поелику русский подьячий Иван Александр Селецкий, называющий себя также Григорием Карповичем Котошихиным, сознался в том, что он 25 августа в пьяном виде заколол несколькими ударами кинжала своего хозяина Даниила Анастазиуса, вследствие чего Анастазиус спустя две недели умер, суд не может его пощадить и на основании божеских и шведских законов присуждает его к смерти. Вместе с тем суд передает это свое решение на усмотрение высшего королевского придворного суда».
У Котошихина появилась надежда на спасение — ведь он оказал столько неоценимых услуг шведской короне, но Карлу XI, видимо, надоело возиться с русским перебежчиком, и королевский суд приговор утвердил. Но, судя по всему, где-то на небесах судьба Григория еще не была решена окончательно. Неожиданно в дело вмешался русский посол в Стокгольме Иван Леонтьев, который требовал выдачи изменника русского престола. Шведы задумались… С одной стороны, не хотелось ссориться с русскими, с другой — какая разница, где казнят Котошихина, в Москве или Стокгольме. Но был закон, и он требовал, чтобы преступника казнили там, где тот совершил последнее преступление. Сошлись на том, что Леонтьеву предоставили право присутствовать при казни, дабы тот удостоверился в том, что приговор приведен в исполнение.
Так и поступили… 8 ноября Котошихина привезли на лобное место, расположенное за заставой южного стокгольмского предместья, и при большом стечении народа передали в руки палача. Тот был мастером своего дела — и голову отрубил одним точным ударом. Так закончил свою жизнь первый иуда, первый предатель среди русских дипломатов. А его останки еще долго напоминали о том, что предательство — одно из самых страшных и самых мерзких преступлений.
Вот что повествуют об этом старинные хроники: «Тотчас после казни тело Котошихина было отвезено в Упсалу, где оно было анатомировано профессором, высокоученым магистром Олафом Рудбеком. Кости Селецкого-Котошихина хранятся там и до сих пор, как монумент, нанизанные на медные и стальные проволоки».
Вот так-то! Был дипломатом, особо доверенным чиновником Посольского приказа, вел переговоры с канцлерами и королями — и вдруг скелет, нанизанное на проволоки учебное пособие для изучения анатомии студентами Упсальского университета. Что ж, для иуды это хоть и несколько необычный, но вполне достойный конец. Библейский Иуда, как известно, удавился — и это никого ничему не научило. Как станет ясно из дальнейшего повествования, скелет Котошихина тоже никого ничему не научил — предательства среди дипломатов не прекратились…
ФРАНЦУЗСКИЙ АГЕНТ РУССКОГО ЦАРЯ
Было бы большой ошибкой думать, что бациллой предательства были заражены только русские дипломаты. Как показывают факты, в просвещенной Европе эта хворь поразила не только страдающих от безденежья чиновников или промотавших состояния придворных, но даже самую обеспеченную и самую высокопоставленную верхушку общества — вплоть до министров. Самым известным, самым жадным и, конечно же, самым информированным иудой XIX века был министр иностранных дел наполеоновской Франции Талейран. Этот человек был и князем, и герцогом, и камергером, и командором ордена Почетного легиона, но неуемное корыстолюбие привело его к тому, что кроме своего подлинного имени Талейран-Перигор он оброс многочисленными псевдонимами, такими как Кузен Анри, Красавец Леандр, Анна Ивановна, Юрисконсульт, и многими другими.
При всем при том он оставался «одним из самых выдающихся дипломатов, мастером тонкой дипломатической интриги и беспринципным политиком» — именно таких характеристик удостоился Талейран в самых разных энциклопедиях. А ведь время, в которое жил и работал Талейран, для Франции было одним из самых великих, блистательных и ярких! Наполеон одерживал одну победу за другой, все европейские столицы признали безусловное первенство Парижа, все императоры и короли склонили головы перед ненавистным корсиканцем, а после разгрома союзных войск под Аустерлицем Наполеон понял, что его заветная мечта покорить Москву вполне реальна.
С некоторым опозданием, но это поняли и в Петербурге. Армии, которая могла бы на равных сражаться с французскими бригадами, не было, значит, надо тянуть время и формировать новые полки. Именно поэтому Александр I пошел на заключение крайне непопулярного Тильзитского договора. Ему пришлось оправдываться даже перед матерью.
«Союз с Наполеоном, — писал он, — лишь изменение способов борьбы против него. Он нужен России для того, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства и силы».
Но Наполеон, решив окончательно загнать Александра I в угол, буквально навязал ему не менее позорную Эрфуртскую союзную конвенцию. Переговоры шли очень трудно и нервно, Наполеон требовал совершенно невозможного, Александр I, как мог, противился. Совершенно вымотанный бесплодными дискуссиями, по вечерам Александр I скрывался в салоне княгини Турн-и-Таксис: тут он мог отдохнуть и без лишних свидетелей поговорить со своими советниками.
И вот однажды в этой «русской крепости» совершенно неожиданно появился французский министр иностранных дел Талейран! Его не ждали, не приглашали, и одному богу ведомо, как он туда проник. К тому же были нарушены все нормы не только дипломатического протокола, но и светского этикета: явиться к главе государства без приглашения — это совершенно немыслимый поступок. Обескураженный этой бесцеремонностью, император хотел было сказаться больным, но в последний момент передумал: пройдоха Талейран беспричинно и шагу не сделает. Раз светлейший князь и владетельный герцог Беневентский решился на нарушение этикета, значит, тому были веские причины.
После обязательных в таких случаях поклонов, расшаркиваний и восторженных отзывов о гостиной хозяйки дома Талейран вдруг спросил:
— Государь, для чего вы приехали в Эрфурт?
— Как это для чего? — несколько смешался царь. — Для подписания конвенции с французским императором.
— Она же для вас невыгодна и, простите за прямоту, унизительна. Ну признает Наполеон ваше право на Молдавию и Валахию, ну пообещает нейтралитет, если с этим не согласится Турция и начнет против России боевые действия. Но неужели вы верите ему в том, что он придет вам на помощь, если на стороне Турции выступит Австрия?! Да ни в жизнь! Главный интерес Наполеона в том, чтобы ослабить Россию. Без этого ему не покорить Европу.
«Провокация, — подумал император. — Серьезная, широкомасштабная провокация. Меня хотят втянуть в какой-то заговор против Наполеона. Но кому это выгодно — Англии, Австрии, Турции? По большому счету, это выгодно прежде всего нам, России, но мы пока что к серьезной игре с Наполеоном не готовы.
А что, если… Нет, это невозможно. Так не бывает. Ведь это же измена. Хотя на что не пойдешь, чтобы отомстить за прилюдно поруганную честь. Ведь мне же докладывали. Как сейчас помню послание Чернышева, который присутствовал при безобразнейшей сцене, когда Наполеон чуть не набросился с кулаками на Талейрана, при этом крича во все горло: «Вы — вор, мерзавец и бесчестный человек! Вы не верите в Бога, вы всю вашу жизнь предавали. Для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны. Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло. И у меня есть власть сделать это, но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельной площади?! Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы — грязь в шелковых чулках! Грязь! Грязь! Грязь!»
— Мне кажется, я вас понимаю, — милостиво улыбнулся Александр I и предложил пройти во внутренние покои, подальше от любопытствующих глаз и настороженных ушей.
Когда они остались одни, Талейран жарко зашептал:
— Никто, вы слышите, государь, никто, кроме вас, не может спасти Европу. Вы должны это сделать, иначе… Вы даже не представляете, какие беды могут обрушиться на все европейские народы! А преуспеете вы в этом благородном деле только в том случае, если будете решительно сопротивляться Наполеону, причем уже здесь, в Эрфурте.
— А вы в этом хоть и не бескорыстный, но верный и тайный помощник? — протянул ему руку царь.
— Вы, как всегда, мудры, причем во всех трех составляющих моего сотрудничества, — склонил голову Талейран. — Если вы позволите, детали мы обговорим с вашим послом в Париже Карлом Нессельроде.
Так министр иностранных дел победоносной Франции стал агентом русского царя, и отныне его звали то Анной Ивановной, то Красавцем Леандром, то Кузеном Анри. Информация, которую получал от Талейрана Александр I, была по-настоящему ценной. Он писал о реформах во французской армии, тайных переговорах Наполеона с потенциальными союзниками, готовящейся финансовой агрессии, расстановке политических сил в Париже, склоках среди маршалов и генералов. Он даже указал конкретную дату нападения на Россию — апрель 1812 года.
Еще более ценными сообщения Талейрана стали, когда он втемную стал использовать своего друга министра полиции Фуше, который проходил под псевдонимами Наташа, Президент и Бержьен. Чтобы сбить с толку возможных читателей из аппарата того же Фуше, внутреннее положение Франции Талейран обозначал словами «английское земледелие», а когда был в игривом расположении духа, использовал фривольное словосочетание «любовные шашни Бутягина» (о похождениях секретаря русского посольства Бутягина в Париже ходили легенды).
Соблюдая договоренность быть верным и тайным помощником русского императора, Талейран ни на секунду не забывал о третьей составляющей этого соглашения: он был отнюдь не бескорыстным поставщиком ценной информации. Скажем, за извещение о брачных намерениях Наполеона Кузен Анри запросил три тысячи франков, а за информацию о перевооружении армии — четыре тысячи франков. День ото дня поступающие от Анны Ивановны сведения становились все более ценными и все более дорогими. Пока речь шла о тысячах и даже десятках тысяч франков, Александр I молчал, но когда Талейран запросил полтора миллиона золотом, царь возмутился! А Талейрану велел отписать, что рад бы заплатить, да вот только боится подвергнуть его ненужным подозрениям. У такого известного и влиятельного человека наверняка немало соперников и завистников, которые появление неизвестно откуда взявшейся крупной суммы могут использовать для раздувания скандала и, не дай бог, разоблачения.
Анна Ивановна обиделся, но от дальнейшего сотрудничества не отказался. Между тем гонорары становились все меньше, а депеши от царя все сдержаннее. Талейран не на шутку встревожился! Он чувствовал, что что-то произошло, что охлаждение Петербурга не случайно. Но что именно случилось? Что?!
А случилось то, что Александр I оказался дальновиднее и, если хотите, хитрее Талейрана. Еще в Эрфурте он принял решение: покупая ценные сведения у Талейрана, их надо самым тщательным образом перепроверять. Вернувшись в Петербург, он попросил найти молодого, образованного, сообразительного и непременно красивого офицера, которого можно было бы направить в Париж в качестве личного представителя русского императора. После долгих поисков такого офицера нашли — им оказался потомок старинного дворянского рода Александр Чернышев. Он был с детства записан на военную службу — сперва вахмистром, а потом корнетом в Кавалергардский полк.
Воевал Чернышев умело и храбро. За Аустерлицкое сражение он получил крест Святого Владимира 4-й степени, а за Фридлянд — Георгиевский крест 4-й степени и золотую шпагу. Полковнику Чернышеву было всего двадцать пять, когда он получил сверхважное и сверхсекретное задание от императора и отбыл в Париж. Статный красавец, острослов, жуир, богач, прекрасный танцор, сладкоречивый обольститель, он пользовался таким невиданным успехом, что в его объятия упали обе сестры Наполеона — и королева Неаполитанская, и влюбчивая Полина Боргезе. А когда во время бала в доме австрийского посла случился пожар и один за другим от огня стали погибать представители парижского света, возникла такая паника и давка, что погибнуть могли все. И вдруг от группы уже выбежавших на волю людей отделился какой-то офицер и бросился в горящее здание! Он вынес одного человека, другого, третьего… На нем тлела одежда, трещали волосы, но он снова и снова бросался в огонь.
Потом оказалось, что этим офицером был русский полковник Александр Чернышев. Надо ли говорить, как загремело его имя в Париже! Он стал желанным гостем во всех салонах, министерствах и канцеляриях. Познакомиться с ним почитали за честь маршалы и герцоги, графы и генералы. Чернышев мотался по Парижу, веселился, танцевал, флиртовал, болтал о пустяках и между делом узнавал, что маршал Даву отбыл в Польшу для инспекции польских формирований, мечтающих вместе с французами выступить против ненавистной России, а маршал Удино приобретает все большее влияние на императора и настаивает на скорейшей кампании за Неманом и Днепром.
Чернышев делал вид, что эти слухи его совершенно не интересуют, а на самом деле, вернувшись домой, до рассвета составлял зашифрованные депеши в Петербург. Дело в том, что он выполнял не только задание царя, перепроверяя сведения, полученные от Талейрана, но и занимался своей основной работой: мало кто знал, что полковник Чернышев был первым военным агентом при русском посольстве в Париже (ныне эта должность называется военный атташе). Разведчиком Чернышев оказался умнейшим. Он создал такую хитроумную сеть информаторов, что, даже когда был разоблачен и публично гильотинирован его ценнейший агент, сотрудник военного министерства Мишель, все остальные не пострадали и продолжали поставлять ценнейшие сведения.
Даже скупой на похвалы Александр I, прочтя одно из донесений Чернышева, не удержался и написал на полях документа: «Зачем не имею я побольше министров, подобных этому молодому человеку!»
Между тем во время одного из раутов у австрийского посла Шварценберга, дом которого чуть было не сгорел дотла, и, если бы не Чернышев, погибла бы вся его семья, совершенно неожиданно выяснилось, что Шварценберг знает то, что было известно лишь Талейрану, Чернышеву и русскому царю. Чернышев насторожился! Завел ничего не значащий пустопорожний разговор и подбросил кое-что из того, что буквально на днях узнал из донесения Талейрана.
Шварценберг рассмеялся и сказал, что в Вене это давным-давно известно. Чернышев все понял и помчался в посольство! Прекрасно понимая, что доверять бумаге его сомнения нельзя, Чернышев отправил в Петербург депешу, в которой просил предоставить ему отпуск по состоянию здоровья, а лечиться он намерен в своем имении парным молоком и свежим воздухом.
Это был заранее оговоренный пароль — и царь приказал ему что есть мочи мчаться в Петербург. Вовремя, ох как вовремя убрался Чернышев из Парижа! Видно, сам Господь Бог озаботился судьбой русского полковника. Дело в том, что французская полиция давным-давно «села на хвост» любимцу парижан и поняла, что под личиной гуляки и повесы скрывается опытнейший разведчик. Но чтобы его арестовать, нужно было получить личное разрешение Наполеона — ведь Чернышев является личным представителем царя при его ставке. Значит, одних подозрений мало, нужны неопровержимые доказательства недозволенной деятельности Чернышева.
И они нашлись… Пока Чернышев добирался до Петербурга, в его доме сделали негласный обыск. Можно себе представить ликование полицейских, когда где-то в углу они нашли обрывки скомканной бумажонки. Когда обрывки собрали воедино, оказалось, что это записка от Мишеля, того самого Мишеля, который был недавно гильотинирован за измену Франции. Все стало ясно, Мишель — агент Чернышева. Полиция тут же организовала утечку информации, и парижские газеты подняли неслыханный вой по поводу шпионской деятельности любимца парижан и особенно парижских женщин, коварного русского полковника.
Все это Чернышев узнал по приезде в Петербург — и нисколько не расстроился. Париж, конечно, стоит обедни, но если официальный путь туда заказан, это еще не значит, что нет других путей. Время покажет, что такие пути существуют… А пока что Чернышев чуть ли не с лупой начал изучать донесения Талей-рана и депеши, полученные из русского посольства в Вене, и не от кого-нибудь, а от военного агента Ренни. Оказалось, что они похожи, как две капли воды. Значит, Талейран работал не только на Петербург, но и на Вену, причем дважды продавал одну и ту же информацию.
Такого коварства Александр I стерпеть не мог и приказал прекратить какие бы то ни было контакты «с этой подлой Анной Ивановной».
А полковник Чернышев до Парижа добрался, он пришел туда в составе действующий армии, будучи генералом от кавалерии. Но и это не было пиком его карьеры, при Николае I он стал военным министром и даже председателем Государственного совета.
Что касается Талейрана, то из Франции ему пришлось бежать. В изгнании он не бедствовал, но его услугами уже никто не пользовался. На 84-м году жизни, предчувствуя близкую кончину, он вдруг решил получить отпущение грехов, и не от кого-нибудь, а от самого папы римского. И ведь получил! Когда эта весть дошла до Парижа, все газеты вышли с броским заголовком: «Князь Талейран всю жизнь обманывал Бога, а перед самой смертью вдруг очень ловко обманул сатану». Намек был более чем прозрачный, мол, за свои грехи в лапы сатаны он теперь не попадет.
Попадет! Еще как попадет! Иуда — он и есть Иуда. Ведь предательство во все времена считалось самым страшным и неискупимым грехом.
И вот ведь как бывает, пока парижский дом Талейрана пустовал, его прикупила известная всей Европе Дарья Христофоровна Ливен. Вообще-то Ливен — это фамилия по мужу, а в девичестве Даша носила куда более известную фамилию фон Бенкендорф. Да-да, знаменитый шеф жандармов Александр Бенкендорф не кто иной, как ее родной брат. Мать Даши баронесса фон Канштадт была близкой подругой жены Павла I Марии Федоровны, поэтому по окончании Смольного института четырнадцатилетнюю девочку императрица взяла к себе во фрейлины. А через год ее выдали замуж за любимца Павла I, двадцатитрехлетнего военного министра графа Ливена.
Как известно, Павел I люто ненавидел не только мать, но и все, что было связано с именем Екатерины II, поэтому, взойдя на престол, он разогнал всех ее поклонников и фаворитов, а на ключевые посты назначил людей, которых знал лично и которым доверял. Христофора Ливена он знал с раннего детства. Дело в том, что его мать Шарлотта Ливен была воспитательницей детей Павла Петровича и Марии Федоровны, а будущие императоры Александр I и Николай I для Христофора были просто Сашка и Никки.
Благополучно пережив перипетии, связанные с убийством Павла I, он стал чуть ли не правой рукой Александра I, находился рядом с ним под Аустерлицем, а потом и в Тильзите, что, видимо, и решило его дальнейшую судьбу: император повелел из друга детства сделать дипломата, назначив его послом в Берлине. Даша, которую все придворные считали большой умницей, со свойственной ей страстью начала изучать азы дипломатической жизни. Вскоре она стала куда лучше мужа разбираться во всех этих нотах, заявлениях, посланиях и декларациях.
Через три года графа Ливена перевели в Лондон. И вот тут-то Даша, впрочем, она предпочитала, чтобы ее называли Доротеей, развернулась по-настоящему. Она создала великолепный интеллектуальный салон, попасть в который почитали за честь и принцы крови, и видные политики, и послы самых разных государств. Гости развлекались, пили, ели, танцевали и, конечно же, не просто беседовали, а спорили на близкие им темы. Атак как ничего, кроме государственно-политических дел, они не знали, то, естественно, речь шла о всякого рода союзах, предполагаемых войнах, экономических санкциях и тому подобном. Доротея порхала среди гостей, которые, не обращая на нее внимания (ну, кому придет в голову, что женщина что-то в этом понимает?!), продолжали свои споры.
Но Доротея все прекрасно понимала, то, что было важно, запоминала и слово в слово пересказывала мужу. Граф тут же садился за стол, составлял конфиденциальную депешу и отправлял ее министру иностранных дел Карлу Нессельроде. Однако это занятие ему довольно быстро наскучило. Беседы, рауты, деловые встречи — это куда ни шло, а чуть ли не каждый день корпеть над секретными посланиями, нет уж, увольте. И вот однажды он попросил жену самостоятельно составить посольскую депешу на имя Нессельроде и отправить ее в Петербург.
Доротея это сделала в мгновение ока и чисто автоматически подписала своим именем.
Нессельроде пришел в восторг и даже доложил о своем новом корреспонденте императору! С тех пор Доротея стала получать задания от Нессельроде напрямую и, как правило, блестяще с ними справлялась.
Все бы ничего, если бы Доротея не была, как несколько позже стали говорить, двустволкой. Дело в том, что у графини Ливен вспыхнул необычайно бурный роман с австрийским канцлером Меттернихом. Как известно, в 1815 году под эгидой Австрии, России и Пруссии был создан так называемый Священный союз, к которому со временем присоединились практически все монархи Европы. Ключевую роль в деятельности Священного союза играл Меттерних, поэтому с ним заигрывали и в Лондоне, и в Берлине, и в Петербурге. Как личность абсолютно беспринципная, он ото всех принимал дорогостоящие подарки, при этом беззастенчиво ставя подножки ничего не подозревавшим дароносителям.
Скажем, русское правительство назначило Меттерниху специальную «пенсию», выражавшуюся в весьма круглой сумме. Казалось бы, в качестве благодарности Меттерних должен был хотя бы не плести заговоров против России, а вероломный австриец за спиной Петербурга заключил секретный договор с Англией и Францией, направленный против России. К счастью, Доротея вовремя сообщила об этом Александру I, и тот принял соответствующие меры.
В то же время, чтобы замести следы, Доротея как-то отправилась в английский курортный городок Брайтон, откуда послала тайное письмо, состоящее из четырех вложенных один в другой конвертов. Внешний адресовался секретарю австрийского посольства в Лондоне, второй имел приписку: «Нет нужды объяснять вложенное, мой дорогой друг». Третий предназначался господину по имени Флорет, и только в четвертом было само письмо. А содержало оно не что иное, как изложение доверительной беседы Доротеи с английским королем, в которой он, растаяв от чар элегантной дамы, выболтал огромное количество ценнейших политических сведений.
Как вы понимаете, под псевдонимом Флорет скрывался не граф Нессельроде, а князь Меттерних. Несмотря на столь явное двуличие, в Петербурге Доротею ценили и уважали. Ее неоднократно принимал Александр I и инструктировал по вопросам ее дальнейшей работы на благо России. Именно тогда она получила тайное задание найти доверительные подходы к английскому министру иностранных дел Джорджу Каннингу. Дело в том, что Александр I, окончательно удостоверившись в непорядочности и лицемерии Меттерниха, решил порвать с Австрией и искать сближения с Англией.
Доротея с этим заданием справилась блестяще, так блестяще, что Александр I в приватной беседе с шефом жандармов Бенкендорфом сказал: «Я помню твою сестру привлекательной девочкой, сейчас она государственный деятель».
В 1834 году истек срок заграничной командировки Христофора Ливена, и ему вместе с женой было предписано возвращаться в Петербург. Что тут поднялось в лондонском свете! Дамы рыдали, мужчины грозились до чертиков напиться — и все это от сожаления и горя, они не представляли, как будут жить без Доротеи. Надо знать прижимистых английских аристократок, чтобы оценить их неожиданный поступок: они собрали целую кучу денег, пошли к самому дорогому лондонскому ювелиру, купили у него самый изысканный и самый дорогой браслет и вручили его Доротее «в знак сожаления об ее отъезде и на память о многих годах, проведенных в Англии».
Вернувшись в Петербург, Доротея впала в ипохондрию. Ее деятельной натуре, привыкшей к западноевропейской политической суматохе, в тихом и спокойном Петербурге было не по себе. А тут еще умер муж, а потом и оба сына… Чтобы не сойти с ума от одиночества и неизбывной тоски, Доротея кинулась в Париж. Тогда-то она и купила пустующий дом Талейрана. А вскоре этот дом был превращен в популярнейший салон, попасть в который стремились лучшие умы Европы.
Но вот что странно, среди близких, интимных друзей Дарьи Христофоровны почему-то не было поэтов, художников или, скажем, принцев крови. По понятным только ей причинам она предпочитала политиков и дипломатов. Ее лебединой песней был многолетний роман с министром иностранных дел, а потом премьер-министром Франции Франсуа Гизо. Порой она вспоминала о России и после доверительных бесед с Гизо отправляла в Петербург секретные депеши. Что-что, а это она делала блестяще! Поэтому парижане, так ни о чем и не догадавшись, очень горевали, когда Дарьи Христофоровны не стало. Похоронили ее в черном бархатном платье фрейлины российского императорского двора.
ТРИЖДЫ НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛЕКСАНДР ОГОРОДНИК
На самом деле этого человека хорошо знали, и не только в Москве. Скажем, работники советского посольства в столице Колумбии Боготе знали его как второго секретаря посольства Александра Огородника, сотрудники КГБ зарегистрировали его сперва под псевдонимом Дмитриев, а несколько позже как Агронома, а вот вербовщики из ЦРУ окрестили его Трианоном, то есть трижды неизвестным.
Еще раньше его знали как воспитанника Севастопольского нахимовского училища, а затем курсанта Ленинградского военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. Все шло логично и нормально. Ему, сыну военного моряка, сам бог велел идти по стопам отца — и он шел, пока незадолго до окончания училища у него вдруг сдало зрение. Отнесись тогда начальство к этой беде без пяти минут офицера более чутко (как будто на флоте нельзя служить в очках?!), то не было бы никакого Трианона, не пришлось бы разрабатывать сверхсложные операции «Кайман», «Агроном» и «Сетунь», а самое главное, не было бы жертв, не было бы трупов.
А так — вчерашнему курсанту пришлось устраиваться на работу в типографию, дни и ночи проводить у печатной машины. И только год спустя, вспомнив о золотой медали, полученной в нахимовском училище, а также трудовом стаже, Саша решил рискнуть, как говорится, по-крупному: он подал документы во сверхпрестижный и сверхблатной Московский государственный институт международных отношений. Отец — не посол, не секретарь обкома и не космонавт, а скромный офицер в звании капитана 2-го ранга, квартиры в Москве нет, связей — никаких, зрение — ни к черту, испанский язык — с пятого на десятое, английский — со словарем.
И все же Саша Огородник в МГИМО поступил! Ему чертовски повезло. Дело в том, что в ЦК КПСС стали поступать письма от простых трудящихся, детям которых, даже если они сдавали экзамены на пятерки, в институте давали от ворот поворот. На Старой площади возмутились и отрядили грозную комиссию! Есть в институте хоть один студент из семьи токаря, сталевара или шахтера? Нет?! Это грубейшая политическая ошибка! Вы забыли, кто у нас правящий класс!
Как всегда бывает, за этим последовали разносы, разгоны, партийные взыскания и требования немедленно исправить сложившееся положение, определив процент студентов из семей рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. В этот-то процент и попал сын севастопольского кавторанга… А вот дальше Александр Огородник показал, чего он стоит! Учился отлично, по-испански стал говорить не хуже коренного жителя Мадрида, да и с английским дела пошли на лад, к тому же он слыл хорошим спортсменом и… записным донжуаном. Не счесть, сколько он покорил девичьих сердец. Перед ним не могли устоять даже надменно-вальяжные министерские, посольские и цековские дочки, которые считали ниже своего достоинства общаться с юношами, не проживавшими в высотках и одевавшимися не в «Березках».
Дело шло к окончанию института, вот-вот распределение, а самых выгодных невест расхватали прямо на глазах. И тогда Саша решил жениться не на выгодной, а на богатой и красивой: в конце концов он остановил свой выбор на студентке их же института Александре Арутинян. Но пока он занимался амурными делами, оказалось, что все интересные места в посольствах заняли всевозможные сынки да дочки. Саша запаниковал! Но, хорошенько подумав, решил, если так можно выразиться, обойти своих сокурсников на повороте. Так как он давно был связан с КГБ и работал на контору под псевдонимом Дмитриев, к тому же слыл комсомольским активистом и неоднократно выезжал за рубеж в составе делегаций Комитета молодежных организаций, Огородник попросил своих шефов помочь с поступлением в аспирантуру: защищу, мол, диссертацию, войду в круг ученых и информацию начну поставлять более ценную.
Аргументы были признаны убедительными, и ему помогли — Александра приняли в аспирантуру, и через несколько лет он выпорхнул в свет кандидатом экономических наук. А вскоре последовало вполне приличное назначение в Колумбию — вторым секретарем советского посольства. Должность хоть и небольшая, но это всего лишь старт. Как спортсмен, Саша понимал, что побеждает не тот, кто лихо стартует, а тот, кто равномерно проходит всю дистанцию и затем бурно финиширует.
Финиш у него будет действительно бурным и настолько непредсказуемым, что кое-кому за это придется поплатиться не только карьерой, но и погонами. Но до этого еще далеко… Пока что впереди — экзотическая страна, интересная работа, море наслаждений и такие необычные друзья, о которых до этого он читал только в шпионских романах.
В колонии посольских работников его приняли хорошо, дамы сочли Огородника галантным кавалером, а мужчины толковым специалистом и прекрасным партнером по волейболу. Все шло превосходно, пока однажды ему не предложили прогуляться на свежем воздухе.
«Все ясно, — резанула досадная мысль. — Кабинеты могут прослушиваться, а человек из резидентуры КГБ хочет поговорить со мной с глазу на глаз. Вот черт, и здесь не оставят в покое!»
Когда вышли в парк, человек представился сотрудником КГБ Говорухиным, напомнил о контактах Огородника с его коллегами в Москве, сказал, что в Боготе работать с Огородником поручено ему, и поинтересовался его мнением о некоторых работниках посольства.
«Если все сведется к чистой воды стукачеству, то я его переиграю», — улыбнулся про себя Огородник и понес какую-то чепуху о том, что он здесь недавно, что толком никого не знает, а информация, которую рассчитывает получить товарищ Говорухин, требует постоянных наблюдений и серьезного анализа.
— А иностранцы? — спросил Говорухин. — Вы уже со многими познакомились. Какого вы мнения о них? Не заметили ли чего-нибудь такого, что могло бы заинтересовать нас?
— Тут я пока что пас, — теперь уже в открытую улыбнулся Огородник. — Все приветливы, все словоохотливы, но, как только доходит до дела, необходимую информацию приходится вытаскивать чуть ли не клещами. И вообще, у меня такое впечатление, что не столько я изучаю их, сколько они изучают меня, — брякнул в заключение Огородник.
Эта фраза не осталась не замеченной.
— Да-да, Александр Дмитриевич, это вы подметили верно. И наши местные контрагенты, и их северные соседи весьма внимательно присматриваются к каждому новому работнику советского посольства. Так вот и живем, они присматриваются к нам, мы — к ним… Так я на вас рассчитываю?
— Конечно, конечно. Как только, то сразу…
Но никакой путной информации Говорухин так и не получил. В конце концов, от услуг Огородника резидентура решила отказаться. Стукач из него никакой, а вот специалист прекрасный, так что пусть занимается своим делом, ведь что ни говори, а он единственный в посольстве кандидат экономических наук. А тут еще подоспело профсоюзное собрание, и Огородника избрали в состав бюро. Если учесть, что профсоюзным собрание называлось для отвода глаз, а на самом деле было партийным, то избрание Александра в состав партбюро было несомненным признанием его заслуг и как человека, и как специалиста.
К этому времени Огородник окончательно освоился со своей ролью второго секретаря посольства. С утра до вечера он мотался по Боготе, встречался с бизнесменами и деловыми людьми, обсуждал сделки, разрабатывал контракты, а когда жена перестала приставать с вопросами: «Где был?» и «Почему вернулся так поздно?», Александр вышел на тропу любви. Первыми его жертвами стали посольские дамы, которые от скуки и безделья с радостью бросались в объятия симпатичного и чрезвычайно сексапильного мужчины. Многие из них постепенно отсеялись, а вот с Ольгой Серовой, женой одного из работников торгпредства, завязался серьезный роман. Протекал он на виду у всего посольства, но, как это ни странно, ни Огородника, ни Ольгу никто не осуждал. Во-первых, муж Ольги сильно пил, и их брак носил чисто формальный характер. А во-вторых, и на этом особенно сильно настаивали женщины, во всем виновата жена Александра! Надо же до этого додуматься: была армянкой, а решила стать гречанкой. Прямо как у Пушкина: была крестьянкой, а возмечтала стать столбовой дворянкой. Короче говоря, ничего не сказав мужу, разыскала пластического хирурга, который ее армянский нос превратил в греческий.
Мало того что это стоило больших денег, которые она, кстати, не зарабатывала, так ко всему прочему бывшая армянка потеряла весь свой шарм и превратилась в остроносую Бабу-ягу. Так что понять Александра можно, от такой сбежишь и к кикиморе, а Ольга — интеллигентная, образованная и очень миловидная женщина. Через некоторое время они стали встречаться чуть ли не официально: и он, и она заявили, что по возвращении в Москву намерены расторгнуть свои браки и тут же пожениться. «Совет вам да любовь!» — искренне желали не только сотрудники посольства, но даже те дамы, которых Огородник покинул ради Ольги.
Казалось бы, чего еще надо — живи и радуйся! Есть интересная работа, есть любящая женщина, но Огородник словно с цепи сорвался. Он снова начал волочиться за кем ни попадя, затевал краткосрочные романы, увивался чуть ли не за каждой юбкой. Именно в эти дни в его дневнике появилась довольно откровенная и самокритичная запись: «Я постепенно превращаюсь в блудливую собачонку, которая, потеряв голову, носится за сучкой… Я превращаюсь в беспринципного тунеядца и подлеца, становясь тем самым одним из тех, кого всю жизнь презирал».
Огородник и не заметил, как слова, которыми он характеризовал сам себя, стали ходить по коридорам посольства, симпатичный парень и всеобщий любимец буквально на глазах превращался в мерзавца и пошляка. А когда всплыла афера с автомобилем, многие вообще перестали подавать ему руку. Дело в том, что, когда в посольство прибыли новые машины и одну из них закрепили за Огородником, старую решили продать, причем сделать это поручили самому Огороднику. И тут в нем проснулся деляга, причем в самом худшем и самом примитивном смысле этого слова. Машину он продал и деньги в кассу сдал, но при этом провернул такую хитроумную операцию, что в собственный карман положил восемьсот долларов: в 70-х годах прошлого века это были довольно приличные деньги.
Не прошло и месяца, как эта афера всплыла. Разразился страшный скандал. Хапуге Огороднику в посольстве объявили бойкот. Посол вызвал его на ковер, отчитал, как мальчишку, и пригрозил сообщить об этом в Москву. А там церемониться не будут — немедленно отзовут и отдадут под суд. Огородник до смерти перепугался, обещал деньги вернуть, но так как он их уже потратил, то просил немного подождать. Он займет у друзей, влезет в долги, но злосчастные восемьсот долларов непременно вернет. Посол был добрым человеком и пообещал скандал замять. Но деньги надо вернуть, и чем быстрее, тем лучше.
Восемьсот долларов! Это гораздо больше, чем его зарплата. Где их взять? Единственный выход — что-то продать. Но что? И кому? Чем может заинтересовать советский дипломат колумбийского богатея?
Огородник нервно закурил и плеснул себе виски… Стоп, осенило его! Сигареты и виски… Это же выход! Ура, его спасут сигареты и виски! Комбинация, которая пришла ему в голову, была проще простого. В посольском магазине сигареты и виски продают со значительной скидкой. Он закупит партию того и другого, благо, что с продавщицей у него уже кое-что было, и продаст эти коробки в городе. Кому? Он знает кому, владельцу бензоколонки, на которой он всегда заправляется и с которым пару раз выпивал. Сеньор Рохес, увидя его фотоаппарат, как-то намекнул, что, если его постоянный клиент захочет избавиться от надежного русского «Зенита», он охотно его купит.
Через несколько дней канал «советское посольство — колумбийская бензоколонка» заработал с завидной регулярностью. А еще через несколько дней сеньор Рохес, который давно работал на ЦРУ, доложил об этом контакте своим американским хозяевам, которые тут же задокументировали этот факт на видеокамеру. Как выяснилось позже, американцы положили глаз на Огородника чуть ли не с первого дня его пребывания в Колумбии. Они знали и о его неуемном честолюбии, и о бесчисленных романах, и об афере с машиной, и даже о том, что на последнем профсоюзном собрании его не избрали в состав бюро. Это сильно ударило по тщеславию Огородника, не говоря уже о том, что стало первым звонком в деле недоверия излишне ретивому и не очень чистоплотному сотруднику посольства.
Что ж, решили в резидентуре ЦРУ, парень обиделся, считает, что его недооценивают. Все эти удары и тычки — из-за зависти к его талантам и, конечно же, из-за того, что, в отличие от посольских импотентов, он неравнодушен к женщинам и пользуется у них успехом. На этом-то мы и сыграем. Пора выпускать Пилар! Она этого бычка живо обработает.
Пилар… Да, Пилар Суарес Баркала — это сильный ход. Это такое грозное оружие, против которого на нашей грешной земле нет и не может быть никакой защиты. Представьте себе одно из самых совершенных творений природы, одну из самых трепетных и нежных дочерей Венеры. Стройна. Изящна. Поступь легкая, грациозная и волнующе-манящая. Волосы — как смоль. Глаза — бездонный агат. Руки — крылья Одиллии. И голос — это не голос, а тиховейный кастильский ветерок, сдобренный пикантной африканской хрипотцой. О коже — вообще ни слова, потому что мало кто видел золотистый персик, чуть тронутый утренней зарей. А едва сдерживаемый, но брызжущий из глаз огонь испанской аристократки — это как залп «катюши», спастись от него невозможно.
И вот это-то творение то ли Бога, то ли черта выпустили против советского мышиного жеребчика. Обставили все как в лучших домах, с соблюдением дипломатического этикета и правил игры, принятых во всех посольствах. Колумбийский институт культуры разослал в посольства приглашения на открытие выставки «Колумбия вчера и сегодня». От советского посольства на мероприятие были делегированы три человека, в том числе и тот, ради которого все это затевалось. Пилар была одним из организаторов выставки и встречала гостей у входа.
Когда эта изумительная женщина подала руку Огороднику и задержала его руку в своей чуть дольше положенного, тот на весь вечер потерял дар речи. Он, как сомнамбула, не замечая развешанных на стенах фотографий, бродил по залам, почему-то непременно оказываясь там, где щебетала с гостями Пилар. Сам того не замечая, Огородник начал злиться, ревнуя Пилар ко всем находящимся в зале мужчинам. Когда перешли в соседний зал и там подали напитки, Огородник мрачно подумал: «Эх, жаль нет водки! Напиться бы до чертиков и набить кому-нибудь морду».
Но от скандала его спасла… Пилар. Как и было задумано в написанном резидентами ЦРУ сценарии, она подошла к Огороднику, обворожительно улыбнулась и затеяла ничего не значащий разговор о выставке. Потом речь зашла об исторических достопримечательностях Боготы — и тут оказалось, что Огородник еще многого не видел.
— Этот пробел надо ликвидировать, — озабоченно заметила Пилар. — Мне даже как-то странно слышать, что до сих пор никто из местных дам не взял шефство над таким интересным мужчиной и не познакомил его с красотами столицы. Если вы не возражаете, я в меру своих сил постараюсь исправить эту ошибку. Разумеется, если у вас найдется время, — добавила она.
Услышав такой откровенный комплимент и весьма прозрачный намек на возможное свидание, Огородник чуть с ума не сошел. Время у него, конечно, нашлось, о желании и говорить нечего — так что стали они с Пилар встречаться у различных церквей, дворцов и пантеонов, заглядывая после этого в уютные кафе и экзотические ресторанчики. А однажды, сказавшись не совсем здоровой, Пилар отказалась от посещения очередной достопримечательности, предложив вместо этого поужинать вдвоем на недавно арендованной вилле… Как и было задумано, ужин закончился в постели.
Огородник был на седьмом небе от счастья! Ему и в голову не приходило, что каждый его шаг, каждое свидание, каждое посещение бассейна, пляжа или ресторана фиксировалось на видеопленку. В резидентуре ЦРУ считали, что такого рода компромат станет решающим козырем при вербовке Огородника, но, как показало время, компромат не понадобился. Все было гораздо проще.
Однажды, как бы случайно, Пилар познакомила его со своими американскими друзьями, которые уже не один год работали в Колумбии. Сначала просто поболтали, потом вместе выпили, потом американцы предложили Огороднику написать статью для солидного журнала — и пошло-поехало. Ему стали вручать пухлые конверты с гонорарами, при этом подчеркивая, что это пустяки и при желании можно заработать гораздо больше. И вообще, они с Пилар такая замечательная пара. Она — красавица и умница, он — видный мужчина и прекрасный специалист, на Западе им цены бы не было! Они могли бы иметь все — от денег и славы до ранчо и яхты.
Такого рода разговоры велись все чаще, Огородник их не прерывал. И вот однажды друзья Пилар представили ему еще одного друга, который ради знакомства с Александром прилетел из Вашингтона. Этот американец был несколько старше своих земляков и держался, если так можно выразиться, начальственно. Оказалось, что он действительно большой начальник и является одним из руководителей ЦРУ. Этот человек не стал ходить вокруг да около, а сразу взял быка за рога.
— Господин Огородник, — начал он, — ваше имя хорошо известно и в Лэнгли, и в Вашингтоне. Мы давно к вам присматриваемся и считаем, что такой серьезный и недооцененный Москвой интеллектуал, как вы, мог бы внести серьезный вклад в дело борьбы за мир, в дело предотвращения третьей мировой войны. Что бы ни говорили в Кремле, но мы-то знаем, что всему виной агрессивный советский тоталитаризм, который все еще мечтает о победе мировой революции и подталкивает к этому многие страны на самых разных континентах. Пока не поздно, московских мечтателей надо остановить. А чтобы остановить, надо знать их планы, причем в самых тонких и существенных деталях. Нам это трудно, а вам — по плечу. Срок вашей командировки в Колумбию скоро истекает, не сомневаюсь, что по возвращении в Москву вы займете солидный пост на Смоленской площади. И если бы вы согласились делиться с нами внешнеполитической информацией, мы были бы вам очень благодарны, причем не только в твердой валюте. Мы знаем о ваших трогательных отношениях с Пилар и были бы рады со временем видеть вас гражданами США. Я понимаю, что мое предложение несколько неожиданно и вам нужно время на размышление, поэтому…
— Нет-нет, — перебил Огородник. — Размышлять мне о чем. Я готов. Я давно все обдумал. Я готов. Тем более если Пилар будет со мной.
— Она будет с вами. Она будет вас ждать… Спасибо, господин Огородник, — протянул руку вербовщик из Вашингтона. — Я не сомневался, что мы поладим. Вы прекрасный парень. Я сегодня же доложу о нашем разговоре руководству. Кстати, для нас вы отныне не Огородник, а Трианон. Не удивляйтесь, в целях безопасности все наши люди работают под псевдонимами.
С этого дня Огородник стал вести двойную жизнь. Помня о наставлении своих хозяев занять солидный пост на Смоленской площади и понимая, что для этого надо получить хорошую характеристику, он стал работать как вол, выполняя самые сложные и самые ответственные поручения посла. Умерил свой пыл и в отношении посольских дам, хотя отношений с Ольгой не прерывал. Все это было замечено и тут же отмечено.
Ему снова стали подавать руку, приглашать в гости и на семейные торжества. Но больше всего он ликовал, когда его пригласил резидент КГБ и сказал, что решил доверить ему работу курьера спецохраны. Это означало, что Огородник получал доступ к шифротелеграммам и даже к святая святых — комнате шифровальщиков.
Когда об этом узнали в Лэнгли, то пришли в неописуемый восторг. Но чтобы Трианон, не дай бог, не прокололся, запретили как-либо использовать шифротелеграммы. Вместо этого посоветовали не расслабляться и пожелали дальнейших успехов в работе. Им стало известно, что аналитические справки по вопросам экономики, которые готовит Огородник, доходят до Смоленской площади, где их внимательно изучают и очень положительно оценивают. Напомнили ему и о том, что нужно не забывать о зубах и регулярно посещать дантиста.
О дантисте разговор особый. Это была целая акция ЦРУ, разработанная с целью подготовки Огородника как профессионального разведчика. На кабинет зубного врача, расположенный неподалеку от советского посольства, американцы положили глаз давно — в тот день, когда там появился первый русский дипломат. А когда пришли второй и третий, а на счет владелицы кабинета стали поступать деньги из советского посольства, американцы взялись за нее всерьез: завербовали, дали средства на переоборудование кабинета и установили там не только новую бормашину, но и самые современные подслушивающие устройства. И не зря! Как оказалось, в кресле дантиста пациенты из советского посольства были очень разговорчивы и выбалтывали самые пикантные новости.
Но это не все. В том же кабинете американцы оборудовали целый учебный центр, где Огородник проходил шпионскую спецподготовку. Его учили секретам проведения тайниковых операций, методам закладки и изъятия контейнеров с инструкциями и донесениями, закамуфлированных под кирпич или обломок дерева. Расшифровка цифровых радиопередач, фотографирование аппаратами, спрятанными в зажигалку, фломастер или авторучку, — все это тоже входило в программу обучения. Вот так, за два-три месяца, Огородник не только привел в идеальный порядок свои зубы, но и стал профессионально подготовленным американским шпионом.
Между тем срок его заграничной командировки подходил к концу. Посол заверил Огородника, что в Москве его ждет интересная работа, во всяком случае, он для этого сделал все от него зависящее. Пожелал ему успехов и резидент КГБ, не забыв поблагодарить при этом за сотрудничество. Растрепанная и несчастная Пилар рыдала на его груди и клялась быть верной до гроба. Американцы закатили прощальный банкет, напомнили, что во время пересадки в Нью-Йоркском аэропорту ему передадут специально переоборудованный радиоприемник, который сможет принимать предназначенные ему передачи из Западной Германии. Не забудут его и парни из американского посольства в Москве.
Вернувшись в Москву, Огородник прежде всего привел в порядок свои семейные дела: он развелся с Александрой Арутинян, но на Ольге Серовой так и не женился. Как он позже объяснял — просто не успел. Дело в том, что буквально через год Ольга заболела легочной формой гриппа и при довольно странных обстоятельствах умерла. Многие считали, что дело здесь не чисто, а наиболее недоверчивые люди с Лубянки были уверены, что на тот свет Ольгу отправил Огородник, добавляя в таблетки, которыми она лечилась, микроскопические дозы какого-то яда.
Не зря, ох не зря предупреждали американцы своего агента, чтобы он не расслаблялся и бдительности не терял ни на секунду. Дело в том, что люди с Лубянки, работавшие в службе безопасности МИДа, не спускали глаз с Огородника с первого дня его появления в Москве. Все началось еще раньше, в Боготе. Тогда в резидентуру КГБ поступил сигнал от надежного агента, что американцы увиваются вокруг трех работников советского посольства со вполне определенной целью вербовки — в их числе был и Огородник. В Боготе уличить его в чем-либо не удалось, как, впрочем, не удалось уличить и двои других. Но информация ушла на Лубянку, и разработка подозрительной троицы продолжалась в Москве. Дело было настолько серьезным, что о его ходе докладывали руководству КГБ.
После тщательнейшей проверки двое сослуживцев Огородника отсеялись, уж слишком они были мелкотравчаты, да и должностишки занимали мелкие. А вот Огородник работал в мозговом центре министерства — так все называли Управление по планированию внешнеполитических мероприятий. Он имел доступ к самым важным сведениям, работал с самыми секретными документами, ему разрешалось находиться в специальной ознакомительной комнате и читать шифровки. Подключили службу внешнего наблюдения и тут же заметили, что Огородник по вечерам наведывается в парк Победы, поднимает и бросает какие-то камни, а минут через двадцать на тех же дорожках появляется работник американского посольства, установленный сотрудник московской резидентуры ЦРУ, и тоже играет в камешки.
Внесла свою лепту и служба радиоконтрразведки, там зафиксировали появление нового канала связи Франкфуртского радиоцентра ЦРУ. Потом кто-то вспомнил о радиоприемнике, который Огороднику вручили в Нью-Йоркском аэропорту и который он якобы заказал в одном из магазинов. Обратили внимание и на то, что во время франкфуртских передач Огородник, как правило, был дома.
А когда в его квартире сделали скрытый обыск, все стало яснее ясного: нашли и контейнеры с фотопленками, и инструкции резидента ЦРУ, и переделанный радиоприемник, и многое другое. Об этом тут же доложили председателю КГБ Юрию Андропову. После недолгого обсуждения было принято решение об аресте Огородника.
И тут чекисты допустили ляп, за который многим из них пришлось нести серьезную ответственность. Во время ареста и обыска на квартире Огородник сказал, что хочет дать письменные показания. Следователь обрадовался, дал ему бумагу, проверил лежавшие на столе авторучки и одну из них вручил Огороднику. Тот попробовал, сказал, что она плохо пишет, и попросил другую. Ему дали другую. Огородник усмехнулся, нажал на колпачок — и оттуда что-то выскочило, причем прямо в рот. Огородник дернулся, захрипел, изо рта пошла кровавая пена, и он рухнул на пол.
Потерявшие дар речи следователи пытались разжать зубы, делали искусственное дыхание — бесполезно. Вызвали «скорую», привезли в Склиф, но и там ничего сделать не смогли. В четыре часа утра Александра Огородника не стало. Произошло все это 22 июня 1977 года. Знаменательное совпадение: именно в этот день и час тридцать шесть лет назад на наши города упали первые фашистские бомбы.
Так закончилась операция «Агроном», но тут же началась другая, под названием «Сетунь». Впрочем, ее детали хорошо известны из довольно популярного фильма «ТАСС уполномочен заявить…». То, что американцы не знали о смерти Огородника и им подставили загримированного под него сотрудника КГБ, — это истинная правда. И то, что таким образом удалось выманить на встречу с Трианоном вице-консула американского посольства, а на самом деле профессиональную разведчицу (в фильме она превратилась в мужчину) Марту Петерсон, тоже правда. Задержали ее на Краснолужском мосту в районе Новодевичьего монастыря, доставили в приемную КГБ, обыскали, нашли послание для Трианона, а также деньги, кольца, кулоны, браслеты и… контейнер с ядом. Так как Марта пользовалась статусом дипломатической неприкосновенности, ее отпустили, объявили персоной нон грата и выслали из страны.
Но на этом история с Огородником не закончилась. Судя по всему, американцам и в голову не могло прийти, что Огородник покончил с собой, и бедная Пилар стала неформальной вдовой. «В худшем случае он арестован, — думали в Вашингтоне. — А раз так, есть возможность его спасти. В конце концов, Трианона можно обменять на какого-нибудь русского, которого ничего не стоит задержать за недозволенную деятельность на территории США».
О том, как высоко ценили Трианона в Вашингтоне, можно судить по такому многозначительному факту. Однажды во время беседы с советским послом государственный секретарь США Генри Киссинджер, несколько понизив голос, спросил, нельзя ли получить какую-либо информацию об Александре Огороднике, само собой разумеется, с целью участия в решении его дальнейшей судьбы. Посол пообещал связаться с Москвой… Ответ не заставил себя ждать: «Об Огороднике речь может идти только в прошедшем времени».
Как ни грустно об этом говорить, пример Огородника не стал другим наукой. Предательства среди дипломатов продолжались…
ТАЙНЫЙ ФАВОРИТ ЗАБЫВЧИВОГО ШЕФА
Что бы там ни говорили диссиденты и всякого рода борцы за свободу совести и права человека, предательство есть предательство. Иуды нигде и никогда не были в чести, ибо даже самые заинтересованные в количестве изменников лица прекрасно понимают, что единожды предавший, как и единожды солгавший, без каких-либо зазрений совести пойдет на предательство во второй, третий или пятый раз. Лишь бы платили, причем неважно чем, деньгами, должностями или паспортом заинтересованной в его услугах страны.
Александр Огородник успел воспользоваться только деньгами, а вот Аркадий Шевченко, занимавший куда более высокий пост, сумел получить и деньги, и паспорт. Правда, хватило ему этого паспорта всего на двадцать лет. Весной 1978-го Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, заместитель Генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко попросил политического убежища в США, а весной 1998-го его труп обнаружили в одном из пригородов Вашингтона, где он жил в полном одиночестве и умер, как уверяла американская печать, «от безнравственного и аморального образа жизни». То, что Шевченко много пил, ни для кого не было секретом еще в годы его работы в МИДе, а вот его амурные похождения стали достоянием уже американской печати. И то и другое можно было простить гражданину Советской России, но никак не гражданину США.
Самое же удивительное — оказалось, что предателя Шевченко взрастил и вскормил не кто иной, как многолетний и бессменный министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко. Сам он, правда, это отрицал, заявив с экранов тогда еще Центрального телевидения, что дипломата в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла по фамилии Шевченко он не знает. А что касается того, что тот якобы довольно долго был его помощником и даже личным представителем, то такого рода помощников у него много и упомнить их всех он просто не может. Вот так-то! Никогда нельзя забывать, что дружба с властями предержащими никогда не бывает искренней: как только вы становитесь «бревном в глазу», вас тут же забывают и от дружбы отрекаются.
Дело прошлое, но Андрея Андреевича Громыко подвела не столько память, сколько привычка к безнаказанности. Всплыла кинохроника, где он рядом с Шевченко, замелькали фотографии, на которых хорошо видно, как в домашней обстановке общаются не только министр со своим помощником, но и их жены — Лидия Дмитриевна Громыко и Ленгина Шевченко. А несколько позже выяснилась еще одна пикантная деталь: оказывается, этих дам связывали не только узы дружбы, но и весьма тесные деловые отношения. Живя вместе с мужем в Нью-Йорке, Ленгина скупала по дешевке шубы, дубленки и всевозможный антиквариат, переправляла все это в Москву, а Лидия Дмитриевна перепродавала знакомым дамам или попросту сдавала в комиссионку.
Но как простой парнишка из Евпатории, с трудом поступивший в МГИМО и едва сводивший концы с концами на студенческую стипендию, смог, не боюсь этого слова, втереться в семью всемогущего министра и члена Политбюро ЦК КПСС? Для начала Аркадий решил квартирно-материальные проблемы. Как? Как все честолюбивые провинциалы: женился на москвичке, да еще на такой, родители которой работали за границей. Энергичная теща тут же наладила канал, по которому непрерывным потоком шли посылки с заграничным тряпьем, а молодые реализовывали его среди знакомых. Деньги у Аркадия появились. Но что деньги? Надо делать карьеру! И Аркадий засел за книги… По окончании института его сокурсники из семей руководящих работников разъехались по посольствам, а дальновидный Шевченко, смекнув, что диплом кандидата наук может стать хорошим подспорьем в будущей карьере, поступил в аспирантуру.
Тему он выбрал по тем временам совершенно новую, но чрезвычайно актуальную: «Разоружение после холодной войны». На дворе начало 60-х, за окном буйствует хрущевская оттепель, все больше трещин в железном занавесе, все больше контактов руководителей Советского Союза с президентами и премьер-министрами самых разных стран, все чаще заходит речь о запрещении атомного оружия, а иногда о его полном уничтожении. Так что с темой диссертации Шевченко попал в «десятку».
Но тогда же этой темой заинтересовался еще один человек, сын Андрея Громыко Анатолий. На каком-то этапе их интересы не только пересеклись, но и совпали. Они написали совместную статью для журнала «Международная жизнь», как тогда было принято, подписали ее псевдонимами, и, чтобы статья не пропала втуне, Анатолий решил получить благословение отца. Далее события развивались феерически! В последний момент Анатолий решил захватить с собой и соавтора. Статья всемогущему министру понравилась. Понравился ему и скромный, непритязательный соавтор. Больше того, Громыко по-отечески порекомендовал ему сочетать научную деятельность с практической работой в области дипломатии.
Шевченко не преминул последовать этому совету. Уже через год он работал в МИДе, стал третьим секретарем, готовил документы для дипломатов и политиков, участвовавших в международных конференциях по разоружению и запрещению ядерных испытаний. А вскоре последовали и зарубежные командировки — сначала кратковременные, а потом и на два-три месяца. Его даже взяли в качестве эксперта советской делегации на скандально известную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ту самую, на которой Хрущев стучал ботинком по трибуне и грозился показать американцам, где живет кузькина мать.
То, что произошло дальше, одних удивило, других заставило крепко задуматься и изменить свое отношение к Шевченко со снисходительного на заискивающе-дружелюбное: Аркадия назначили первым секретарем Представительства СССР при ООН, а это без могущественного покровителя, или, как тогда говорили, мохнатой лапы, невозможно. Летом 1963-го Аркадий вместе с женой, дочерью и сыном отбыли в Нью-Йорк. Глава семейства окунулся в дела, а его предприимчивая половина не вылезала из магазинов, скупая всевозможное барахло и отправляя его закадычной подруге Лидии Дмитриевне Громыко. Это не прошло незамеченным! Ночная кукушка сделала свое дело — и Аркадия повысили в должности, назначив руководителем политического отдела Представительства СССР при ООН.
Все шло прекрасно, пока не грянул октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 года, снявший со всех должностей Никиту Хрущева. Все понимали, что пришедший к власти Брежнев устроит основательную перетряску и вышвырнет из министерских кресел наиболее одиозных соратников Хрущева. На кого другого Шевченко было наплевать, а вот его тайный покровитель, его ангел-хранитель, уцелеет ли он?! И если не уцелеет, то не пора ли переметнуться? Но к кому? Кто займет его кресло? От кого будет зависеть дальнейшая карьера?
Шевченко заметался! Он писал письма, звонил московским друзьям, отправлял телеграммы, пытаясь узнать, что творится в высотке на Смоленской площади… Как это часто бывает, благая весть пришла, как тогда говорили, из неофициального источника. Нежданно-негаданно позвонила Лидия Дмитриевна, передала привет от мужа и прозрачно намекнула на то, что заокеанские друзья совсем ее забыли, а скоро Новый год, и вообще… Ленгина все поняла и тут же принялась собирать посылку, тем более что Аркадия вызвали в Москву, его включили в состав группы, занимавшейся подготовкой визита президента Франции де Голля. Визит прошел прекрасно, были подписаны взаимовыгодные соглашения, но, самое главное, Аркадий побывал в кабинете Брежнева и удостоился его личной благодарности.
В Нью-Йорк он вернулся триумфатором! А вскоре грянула шестидневная арабо-израильская война, потом для встречи с президентом Джонсоном приехал Косыгин, потом бесконечные переговоры о нераспространении ядерного оружия — все это было в сфере деятельности Шевченко, и он не заметил, как подошел конец его командировки в Америку. Возвращаться, конечно же, не хотелось, правда, утешало то, что он получил ранг Чрезвьиайного и Полномочного Посла и весьма солидную должность, можно сказать, правой руки шефа.
Три года Шевченко жил и работал бок о бок с Громыко. Он сопровождал его во всех поездках, писал для него доклады, составлял тексты речей, в качестве личного представителя неоднократно летал в страны Африки и на Ближний Восток, координировал подготовку договора о ликвидации химического и биологического оружия, иначе говоря, ни одна более или менее значительная акция МИДа не проходила мимо Шевченко. А потом Громыко предложил ему снова отправиться в Нью-Йорк, на этот раз в качестве заместителя Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма.
Надо ли говорить, как обрадовался этому назначению Шевченко! На радостях он закатил такую «отвальную», что только в самолете пришел в себя. Полет проходил нормально, Ленгина на седьмом небе от счастья, виски наливают по потребности, но что-то не давало покоя, какая-то скверная мысль сверлила мозг, отравляя безмятежное блаженство. После третьего стакана скверная мысль обрела зловещее очертание, причем настолько зловещее, что Аркадий мгновенно протрезвел.
«КГБ — всего три буквы, но какие же они страшные! Еще не родился человек, который бы без опаски посещал учреждение с названием из этих букв, — думал Аркадий. — А меня вызвали на Лубянку якобы для того, чтобы показать две анонимки. Во-первых, анонимки никогда и никому не показывают. А во-вторых, там полнейшая чушь. Никакой взятки я не брал и никакой Тамаре уехать за границу не помогал. Что же касается стяжательства и нездорового образа жизни, то это явный наезд на Ленгину и… даже страшно подумать на кого. Увлеклись девочки, слишком увлеклись, — покосился он на жену. — Надо будет попросить, чтобы разобрались, где в их бизнесе образовалась утечка информации. И хотя генерал заверил, что лично ко мне никаких претензий нет, тем не менее намекнул, что кому-то я наступил на мозоль и этот “кто-то” глаз с меня не спускает. Возникает вопрос, не с Лубянки ли этот “кто-то” и не хотят ли через меня добраться до самого шефа? Тогда зачем предупредили? А затем что не любят своего шефа, — нашел он ответ, — и хотят подстраховаться, зная, что их шефу Брежнев не симпатизирует, а с моим дружит. И что же из этого следует? А то, что без лонжи, то бишь без страховки, работать нельзя, тем более на такой высоте, на какой оказался я. Значит, надо думать, где раздобыть надежную лонжу. Впрочем, все еще только начинается… Так что время у меня есть. Что-нибудь придумаю». И он придумал… Ничего оригинального в его идее не было, кроме того, что если раньше ЦРУ разрабатывало хитроумные комбинации, чтобы склонить дипломатов к измене, то Шевченко предложил свои услуги сам. Для начала он попросил одного знакомого американца позондировать почву относительно возможности получения политического убежища в США. Тот пообещал узнать. А вскоре из Лэнгли прибыл высокопоставленный сотрудник ЦРУ, который дал понять, что гражданство США просто так не дается, его надо заслужить. Шевченко все понял и начал передавать человеку по фамилии Джонсон секретные шифротелеграммы, важнейшие доклады и даже информацию о советских сотрудниках, которые могли бы представлять интерес для ЦРУ.
Время от времени он вспоминал напутствие генерала с Лубянки, но теперь, когда у него была надежная лонжа, на московское руководство, по большому счету, Аркадию было наплевать. Еще больше он убедился в собственной безнаказанности, когда во время отпуска приехал в Москву и вместе с Вальдхаймом попал на прием к Брежневу.
Беда пришла оттуда, откуда он ее не ждал. Его вызвали в так называемый профком (на самом деле он был парткомом) и заявили, что коллектив поведение Шевченко осуждает, что его неявки на собрания воспринимаются негативно, что его неучастие в общественной жизни советской колонии носит вызывающий характер, что, если он не сделает правильных выводов, ему придется держать ответ на общем собрании…
Это был первый звонок! Второй последовал через несколько дней, когда его срочной телеграммой вызвали в Москву для консультаций в связи с предстоящей сессией Генеральной Ассамблеи ООН.
«Какие консультации?! — заметался он. — О чем речь?! Ведь все документы, касающиеся позиции СССР по вопросам разоружения, давно утверждены, и не где-нибудь, а в Кремле! Значит, это ловушка. Значит, вызывают меня только для того, чтобы арестовать. Но как они пронюхали о моих связях с ЦРУ? Неужели “крот”, неужели у КГБ есть свой человек в аппарате ЦРУ? Тогда — конец. Тогда самое время, как говорят блатные, рвать когти! Стоп, не суетись, — оборвал он сам себя. — Это я всегда успею. Сперва надо кое-что выяснить. Вчера из Москвы прилетел один человечек, который мне кое-чем обязан и который в курсе подковерной жизни МИДа. Приглашу-ка его на ланч, глядишь, за рюмкой кое-что и прояснится».
Когда хорошенько выпили и потянуло на песни, Шевченко пожаловался на тяготы заграничной жизни и с деланой радостью сообщил, что скоро этому конец, так как его вызывают в Москву.
— Зачем? — удивился приятель.
— Для консультаций.
— Каких еще консультаций?
— О позиции нашей делегации на сессии Генассамблеи.
— Да ты что, Аркаша?! О какой позиции речь, если все выступления и доклады давным-давно написаны и утверждены?! Уж я-то знаю!
— Так зачем же меня вызывают?
— Чего не знаю, того не знаю… Хотя ты же сам однажды говорил, что просил шефа назначить тебя послом в какую-нибудь приличную страну. Может быть, он созрел и хочет предложить что-нибудь конкретное?
Шевченко вспомнил, что такой разговор действительно был, но очень давно. К тому же, насколько ему известно, сколько-нибудь приличных вакансий сейчас нет ни в Европе, ни в Америке, а в Африку или Азию он не поедет. «Нет, на эту удочку я не попадусь», — решил он для себя и в тот же вечер позвонил Джонсону.
Встреча состоялась на конспиративной квартире, расположенной в том же доме, где жил Шевченко. Когда он рассказал о выволочке, полученной в парткоме, о вызове в Москву и особенно о беседе с московским приятелем, стало ясно, что в КГБ что-то заподозрили и сели на хвост Шевченко.
— Надо уходить! — настаивал Шевченко. — Вы обещали дать мне политическое убежище.
— Уходить так уходить, — согласился Джонсон. — Но тогда не завтра, а прямо сейчас.
— Хорошо. Только попрощаюсь с женой.
— А вот этого не надо. Кто знает, как она себя поведет? Позвоните утром, расскажете все как есть, а потом мы ее привезем к вам.
— Ладно, договорились. Но домой я все же сбегаю, надо захватить кое-какие бумаги.
Через несколько минут Шевченко спустился вниз, сел в поджидавшую его машину и… исчез. А утром, не обнаружив Аркадия, Ленгина позвонила в советское представительство при ООН и сообщила об исчезновении мужа. Об этом тут же информировали МИД и КГБ СССР. В Москве не исключали провокации и похищения высокопоставленного советского чиновника. Ленгину ближайшим рейсом «Аэрофлота» отправили в Москву. Отозвали из Швейцарии работавшего там их сына Геннадия. В газетах напечатали официальное сообщение о том, что «жертвой происков американских спецслужб стал аккредитованный при ООН советский дипломат А. Шевченко» и что наши компетентные органы принимают меры по его освобождению.
Такие меры действительно были предприняты, правда, не без помощи американцев. Они пошли даже на то, что организовали встречу Шевченко с советским послом Добрыниным и представителем в ООН Трояновским. Не помогло, Шевченко наотрез отказался возвращаться в Москву.
В Москве же события развивались по довольно банальному сценарию. Лидия Дмитриевна общаться с Ленгиной отказалась, отвернулись от нее и другие подруги. Пыталась пробиться к самому Громыко, куда там, ее и на порог не пустили. Тем временем ее открепили и от правительственной поликлиники, и от Елисеевского гастронома, а на квартире устроили обыск. Сотрудники КГБ надеялись найти какой-нибудь компромат политического характера, а натыкались на бесчисленные чемоданы, коробки и сумки, набитые импортным тряпьем. Чуть позже эти коробки сыграют, как это ни странно, роковую роль в судьбе Ленгины.
Все началось с того, что чуть ли не на каждом углу она стала говорить, что вот-вот покончит жизнь самоубийством. Этот вопрос она обсуждала даже с матерью, которая как следует ее отругала и запретила даже думать о таком безбожном поступке. Но вскоре после первомайских праздников Ленгина исчезла, оставив адресованную дочери записку: «Дорогой Анютик! Я не могла поступить иначе. Жаль, что мама не позволила мне умереть дома».
Где ее только не искали — и на свалках, и за городом, и даже в Москве-реке! Как ни трудно в это поверить, нашел ее сын Геннадий, и не где-нибудь, а в родительской квартире на Фрунзенской набережной. По словам сотрудника КГБ, который занимался этим делом, через неделю после исчезновения матери Геннадий заглянул на Фрунзенскую набережную и был поражен исходившим откуда-то сладковато-трупным запахом.
Вызвал милицию, те — сотрудника КГБ. И вот что они увидели: труп Ленгины лежал в кладовке, заваленный коробками и чемоданами с барахлом. Все стало яснее ясного. Как оказалось, Ленгина приняла большую дозу снотворного, почувствовав дурноту, прислонилась к дверце кладовки, которая тут же распахнулась. Она упала вовнутрь, дверца закрылась, а сверху посыпались те самые коробки, закрыв еще живую Ленгину. Правда, вскрытие показало, что спасти ее все равно бы не удалось — слишком велика была доза снотворного.
А ее муж жил. Жил еще целых двадцать лет. И вот ведь как бывает, труп матери обнаружил сын, а труп отца — дочь, которая приехала к нему, обеспокоенная тем, что он несколько дней не отвечал на телефонные звонки. Как я уже говорил, американская печать мимо этого факта не прошла, процедив сквозь зубы о бесславной и угрюмой смерти бывшего советского дипломата. Что ж, иуды нигде и никогда не были в чести. И это правильно!
ГОЛГОФА КРАСНЫХ ДИПЛОМАТОВ
До Октября 1917-го красными называли всех революционно настроенных людей, а вот после того, как к власти пришли большевики, красным мог быть только тот, кто связан с советским строем; иначе говоря, красный — это значит советский. Так что красными были все: красные профессора, красные директора, красные дипломаты. Были даже красные графы и красные князья — это те, кто не сумел сбежать за границу и был вынужден работать на советскую власть.
Что касается красных дипломатов, то после переезда правительства в Москву первое время они работали на Спиридоновке и Малой Никитской, а потом перебрались в гостиницу «Метрополь». Три года они работали в гостиничных номерах и лишь осенью 1921-го заняли хорошо известное здание на Кузнецком Мосту. К этому времени в Народном комиссариате иностранных дел числилось более 1200 сотрудников. Забавная деталь! Как раз в это время красные дипломаты начали выезжать за границу, в том числе и на Генуэзскую конференцию, а одеты они были кто во что горазд — в косоворотки, кожанки или потертые пиджачки. А по протоколу они должны быть облачены в смокинги и фраки. Сохранилась любопытная фотография той поры: на фасаде НКИДа красуется непривьшно броская вывеска: «И.К. Журкевич».
Думаете, это фамилия наркома или какого-нибудь партийного деятеля? Ничуть не бывало! Журкевич — это фамилия портного, который прямо в здании НКИДа открыл свою мастерскую и обшивал отбывающих за границу красных дипломатов. Этот портной был настолько известен, что даже попал на страницы «Золотого теленка». С присущей им лихостью Ильф и Петров писали: «Над городом стоял крик лихачей, и в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов».
С этим домом связаны и первые победы советской дипломатии, и горькие поражения, и, что самое страшное, чудовищные сталинские репрессии. Более двухсот уникальных специалистов, иначе говоря, цвет советской дипломатии, в 30–40-х годах прошлого века были уничтожены так называемыми «соседями» (НКВД — прямо через дорогу). По воспоминаниям ветеранов, по пустым коридорам НКИДа буквально гулял ветер. Красные палачи с Лубянки расстреливали всех — послов и консулов, машинисток и шоферов, поваров и дипкурьеров, секретарей и заместителей наркома. Все они были объявлены либо врагами народа, либо заговорщиками, либо шпионами невесть каких государств.
А ведь эти «враги» внесли такой неоценимый вклад в дело международного признания Советского Союза, что плоды их деятельности мы пожинаем до сих пор. Я расскажу о некоторых из них, о тех, чьи имена на долгие годы были преданы забвению и лишь теперь в коридорах МИДа звучат с величайшим уважением.
Не обойтись нам и без рассказа о довольно щепетильных акциях, проведенных «соседями» совместно с дипломатами. Ведь люди с Лубянки рассматривали внешнеполитическое ведомство как одно из своих подразделений и довольно часто работали под крышей посольств, консульств и других заграничных учреждений. Но если дипломаты, затевая какую-нибудь хитроумную игру, всегда согласовывали ее с «соседями», то чекисты о своих делах дипломатов, как правило, не извещали и, если хотели арестовать Карахана, Сокольникова или Крестинского, в известность никого не ставили: просто заталкивали людей в «воронок», иногда для видимости судили, а потом расстреливали.
ОТ БРЕСТА ДО СТАМБУЛА
Передо мной выписка из уголовного дела заместителя наркома иностранных дел Льва Михайловича Карахана. Вот что там говорится: «Карахан Л.М. признан виновным в том, что он с 1934 года являлся участником антисоветского заговора правых, в который был завербован Ягодой (он же Иегуда Енох Гершенович, нарком внутренних дел, расстрелян в 1938 году. — Б. С), по поручению заговора вел переговоры с представителями германского Генерального штаба об оказании заговору вооруженной помощи со стороны Германии. Кроме того, с 1927 года являлся агентом германской разведки, которой передал ряд секретных сведений о решениях директивных органов по вопросам внешней политики советского правительства.
Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 20 сентября 1937 года осужден по ст. 58–1а и 58–11 УК РСФСР к расстрелу».
Так кем же был на самом деле «заговорщик» и «шпион» Лев Михайлович Карахан (он же Леон Михайлович Караханян)? Родился он в Тифлисе в довольно обеспеченной и благополучной семье армянского адвоката. Идти бы ему по стопам отца, и прожил бы он не сорок восемь, а, быть может, сто лет, так нет же, начитался книжек про свободу, равенство и братство и решил бороться за счастье угнетенного народа. Пятнадцатилетним гимназистом вступил в РСДРП — и пошло-поехало. Из гимназии его исключили, а когда, сдав экстерном экзамены за гимназический курс, с великим трудом получил аттестат зрелости и поступил на юрфак Петербургского университета, со второго курса вышибли и оттуда. Потом были аресты, ссылки, жизнь под надзором полиции — словом, все, что положено борцу за счастье простого народа.
Как бы то ни было, но надо признать, что при большевиках Карахан карьеру сделал отменную: в 1917-м он один из руководителей штурма Зимнего, ав1918-мв составе советской делегации выезжает в Брест и участвует в подписании грабительского мира с Германией. Брестский мир заключили в марте, а в мае Лев Карахан становится заместителем наркома иностранных дел. Тифлисскому армянину всего-то 29 лет, а он уже замнаркома — это ли не блестящая карьера?! Его непосредственный начальник нарком Чичерин в таком восторге от своего заместителя, что пишет Ленину сверхположительную аттестацию на Карахана: «Я могу смело сказать, что наша борьба с затопляющей нас страшно ответственной политической работой за последние месяцы при развитии сношений с массой государств была героической. Мы в состоянии с этим справиться только потому, что я с тов. Караханом абсолютно спелись, так что на полуслове друг друга понимаем без траты времени на рассуждения… В общем и целом у меня более общая политическая работа, у него же море деталей, с которыми он может справиться только благодаря своей замечательной способности быстро и легко ориентироваться в делах и схватывать их, своему ясному здравому смыслу и своему замечательному политическому чутью, делающему его исключительно незаменимым в этой области».
Ленин тоже проникся особым доверием к Карахану, многие документы Ильич подписывал лишь после того, когда на них свою визу ставил Карахан. Так было до 1923 года, когда Карахана направили в Южный Китай, где было создано демократическое правительство во главе с Сунь Ятсеном, убежденным сторонником сотрудничества с Советской Россией. Правда, до этого Лев Михайлович успел побывать полпредом в Польше, а в период Генуэзской конференции, когда Чичерина не было в Москве, Карахан исполнял обязанности наркома. Учитывая то, что в Северном Китае, то есть в Пекине, заседало совсем другое правительство, которое не разделяло взглядов Сунь Ятсена, задачей Карахана было не только установить дипломатические отношения с Южным Китаем, но и способствовать победе Сунь Ятсена во всем Китае. Не случайно же почти одновременно с Караханом в Южный Китай отправилась группа военных советников во главе о Блюхером и Путной (через 15 лет все они будут расстреляны как шпионы и враги народа). Да и два миллиона долларов, направленные из голодающей России просоветски настроенным китайцам, тоже чего-то стоили.
Все это возымело свое действие, и в одном из первых сообщений в Москву Карахан пишет: «Нет ни одной китайской газеты, которая не приветствовала бы моего приезда и не требовала бы немедленного урегулирования отношений с нами».
Газеты — газетами, но переговоры с Пекином по-прежнему шли ни шатко ни валко. И хотя в Москве и Пекине находились дипломатические представители обеих стран, Пекин упорно не признавал Советского Союза. Карахан неделями не выходил из дома, к нему никто не приходил, телефон молчал, почту не приносили. От нечего делать Лев Михайлович занялся английским, да так успешно, что в одном из писем с гордостью сообщил: «Месяца через два смогу читать газеты, а это главное». Когда же пришла весть о кончине Ленина, Карахан написал: «Было чувство, что умер родной отец, самый близкий человек».
Потом Лев Михайлович перебрался в Пекин. А вскоре возобновились переговоры, которые привели к подписанию соглашения с Китайской республикой, которое предусматривало установление дипломатических и консульских отношений. Карахан ликовал! «Одна гора свалилась с плеч, — сообщал он 2 июня 1924 года. — Подписал соглашение с Китаем, на этот раз окончательно. Дьявольски трудно было добиться результатов. Весь дипломатический корпус делал все, чтобы сорвать дело. Но удалось провести всех. Для дипломатического квартала — это разорвавшаяся бомба. Я рад этому больше всего».
Так Лев Михайлович стал послом, а затем и дуайеном[2] дипломатического корпуса в Пекине.
Справившись с одним делом, Лев Михайлович тут же берется за другое: наладить дипломатические отношения между СССР и Японией. Переговоры с японским посланником Иосидзавой шли очень туго, главным препятствием было нежелание японцев выводить свои войска с Северного, а проще говоря, Советского Сахалина. Но Карахан, почувствовав слабину Иосидзавы, давил на него изо всех сил. «Последние два дня у меня большое оживление с японцами, — писал наш дипломат. — Заседания два раза в день. Сидим по четыре часа подряд. Утомительно, но я гоню вовсю. Японцы с непривычки к концу заседания начинают заметно пухнуть. Но это только весело и полезно для дела».
Для дела это действительно было полезно — и в январе 1925 года СССР и Япония заключили Конвенцию об установлении дипломатических и консульских отношений. Больше того, японцы обязались в течение четырех месяцев вывести войска с Северного Сахалина, а Советский Союз не возражал против предоставления японцам концессий на разработку минеральных и лесных богатств на севере Сахалина.
«Исторические заслуги Л.M. Карахана перед СССР пополняются блестящими страницами его дипломатических работ и переговоров с Японией, — писала выходящая в Харбине газета “Новости жизни”. — За этот мир с нашими великими соседями история отметит на своих страницах блестящую роль дипломатического ума и такта Л.М. Карахана».
В Китае той поры было очень неспокойно, перевороты, заговоры, свержения одних правительств, приход к власти других. Был случай, когда Карахану объявили, что правительство не отвечает за его личную безопасность, но Лев Михайлович не дрогнул и продолжал исполнять свои обязанности полпреда.
Так продолжалось до сентября 1926 года, когда Карахана отозвали в Москву, формальным поводом был долгожданный отпуск. Но в Китай Лев Михайлович больше не вернулся. В Москве он занял свой прежний пост заместителя наркома, отвечающего за отношения СССР со странами Востока. В эти годы он наносил официальные визиты в Турцию, Иран, Монголию, а в 1934-м был назначен полпредом СССР в Турции. Когда его успел завербовать тогдашний нарком внутренних дел Ягода, как он стал участником антисоветского заговора правых и тем более как стал агентом германской разведки, история умалчивает, да и в уголовном деле каких-либо доказательств этих преступных деяний нет. Чем Карахан не потрафил Сталину, одному богу ведомо, но то, что без его личного указания известного во всем мире дипломата никто не посмел бы и пальцем тронуть, по-моему, не вызывающий сомнений факт.
И вот что еще любопытно. Жены врагов народа в те годы рассматривались либо как существа, отравленные тлетворным влиянием своих супругов, либо, что еще хуже, знавшие, чем занимаются их мужья, и не сообщившие об этом в компетентные органы — это называлось недоносительством. Наказание за это следовало незамедлительно: самое мягкое — семь-восемь лет Колымы или Воркуты, самое жесткое — расстрел. Так вот жен Карахана почему-то не тронули. Ни Клавдию Манаеву, на которой он женился еще до революции, ни довольно популярную театральную киноактрису Веру Дженееву, к которой он ушел в 1919-м, ни известнейшую балерину Марину Семенову, которая стала его женой в 1930-м.
Реабилитировали Льва Михайловича Карахана лишь в 1956-м. С тех пор он чист — чист перед историей, чист перед страной, чист перед российской дипломатией.
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЖЕНЩИНЫ
Я уже упоминал о так называемых «соседях» красных дипломатов, то есть чекистах, которые зачастую работали под крышей полпредств и, само собой разумеется, с дипломатическими паспортами. Первым из них был Яков Давтян, сын зажиточного армянского коммерсанта, а впоследствии известный советский дипломат, полпред и… первый начальник Иностранного, то есть разведывательного, отдела ВЧК.
А все началось с того, что, будучи петербургским студентом, в 1905 году он вступил в РСДРП, активно участвовал в недозволенной политической деятельности, за что был отчислен, арестован и заточен в тюрьму. Освободившись, Давтян уехал в Бельгию, где получил диплом инженера. В разгар Первой мировой войны он ухитрился добраться до России, но на фронт не попал: Давтяна включили в состав миссии Российского Красного Креста и отправили в Париж. Там-то он и познакомился с небезызвестной Инессой Арманд, которая сыграла большую роль не только в жизни Ленина, но и в жизни Давтяна. Но об этом позже…
В одном из архивов сохранился любопытный документ, который в максимально сжатой форме говорит о том, чем занимался Давтян во Франции.
«Удостоверение
Дано сие Центральным Комитетом Российского общества Красного Креста Якову Давтяну в том, что он является членом миссии Российского общества Красного Креста в Международной комиссии попечения о русских воинах во Франции. Просьба оказывать Я. Давтяну возможное содействие в исполнении возложенных на него обязанностей».
Примерно тем же занималась Инесса Арманд. На этой почве они и познакомились.
Напомню, что в начале Первой мировой войны Франции приходилось очень туго — поражение следовало за поражением, и людские потери были огромны. Пополнять полуразбитые полки и бригады было и некем, и нечем. И тогда французский президент ударил челом русскому царю и попросил прислать в его распоряжение 400 тысяч русских солдат. Царь уважил просьбу президента и послал ему не 400 тысяч, а 44 тысячи русских солдат. Сперва их везли в теплушках через всю Сибирь до Владивостока, а потом морем до Бреста и Марселя. Им тут же выдали французское оружие, разбили на четыре бригады и бросили в бой. Сражались русские бригады храбро, но потери несли огромные, на полях Франции полегло более трети личного состава.
После Февральской революции русские солдаты потребовали отправки на родину, но французское командование не желало оголять фланги. Тогда русские бригады подняли восстание! По ним открыли артиллерийский огонь. После пятидневного обстрела, когда было убито несколько сот человек, восстание было подавлено. Часть солдат бросили в тюрьмы, а часть отправили на каторжные работы в Северную Африку.
В этой-то непростой ситуации Яков Давтян и Инесса Арманд занялись освобождением солдат из тюрем и возвращением их на родину. В ход шло все — уговоры, обещания, а иногда и подкуп. Как бы то ни было, к маю 1919-го подавляющее большинство членов французского экспедиционного корпуса были дома.
Вернулся на родину и Давтян. Почувствовав вкус ко всякого рода переговорам и уговорам, он обратился в ЦК о просьбой об устройстве на работу «с учетом его зарубежного опыта». Давтян рассчитывал занять какой-нибудь дипломатический пост, а ему выдали кожанку, маузер и снабдили грозным мандатом: «Тов. Давтяну поручается восстановление порядка в районе Киевского железнодорожного узла, прекращение бесчинств войсковых эшелонов, задержание дезертиров, выселение из вагонов всех лиц, коим по штатам пользование ими не положено. Тов. Давтян имеет право ареста с последующим преданием суду состоящего при нем Реввоентрибунала всех, не подчиняющихся его распоряжению, право пользования прямыми проводами, телефонным, телеграфным, право проезда в любом поезде и пользование отдельным паровозом».
Как часто Давтян пользовался этим мандатом и вытаскивал ли из кобуры маузер, история умалчивает, но порядок на Киевском железнодорожном узле был наведен. Только-только Яков Христофорович втянулся в новое для него дело, как его срочно отозвали в Москву и направили на работу в Народный комиссариат иностранных дел, и не кем-нибудь, а заведующим отделом Прибалтийских стран и Польши.
Не прошло и нескольких месяцев, как на него, если так можно выразиться, положил глаз могущественный глава ВЧК Дзержинский. А «напела» ему о Давтяне Инесса Арманд. Вот как это было. Однажды после продолжительного ночного заседания Совнаркома она шла по коридору бок о бок с Дзержинским. Они были так увлечены незавершенным обсуждением какого-то важного вопроса, что не заметили, как много народу их обгоняет. И вдруг они почти одновременно прильнули к окну!
— Боже мой! — как-то по-бабьи ойкнула Инесса. — Вы посмотрите. Нет, вы только посмотрите! — тормошила она Дзержинского. — Это же не восход, а что-то непостижимое, божественное. Оранжевая середина, зеленоватые края и пурпурные лучи. Я такой восход видела только раз в жизни. И знаете где? В Поронине. Тогда мы с Владимиром Ильичом много гуляли, лазали по горам и даже создали «партию прогулистов». И вот однажды на рассвете увидели нечто подобное, — кивнула она за окно. — Красота-а-а…
— Не красота, а красотища! — теребя бородку, мечтательно улыбнулся Дзержинский. — А я такой рассвет видел в Сибири. Меня туда сослали на вечное поселение, но мне сибирский климат не понравился, и я оттуда бежал. И вот однажды ночью у костра… Мой проводник услышал подозрительный шорох, и огонь быстренько затоптал. Не успел я как следует проморгаться, как вершины сопок вспыхнули вот таким же пурпурным светом. А в Поронине, как вы, наверное, помните, я бывал наездами и в «партии прогулистов» не состоял, тем более что вскоре оказался в Варшавской цитадели, а потом и в Орловском централе.
— Помню, Феликс Эдмундович, я все помню, — не отрывала глаз от окна Инесса. — Я даже помню, как на похоронах Лауры и Поля Лафарг переводила на французский, а Владимир Ильич…
— Стоп! — остановил ее Дзержинский. — Мне нужна ваша помощь. Да-да, — заметив ее удивленный взгляд, с нажимом продолжал Дзержинский. — Мне нужен человек, который бы не только знал пару-тройку иностранных языков, но, кроме того, имел опыт жизни за границей. Вы меня понимаете? Манеры, привычки, поведение…
— Чтобы в любом обществе мог сойти за своего? Чтобы по манере одеваться, говорить и вести себя за столом никто не догадался, что он приехал из Советской России?
— От вас ничего не скроешь, — покорно склонил голову Дзержинский. — Но этот человек должен быть абсолютно надежным товарищем и преданным делу революции коммунистом.
— Надежный и преданный, — покусывая губы, задумчиво произнесла Инесса. — Ручаться, как за себя, конечно, не могу, но… Есть у меня такой человек, вместе с ним я занималась возвращением на родину солдат Русского экспедиционного корпуса. Умен, находчив, ловок, сметлив, за словом в карман не лезет, но и лишнего не скажет. К тому же откровенно красив, женщины таких любят. В обществе — душа компании. Ну и что для вас немаловажно, в тюрьмах сидел, эмигрантского хлеба наелся, в партии с 1905-го.
— Так-так-так! — азартно потирая руки, воскликнул Дзержинский. — И кто же этот герой?
— Давтян. Яков Христофорович Давтян.
— Слышал о таком, — раздумчиво произнес Дзержинский. — И даже немного знаком. Надо будет подумать… Спасибо, товарищ Инесса, ваша рекомендация дорогого стоит, — шутливо раскланялся Дзержинский. — А вы говорите — восход. Восход восходом, а вон мы какое дело спроворили. Вы еще о своем протеже услышите!
Вопрос о новом назначении Давтяна решался на самом высоком уровне, ведь речь шла ответственнейшей должности начальника Иностранного отдела ВЧК, более известного как ИНО. Недавно удалось обнаружить секретнейший документ тех лет, касающийся Давтяна: «Из протокола специального заседания Орпоро ЦК от 12 января 1920 года. Просьбу тов. Дзержинского удовлетворить. Откомандировать в его распоряжение тов. Давтяна».
Так Яков Христофорович Давтян, сын зажиточного армянского коммерсанта, стал первым в истории советских спецслужб начальником Иностранного, то есть разведывательного, отдела ВЧК.
Разведка, да еще закордонная, — дело настолько тонкое и серьезное, что не имевший никакого опыта Давтян поначалу от нового назначения растерялся. А потом его осенила гениальная идея: почему бы нашим разведчикам не работать под крышей дипломатических представительств, а ему, их начальнику, не совмещать две должности и не работать одновременно и в Наркоминделе, и в ВЧК? Руководство его поддержало, и Давтян, с присущим ему энтузиазмом, занялся созданием ИНО.
Был, правда, один червячок, который постоянно точил самолюбие Якова Христофоровича: он был не полноправным начальником ИНО, а всего лишь исполняющим обязанности начальника ИНО. Давтян терпел, терпел и написал докладную записку в Управление делами ВЧК, прося прояснить ситуацию и сделать его полноценным начальником ИНО. Но руководство рассудило иначе: оставаясь сотрудником Наркоминдела и находясь за границей, Давтян должен выполнять поручения ВЧК и лично Дзержинского.
С первой зарубежной командировкой у Давтяна вышел полный конфуз. Как раз в эти дни в Венгрии случилась революция, и новоиспеченного разведчика-дипломата решили направить в Будапешт. Но пока тянулась волокита с оформлением документов, революция потерпела поражение, и Венгерская советская республика прекратила свое существование. А ведь планы в Москве строили грандиозные, в Венгрию чуть было не бросили Первую конную армию, разумеется, под видом добровольцев-интернационалистов.
Но так как обязанности дипломата и особенно разведчика требуют постоянного присутствия за границей, Давтяна непрерывно перебрасывают из одной страны в другую. За пятнадцать лет своей закордонной службы Яков Христофорович успел поработать в Эстонии, Литве, Китае, Туве, Франции, Греции, Иране и Польше. Одно время он даже был ректором Ленинградского политехнического института. Что там было делать карьерному дипломату и такому же карьерному разведчику, можно только догадываться.
Если о работе Давтяна в Греции, Польше или Франции с точки зрения результативности почти ничего не известно, то о его пребывании в Китае красноречиво говорят недавно рассекреченные документы. Прибыв в Китай в 1922 году, буквально через две недели Давтян отправляет шифровку в Москву: «Нашу работу здесь я считаю чрезвычайно важной и полагаю, что тут можно много сделать. Здесь узел мировой политики и ахиллесова пята не только мирового империализма, но и наша. И исключительно от нас зависит здесь завоевание прочных позиций на Дальнем Востоке».
Сделал он действительно много, особенно как резидент ИНО. Спустя год Давтян с нескрываемой гордостью сообщает: «Несколько слов о нашей специальной работе. Она идет хорошо. Если Вы следите за присылаемыми материалами, то, очевидно, видите, что я успел охватить почти весь Китай, ничего существенного не ускользает от меня. Наши связи расширяются. В общем, смело могу сказать, что ни один шаг белых на Дальнем Востоке не остается для меня неизвестным. Все узнаю быстро и заблаговременно… С сегодняшним курьером посылаю Вам весь архив белогвардейской контрразведки, полученный в Мукдене. Прошу принять меры, чтобы этот архив не замариновался и был использован… Ставлю серьезный аппарат в Харбине. Есть надежда проникнуть в японскую разведку».
Увлечение разведывательной работой не могло не сказаться на делах дипломатических. Из Наркоминдела на имя Давтяна стали поступать телеграммы с требованиями предпринять определенные усилия и добиться успехов на чисто дипломатическом фронте. Давтян сделал вид, что ничего не понял. Тогда ему влепили выговор от имени коллегии Наркоминдела.
Давтян страшно обиделся! В сердцах он отбил телеграмму в Москву:
«Думаю, что Пекин будет моей последней работой в этом милом учреждении. Хочу работать в Москве или, в крайнем случае, на Западе. Предпочел бы с НКИД вообще порвать, ибо все-таки не могу ужиться с ними».
Но, поостыв, Давтян взял себя в руки и еще пятнадцать лет не просто уживался, а много и плодотворно работал на внешнеполитическое ведомство Советского Союза. Последней его должностью был пост полпреда в Польше. В 1938-м Якова Христофоровича отозвали в Москву и тут же арестовали. А 28 июля состоялось заседание Военной коллегии Верховного Суда СССР, приговорившего Давтяна к расстрелу. Обвиняли его в том, что с 1927 года Яков Христофорович являлся участником армянской антисоветской националистической организации, а с 1934-го — участником антисоветской террористической организации правых, руководителем правотроцкистской группы, созданной в полпредстве СССР в Польше, и, конечно же, агентом польской разведки.
Все эти бредовые обвинения могли родиться только в воспаленном мозгу его доблестных коллег с Лубянки, которые через некоторое время за «клеветнические измышления» получили свою пулю в затылок.
Яков Христофорович Давтян прожил всего 50 лет. С его-то кавказскими генами жить бы ему и жить, если бы не похвальное слово Инессы Арманд.
ДЕВЯТЫЙ АРЕСТ
Эту стенограмму так долго прятали в бронированных сейфах, что пожелтевшая от времени бумага стала похожа на древний пергамент. Брать ее в руки боязно, и не только потому, что бумага трескается и крошится — бумага пахнет, пахнет предательством, кровью и невиданной жестокостью. Сколько бы нам ни говорили, что изуверские и садистские годы сталинского режима осуждены таким-то и таким-то съездом партии, память о них никогда не уйдет из сознания народа, ибо она не только в наших сердцах, но и в наших генах, она передается по наследству, она всегда будет с нами.
И это хорошо! Забывать людоедский шабаш дорвавшихся до власти кровавых маньяков нельзя хотя бы потому, чтобы избежать его повторения. Ну что дурного мог сделать больной, полуслепой человек далеко не первой молодости, восемь раз арестовывавшийся царскими жандармами, а потом верой и правдой служивший советской власти, будучи полпредом в Германии и несколько позже заместителем наркома иностранных дел?! Вся его работа была на виду, каждый его шаг запротоколирован, все контакты происходили лишь с санкции руководства, причем при непременном условии, что они пойдут на пользу делу.
И что же?.. В стенограмме заседания Военной коллегии Верховного Суда СССР от 2 марта 1938 года черным по белому записано:
«Обвиняемый Крестинский Н.Н. по прямому заданию врага народа Троцкого вступил в изменническую связь с германской разведкой в 1921 году.
Председательствующий В.В.Ульрих:
— Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?
Крестинский:
— Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником “правотроцкистского блока”, о существовании которого я не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.
Председатель:
— Повторяю вопрос: вы признаете себя виновным? Крестинский:
— Я до ареста был членом ВКП(б) и сейчас остаюсь таковым».
Такая позиция Крестинского никак не устраивала ни Ульриха, ни Вышинского, которые изо всех наседали на бывшего полпреда. По делу проходил 21 человек, 20 признали себя виновными, и лишь один Крестинский упрямится. Что ж, ему же хуже! Председательствующий объявил перерыв… А на следующий день, не дожидаясь вопросов, Крестинский заявил: «Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком признаю себя виновным по всем обвинениям, предъявленным лично мне».
Откуда такая сговорчивость? Это прояснилось через восемнадцать лет, когда допрашивали бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюма.
— Крестинского с допроса доставили к нам в санчасть, — вспоминал Розенблюм. — Он был тяжело избит, вся спина представляла собой сплошную рану, на ней не было ни одного живого места.
А еще через десять дней Крестинский признал не только то, что являлся участником «правотроцкистского блока» и немецким шпионом, но даже то, что провоцировал военное нападение на СССР «с целью поражения и расчленения Советского Союза и отторжения от него Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке, имея своей конечной целью восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии».
Приговор был оглашен 13 марта — расстрел. Заодно влепили восемь лет его жене, которая была главным врачом детской Филатовской больницы, а дочь отправили в ссылку.
…А ведь как хорошо все начиналось. Гимназия — с золотой медалью, юридический факультет Петербургского университета, должность присяжного поверенного. Жить бы ему и дальше на Невском проспекте, выступать в суде, защищая обеспеченных петербуржцев, если бы не увлечение большевистской литературой. Со временем Николай Крестинский и сам стал пописывать, печатаясь в «Правде».
Первой официальной должностью, которую занимал Крестинский в большевистском правительстве, стал пост наркома финансов. Затем некоторое время был членом Политбюро и даже Оргбюро ЦК партии, а в 1921-м Чичерин предложил назначить его полпредом в Германии. Будто предчувствуя неладное, Крестинский отбивался изо всех сил: «Удивляюсь Вашему предложению при наличии более подходящих кандидатур. Ваше предложение категорически отклоняю». Но Чичерин проявил настойчивость, тем более что его активно поддерживал Ленин. Не помогло даже то, что в сохранившейся анкете той поры на вопрос: «Какие иностранные языки знаете?» Крестинский ответил: «Никаких».
Но агреман ему дали далеко не сразу. Поначалу кандидатура Николая Крестинского, секретаря ЦК и недавнего члена Политбюро, вызвала категорические возражения со стороны германского МИДа. «Николай Крестинский является нежелательным лицом в качестве полпреда, так как он занимает высокое положение в коммунистической партии», — писали из Берлина. Тут уж наши взъярились! Они в жесткой форме заявили, что коммунистическая партия является правящей партией и Крестинский потому и выбран представлять правительство Советской России в Германии, что он видный член партии и сможет развивать советско-германские отношения на благо обеих стран. Этот аргумент не произвел на немцев никакого впечатления! Тогда им объявили, что в Москве не смогут принять главу германского представительства до тех пор, пока в Берлине не примут Крестинского. Этот аргумент подействовал, и немцы дали отмашку — в ноябре 1921 года Николай Крестинский прибыл в Берлин.
С первых же дней Крестинскому пришлось в самом прямом смысле слова засучить рукава. Подготовка к Генуэзской конференции, подписание Рапалльского договора между Советской Россией и Германией, участие в Гаагской конференции — все это требовало огромных сил и колоссального напряжения ума. А потом начался период, если так можно выразиться, незаконных, но очень тесных «брачных отношений» между СССР и Германией. Тут и буйно расцветшая торговля, и обмен специалистами, и контакты Красной армии и рейхсвера, и строительство в Советском Союзе военных заводов, которые часть продукции передавали Берлину, а часть оставляли Москве, и создание авиационных и танковых училищ под Липецком и Казанью, в которых учились будущие немецкие асы и авторы всесокрушающих танковых клиньев, и многомесячные командировки наших военачальников в немецкие военные академии, где они перенимали опыт Людендорфа и Гинденбурга.
Как только к власти пришел Гитлер, этот роман закончился, и вчерашние друзья снова стали непримиримыми врагами. Но Крестинский первых признаков этого похолодания не застал, летом 1930-го его отозвали в Москву и назначили первым заместителем наркома, которым к этому времен стал Максим Литвинов (настоящая фамилия Баллах). О степени доверия Сталина к Николаю Крестинскому говорит хотя бы такой факт, что квартиру ему предоставили не в городе, а в Кремле, по соседству с Орджоникидзе и вдовой Якова Свердлова.
За работу Крестинский взялся рьяно, бывало, что свет в его кабинете горел до двух-трех часов ночи. Но его сотрудники не роптали. Отвыкшие от общения с культурными, вежливыми и интеллигентными людьми, они не скрывали своей любви к шефу и ради него были готовы на все. А ему без их помощи тоже было не обойтись: видел он совсем плохо, газеты и документы читать не мог, резолюции ставил там, где ему показывали, важнейшие доклады и сообщения воспринимал на слух.
Но как ни плохо он видел, а кого хотел, замечал издалека, видимо, помогало то самое внутреннее зрение, которое иногда называют человеческой порядочностью. В 1935-м вся чиновная Москва знала, что Николай Бухарин попал в опалу и вот-вот его должны арестовать. И надо же так случиться, что все прекрасно понимавший Бухарин махнул рукой на условности и всякого рода предупреждения и, как большой любитель оперы, отправился в Большой театр. Ближайшие кресла мгновенно опустели! В антракте никто не решался выйти в фойе, где гулял недавний «любимец партии». И только Крестинский, которому проще всех было не заметить одиноко прохаживавшегося Бухарина, подошел к нему, тепло поздоровался и долго с ним разговаривал. Чуть позже, отвечая на немой укор жены, Крестинский, как нечто само собой разумеющееся, бросил:
— Надо поддержать человека в трудную минуту. Он-то своего старого товарища поддержал, а вот его… Однажды его вызвал Сталин и как бы между прочим предложил перейти на другую работу.
— Ведь вы когда-то были близки к оппозиции, — сказал он. — Это знают и за границей. Согласитесь, что неудобно держать в Наркоминделе, да еще на таком высоком посту, человека, который не всегда разделял линию партии. Иностранцы могут нас неправильно понять… По образованию вы, кажется, юрист? Кому же, как не вам, быть заместителем наркома юстиции. Крыленко нужно помочь, у него там не все ладно…
Помочь Крыленко уже никто не мог, в предчувствии ареста он стал по-черному пить и никакими делами не занимался. Не успел заняться новым делом и Крестинский. 20 мая 1937 года за ним пришли, причем прямо в его кремлевскую квартиру. Николай Николаевич был спокоен. Мудрый человек, он все знал и прекрасно понимал, где он живет и с кем имеет дело. Николай Николаевич попрощался с женой, подслеповато щурясь, улыбнулся дочке, шагнул за дверь, и уже оттуда, из далекого небытия, донесся его ровный голос:
— Учись, дочка. Знай, что я ни в чем не виноват.
«ПУСТЬ СТАЛИН СПЕРВА ЗАВОЮЕТ ДОВЕРИЕ»
Можете ли вы представить себе человека, который бы открыто, с трибуны партийного съезда бросил такие слова в адрес заседавшего в президиуме и набиравшего силу отца народов?! Одни скажут: «Никогда и ни при каких обстоятельствах». Другие, малость поразмыслив, философски заметят, что, мол, едва ли, если, конечно, он не был смертельно болен и не хотел свести счеты о жизнью.
Но это не все! Заинтригую вас еще больше. Что вы скажете, если узнаете, что этот же человек требовал избрания нового Генерального секретаря партии, освободив от этой должности Сталина, и не изменил своей точки зрения даже после ночного звонка Иосифа Виссарионовича, который просил его отказаться от своих слов? И тогда Сталин в пока что бессильной ярости процедил: «Ну, смотри, Григорий, ты еще об этом пожалеешь!»
Эти события происходили в декабре 1925-го. А неразумно храбрым человеком был Григорий Яковлевич Сокольников (настоящая фамилия Бриллиант). Как только не называл его в свое время Ленин — и любителем парадоксов, и ценнейшим работником, и милым и талантливым, и большевистским финансистом, и даже советским Витте (по аналогии с довольно прогрессивным и даровитым царским министром финансов). К этому можно добавить, что сын местечкового врача с Украины, а потом московского аптекаря был еще и прекрасным полководцем. В годы Гражданской войны он был членом Реввоенсовета то Восточного, то Южного фронтов и даже единоначальным командующим 8-й армией, которая билась за Воронеж, освобождала Луганск, Ростов и дошла до Новороссийска. Потом были Туркестан, борьба с басмачеством… и совершенно неожиданное назначение сначала заместителем, а потом и наркомом финансов. Справедливости ради надо сказать, что в первые послеоктябрьские месяцы Сокольников уже занимался всякого рода финансовыми экспроприациями, он даже возглавлял Комиссариат бывших частных банков, но эту организацию быстро упразднили, так что разобраться в хитросплетениях финансовых потоков Сокольников не успел.
Хозяйство ему досталось, прямо скажем, аховое! В стране ходили дензнаки номиналом в миллион и даже миллиард рублей, которые называли «лимонами» и «лимардами», на черном рынке процветала спекуляция. Чтобы купить буханку хлеба, надо было платить триллион, а то и квадриллион этих самых дензнаков. И вдруг, откуда ни возьмись, появился червонец! Он приравнивался к царской золотой десятирублевке. Пошли в ход и серебряные гривенники. Все кинулись обменивать дензнаки на червонцы, принимали их без ограничений из расчета 30 тысяч дензнаков за один червонец.
Народ ликовал! Признали червонец и за границей, ведь он обеспечивался золотом и был признан надежной расчетной единицей. А Григорий Сокольников стал настолько популярен, что Сталин решил зажечь на его пути красный свет: в 1926-м его освободили от обязанностей наркома финансов, перебросили в Госплан и поручили заняться разработкой первого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Вникнув в дело, Сокольников тут же ударил в набат! От него требовали большого скачка, развития сверхиндустриализации страны, а он закладывал в пятилетку такие цифры, которые обеспечивали бы проведение плавной индустриализации, «с наибольшей безболезненностью для масс».
«Что это еще за безболезненность?! — раздался окрик из Кремля. — Массы пойдут на любые жертвы. А их заступника от разработки первой пятилетки отстранить!» И отстранили… Некоторое время Сокольникову доверяли какие-то второстепенные хозяйственные посты, пока, наконец, не сочли за благо отправить его с глаз долой: в 1929-м Григория Яковлевича назначили полпредом СССР в Великобритании. Английские газеты, выражающие официальную точку зрения, были в восторге! «Назначение Сокольникова советским послом в Англии является благоприятным предзнаменованием для дружественного развития англо-советских отношений… Новый посол является наиболее подходящим лицом для представительства России в предстоящих трудных и сложных переговорах. Его персональное обаяние, независимость его ума и характера в соединении с авторитетом и уважением, которыми он пользуется в России, являются особо ценными качествами для чрезвычайно трудной задачи, стоящей перед ним».
И действительно, дело пошло на лад. Одно за другим были подписаны важные соглашения, среди которых торговое и о рыболовстве. Произошли положительные сдвиги и в советском экспорте, за три года Великобритания переместилась с двадцать первого на шестое место. Небывало плодотворными стали личные контакты. На всякого рода приемы и завтраки, устраиваемые в полпредстве, охотно приходили такие известные люди, как Ллойд Джордж, Уинстон Черчилль, Бернард Шоу, Бертран Рассел, леди Астор и многие другие. Самого Сокольникова и его жену, писательницу Галину Серебрякову, с удовольствием принимали в самых аристократических и финансово-промышленных домах Лондона.
Англичане были просто изумлены, что в лапотной красной России есть такие интеллигентные, обаятельные и культурные люди. Вот как писала о Сокольникове той поры его супруга: «Его изысканные манеры, чистое, то, что называется аристократическим, лицо с прямым гордым носом, продолговатыми, темными глазами, высоким, необыкновенно очерченным лбом — вся его осанка, хорошо вытренированного и сильного физически человека вызывали изумление английской знати».
Как ни странно, англичанам вторили и вчерашние белогвардейцы. В их газетах, выходящих в Париже, появились статьи с недвусмысленными заголовками: «Сталин и Сокольников» и, что более рискованно, «Сталин или Сокольников?». Речь в них шла о принципиально важном, о том, кто победит: Сокольников, который является сторонником сосуществования двух систем и верности взятым на себя обязательствам, или Сталин, который по-прежнему не только мечтает о победе мировой революции, но и всячески к этому стремится.
Прочтя все это, Григорий Яковлевич сильно встревожился. Противопоставление Сталину, да еще не в пользу последнего, — это чревато последствиями. А тут еще, как черт из табакерки, выскочил Троцкий, и тоже с дифирамбами! «Григорий Сокольников, — писал он, — это человек выдающихся дарований, с широким образованием и интернациональным кругозором». Похвала от смертельного врага Сталина — это все равно что стакан цикуты вместо чая — чуть раньше, чуть позже, но обязательно убьет. «Этого Сталин никогда мне не простит и обязательно отомстит, — обеспокоенно говорил он жене. — Надо знать его характер, он никогда ничего не забывает и ничего не прощает. К тому же однажды он мне уже пригрозил, проронив, что смотри, мол, Григорий, пожалеешь, но будет поздно».
Но пока что тучи над головой Сокольникова только сгущались, время удара молнии еще не настало… Первый звонок прозвенел в сентябре 1932-го, когда якобы «согласно его просьбе» Григория Яковлевича отозвали в Москву. В честь его отъезда Англо-русская торговая палата организовала прощальный банкет, на котором видные промышленники, банкиры и предприниматели, забыв о британской сдержанности, произносили такие прочувствованные тосты, что как писали на следующий день газеты: «Всем стало ясно, что Григорий Сокольников пользуется действительным уважением лондонского общества».
Как вы понимаете, об этом тут же настучали Сталину, и когда Сокольников вернулся в Москву и предстал пред его очи, вместо приветствия вождь зловеще бросил: «Говорят, Григорий, ты так полюбился господам англичанам, что они тебя отпускать не хотели. Может, лучше тебе жить с ними?»
Это уже не шутка или случайная обмолвка. Это — хорошо продуманный и жестко сформулированный приговор. Григорий Яковлевич, конечно же, вздрогнул, но выводов не сделал. Самое странное, решительных, с конкретными последствиями выводов не сделал ни один из высокопоставленных дипломатов той поры. Они, как загипнотизированные, лезли в пасть удава, а ведь практически у всех была возможность если не порвать эту пасть, то уж, по крайней мере, избежать ее острых зубов: достаточно было последовать совету Сталина и остаться в том же Лондоне, Париже или Стамбуле. Справедливости ради надо сказать, что один из них все же решится на неординарный поступок, но это будет позже, гораздо позже, когда страну зальют реки невинно пролитой крови.
Что касается Григория Сокольникова, то его даже приласкали, назначив на некоторое время заместителем народного комиссара по иностранным делам. А буквально через год, в соответствии с иезуитской сталинской логикой, перебросили в Наркомат лесной промышленности, назначив первым заместителем наркома. Так дипломат с мировым именем стал заниматься вопросами сплава древесины, корчевания пней и вторичной переработки сучьев… Но и тут его не оставили в покое, начались проработки на партсобраниях, требования признать ошибки и покаяться в грехах. Сокольников, как мог, отбивался…
Так продолжалось до мая 1936-го, когда ни с того ни с сего Григорию Яковлевичу позвонил Сталин и спросил, есть ли у него дача. Оказалось, что нет. Тут же последовала соответствующая команда, и за несколько недель в Баковке построили прекрасную дачу, куда уже в июне переехала вся семья: жена, теща, двое детей и, конечно же, сам Григорий Яковлевич. Казалось бы, можно перевести дыхание и забыть о неприятностях, но дурные предчувствия Сокольникова не отпускали. Он с тревогой следил за судебными процессами над «врагами народа», многих из которых хорошо знал, и готовился к самому худшему. Все чаще он топил печь, а на участке разводил костры, так Григорий Яковлевич уничтожал письма и документы, которые могли скомпрометировать его самого или его близких.
Тогда же он начал подумывать о самоубийстве. «Иного выхода, кроме пули в лоб, нет, — говорил он жене. — Этим я спасу тебя, а моя жизнь уже все равно прожита».
И вдруг, если так можно выразиться, новая кислородная подушка: Сталин пригласил его к себе на дачу. Уже был подписан ордер на арест, уже ждали сигнала, чтобы приступить к обыску на квартире и на даче, уже имелось разрешение на арест и жены, и старшей дочери, а Сталин, получая при этом иезуитски гнусное удовольствие, поднимает бокал и пьет: «За Сокольникова, старого моего друга боевого, одного из творцов Октябрьской революции».
Пришли за Григорием Яковлевичем 26 июля 1936 года. Потом была Лубянка, а стало быть, пытки, издевательства, карцеры, словом, весь «джентльменский» набор тогдашних чекистов. Требовали от него одного: признания в том, что он являлся членом так называемого параллельного троцкистского центра, который ставил своей задачей свержение советской власти в СССР.
Процесс проходил в Доме Союзов, на него даже пускали кое-кого из журналистов. Один из них писал: «Бледное лицо, скорбные глаза, черный лондонский костюм. Он как бы носит траур по самому себе». Другой же англичанин, видимо знавший Сокольникова в лучшие времена, не скрывает своего сочувственного отношения: «Сокольников производит впечатление совершенно разбитого человека. Подсудимый вяло и безучастно сознается во всем, в измене, вредительстве, подготовке террористических актов. Говорит тихо, голос его едва слышен».
30 января 1937 года огласили неожиданно мягкий приговор: Сокольников осужден по многочисленным пунктам печально известной 58-й статьи УК РСФСР и приговорен к 10-летнему тюремному заключению. Но это вовсе не значило, что он приговорен к жизни. Григория Яковлевича бросили в одну из самых лютых тюрем — Верхне-Уральский политизолятор. Дольше года там не выдерживали. Сокольников продержался два. Отчего он умер и где похоронен, не знает никто.
Зато многие знают, что Сталин последовал совету Сокольникова, что пусть, мол, он сперва завоюет доверие. Сталин доверие завоевал, да такое безграничное, что есть люди, которые до сих пор не верят, что именно он, и никто другой, был инициатором невиданных репрессий, что именно он повинен в гибели миллионов ни в чем не повинных людей, что были случаи, когда приговоренные к расстрелу, уже будучи в руках палача, умирали со словами: «Да здравствует Сталин!» Трудно поверить в то, что я сейчас скажу, но это документально установленный факт. Узнав об этих далеко не единичных случаях, руководство НКВД приняло на первый взгляд неправдоподобное, но на самом деле чисто большевистское решение: «Надо проводить воспитательную работу среди приговоренных к расстрелу, чтобы они в столь неподходящий момент не марали имя вождя».
БОЛГАРСКИЙ СЛЕД В РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Это случилось все в том же изуверском 1937-м. Избитый до полусмерти и садистски изувеченный человек попросил у следователя карандаш и неожиданно твердым голосом сказал:
— Вы требовали признаний? Сейчас они будут… Я напишу…
— Давно бы так, — усмехнулся следователь. — Но помните: «Я ни в чем не виноват» у нас не проходит. Так что пишите правду.
— Да-да, я напишу правду.
Поразительно, но эта коряво нацарапанная записка сохранилась, она подшита в дело и, не боюсь этого слова, буквально вопиет.
«До сих пор я просил лишь о помиловании, но не писал о самом деле. Теперь я напишу заявление с требованием о пересмотре моего дела, с описанием всех “тайн мадридского двора”. Пусть хоть люди, через чьи руки проходят всякие заявления, знают, как “стряпают” дурные дела и процессы из-за личной политической мести. Пусть я скоро умру, пусть я труп… Когда-нибудь и трупы заговорят».
Это «когда-нибудь» наступило, и пусть автор этих строк Христиан Раковский заговорить не сможет, о нем расскажут многочисленные документы, воспоминания друзей и, самое главное, его дела.
Быть борцом, заступником и революционером Крыстьо (это его настоящее, болгарское имя) Раковского обрек, если так можно выразиться, факт рождения. Один его родственник, Георгий Мамарчев, до конца своих дней боролся с турками, другой, Георгий Раковский, на этой же почве стал национальным героем. Дело зашло так далеко, что еще подростком Христиан официально отказался от своей фамилии Станчев и стал Раковским.
Такая фамилия ко многому обязывала — и Христиан начинает действовать. В четырнадцатилетнем возрасте он учиняет бунт в гимназии, за что его тут же выгоняют на улицу. Христиан перебирается в Габрово и принимается мутить воду среди местных гимназистов, объявив себя последовательным социалистом. На этот раз его вышвырнули не только из гимназии, но и из страны, лишив права продолжать образование в Болгарии.
Пришлось молодому социалисту перебираться в Женеву и держать экзамен на медицинский факультет университета. Но, даже став студентом, Христиан все свое время проводил не столько в лабораториях и анатомичках, сколько в подпольных редакциях и малоприметных кафе, где собирался весь цвет мятежной европейской эмиграции. Именно там Христиан познакомился с Георгием Плехановым, Верой Засулич, Карлом Каутским, Жаном Жоресом и даже Фридрихом Энгельсом. Тогда же он начал сотрудничать в «Искре», причем с самого первого номера.
В Россию Раковский впервые приехал в 1897 году. Тогда ему было 24 года, и в Москву он отправился не столько на международный съезд врачей, сколько… жениться. Его избранницей стала Елизавета Рябова, дочь артиста императорских театров. Их брак был счастливым, но недолгим: через пять лет Елизавета во время родов скончалась.
Потом был 1905-й — год первой русской революции. Вооруженные выступления прокатились по всей России, и все жестоко подавили — все, кроме одного. Как писали в те годы, «непобежденной территорией революции был и остается броненосец “Потемкин”». Как вы, наверное, помните, все началось с борща, приготовленного из червивого мяса, потом — расправа над наиболее ненавистными офицерами, заход в Одессу, похороны погибшего руководителя восстания, прорыв через прибывшую из Севастополя эскадру и вынужденная швартовка в румынской Констанце.
Если бы румынские власти выдали матросов царским властям, всех их ждал расстрел. Так бы, наверное, оно и было, если бы не Раковский. Он организовывал митинги в защиту матросов, публикуя зажигательные статьи, поднял на ноги всю прогрессивную Европу, выводил на улицы тысячи демонстрантов — и румынские власти сдались, они разрешили сойти на берег 700 матросам, а броненосец вернули России. Несколько позже Раковский написал книгу о событиях на «Потемкине», именно она легла в основу сценария всемирно известного фильма Эйзенштейна.
На эти же годы приходится событие, сыгравшее в его судьбе роковую роль: Раковский познакомился и близко сошелся с Троцким. Они стали такими закадычными друзьями, что посвящали друг другу книги. На титульном листе одной из них Троцкий, в частности, написал: «Христиану Георгиевичу Раковскому, борцу, человеку, другу, посвящаю эту книгу». А в разгар Первой мировой войны, после одной из встреч в Швейцарии, Троцкий посвятил старому другу целую статью.
«Раковский — одна из наиболее “интернациональных” фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, но румынский подданный, французский врач по образованию, но русский интеллигент по связям, симпатиям и литературной работе, Раковский владеет всеми балканскими языками и тремя европейскими, активно участвует во внутренней жизни четырех социалистических партий — болгарской, русской, французской и румынской», — писал он в газете «Бернская стража».
Несколько позже, в 1922-м, когда Троцкий был на пике всевластия и популярности, в одном из выступлений он сказал:
— Исторической судьбе было угодно, чтобы Раковский, болгарин по происхождению, француз и русский по общему политическому воспитанию, румынский гражданин по паспорту, оказался главой правительства в Советской Украине.
Да-да, не удивляйтесь, в 1917-м Раковский окончательно перебрался в Россию, стал большевиком, комиссаром отряда знаменитого матроса Железнякова, того самого Железнякова, который практически разогнал Учредительное собрание, а затем сражался с деникинцами и был смертельно ранен при выходе из окружения. А дипломатом Раковский чуть было не стал еще в конце 1918-го. Дело в том, что как раз в это время в Германии произошла Ноябрьская революция и был объявлен съезд Советов Германии. Ленин тут же решил направить на съезд делегацию, в состав которой вошел и Раковский. Так случилось, что делегацию перехватили верные кайзеру офицеры и ленинских посланцев чуть было не расстреляли. Когда с германской революцией было покончено, Раковского назначили послом в Вену. Австрийские власти агреман дали, но немцы отказались пропустить его через свою территорию — и до Вены он не добрался.
Так как Гражданская война была в самом разгаре, Раковского в качестве члена Реввоенсовета бросают то на Южный, то на Юго-Западный фронт, где он воюет рука об руку с Михаилом Фрунзе и будущим Маршалом Советского Союза Александром Егоровым. А председателем Совнаркома Украины Раковский стал в январе 1919-го и оставался на этом посту до 1923-го. Но еще в 1922-м его включили в состав делегации, отправлявшейся на Генуэзскую конференцию. Вскоре после ее завершения Раковского назначили заместителем наркома иностранных дел и тут же в качестве полпреда отправили в Лондон.
Отношения с Англией тогда были прескверные. Одной из главных проблем, которая мешала установлению взаимовыгодных отношений, были долги царской России. Поначалу советское правительство отказывалось признать эти долги. Рабочий класс, мол, у английских буржуев никаких денег не брал, а что касается национализированной собственности, то все эти фабрики и заводы построены руками русских рабочих и по праву принадлежат народу, а не британским держателям акций. Тогда Лондон дал понять, что ни о каком признании СССР де-юре не может быть и речи, Советский Союз превратится в страну-изгоя, с которой никто не станет ни торговать, ни поддерживать дипломатических отношений.
В этот-то момент и появился в Лондоне Христиан Раковский. Вот как описывали его первый «выход в свет» тогдашние газеты: «Войдя в зал, Раковский приковал к себе взгляды всего общества. Он был действительно обаятельным человеком, вызывая симпатию своими манерами, благородной осанкой. Его сразу же окружили писатели, журналисты, люди науки, искусства, политические деятели, дипломаты. С каждым он говорил на соответствующем языке — английском, французском, немецком или румынском. Отвечал на вопросы с легкостью, когда — дипломатично, когда — сдержанно, когда — с некоторой иронией. Собравшиеся ожидали увидеть неотесанного большевика, а Раковский всех поразил эрудицией, изяществом, благородством, образованностью и высокой культурой».
За первым «выходом в свет» последовал второй, третий, потом — задушевные беседы с политиками, банкирами и предпринимателями. В итоге проблему долгов уладили, и Советский Союз признали де-юре. Это была победа, большая победа молодой советской дипломатии! «Известия» тут же отметили заслуги Раковского. Да что там «Известия», английский историк Карр и тот не удержался, назвав Раковского «лучшим дипломатом 20-х годов».
Когда стало ясно, что взаимоотношения с Англией пошли на лад, дошел черед и до Франции. Всем было ясно, что никто, кроме Раковского, решить проблему взаимоотношений с Францией не сможет, и в октябре 1925-го его перебрасывают в Париж. Два года провел он на берегах Сены. За это время его близкими друзьями стали Марсель Кашен, Луи Арагон, Анри Барбюс, Эльза Триоле, Поль Вайян-Кутюрье, Жорж Садуль, Эрнест Хемингуэй и многие другие, всемирно известные деятели культуры. Что касается политиков, то общий язык Раковский нашел и с ними, во всяком случае, все проблемы взаимоотношений между Москвой и Парижем были урегулированы.
В 1927-м Христиан Георгиевич возвращается в Москву и тут же ввязывается в дискуссию, связанную с критикой сталинских методов руководства партией и страной. Он выступает на митингах, собраниях и даже на XV съезде партии, утверждая, что «только режим внутрипартийной демократии может обеспечить выработку правильной линии партии и укрепить связь ее с рабочим классом». Ему тут же приклеили ярлык «внутрипартийного оппозиционера», из партии исключили и сослали в Астрахань.
Пять лет молчания, пять лет вынужденного безделья, кроме работы в стол, и, наконец, в 1934-м Раковский решил покаяться: он направляет в ЦК письмо, в котором заявляет, что «признает генеральную линию партии и готов отдать все силы для защиты Советского Союза». Как ни странно, письмо опубликовали в «Известиях» — и вскоре Раковского восстановили в партии и даже назначили председателем Всесоюзного Красного Креста, можно сказать, по специальности — по образованию-то он врач. Некоторое время он был невыездным, но через пару лет во главе официальной делегации побывал в Японии.
К делам дипломатическим Раковского не подпускали, поэтому он пребывал в полнейшем недоумении. «Где Наркомздрав — и где Япония? Почему туда еду я, а не нарком?» — размышлял он. Прояснилось все это довольно быстро, в том самом Доме Союзов, где проходил судебный процесс над «правотроцкистским блоком», активным участником которого, кроме Бухарина, Рыкова и многих других, был Христиан Раковский. Тогда его объявили английским шпионом — это потому, что был полпредом в Лондоне, и японским шпионом — потому, что ездил туда с делегацией. Так и хочется спросить: не специально ли его посылали в Японию, чтобы затем пришить обвинение в шпионаже?
Об обвинениях в троцкизме и говорить не приходится, похвально-восторженные статьи Троцкого о «друге, человеке и борце» у всех на слуху.
Восемь месяцев шло следствие, восемь месяцев Раковский не признавал себя виновным, а потом попросил карандаш и нацарапал ту самую записку, в которой требовал пересмотра своего дела и обещал рассказать, как «стряпают» дурные дела… Судя по всему, после этого он попал в руки заплечных дел мастеров, на суде его было не узнать. Но вот что больше всего поразило: в последнем слове Раковский признал себя виновным буквально во всем. И закончил свою речь весьма загадочно.
— Считаю долгом, — сказал он, — помочь своим признанием борьбе против фашизма.
При чем тут фашизм? Как его признание может помочь этой борьбе? Чем может повредить Гитлеру его покаянное заявление о том, что он англо-японский шпион и стремился к свержению существующего в СССР строя? Понять это невозможно… Единственное более или менее разумное объяснение — это обещание более мягкого приговора. Так оно, впрочем, и случилось. Раковскому дали не «вышку», а 20 лет лишения свободы, бросив в печально известный Орловский централ.
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны встал вопрос, что делать с заключенными, немцы все ближе и, чего доброго, могут их освободить. Берия предложил радикальное решение, и Сталин его поддержал: уголовников перевести в уральские и сибирские лагеря — несколько позже они станут прекрасным материалом для штрафбатов, а политических — расстрелять. 8 сентября все политические заочно, списком, были приговорены к расстрелу, а 3 октября приговор привели в исполнение.
Одним из первых пулю палача получил Христиан Георгиевич Раковский — тот самый Раковский, который был автором первых побед советской дипломатии и в европейских столицах считался лучшим дипломатом 20-х годов XX века.
«ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ, НО НА СВОБОДЕ»
Эти слова принадлежат человеку, который, в отличие от других высокопоставленных дипломатов, не пошел на добровольное заклание, не согласился играть роль шпиона и врага народа, не принес себя в жертву ради интересов сталинского режима и совершил тот самый неординарный поступок, на который не решился ни один дипломат. Узнав, что его уволили с поста полпреда в Болгарии и требуют немедленного отъезда в Москву, Федор Раскольников отказался возвращаться в СССР и остался за границей. Почему он решился на этот шаг, бывший полпред объяснил в письме «Как меня сделали “врагом народа”», которое было опубликовано в западных газетах в июле 1939 года.
«Еще в конце 1936 года, когда я был Полномочным представителем СССР в Болгарии, Народный комиссариат иностранных дел предложил мне должность Полномочного представителя в Мексике, с которой у нас даже не было дипломатических отношений. Ввиду несерьезного характера этого предложения оно было мною отклонено. После этого в первой половине 1937 года мне последовательно были предложены Чехословакия и Греция. Удовлетворенный своим пребыванием в Болгарии, я от этих предложений отказался.
Тогда 15 июля 1937 года я получил телеграмму от Народного комиссара, который, по требованию правительства, приглашал меня немедленно выехать в Москву для переговоров о новом, более ответственном назначении… Народный комиссар писал о моем предполагаемом назначении в Турцию. 1 апреля 1938 года я выехал из Софии в Москву, о чем в тот же день по телеграфу уведомил Народный комиссариат иностранных дел. Через четыре дня, 5 апреля 1938 года, когда я еще не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с занимаемого поста Полномочного представителя в Болгарии, о чем я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет.
Я — человек политически грамотный и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир. После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован. Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым, а все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.
Сейчас я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда: меня объявили вне закона. Это постановление бросает яркий свет на методы сталинской юстиции, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные “враги народа” и какие основания достаточны Верховному Суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания.
Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь».
Это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы! На Западе, конечно же, знали о разгулявшейся в Советском Союзе кровавой вакханалии, но, так как некоторые процессы были открытыми и все подсудимые признавали себя виновными в шпионской, подрывной и иной антигосударственной деятельности, создавалось впечатление, что в СССР на самом деле существуют какие-то подпольные организации, стремящиеся к свержению существующего строя, а на самых серьезных постах угнездились вероломные враги народа. И вдруг выясняется, что никаких врагов народа нет, что все эти процессы — чистой воды спектакли и что главный режиссер сидит в Кремле!
Удар по репутации, или, как теперь принято говорить, имиджу, Сталина нанесен был колоссальный. Так кто же он был, этот отчаянный храбрец, решившийся на такой поразительный поступок? Где он взял силы, чтобы бросить вызов всесильному и не знающему пощады «вождю народов»? А ведь это письмо было лишь первым шагом Раскольникова в непримиримой борьбе с опьяневшим от крови, как его тогда называли, Хозяином. Следующий шаг будет куда более серьезным, сокрушительным и срывающим маски добропорядочности и человечности как с самого Сталина, так и с физиономий его ближайших приспешников. Но об этом позже…
А пока познакомьтесь с Федором Раскольниковым, который на самом деле никакой не Раскольников, а Ильин, хотя, по большому счету, должен быть Сергеевым. Дело в том, что его мать Антонина Ильина со своим мужем, протопресвитером собора «всея артиллерии» Федором Сергеевым, жила в гражданском браке, и их дети, Федор и Александр, считались незаконнорожденными. Вот и пришлось ребятам носить фамилию матери. А Раскольниковым Федор стал во время пребывания в приюте, который обладал правами реального училища: так его прозвали однокашники за худобу, костлявость, длинные волосы и широкополую шляпу — все как у героя Достоевского.
С этим прозвищем, ставшим его фамилией, Федор поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт. Учиться бы ему и учиться, глядишь, со временем стал бы хорошим инженером, но Федору нравились митинги, демонстрации, стычки с полицией. Со временем он нашел выходы на большевиков, начал сотрудничать в «Правде» и даже стал секретарем ее редакции. Но счастье было недолгим, буквально через месяц из института его вышвырнули, арестовали, судили, приговорили к трем годам ссылки и отправили в Архангельскую губернию. И тут ему крупно повезло: в 1913-м, в связи с трехсотлетием Дома Романовых, он попал под амнистию.
В самом начале Первой мировой войны его призвали в армию и, как человека, имеющего незаконченное высшее образование, определили на гардемаринские курсы, где готовили мичманов русского флота. И надо же такому случиться, что выпускные экзамены пришлись на дни Февральской революции! Митинги, шествия, демонстрации, опьянение свободой — через все это в полной мере прошел новоиспеченный мичман Раскольников. А потом разыскал редакцию «Правды» — и начал строчить антивоенные статьи.
Это было время, когда матросская братва начала бузить. Выходы из Балтийского моря были закрыты немцами, принимать участие в боевых действиях флот не мог, вот и начали братишки собираться на Якорной площади, где большевики убеждали их в том, что они хозяева жизни, что буржуйское добро надо отобрать и поделить, а в министерские кресла посадить тех, кого выберут они, матросы Балтийского флота и их закадычные друзья, окопные солдаты и петроградские рабочие. Чтобы эти слова были не только услышаны, но и дошли до душ и сердец матросской братвы, требовались изощренные ораторы, причем не в рабочих тужурках или добротных пиджаках, а во флотских бушлатах, то есть свойские, родные люди, знающие, что такое морская служба.
В этой ситуации мичман Раскольников пришелся как нельзя кстати. Он знал матросский жаргон, сидел в тюрьме, побывал в ссылке, в соответствии со своей новой фамилий был исступлен, ярок и неистов — короче говоря, он стал самым популярным оратором и любимцем кронштадтской братвы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что матросы единогласно избрали его своим командиром, когда понадобилось идти под Пулково и сражаться с частями генерала Краснова, как, впрочем, и позже, когда отряд под командованием Раскольникова помогал выбивать юнкеров из Московского Кремля.
А вскоре возникла ситуация, в которой Раскольников проявил себя как опытный и мудрый флотоводец. Теперь уже мало кто помнит историю «Ледового похода», а ведь это была операция, по своим последствиям сравнимая с победами Ушакова, Нахимова или Корнилова. И руководил ею совсем молодой мичман, к этому времени заместитель наркома по морским делам Федор Раскольников. Напомню, что в соответствии с только что подписанным Брестским миром Советская Россия должна была перевести все военные корабли в свои порты и немедленно их разоружить. Основной базой тогда был Гельсингфорс, то есть Хельсинки, и почти весь Балтийский флот стоял там.
Трещали небывалые морозы, лед достигал метровой толщины, приближались белофинны и вот-вот могли захватить корабли. До Кронштадта 330 километров, крейсеры и линкоры самостоятельно пробиться не могут — и тогда Раскольников вывел в море «Ермака». С помощью этого легендарного ледокола в Кронштадт был перебазирован практически весь Балтийский флот, а это ни много ни мало 236 кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок и множество других кораблей. Именно эти силы впоследствии составили основу возрожденного Балтийского флота.
А вот на Юге, на Черном море, судьба распорядилась по-другому, и Раскольникову выпала доля не спасителя, а губителя Черноморского флота. Дело в том, что в июне 1918 года немцы захватили Севастополь и потребовали, чтобы все корабли, стоявшие в Новороссийске, были возвращены в Севастополь и переданы германскому командованию. Иначе — немецкое наступление на Москву и Петроград. Официально Совнарком с требованиями немцев согласился, а тайно приказал корабли затопить.
Матросы взбунтовались! Как это, своими руками пустить на дно гордость русского флота?! Тут же полетели за борт комиссары и большевистские ораторы, призывавшие выполнить приказ. И только Раскольников, популярнейший среди матросской братвы Раскольников, смог убедить взбунтовавшихся матросов, что пусть лучше могучие линкоры и красавцы крейсера лежат на дне Цемесской бухты, нежели через неделю-другую немцы станут палить из их орудий по нашим же головам.
Открыв кингстоны, матросы сошли на берег и со слезами на глазах смотрели, как шли на дно великолепные боевые корабли. Они тонули медленно, очень медленно… Не одну неделю отряд Раскольникова пробивался с боями в сторону Царицына, и все эти дни перед мысленным взором теперь уже сухопутных моряков полоскались на ветру прикрепленные к мачтам идущих на дно кораблей полотнища флажной сигнализации: «Погибаю, но не сдаюсь».
Не успел Раскольников добраться до Москвы, как тут же получил новое назначение — он стал командующим Волжской военной флотилией. К кое-как переоборудованным и слабо вооруженным катерам, буксирам и танкерам он ухитрился прибавить три миноносца, которые перегнал с Балтики — они-то и составили главную силу флотилии. Этого никак не ожидал командующий флотилией белых адмирал Старк, который противостоял Раскольникову. Мичман против адмирала — такого в истории флота еще не было! И как это ни странно, победил мичман.
В эти месяцы Раскольников был на подъеме. У него все получалось. Враг от него бежал. Вся Волга очищена от белых. Но самое главное, он страстно любил и так же горячо был любим! Его женой и правой рукой в военных делах стала популярнейшая среди матросов Лариса Рейснер. Еще до революции она слыла неплохим литератором и крепким журналистом, но, вступив в партию большевиков, комиссар Рейснер предпочла носить не столько карандаш в кармане, сколько маузер на боку. И этому не помешало даже ее происхождение: по отцу Лариса — немецкая еврейка, а вот по матери — русская аристократка из рода Хитрово и даже дальняя родственница Кутузова.
Покрасовавшись перед матросской братвой в морской шинели или комиссарской кожанке, в своей каюте она переодевалась в роскошное платье и садилась за письменный стол. Если согласиться с утверждением, что стиль — это человек, то можно оказать и иначе: человек — это стиль. Прочтите несколько строк из книги Ларисы Рейснер «Фронт», и, мне кажется, за скупыми, сжатыми, как пружина, и по-женски эмоциональными строчками возникнет образ сильной, энергичной и в то же время нежной женщины.
«Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы».
«И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма, — высоко, выше мачты и мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда».
Или еще. «Да, жестокая штука война, а гражданская и вовсе ужасна. Сколько сознательного, интеллигентского, холодного зверства успели совершить отступающие враги! Жены и дети убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с Рембрандтами и книгохранилищами или о зверствах Чека. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу».
Победив врагов на Волге, супружеская чета на этом не успокоилась, а вышла в Каспийское море и провела там несколько блестящих операций. Их было бы еще больше, если бы не англичане, которые Раскольникова взяли в плен. История, в принципе, нелепейшая. Однажды кромешной ночью на эсминце «Спартак» Раскольников вышел из Кронштадта на боевое патрулирование. Откуда ни возьмись, в районе Ревеля на эсминец навалились пять английских крейсеров. Скоротечный бой, два попадания в машину, эсминец потерял ход — и команда оказалась у англичан. Раскольникова бросили в Брикстонскую тюрьму, но не надолго. Ленин так высоко ценил Раскольникова, что согласился его обменять на 17 пленных английских офицеров. Запросили бы 30, он бы отдал и 30, но больше в его распоряжении просто не было.
Быть бы ему со временем адмиралом, а то и Главкомом всего Военно-морского флота, если бы не острейший голод на кадры в Наркомате иностранных дел. Ну, некого было направить полпредом в Афганистан, и все тут! Ничего лучшего не придумали, как перевести в Наркоминдел командующего Балтийским флотом Раскольникова и назначить его полпредом РСФСР в Афганистане, где о море никто и слыхом не слыхивал, а если и видели какие-то корабли, то только корабли пустыни — верблюдов.
Именно ими в течение тридцати дней и вынужден был командовать Федор Раскольников. 3 июля 1921 года навьюченный поклажей караван вышел из Кушки и по горам, пескам и долинам двинулся в сторону Кабула. Лариса ехала на боевом коне, который обожал свою всадницу и никого к ней не подпускал. А она, видя, как приуныли составлявшие конвой матросики, запевала то про парящих над морем чаек, то про ждущих на берегу девчат. И тогда самый озорной доставал гармошку, веером расправлял меха и выдавал такие аккорды, что грусть сама собой испарялась. Все с благодарностью смотрели на свою комиссаршу и, не без доли зависти, на командира.
В Кабуле Лариса тут же стала первой леди дипломатического корпуса и желанной гостьей на женской половине дворца эмира. Так как она умела не только хорошо говорить, но и внимательно слушать, многие тайны двора сразу же становились известными Раскольникову. Он тоже не терял времени даром и добился самого главного: сначала эмир под страхом смертной казни запретил афганцам участвовать в набегах басмачей на территорию России, а потом повелел прекратить антисоветскую пропаганду.
Само собой разумеется, был ратифицирован российско-афганский договор о дружбе.
Но Ларисе не сиделось на месте. Пешком, верхом, на автомобиле — она моталась по стране и жадно набиралась впечатлений. Они-то и стали основой книги «Афганистан», которая была издана по возвращении Ларисы в Москву. Первые впечатления Ларисы — однозначно отрицательные. «Я оказалась в каком-то мертвом Востоке, — пишет она. — Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи верст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого. Эти города неумолимо идут к вымиранию, к праху и пыли — все к той же пустыне, из которой они возникли».
А вот нечто положительное и, я бы сказал, рожденное чисто женской наблюдательностью, к тому же о том, чего посторонний мужской глаз никогда не видел:
«Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорослых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, граната, голубизны, пчелиного гудения и аромата, причем такого густого и крепкого, что хочется закрыть глаза и лечь на раскаленные плиты маленького дворика. Тишина здесь такая, что ручьи немеют, и деревья перестают цвести.
Вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит много дверей. За каждой дверью — белая комната, расписанная павлиньими хвостами. В каждой комнате живет женщина-ребенок, лет тринадцати — четырнадцати, низкорослая, как куст винограда. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они очень красивы, эти лукавые и молчаливые бесенята в желтых и розовых шальварах».
А потом Лариса попала на праздник. Как ни странно, это была очередная годовщина Великого Октября. Оказывается, Аманулла-хан, в знак уважения Советской России и ее заслуг в деле освобождения Афганистана, повелел считать 7 Ноября государственным праздником.
«Лошади бросаются в сторону от барабанного боя, южный ветер полощет бесчисленные флаги, в том числе и красный РСФСР, словом, праздник в самом разгаре. Но к смиренному ротозейству толпы племена сумели прибавить так много своего, героического и дикого, что этот казенный праздник стал действительно народным! — восторженно пишет Лариса. — Их позвали плясать перед трибуной эмира — человек сто мужчин и юношей, самых сильных и красивых людей границы, среди которых голод, английские разгромы и кочевая жизнь произвели тщательный отбор. Из всех танцоров только один оказался физически слабым, но зато это был музыкант, и какой музыкант! В каждой клеточке его худого и нервного тела таился бог музыки — неистовый, мистический, жестокий.
Этот танец — душа племени. Пляска бьется, как воин в поле, умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, что в Пенджабе и Малабаре бьет крупного зверя и повстанцев. Они танцуют не просто войну, а войну с Англией».
Это — впечатления журналистки. А вот — наблюдение комиссарши, которое тут же было зашифровано и отправлено в Москву:
«У Амануллы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Палестине, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады и Царьграда. В наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Аманулла-хан становится реформатором.
В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки. При помощи этой палки Аманулла-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением. К сожалению, эмир при всем его врожденном умей при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных династий Востока, сам не получил правильного образования и не имеет полного представления о европейских методах воспитания. И все же Аманулла-хан заслуживает того, чтобы его называли реформатором. В наших интересах — всячески ему в этом помогать».
Такая информация дорогого стоила. В Москве ее оценили по достоинству, но просьбу Ларисы об отзыве Раскольникова из Кабула не удовлетворили. А Лариса к этому времени насытилась по самое некуда таинственным и диким Востоком и всеми силами рвалась домой. Когда стало ясно, что ее мужа не отзовут, весной 1923 года она в буквальном смысле слова из Кабула сбежала. Раскольникову же успела шепнуть, что в Москве обратится к наркому Чичерину, а если тот не поможет, то к Троцкому, с которым давно дружна, и добьется возвращения мужа в Москву.
Нетрудно представить, с каким нетерпением Раскольников ждал каждую новую почту! И дождался. Вместо приказа Наркоминдела об отзыве из Афганистана он получил письмо Ларисы с просьбой о разводе, «так как я полюбила другого».
Если бы Раскольников знал, ради кого она его бросила, он бы, наверное, расхохотался, как хохотала и недоумевала вся Москва. Обменять его, красавца моряка, героя Гражданской войны на низкорослого, уродливого и лысого очкарика, к тому записного болтуна и пустослова — этого понять не мог никто. Правда, были люди, которые говорили: «Не иначе как голос крови; Ведь Радек-то никакой не Радек, а львовский еврей Собельсон».
«Еврей Собельсон был гротескной фигурой, — вспоминал один из современников. — Маленький человечек с огромной головой, с торчащими ушами, с гладко выбритым лицом (в те дни он еще не носил этой ужасной мочалки, именуемой бородой), в очках, с большим ртом, в котором всегда торчала трубка или сигара.
И при этом — виртуоз большевистского журнализма. Но однажды Радек перебрал. На обвинение в том, что он плетется в хвосте у Льва Троцкого, Радек позволил себе неслыханное. “Уж лучше быть хвостом у Льва, чем задницей у Сталина!” — выпалил он. Надо ли говорить, что эта фраза тут же стала известна вождю народов, и он это припомнил. В 1936-м Радек был арестован, получил десять лет лагерей и там погиб: по некоторым сведениям, его убили уголовники».
Все это будет значительно позже, а пока Лариса и Радек наслаждались жизнью. Они даже открыли в реквизированном у буржуев доме нечто вроде светского салона, о чем Лариса мечтала чуть ли не с детства. На приемах у Радека — Рейснеров бывали поэты, писатели, художники, политики и, конечно же, чекисты. Лариса тут же подвела под это идеологическую основу. «Мы строим новое государство, — говорила она, — мы нужны людям. Наша деятельность на виду. И было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, обладающим властью».
Увы, но сладкая жизнь продолжалась недолго. 9 февраля 1926 года она умерла, причем очень нелепо: стакан сырого молока, брюшной тиф — и скоропостижная смерть. «Ей нужно было бы помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером», — говорилось в некрологе.
Что касается бывшего мужа Ларисы, то Федора Раскольникова тоже ждал трагический конец. В этом смысле Лариса была без преувеличений роковой женщиной, все близкие ей мужчины умирали не своей смертью.
Справедливости ради надо сказать, что смертельный огонь на себя вызвал сам Раскольников. По возвращении из Кабула он семь лет был вне большой политики, то редактировал журналы, то возглавлял издательства, то ведал Главреперткомом и, самое главное, писал книги, сочинял пьесы, печатал статьи и фельетоны. Вспомнили о нем в 1930-м. Сначала его назначили полпредом в Эстонию, потом перевели в Данию и, наконец, в Болгарию. Там-то с ним и случилось то, что случилось…
Итак, Раскольников не захотел идти на добровольное заклание, отказался изображать из себя «врага народа» и остался на Западе. Как я уже говорил, в июле 1939-го он публикует письмо «Как меня сделали “врагом народа”», которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но эта бомба была детской хлопушкой по сравнению с «Открытым письмом Сталину», появившимся в августе того же года. Это письмо теперь хорошо известно, оно не раз печаталось в газетах и журналах, поэтому я приведу лишь отдельные фрагменты этого уникального документа.
«Сталин, Вы объявили меня “вне закона”. Этим актом вы уравняли меня в правах — точнее, в бесправии — со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона, — вот так, с первых строк ставит все на свое место Раскольников. — Ваш “социализм”, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата…
Что вы сделали с конституцией, Сталин? Вы растоптали конституцию как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру… Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем “эпохи террора”. Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады.
Над гробом Ленина вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, Вы нарушили и это завещание Ленина. Вы оболгали, обесчестили и расстреляли Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы… Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.
С жестокостью садиста Вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.
Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры. Лицемерно провозглашая интеллигенцию “солью земли”, вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает.
Зная, что при вашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел. Вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.
Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список имен ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».
Представляете, что было бы в стране, если бы это письмо напечатали в «Правде», «Известиях» или «Труде»! На Западе хоть и с оторопью, но письмо печатали. Прозрела вся Европа, прозрели Азия и Америка, прозрели все, кроме многострадальных, замороченных, затурканных и запуганных граждан Советского Союза. Они еще долго молились на сочащуюся кровью усатую икону, послушно голодали, покорно играли роль пушечного мяса, с готовностью заполняли бараки лагерей и камеры тюрем, а если вождь настаивал, безропотно шли под пули палача.
Оставить без последствий такое разгромное письмо Сталин не мог, и в Ниццу, где в это время жил Раскольников, была направлена группа соответствующих специалистов из печально известной лаборатории Майрановского. Ни с того ни с сего у Раскольникова началось воспаление легких с осложнением на мозг, и 12 сентября 1939 года его не стало.
Прожил на этом свете Федор Федорович недолго — всего 47 лет. Но каких лет! В его жизни было все — горестное детство, бурная юность, революция, война, плен, поражения, победы, любовь, дипломатические успехи, предательства, безоглядная вера в дело, которому служил, и то, чего не было ни у кого, — он решился на такой смелый поступок, которого не смог совершить ни один его современник, он бросил открытый вызов Сталину. А его слова «Предпочитаю жить на хлебе и воде, но на свободе» стали своеобразным эпиграфом ко всей его доблестной жизни.
КРАСНЫЙ ЛОУРЕНС
Вскоре после отъезда Раскольникова из Кабула туда прибыл Виталий Примаков, который занял пустующий кабинет военного атташе советского полпредства. Военный атташе — он хоть и дипломат, но о его деятельности не принято распространяться, поэтому о его работе известно куда меньше, чем, скажем, о работе атташе по вопросам культуры. О работе Примакова тоже никто ничего не знал, пока в 1930 году он не издал книгу «Афганистан в огне». Обнаружил я ее совершенно случайно в одной из кабульских библиотек, причем на русском языке. Судя по тому, что томик был довольно потрепан, он побывал во многих руках.
Занимательнейшее, скажу я вам, чтение! Прочитав книгу от корки до корки, я пришел к выводу, что любой оказавшийся в Афганистане человек, независимо от того, военный он или гражданский, должен проштудировать книгу Примакова — так много там ценных наблюдений о быте, нравах и образе жизни афганцев. Переиздать бы ее и в обязательном порядке вручать каждому отъезжающему в Кабул специалисту! Но это — дело будущего. А пока — краткий рассказ о жизни и деятельности этого замечательного человека.
Виталий Маркович Примаков родился на Украине в семье сельского учителя. Будучи гимназистом, в самом начале Первой мировой войны вступил в партию большевиков, а когда призвали в армию, по идейным соображениям ехать на фронт отказался. Тогда его отправили в другую сторону — на пожизненное поселение в Сибирь. После Февральской революции, когда всех политзаключенных выпустили на волю, бывший гимназист некоторое время жил в Киеве, а потом махнул в Петроград. Во время Октябрьского переворота командовал одним из отрядов при штурме Зимнего дворца.
Затем — бои под Гатчиной, на Украине, где он сформировал полк червонного, то есть красного, казачества, сражения с деникинцами под Курском и Орлом и, наконец, с поляками под Варшавой. После окончания Гражданской войны некоторое время был начальником Высшей кавалерийской школы, а затем — неожиданный кульбит: Примакова направили военным советником в Китай. Что он там насоветовал, покрыто мраком тайны, но в 1927-м в качестве военного атташе его перебросили в Афганистан.
Надо сказать, что обстановка в то время в стране была хуже некуда. Напомню, что главой Афганистана тогда был Аманулла-хан. Посетив несколько европейских столиц, падишах вернулся с неуемным желанием сделать свою страну не только промышленно развитой, но и по мере сил европеизировать. Начал он с того, что построил несколько текстильных фабрик, затем договорился с французами о постройке железных дорог.
Это — куда ни шло. Хотя умные люди говорили, что во всех трех войнах англичане не смогли победить афганцев прежде всего из-за бездорожья: по горным тропам современную технику к полю боя не доставить. Поэтому лишаться такого надежного щита, как бездорожье, неразумно. Падишах от этого аргумента отмахнулся, и вскоре под Кабулом задымил первый паровоз. Но когда он начал открывать женские школы, а затем разрешил сбросить чадру и носить европейское платье, возмутилось все духовенство.
Для начала муллы организовали заговор с целью убийства падишаха. Их разоблачили, арестовали и казнили. Это вызвало новую волну возмущения, и оставшиеся в живых подняли восстание. Правительственные войска были достаточно сильны, и восстание практически подавили. Но тут, как черт из табакерки, откуда-то выскочил Баче-Сакао.
В Чарикарском районе его знали как отпетого бандита, правда, весьма своеобразного: значительную часть награбленного этот афганский Робин Гуд раздавал крестьянам. А когда он убил несколько правительственных чиновников, которые наиболее жестоко притесняли народ, люди стали считать его своим защитником и повалили в его банду. К этому времени банда стала называться партизанским отрядом, который насчитывал около шести тысяч человек.
Баче-Сакао захватил город Чарикар, провозгласил себя падишахом Хабибуллой и заявил, что выступает в поход на Кабул с целью свержения Амануллы-хана. Узнав об этом, подняло восстание и могущественное племя шинвари, которое контролировало район Джелалабада. Захватив город, бойцы племени осадили городскую крепость, в которой закрылись остатки гарнизона. Чтобы их выбить, нужны были пушки, боеприпасы и современные винтовки. Взять их было негде. Но тут свершилось чудо: на горизонте появился легендарный Лоуренс Аравийский, которого знали еще и как мистера Росса, и господина Шоу. А вот арабы за бешеную, а порой взрывную энергию звали его Эмир-динамитом.
Так вот, в районе Джелалабада Лоуренс появился под видом мусульманского священника и вблизи английского форта Курам организовал продажу оружия, причем по ценам вчетверо ниже общепринятых. Так повстанцы получили все, что им было нужно, и довели свое дело до конца.
Казалось, что судьба Амануллы-хана предрешена, займи отряды повстанцев Кабул, не избежать бы падишаху пули, а то и веревки. Но тут в дело вступил Красный Лоуренс! Где-то под Ташкентом он сформировал мощный «афганский отряд» в две тысячи сабель. С воздуха отряд прикрывала авиация, а пулеметные роты и полевая артиллерия составляли костяк огневой поддержки. И хотя в отряде не было ни одного афганца — в основном там были советские таджики, узбеки и другие, восточной внешности, бойцы, одетые в афганскую форму.
В соответствии с новыми веяниями первыми удар нанесли бомбардировщики, потом, по заранее выявленным целям, открыла огонь артиллерия, и уж после этого, когда сопротивляться было некому, в лихую атаку пошла кавалерия. Полтора месяца отряд Примакова громил отряды повстанцев. От несомненных успехов Красный Лоуренс вошел в такой раж, что потребовал разрешения на применение химического оружия, ведь его учитель Тухачевский подавил восстание тамбовских крестьян не пулеметами и пушками, а ипритом.
Москва применять иприт не разрешила. А тут еще Аманулла-хан дал слабину, отрекся от престола и бежал в Кандагар. На трон взошел его брат Инаятулла-хан, но он вскоре тоже отрекся от престола и на английском самолете бежал в Индию. Теперь всевластным повелителем стал вчерашний бандит Баче-Сакао, но и он на троне просидел недолго: через пять месяцев его войска потерпели поражение, и новоявленный падишах был убит.
После всех этих свержений, убийств и отречений отряду Примакова было приказано вернуться в Ташкент. Бойцы разъехались по домам, а Примакова направили в Токио. Там он целый год был военным атташе, а потом его отозвали в Москву. Казалось, что высокая должность заместителя командующего Ленинградским военным округом достаточно надежная защита от всякого рода неприятностей, но в Кремле думали иначе, и в августе 1936-го Примакова арестовали.
На первых допросах нелепые обвинения в антисоветском заговоре и шпионской деятельности Виталий Маркович отрицал. Но после зверских избиений и жестоких пыток наговорил на себя и на своих сослуживцев такого, что следователи удовлетворенно потирали руки: за разоблачение такого вражеского гнезда их ждали высокие награды. Правда, не всех, через несколько лет наградой для многих из них, в том числе и для их начальника Ежова, стала чекистская пуля.
Но расстрелять Тухачевского, Примакова, Уборевича, Якира, Пугну и многих других эти вурдалаки успели, в июне 1937-го «врагам народа» вынесли смертный приговор и в тот же день привели его в исполнение.
РОСЧЕРК КРАСНОГО КАРАНДАША
ЦЕНА БЛАГОСКЛОННОСТИ «ХОЗЯИНА»
Среди множества нелепых, абсурдных и кровавых дел, так или иначе связанных с именами советских дипломатов, одно стоит особняком. Во-первых, это дело не дипломата, а журналиста, и, казалось бы, к нашей теме не имеет отношения. Но, во-вторых, ознакомиться с ним просто необходимо, так как судьбы многих дипломатов в самом прямом смысле слова оказались в руках этого журналиста. Я говорю о Михаиле Кольцове.
В 1930-х годах популярность этого человека была сравнима с популярностью челюскинцев или папанинцев, его репортажами зачитывалась вся страна, к его книгам писали предисловия Бухарин и Луначарский, он состоял в переписке с Горьким, встречался со Сталиным — и вдруг арест… За что? Почему? Что натворил этот любимец партии и правительства? Ответы на эти вопросы долгое время были за семью печатями, но я их нашел — они в следственном деле № 21620 по обвинению Михаила Ефимовича Кольцова. Три тома лжи, клеветы, наветов, оговоров, три тома нелепейших признаний, убийственных характеристик и, что самое ужасное, три тома кошмарных показаний, которые сыграли роковую роль в судьбах многих и многих людей, в том числе и дипломатов.
Примечательно, что постановление об аресте Кольцова утвердил лично Берия. Думаю, что его подпись появилась не случайно. Чтобы арестовать такого человека, как Кольцов, нужна была виза не менее чем наркома внутренних дел. Ни секунды не сомневаюсь, что была и другая виза, только устная: не согласовав вопроса со Сталиным, даже Берия не мог поднять руку на человека, которого в Кремле «ценят, любят и которому доверяют». Именно так говорил о Кольцове человек из ближайшего окружения Сталина.
Самое странное, что именно в те дни, когда Михаила Ефимовича стали приглашать в Кремль и говорить, как его ценят, Кольцова начали обуревать дурные предчувствия.
Вот что рассказывал об этом периоде жизни Кольцова его родной брат, известный художник-карикатурист Борис Ефимов:
— Когда брат на короткое время приехал в Москву весной 1937 года, на Белорусском вокзале его встречала «вся Москва» — писательская и газетная. Отблеск захватывающей борьбы в Испании ложился на боевого правдиста, создавал вокруг него ореол популярности и уважения. В эти дни брат чрезвычайно занят на всякого рода собраниях и совещаниях, ему приходится рассказывать о своих испанских впечатлениях самым различным аудиториям слушателей.
Несомненно, самой серьезной из этих аудиторий была самая немногочисленная, состоящая всего из пяти человек. Это был Сталин и четверо приближенных к нему лиц. Вопросы к Кольцову и его подробные ответы заняли больше трех часов. Наконец, беседа подошла к концу. И тут, рассказывал мне Миша, Сталин начал чудить.
Он встал из-за стола, прижал руку к сердцу и поклонился: — Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли?
— Мигель, товарищ Сталин, — ответил я.
— Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. Всего хорошего, дон Мигель! До свидания.
— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!
Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул и как-то странно спросил:
— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?
— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.
— Но вы не собираетесь из него застрелиться?
— Конечно, нет, — еще более удивляясь, ответил я. — И в мыслях не имею.
— Ну, вот и отлично, — сказал он. — Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.
На другой день один из вчерашней четверки, а это был Ворошилов, сказал Кольцову:
— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.
А со мной Миша поделился неожиданным наблюдением.
— Знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах «хозяина», когда он провожал меня взглядом?
-Что?
— Я прочел в них: «Слишком прыток».
Вскоре Кольцов снова уехал в Испанию… Вернулся он еще более популярным, значимым и любимым человеком. Как из рога изобилия на него посыпались ордена, звания и должности. И все же…
— Не могу понять, что произошло, — говорил он брату, — но чувствую, что-то переменилось. Откуда-то дует этакий зловещий ветерок… Думаю, думаю и ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось столько врагов? Ведь это же люди, которых мы знали годами, с которыми жили рядом! Командармы, герои Гражданской войны, старые партийцы! И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что они враги народа, шпионы, агенты иностранных разведок. В чем дело? Я чувствую, что сойду с ума… А недавно Мехлис показал мне резолюцию Сталина на деле недавно арестованного редактора «Известий» Таля: несколько слов, адресованных Ежову и Мехлису, предписывали арестовать всех упомянутых в показаниях лиц. Понимаешь? Люди еще на свободе, строят какие-то планы на будущее и не подозревают, что уже осуждены, что, по сути дела, уничтожены одним росчерком красного карандаша.
— А потом был звонок, зловещий звонок! В Москву приехали командующий ВВС Испании генерал Сиснерос и его жена Констанция. Кольцов дружил с ними в Испании, и в Москве принимал их он. Но прием к Сталину чету Сиснеросов пригласили без Кольцова, — закончил свой рассказ Борис Ефимов.
Детали, о которых поведал брат Кольцова, не так уж второстепенны — в то время именно по таким деталям судили не только о благосклонности «хозяина», но и о шансах на жизнь. Да и дурные предчувствия самого Михаила Ефимовича были далеко не беспричинны: дело в том, что агентурная разработка Кольцова началась еще в 1937 году. Кольцов мотается по фронтам, пишет свой знаменитый «Испанский дневник», а на негр уже собирают компромат. Кольцов возвращается из Испании, снова туда уезжает, а разработка продолжается. Иначе говоря, он уже был одним из тех, кто еще на свободе, но уже осужден к уничтожению одним росчерком красного карандаша.
И лишь теперь, более семидесяти лет спустя, удалось установить, кто, если так можно выразиться, дал старт антикольцовской кампании. Этим человеком был генеральный секретарь интербригад Андре Марти. Трудно сказать, чем ему не понравился Кольцов, но одно ясно — в этом человеке Михаил Ефимович нажил себе смертельного врага. Марти не мог уничтожить Кольцова своими руками, поэтому решил это сделать с помощью всем известного покровителя московского журналиста — Иосифа Сталина. Донос, который Марти отправил по своим каналам, совсем недавно был обнаружен в личном архиве Сталина.
Вот его подлинный текст:
«Мне приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самочинно узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, использование своего положения как представителя Москвы сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением: 1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер. 2. Так называемая “гражданская жена” Кольцова Мария Остен (Грессгенер) является, у меня лично в этом нет никаких сомнений, засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве — следствие ее шпионской деятельности».
А теперь вспомните знаменитую встречу в Кремле после возвращения Кольцова из Испании, когда вождь интересовался, не собирается ли он застрелиться. Сталин шутил, чудил, а донос уже лежал в сейфе, и НКВД начал собирать компромат на Кольцова: подбирались его старые репортажи 1918–1919 годов, в которых он высказывался отнюдь не просоветски, выбивались показания из ранее арестованных людей, которые характеризовали Кольцова как ярого антисоветчика.
На основании этих, а также некоторых других данных и родилось то самое постановление об аресте, которое завизировал лично Берия. Вот он, этот уникальный документ. До сих пор о нем никто не знал и, как говорится, в глаза не видел.
«Я, начальник 5 отделения 2 отдела ГУГБ старший лейтенант госбезопасности Райхман, рассмотрев материалы по делу Кольцова (Фридляндера) Михаила Ефимовича, журналиста, члена ВКП(б) с сентября 1918 года, депутата Верховного Совета РСФСР, нашел: Кольцов родился в 1896 году в городе Белостоке в семье коммерсанта по экспорту кожи за границу. С начала 1917 года Кольцов сотрудничал в петроградских журналах. В летних номерах петроградского “Журнала для всех” (1917г.) помещен ряд статей с нападками на большевиков и на Ленина.
В 1918–1919 гг. Кольцов сотрудничал в газете ярко выраженного контрреволюционного направления “Киевское эхо”. В 1921 году, будучи направленным НКВД в Ригу для работы в газете “Новый путь”, Кольцов получал письма от кадетского журналиста Полякова-Литовцева, встречался в Риге с белоэмигрантскими журналистами, в частности с Петром Пильским. Тогдашняя жена Кольцова актриса Вера Юренева, приехавшая вместе с Кольцовым в Ригу, поддерживала тесное общение с белоэмигрантами.
Родной брат Кольцова — Фридляндер (историк) расстрелян органами НКВД как активный враг. Второй брат Кольцова — Борис Ефимов, троцкист, настроен резко антисоветски, обменивается своими враждебными взглядами с Кольцовым.
Материалами, поступившими в ГУГБ в последнее время, установлено, что Кольцов враждебно настроен к руководству ВКП(б) и соввласти и является двурушником в рядах ВКП(б). Зарегистрирован ряд резких антисоветских высказываний с его стороны в связи с разгромом активного правотроцкистского подполья в стране.
Его нынешняя жена Мария фон Остен — дочь крупного немецкого помещика, троцкистка. Кольцов сошелся с ней в 1932 году в Берлине. По приезде в Москву Остен сожительствовала с ныне арестованными как шпионы кинорежиссерами, артистами, немецкими писателями. Уехав вместе с Кольцовым в Испанию, Мария Остен бежала оттуда во Францию с немцем по фамилии Буш. По имеющимся данным, Кольцов усиленно покровительствовал враждебным соввласти элементам, в том числе позже расстрелянной шпионке немецкой актрисе Ка-ролле Нейер.
На основании изложенных данных считаю доказанной вину Кольцова Михаила Ефимовича в преступлениях, предусмотренных статьей 58–11 УК РСФСР, а потому полагал бы Кольцова Михаила Ефимовича арестовать и привлечь к ответственности пост. 58–11 УК РСФСР».
Такой вот документ — странный, нелепый, с множеством фактических ошибок. Скажем, настоящая фамилия Кольцова не Фридляндер, а Фридлянд. И никакого брата-историка не существовало. Правда, незадолго до этого действительно был расстрелян профессор МГУ Фридляндер, но никакого отношения к Михаилу Ефимовичу он не имел. Но Берия это не интересовало. Подумаешь, какой-то расстрелянный профессор, к тому же такой же еврей, как и Фридлянд, главное, выполнить указание вождя. Так Михаил Ефимович оказался во внутренней тюрьме Лубянки. Первый допрос состоялся 6 января 1939 года. Вел его сержант Кузьминов.
— Пятого января вам предъявлено обвинение, что вы являетесь одним из участников антисоветской правотроцкистской организации и что на протяжении ряда лет вели предательскую шпионскую работу. Признаете себя в этом виновным?
— Нет, — твердо ответил Кольцов. — Виновным себя в этом не признаю.
— Следствие вам не верит. Вы скрываете свою антисоветскую деятельность. Об этом мы будем вас допрашивать. Приготовьтесь!
Пока что Кольцов держится стойко, обвинения решительно отвергает и на компромисс со следователем не идет. Судя по всему, он не придал особого значения ни восклицательному знаку в конце фразы, ни зловеще-двусмысленному совету к чему-то там приготовиться. А зря! Допрос, состоявшийся 21 февраля, показал, что с Кольцовым основательно поработали заплечных дел мастера, и он понял, почему даже герои Гражданской войны, едва попав за решетку, мгновенно признаются в том, что они шпионы и агенты иностранных разведок. Больше того, видимо, усвоив, что раскаявшихся грешников любят не только на небесах, но и на Лубянке, Михаил Ефимович не только посыпал свою голову пеплом, называя себя двурушником и антисоветчиком, но и признавал себя создателем правотроцкистских групп в «Правде», «Огоньке» и Союзе писателей. Когда он начал называть хорошо известные имена, даже следователь насторожился и отложил карандаш.
— Предупреждаю вас, — сказал он, — вы должны говорить только правду и излагать факты, которые вам достоверно известны.
— Оговаривать я никого не намерен и говорить буду только правду. Начну с Лили Юрьевны Брик, которая с 1918 года являлась фактической женой Маяковского и руководительницей литературной группы «Леф». Состоящий при ней формальный муж Осип Брик — лицо политически сомнительное, в прошлом, кажется, буржуазный адвокат, ныне занимается мелкими литературными работами. Брики влияли на Маяковского и других литераторов в сторону обособления от остальной литературной среды и усиления элемента формализма в их творчестве. После смерти Маяковского группа лефовцев, уже ранее расколовшаяся, окончательно распалась. Супруги Брик приложили большие усилия, чтобы закрепить за собой редакторство сочинений Маяковского, и удерживали его в течение восьми лет. А вообще-то Брики в течение двадцати лет были самыми настоящими паразитами, базируя на Маяковском свое материальное и социальное положение. Далее — Эльза Триоле, сестра Лили Брик. Она — человек аполитичный, занятый своей лично-семейной жизнью. Последние десять лет замужем за французским поэтом Арагоном.
Илья Самойлович Зильберштейн — литератор, историк, пушкинист. Энергичный изыскатель старых литературных документов и неопубликованных рукописей. Однако отличается делячеством и стремлением заработать одновременно во многих редакциях и издательствах.
Всеволод Вишневский — писатель. По своему внутреннему содержанию человек анархистско-мелкобуржуазной закваски.
В своем поведении отличается хлестаковщиной и интриганством, стремясь через склоки занять первенствующее положение среди литераторов. В Испании однажды дошел до того, что, будучи пьяным, стал приставать к иностранным писателям с совершенно диким предложением: «Мы сегодня ночью в одном месте постреляли десяток фашистов. Приглашаю вас повторить это вместе».
Наталья Сац — театральный работник, директор детского театра. Человек очень пронырливый и карьеристический. Умело обделывала свои дела, используя протекции среди ответственных работников.
Владимир Антонов-Овсеенко — генеральный консул в Барселоне. О его деятельности я слышал весьма отрицательные отзывы, в особенности от испанских коммунистов. По их словам, всю свою энергию он направил на сближение с анархистами.
Стоп! Вот оно, вот то, чего так ждал от Кольцова следователь: дипломаты — это вам не пронырливые театралки и не забулдыги-писатели. Дипломаты — это серьезно. Дипломаты — носители государственных тайн и, конечно же, являются желанной добычей для иностранных разведок. Следователь Кузьминов учуял своим профессиональным нюхом, что взял совершенно новый и очень перспективный след.
— На одном из допросов вы уже признались в том, — начал он издалека, — что являлись агентом немецкой и французской разведок и вели шпионскую работу на территории СССР. Однако при этом вы скрыли ряд фактов и обстоятельств своей заговорщической работы. Следствию о них известно, но мне хотелось бы знать, намерены ли вы с целью облегчения своей участи сотрудничать со следствием и дальше? Намерены ли вы дать исчерпывающие и правдивые показания о своих изменнических делах и связях? Или сделаем перерыв и до утра вы побудете в камере?
— Нет-нет, — испугался Кольцов, так как знал, что в камере его станут зверски бить. — Я скажу. Я все скажу. Признаю, что я действительно скрыл свои связи с рядом участников антисоветской организации, существовавшей в Наркоминделе, о чем намерен дать следствию подробные и правдивые показания.
— А какое отношение вы лично имели к Наркоминделу?
— По роду своей журналистской деятельности в «Правде» мне часто приходилось общаться с руководящими работниками Наркоминдела. Я был близок с Уманским, Мироновым, Гнединым, Штейном и рядом других.
— Откуда все же вам известно о существовании заговорщической организации в Наркоминделе?
— В конце 1932 года в разговоре со мной у себя на квартире Константин Уманский, с которым я был связан по шпионской работе, сказал о том, что в Наркоминделе существует группа, которая не связана с троцкистами и тем не менее проникнута правобуржуазными взглядами как на международную, так и внутреннюю политику советского правительства.
— И все?
— Нет, не все. Он возводил клевету на политику ЦК партии, которая, по его мнению, отличается крайней нерешительностью в сближении с буржуазными странами.
— Но это, надо полагать, была не только его точка зрения?
— Да, таких же взглядов придерживались руководящие работники Наркоминдела: полпред в Италии Борис Штейн, полпред во Франции Яков Суриц, полпред в Англии Иван Майский, завотделом печати Евгений Гнедин и замнаркома Владимир Потемкин.
— Они высказывались об этом в открытую, при вас?
— Конечно. Ведь нас объединяла общность политических взглядов, которая заключалась в том, что связь с Германией нужно укреплять, а внутренний режим в СССР изменять в сторону капиталистического развития, внедрения буржуазно-демократических форм правления, привлечения иностранных капиталов и прихода к власти правых.
— Но вы-то, старый германский шпион, примкнув к заговорщикам, действовали по прямому заданию своих хозяев, не так ли?
— Это — само собой разумеется. Но, кроме меня, с немцами были связаны и Уманский, и Гнедин. Впрочем, линию на советско-германское сближение активно одобрял и Потемкин. А еще он говорил, что все мы должны помочь НКИДу перебросить мост через пропасть между СССР и Европой. При этом он подчеркивал, что это не только его личное мнение, но и мнение наркома Литвинова.
— А с Литвиновым вы встречались?
— Да, конечно.
— Он одобрял ваши взгляды?
— Не только одобрял, но и развивал. Он говорил, что надо добиваться отмены монополии внешней торговли, восстановления концессий, отмены религиозных преследований, создания парламентской трибуны, с которой можно будет добиваться настоящей свободы. Без этого говорить о мирном сожительстве с капиталистическими державами просто бессмысленно.
— И вы эти взгляды как-то пропагандировали?
— Не только я. Потемкин говорил об этом во время переговоров с Муссолини, Суриц — с Гитлером и Герингом, Штейн — с деятелями Лиги Наций. Потом, как вы знаете, Сурица перевели в Париж, а Потемкин, сдав ему дела, с большой неохотой уехал в Москву.
— С неохотой? Это почему же? Ведь его назначили заместителем наркома иностранных дел.
— Он боялся. Очень боялся. В 1937-м было так много арестов, что он панически боялся разоблачения.
— Но его не последовало?
— Да, не последовало. И Потемкин продолжал гнуть свою линию, причем с помощью Литвинова. Хорошо помню, что они оба резко отрицательно отнеслись к той помощи, которую Советский Союз начал оказывать республиканской Испании. Литвинов, например, говорил: «У них там нет никаких успехов, берут в день по одному пленному, а мятежники тем временем захватывают целые города. Из-за Испании СССР утратил свои международные связи. Эта война обречена на неудачу». А когда я уезжал в Испанию, Литвинов потребовал, чтобы я довел эту точку зрения до нашего главного военного советника Григория Штерна, который должен был, пользуясь своим положением, свернуть войну в Испании.
— Вы виделись со Штерном? Как он отреагировал на это предложение?
— Да, я с ним виделся. В личной беседе он мне заявил, что придерживается того же мнения, что и Литвинов, что война в Испании обречена на неудачу и что он сделает все от него зависящее, чтобы эту войну прекратить.
— А не оговариваете ли вы Штерна, чтобы прикрыть свою собственную подрывную работу в Испании?
— Я говорю так, как было в действительности, и понимаю, что оговор не облегчит, а, напротив, ухудшит мою участь.
— Ваши показания мы проверим. Но предупреждаю, что за ложь и оговор вы будете отвечать особо.
Кольцов ответил за все — и за ложь, и за оговор, и за то, чего он никогда не делал и не говорил. И хотя на суде, состоявшемся 1 февраля 1940 года, он от своих показаний отказался и заявил, что все они родились «из-под палки, когда его били по лицу, по зубам, по всему телу, и следователь Кузьминов довел его до такого состояния, что он вынужден был не только признать себя шпионом, но и дать показания на совершенно невинных людей», Михаила Ефимовича приговорили к расстрелу и на следующий день приговор привели в исполнение.
С Кольцовым было покончено, здесь росчерк красного карандаша свое черное дело сделал. Теперь настал черед тех, на кого он дал хоть и дезавуированные на суде, но вполне конкретные показания.
ВЛАДИМИР АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО
Неординарным поведением сын поручика резервного пехотного полка Александра Овсеенко отличался с самого раннего детства. То пропадал неизвестно где, то приносил одни двойки, а в довершение всех бед взял и сбежал из дома, причем сделал это из идейных соображений. «В семнадцатилетнем возрасте я порвал с родителями, — писал он несколько позже, — ибо они были люди старых, царских взглядов. Знать их больше не хотел! Связи по крови ничего не стоят, если нет иных». И все же он пошел по пути отца и поступил в Николаевское военно-инженерное училище.
Казалось бы, живи и радуйся, но будущий прапорщик отмочил очередной номер: отказался присягать на верность царю и Отечеству, объяснив это «органическим отвращением к военщине». Само собой разумеется, из училища его отчислили и вышвырнули на улицу. Но Владимир и не думал сдаваться, он рванул в Санкт-Петербург и, несмотря на свое отвращение к военщине, поступил в пехотное юнкерское училище. На этот раз он благополучно доучился до последнего курса, принял присягу и в звании подпоручика был направлен в дислоцированный в Варшаве пехотный полк. Надо сказать, что к этому времени он стал членом РСДРП и занимался активной пропагандистской деятельностью среди солдат.
Потом он из армии дезертировал, перешел на нелегальное положение, пытался организовать военное восстание, был арестован, приговорен к смертной казни, но по амнистии расстрел заменили 20-летней каторгой. Перед самой отправкой на каторгу ему удалось бежать и перебраться за границу. Там он примкнул к меньшевикам и подружился с Троцким, который оставил о нем такие воспоминания: «Антонов-Овсеенко по характеру импульсивный оптимист, гораздо больше способный на импровизацию, чем на расчет. В качестве бывшего маленького офицера, он обладал кое-какими военными сведениями. Во время большой войны, в качестве эмигранта, он вел в парижской газете “Наше слово” военный обзор и нередко проявлял стратегическую догадку».
Февральская революция позволила Антонову-Овсеенко в июне 1917 года вернуться в Россию, где он сразу же вступил в партию большевиков. В качестве секретаря Петроградского военно-революционного комитета Антонов-Овсеенко принимал активнейшее участие в Октябрьском вооруженном восстании. Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» вспоминал:
«В одной из комнат верхнего этажа сидел тонколицый, длинноволосый человек, математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто Овсеенко, по кличке Антонов. Руководил действиями красногвардейцев, революционных солдат и матросов во время штурма Зимнего дворца, после чего арестовал Временное правительство. На проходившем в это время II Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 года Антонов-Овсеенко доложил депутатам о заключении в Петропавловскую крепость министров Временного правительства».
В декабре 1917-го Антонов-Овсеенко, имевший военное образование, что было редкостью среди большевистского руководства, был направлен на Юг руководить боевыми действиями против казаков атамана Каледина. Во главе южной группы советских войск Антонов-Овсеенко вступил в Харьков и приступил к формированию Украинской советской армии, действовавшей против немцев и петлюровцев. Не церемонился он и со всякого рода классовыми врагами. Когда владельцы харьковских предприятий отказались выплатить рабочим заработную плату, протестуя против введения 8-часового рабочего дня, Антонов-Овсеенко посадил 15 предпринимателей в вагон поезда и потребовал от них миллион наличными, угрожая в противном случае отправить их на работу в рудники. Эту акцию активно поддержал Ленин, отправив ему срочную телеграмму: «Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники. Ещё раз приветствую вас за решительность и осуждаю колеблющихся».
В эти же дни Антонов-Овсеенко впервые проявил себя как дипломат: во главе советской делегации он был направлен в Берлин для ведения переговоров с представителями германского Генштаба о возможных совместных акциях против войск Антанты, высадившихся на Севере страны.
По окончании Гражданской войны он был переведен на хозяйственную работу, но ненадолго. В августе 1920 года вспыхнуло массовое крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Подавление тамбовского восстания стало приоритетной задачей советской власти. Полномочная комиссия ВЦИК во главе с Антоновым-Овсеенко сосредоточила в своих руках всю власть в Тамбовской губернии и добилась того, что в этот район были переброшены крупные воинские формирования и боевая техника, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Численность красноармейцев достигла 100 тысяч человек, и командовал этой армией прославившийся при подавлении Кронштадтского мятежа Михаил Тухачевский.
Общий язык Тухачевский и Антонов-Овсеенко нашли быстро и в боевых операциях против тамбовских крестьян применяли все имеющиеся в их распоряжении средства, включая авиацию, артиллерию и даже газы, не говоря уже о массовых расстрелах заложников.
В 1922 году Антонов-Овсеенко был назначен начальником политуправления Реввоенсовета республики. Активно выступая против усиления власти Сталина, он поддержал Троцкого и даже пригрозил поднять всю Красную армию на защиту Троцкого, если кто-либо вздумает его тронуть. Как известно, Сталин ничего не забывал и таких обид не прощал. Через пятнадцать лет Антонову-Овсеенко напомнят об этом демарше и поставят к стенке. Но тогда защищать Троцкого не пришлось, а вот зарвавшегося начальника политуправления от должности отстранили и, от греха подальше, отправили полпредом в Чехословакию. Потом были Литва, Польша и, что особенно важно, Испания, где он выполнял обязанности генерального консула СССР в Барселоне.
О том, что творилось тогда в Испании, написаны сотни книг, но ни в одной из них нет эпизода, который я узнал из уст непосредственного участника этих событий Николая Лященко, который в качестве советника провел в Испании почти два года. Я расскажу об этом так, как в конце 1990-х рассказывал он, к тому времени генерал армии и Герой Советского Союза.
«Раньше я об этом не рассказывал — уж очень поганая история, но что было, то было. Думаю, настала пора об этом рассказать. Это случилось на аэродроме Барахас, что неподалеку от Барселоны. Я приехал туда, чтобы отчитаться Антонову-Овсеенко о своей поездке на передовую. И вдруг над аэродромом появился немецкий “юнкерс”. Он шел без всякого прикрытия и, сделав разворот над аэродромом, сбросил на парашюте какой-то ящик. Я было бросился к ящику, но Овсеенко меня остановил:
— Куда, дурья башка?! Там может быть мина. Вызвать саперов!
Когда, соблюдая предосторожности, саперы вскрыли ящик, оттуда пахнуло такой мертвечиной, что некоторых тут же вырвало. А когда отдернули лежащую сверху тряпку, не выдержал и я: в ящике лежал изрубленный на куски труп. Руки, ноги, голова валялись отдельно, а тело превращено в груду окровавленного мяса. Когда же на дне нашли обрывки униформы летчика, стало ясно, что это было местью немецких асов за сбитые самолеты, ведь страшный груз сбросил “юнкере” с эмблемой “Кондора”.
Тут же выяснилось, что накануне с задания не вернулся летчик-истребитель Хосе Галарс, которого ранили в воздушном бою. Капитан Галарс сделал вынужденную посадку на территории противника и попал в плен, именно он стал жертвой арийских мясников.
Испанцы хотели как можно быстрее его похоронить, уж очень нестерпимым был трупный запах, но Антонов-Овсеенко попросил не спешить и по рации вызвал на аэродром генерала Дугласа, на самом деле Якова Смушкевича — нашего главного советника по авиации. Когда тот приехал, то, прежде всего, пригляделся к голове трупа. А потом выдал такой семиэтажный мат по адресу Гитлера, Франко и всей их фашистской камарильи, что даже мы, привыкшие к окопной жизни, затыкали уши.
— Я так и думал, — мрачно заметил наш генеральный консул. — Но ты уверен? — спросил он у Смушкевича. — Абсолютно уверен?
— Да он это, он, — горестно ответил Дуглас. — Володька Бочаров. Вологодский парень. Я же писал представление о его награждении орденом Красной Звезды.
— А что это за записка? — достал Овсеенко какую-то бумажку из кармана капитана Бочарова. — Эге, да это тебе, — протянул он записку Смушкевичу.
— Ну-ка, ну-ка, — развернул бумажку Смушкевич и начал читать вслух: — “Это подарок командующему воздушными силами красных. Пусть знает, что ждет его самого и его большевиков”. Вот наглецы! — взорвался Смушкевич. — Башки бы им поотрывать!
— За этим дело не станет, — сквозь зубы процедил Антонов-Овсеенко. — А я сброшу на них такую бомбу, что не отмоются до Страшного суда!
В тот же вечер Антонов-Овсеенко собрал пресс-конференцию для всех работающих в Испании журналистов и рассказал о происшествии на аэродроме Барахас. После публикации фотографий останков капитана Галарса и интервью Антонова-Овсеенко весь мир буквально содрогнулся. Парламенты требовали разорвать отношения со всеми пособниками Франко, посыпались запросы в Лигу Наций, оттуда в Берлин. Дошло до того, что публичные извинения вынужден был приносить не кто иной, как командующий люфтваффе Германии Геринг», — закончил свой рассказ Лященко.
Казалось бы, огромная политико-дипломатическая заслуга Антонова-Овсеенко налицо, но то ли Сталин вспомнил об обиде пятнадцатилетней давности, то ли сыграли свою роль показания Кольцова, но из Испании его отозвали, арестовали, судили, приговорили к смертной казни и 10 февраля 1938 года расстреляли.
ГРИГОРИЙ ШТЕРН
Все началось с того, что в далеком 1932 году японские войска вторглись на территорию Маньчжурии и создали марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с последним императором цинской династии Пу И. Так как император был не более чем декоративной фигурой и всеми делами в якобы независимом государстве заправляли японцы, Маньчжурия стала превращаться в плацдарм для нападения на Советский Союз: в бешеном темпе строились дороги, аэродромы, укрепрайоны и другие военные объекты.
Через шесть лет все было готово. Не откладывая дела в долгий ящик, японский Генеральный штаб разработал директиву с весьма недвусмысленным названием: «Основные принципы плана по руководству войной против Советского Союза». Задачей первого этапа был захват Приморья и Северного Сахалина. Затем — «быстрое разрушение транссибирской железной дороги в районе Байкала с тем, чтобы перерезать главную транспортную артерию, связывающую Европейскую часть с Сибирью».
С чисто азиатским коварством японцы начали готовить мировое общественное мнение, раструбив во всех газетах, что земли в районе озера Хасан всегда принадлежали Маньчжурии, а высоты Безымянная и Заозерная — чуть ли не святыни маньчжурского народа. 15 июля 1938 года японский посол в СССР предъявил требование снять с этих высот погранпосты, а через пять дней потребовал вывести всех пограничников из района озера Хасан, так как и высоты, и озеро принадлежат независимому государству Маньчжоу-Го.
В Наркомате иностранных дел подняли Хунчунский протокол, подписанный еще в 1886 году, где было четко сказано, что эти земли принадлежат России. Но японцы не обратили на это никакого внимания. Больше того, они подтянули к границе три пехотные дивизии, механизированную бригаду и кавалерийский полк. К устью реки Тумень-Ула подошел крейсер, а за ним 14 миноносцев и 15 военных катеров.
29 июля японцы ринулись на Безымянную. Их было более двухсот человек, а защищал высоту наряд из одиннадцати пограничников. И хотя бой был неравный, к тому же почти половина пограничников погибла, они не отошли и дождались подмоги. Враг был отброшен, но ненадолго.
Перегруппировав свои силы, японцы бросились на Заозерную. На высоте было всего тридцать пограничников и взвод саперов, а штурмовали ее два японских полка. Сопротивление было яростным, дело доходило до штыковых контратак, саперы подрывались вместе с противником, но силы были неравны, и 31 июля обе высоты отошли к японцам.
Плохо подготовленные попытки отбить высоты успеха не имели. И тогда из состава Дальневосточного фронта был выделен 39-й стрелковый корпус, основательно усиленный танками, самолетами и артиллерией. К 5 августа в районе озера Хасан было сосредоточено более 15 тысяч солдат, 285 танков, 237 орудий и 250 самолетов. В море вышли боевые корабли и подводные лодки.
Командовал этими силами комкор Штерн. Действиями авиации руководил комбриг Рычагов. 6 августа Штерн отдал приказ о переходе в наступление. Как только развеялся туман, Рычагов поднял в небо 180 бомбардировщиков и 70 истребителей. Бомбовый удар по высотам был страшный! Потом в дело вступила артиллерия. А в 17.00 поднялась пехота.
Японцы сопротивлялись так яростно, что с Заозерной их выбили лишь 8 августа. А на следующий день была освобождена и Безымянная.
Самураи тут же запросили мира, и 11 августа военные действия были прекращены.
Москва ликовала! Москва праздновала победу и чествовала победителей. Шесть с половиной тысяч участников боев были награждены орденами и медалями, а 26 бойцов и командиров удостоены звания Героя Советского Союза.
Не были забыты и Штерн с Рычаговым: за успешное руководство боевыми операциями им были вручены ордена Красного Знамени. Но главное не ордена, главное — то, что они были признаны в своей среде и приняты в когорту надежных и умелых военачальников. Это было отражено в приказе наркома обороны от 4 сентября 1938 года:
«Японцы были разбиты и выброшены за пределы нашей границы благодаря боевому энтузиазму наших бойцов, младших командиров, среднего и старшего командно-политического состава, готовых жертвовать собой, а также благодаря умелому руководству операциями против японцев т. Штерна и правильному руководству т. Рычагова действиями авиации».
Казалось бы, такая оценка полководческих талантов Штерна и Рычагова сулила им новые ордена, новые посты и новые звания. Впрочем, так оно и было: Штерну присвоили звание генерал-полковника и назначили командующим ПВО страны, а Рычагов, которому не было и тридцати, получил звание генерал-лейтенанта и должность начальника ВВС Красной армии. Оба были избраны депутатами Верховного Совета СССР, оба стали Героями Советского Союза, и оба… расстреляны в октябре 1941 года как заговорщики, террористы, шпионы и враги народа.
Разобраться в их делах и их трагических судьбах до сих пор никто не пытался. Не буду рассказывать, как мне это удалось, но, несмотря на строжайшие запреты, до их уголовных дел я все же добрался. А запреты были более чем серьезные. Скажем, папка с делом Штерна имеет гриф «Хранить вечно». Ачего стоит приписка: «Дело без разрешения начальника отдела “А” МГБ СССР на просмотр не выдавать и на запросы не высылать»! А вот дело Рычагова было запрещено выдавать «Без разрешения следчасти по особо важным делам НКГБ СССР».
По большому счету, Штерна можно обвинить только в том, что, как он сам говорил, «был доверчив к людям и излишне болтлив». Но так как для вынесения расстрельного приговора такого обвинения мало, пришлось за Григория Михайловича взяться всерьез.
Дело № 2626 по обвинению Штерна Григория Михайловича начало 16 июня 1941 года. Обратите внимание на следующие даты: арестован Штерн 7 июня, в то время как постановление на арест подписано 9 июня. Можно ли арестовывать без соответствующего постановления? В соответствии с законом нельзя, но если очень хочется, то можно.
Как и положено, на этом постановлении есть визы заместителя наркома госбезопасности Меркулова, прокурора Бочкова и, что совершенно неожиданно, Семена Михайловича Буденного. Главный конник страны согласие на арест дал 10 июня, причем свою размашистую подпись сделал зелеными чернилами. Не знаю, пользовался ли он красными, но при желании эту подпись можно рассматривать как зеленый свет на все последующие действия.
Как следует из этого документа, Штерн подозревался в троцкистской и заговорщической деятельности. Изобличал его в этом известнейший в те годы журналист Михаил Кольцов, который в 1939-м был арестован, а в 1940-м расстрелян. Под пытками у Михаила Ефимовича выбили соответствующие показания и теперь дали им ход. В том же духе высказались бывшие начальники Разведуправления РККА — тоже расстрелянные — Урицкий и Берзин, назвавшие Штерна членом заговорщической группы. Еще дальше пошел бывший военный атташе во Франции Венцов, который заявил, что неистовым троцкистом Штерн стал еще в 1931 году, когда группа красных командиров была командирована для учебы в Германию.
По тем временам такого рода показаний для ареста было вполне достаточно. В тот же день был проведен и обыск. Среди изъятых книг, рукописей и документов упоминаются «черновики его писем Сталину и Ворошилову о клевете на 44 листах», какие-то письма от «дяди Саши из Германии», множество секретных бумаг о боевых действиях в Испании, Финляндии, на Халхин-Голе и Хасане.
Кроме того, в описи упоминаются два ордена Ленина, два — Красного Знамени, а также орден Красной Звезды, медали, депутатский значок и Золотая Звезда Героя Советского Союза № 154.
А вот и анкета арестованного. Из нее следует, что Григорий Михайлович Штерн родился в 1900 году в городе Смела Киевской губернии. Отец — врач, мать — домохозяйка. Национальность — еврей. Женат. Двое детей. Член ВКП(б) с 1919 года. Окончил Академию имени М.В. Фрунзе.
На первом же допросе Штерну заявили, что он арестован за «проводимую на протяжении ряда лет активную и сознательную вражескую работу в рядах Красной Армии».
— Я никогда сознательной вражеской работы не проводил! — возмутился Штерн. — И ни в какой контрреволюционной организации не состоял.
— Ваши попытки скрыть от следствия правду будут разоблачены показаниями ваших соучастников по заговору, — многообещающе заметил следователь. — Предлагаю вам приступить к правдивым показаниям.
— Врагом советской власти я никогда не был, — решительно заявил Штерн.
— Вы умело маскировались под честного советского командира, — поддел его следователь, — а на самом деле всегда были врагом родины и партии.
Враг Родины и партии… Более страшного обвинения в те годы пожалуй что не было. Штерн прекрасно понимал, что может последовать, если он не докажет обратного или… не уведет следователя в сторону, признавшись в чем-то другом. И он, как тогда было принято, занялся самокритикой.
— В моей работе было много грубых ошибок, — начал он. — Я был самонадеян и подчас выдвигал плохо продуманные предложения. Я был слишком доверчив к людям, небдителен и излишне болтлив, допуская высказывания, которые можно квалифицировать как антисоветские. У меня были личные обиды и недовольство отношением ко мне некоторых работников Наркомата обороны. Порой я не проявлял обязательной для большевика выдержки и принципиальности.
Закончил он опять же, как тогда было принято, беспощадным самоосуждением:
— Я не оправдал высокого доверия партии, за что заслуживаю самого сурового наказания.
Для выступления на партийном собрании этих слов вполне достаточно, чтобы получить «строгача», но в партии остаться. А вот для того, чтобы получить право на жизнь и избежать расстрельного приговора, такого рода признаний маловато — это ему дал понять следователь на следующем же допросе.
— Вы сказали, что допускали много грубых ошибок. Что это за ошибки?
— Прежде всего, их было немало во время испанских событий 1937–1938 годов. Будучи там главным военным советником, я не добился радикальной очистки республиканской армии от предательских элементов среди командного состава армии. Провалил наступательные операции в районе Брунете и Теруэля. Не обеспечил разворота промышленности на военные нужды.
— Вы только что упомянули о предательских элементах, то есть о хорошо известной «пятой колонне». Какие у вас были контакты с представителями этой «колонны» и когда они завербовали вас в свои ряды?
— Меня? Завербовали? Да как вы смеете?
— Смею, смею! Не вы ли разрешили обменять наших пленных моряков на фашистских врачей, которые проникли в республиканский госпиталь. Ведь вы же знали, что эти подонки в массовом порядке ампутировали раненым бойцам руки и ноги. Этим ребятам достаточно было перевязки, а их калечили.
— Да, я об этом знал, — уронил голову Штерн. — Больше того, я знал, что на суде эти изверги заявили, что именно так вносили свой вклад в дело борьбы с коммунистическим режимом. Республиканский суд вынес им расстрельный приговор, но в исполнение его не привели.
— Почему?
— Потому что в это дело вмешался я.
— Вот видите! — обрадовался признанию следователь. — И при этом вы отрицаете связь с «пятой колонной»?
— Нет, не отрицаю. В этом деле я действительно имел прямой контакт с руководством этой чертовой «колонны». Другого выхода у меня просто не было. Так случилось, что франкисты потопили два наших парохода. Экипажи, а это около семидесяти человек, на дно, к счастью, не пошли и оказались в плену у фашистов. В плену же были четверо наших летчиков, которые выбросились с парашютами из подбитых самолетов. Всем им грозил расстрел. Надо было наших ребят спасать. Но как? И тогда я пошел на сделку: мы отдаем франкистам врачей, а они нам — всех наших пленных. Но я фашистскую камарилью переиграл, — не без гордости заметил Штерн. — Врачей я им вернул не всех, а только тех, кто не мог калечить раненых бойцов, — стоматологов, кардиологов, ревматологов, офтальмологов и, конечно же, терапевтов. Согласитесь, что тот же терапевт или стоматолог не мог отрезать руку или ногу, для этого нужна специальная подготовка. Ну а с хирургами поступили в соответствии с приговором республиканского трибунала.
— А наши моряки вернулись домой?
— Конечно. Куда же им было деваться?
— Разберемся, — многообещающе посулил следователь. — Не исключено, что, пока они были в плену, кто-нибудь да дрогнул и согласился работать на фашистов. Хорошо, с этим вопросом ясно: контакты с «пятой колонной» у вас были, и вы это не отрицаете. А какие еще, как вы говорите, грубые ошибки были в вашей жизни?
— Во время финской кампании я командовал 8-й армией. Разгром 18-й дивизии, которая входила в состав 8-й армии, на моей совести. В те дни, когда ударили 50-градусные морозы, надо было отвести ее на заранее подготовленные позиции, а я этого не сделал. И тогда финны ударили по флангу. Участь дивизии была предрешена, погибло более шести тысяч человек. Распыленное использование авиации — тоже моя ошибка.
— Смотря как на это смотреть, — сурово заметил следователь. — Одни в этом могут увидеть ошибки, которые случаются с каждым командиром, а другие — вражескую работу. Но мы еще к этому вернемся… А что за личные обиды, о которых вы говорили на предыдущем допросе?
— Их было немало, — вздохнул Штерн. — Как известно, перед началом боев у озера Хасан я был начальником штаба Дальневосточного фронта, а потом командовал корпусом, который разгромил японцев. Когда фронт был ликвидирован, мне доверили 1-ю отдельную Краснознаменную армию. И вдруг снимают! Я страшно обиделся и считал, что это сделано с подачи заместителей наркомов обороны Кулика и Мерецкова, с которыми у меня сложились неприязненные отношения еще в Испании.
А чего стоило исключение моего имени из числа руководителей Халхин-Гольской операцией! В те дни я возглавлял фронтовое управление, которое осуществляло координацию действий советских и монгольских войск. И вдруг в изданном в 1940 году официальном описании операции я не нахожу своего имени. Как будто я там и не был!
Следователь оторвал глаза от мелко исписанных листов протокола и, быть может, впервые в жизни сочувственно посмотрел на подследственного. Ведь не дурак же этот генерал-полковник, но глух и слеп, как несмышленый ребенок. Неужели он не понимает, что отстранение от командования армией и особенно исключение из числа руководителей боев на Халхин-Голе было серьезнейшим звонком, а проще говоря, предупреждением о грядущем аресте?! Но с другой стороны, если и понимал, то что мог сделать? Из Страны Советов не сбежишь. Граница на замке. А замок вешали такие же, как этот Штерн.
— Ну хорошо. С личными обидами все ясно. А как понимать ваши показания об излишней болтливости? — вернулся к бумагам следователь.
— Очень просто. В разговорах с сослуживцами, особенно с начальником ВВС генерал-лейтенантом Рычаговым и помощником начальника Генштаба по ВВС генерал-лейтенантом Смушкевичем, я высказывал недовольство фактами необоснованных арестов в 1937–1938 годах.
— Почему вы не говорите ни слова о своей вражеской работе в Красной армии? — нажал на Штерна следователь.
— А я такой работы не вел! — отрезал Григорий Михайлович.
Такая решительная позиция следователю очень не нравилась — от него требовали признательных показаний. Чтобы их получить, следователь отдал Штерна, как тогда говорили, «в работу». Что это была за «работа», мы еще узнаем, правда, через много лет, а пока что результаты этой «работы» появились почти немедленно.
21 июня 1941 года, за несколько часов до нападения Германии на Советский Союз, Штерну предъявили обвинение в том, что он «является участником антисоветской заговорщической организации, проводил подрывную работу по ослаблению военной мощи Советского Союза, а также занимался шпионской работой в пользу иностранных разведывательных органов».
Штерн все отрицал. И тогда его снова отдали «в работу».
27 июня начальник следственной части майор Влодзимирский и старший лейтенант Зименков организовали очную ставку Героя Советского Союза Григория Штерна с дважды Героем Советского Союза Яковом Смушкевичем. Яков Владимирович блестяще проявил себя в Испании, потом командовал авиагруппой на Халхин-Голе, был начальником, а затем генеральным инспектором ВВС Красной армии. Короче говоря, его знала и любила вся страна, но он тоже оказался на Лубянке. Ему бы — воздушную армию, а Штерну — стрелковый корпус и — в дело, на фронт, немцы-то наступают, почти не встречая сопротивления. Но вместо этого их держат во внутренней тюрьме и без конца таскают на допросы.
А теперь еще и очная ставка. У Смушкевича первым делом спросили, в чем он признает себя виновным.
— В том, что являлся участником заговора в Красной армии, направленного против советской власти, и что был германским шпионом.
— А Штерн? Он являлся участником этого заговора?
— Да, являлся. Я с ним находился в непосредственной связи.
— Правду ли говорит Смушкевич? — поинтересовались у Штерна.
— Да, — подтвердил Штерн. — Я действительно являлся участником военного заговора.
— Были ли вы, Смушкевич, связаны со Штерном по шпионской работе?
— Да, Штерн так же, как и я, являлся германским шпионом. Об этом я знаю от Мерецкова, как, впрочем, и от самого Штерна. Он говорил об этом еще в Испании, когда в январе 1937-го мы оказались в Мадриде.
— Будете ли вы, Штерн, и теперь отрицать свою шпионскую связь со Смушкевичем?
— Нет. Смушкевич говорит правду.
Все, эта очная ставка показала, что так называемая «работа», а это жесточайшие пытки, дала свои результаты: несгибаемый Штерн сломлен и обречен. Признать себя немецким шпионом в то время, когда Германия ведет войну с Советским Союзом, значит, самому себе подписать смертный приговор. Думаю, что Григорий Михайлович это понимал и больше ничего не отрицал, тем самым приближая неизбежный конец. Из него тянули имена — и он назвал всех своих сослуживцев, от него требовали деталей — и он расписывал тайные встречи с немецкими агентами, присланными самим Кейтелем.
По существующим тогда правилам, в конце каждого протокола допроса подследственный ставил свою подпись и делал приписку: «Протокол допроса записан с моих слов правильно и мною прочитан». Есть такие подписи и приписки на всех протоколах допроса Штерна. И вдруг на одном из протоколов сделанная дрожащей рукой приписка, совершенно не укладывающаяся в задуманный следователем сценарий.
«Все вышеуказанное я действительно показывал на допросе, но все это не соответствует действительности и мною надумано, так как никогда в действительности врагом народа, шпионом и заговорщиком не был.
Штерн».Бесследно для Григория Михайловича этот поступок не прошел, его снова отдали «в работу». Но на этот раз бериевские костоломы явно перестарались: пришлось вызывать врачей, причем не только травматологов, но и психотерапевтов. Обследовав Штерна, они пришли к выводу, что никакой психической болезнью он не страдает и вполне вменяем.
Это значит, что его снова можно бить, пытать и терзать многочасовыми допросами. Теперь Штерн стал куда сговорчивее и подписывал практически все, что ему подсовывал следователь.
А17 октября 1941 года, в тот день, когда фашистские войска вышли к окраинам Москвы, доблестные советские чекисты вынесли заключение по делу № 2626. Перечислив все прегрешения Штерна, а также отметив, что «сперва он признал себя виновным, но потом от показаний отказался», они полагали бы (была тогда такая странная формулировка) Штерна Григория Михайловича расстрелять.
28 октября приговор был приведен в исполнение.
И — все! Еще одним военачальником, способным грамотно противостоять Кейтелю, Манштейну и Гудериану, стало меньше. Так что победы германского оружия ковались не только в немецком Генштабе и на заводах Круппа, но и в подвалах Лубянки.
ПАВЕЛ РЫЧАГОВ
Уроженец деревни Лихоборы Московской области Павел Рычагов сделал прямо-таки фантастическую карьеру. После семилетки он учился в военной школе летчиков, потом командовал эскадрильей, бригадой, отличился в Испании, блестяще проявил себя на Хасане и Халхин-Голе, удостоен звания Героя Советского Союза, избран депутатом Верховного Совета СССР, а когда ему не было и тридцати, стал начальником Военно-воздушных сил всей страны.
Первое время простоватость и прямота молодого генерала нравились Сталину. Удовлетворенно попыхивая трубкой, он с интересом наблюдал за тем, как Рычагов, невзирая на чины и должности, спорит с маршалами и секретарями ЦК, отстаивая интересы военных летчиков. Но однажды, когда на заседании ЦК рассматривались причины участившихся аварий и необъяснимых падений самолетов, Сталин произнес весьма едкую фразу, отметив низкую квалификацию летчиков.
Рычагов буквально взвился! В авариях он винил конструкторов и их сделанные по принципу тяп-ляп, самолеты. Сталин взял конструкторов под защиту, заметив, что плохому танцору всегда кое-что мешает. Рычагов побагровел и рубанул сплеча:
— Ну и летайте на этих гробах сами!
Повисшую в кабинете тишину иначе, как смертельной, назвать было нельзя… Сталин с нескрываемым удивлением посмотрел на распустившегося мальчишку, которого лично он вытащил из самых низов, и, вытряхнув трубку, бросил:
— Мы об этом подумаем.
Сейчас уже трудно сказать, с этого приснопамятного заседания началась оперативная разработка Рычагова или с чего другого, но вот что поразительно. 22 июня прямо на аэродромах была уничтожена большая часть советской авиации, с этого дня каждый летчик и каждый самолет были на вес золота, а командующего ВВС отправляют в отпуск. Да-да, получив отпускной билет, 24 июня Рычагов отправился к морю.
Но — не доехал. Генерала Рычагова арестовали в Туле, причем прямо в поезде. В тот же день его доставили в Москву, произвели обыск на квартире, а жил Павел Васильевич в печально известном Доме на набережной, и завели на него дело под № 2930.
В постановлении на арест, которое датируется 27 июня, то есть опять-таки задним числом, говорится, что Рычагов «является участником антисоветской заговорщической организации и проводит враждебную работу, направленную на ослабление мощи Красной Армии». Выходит, что, правильно руководя действиями авиации на Хасане и Халхин-Голе, как это говорится в приказе Ворошилова, Рычагов только и делал, что ослаблял мощь Красной армии? Бред, да и только!
На самом деле мощь Красной армии ослабляли те, кто последовательно и систематично уничтожали всех более или менее ценных военачальников, ведь даже во время войны они погибали не от немецких, а от русских пуль. Чью это приближало победу и на кого работало, понятно даже ребенку. Но в те годы такого рода действия считались проявлением высшей мудрости горячо любимого вождя народов.
Формальным поводом для ареста Рычагова послужили выбитые под пытками показания другого известного летчика — Якова Смушкевича, который заявил, что они вместе с Рычаговым высказывали «недовольство партией и правительством и договорились совместными усилиями срывать вооружение ВВС».
Как только речь зашла о вооружении ВВС, очень кстати пришлись показания бывшего наркома оборонной промышленности, впоследствии трижды Героя Соцтруда Бориса Ванникова. Пока он говорил о плохих пулеметах и скверных авиационных пушках, на выпуске которых якобы настаивал Рычагов, следователь слушал вполуха, но, как только Ванников упомянул Сталина, следователь схватился за ручку.
— Однажды, когда я был в кабинете Рычагова, ему позвонил товарищ Сталин, — рассказывал Ванников. — Выслушав Сталина, Рычагов швырнул трубку и начал ругать его площадной бранью за вмешательство вождя в сугубо технические вопросы. «Такое повседневное вмешательство только дезорганизует управление, — кричал Рычагов, — и подрывает мой авторитет как начальника ВВС. Мне это надоело, пусть садится здесь и сам командует». И опять площадно ругался.
В другой раз, когда ему попало на совещании в ЦК, Рычагов снова площадно ругал товарища Сталина и говорил: «Я заставлю его относиться ко мне как следует. И вообще, такое отношение ко мне ни к чему хорошему не приведет».
Как в воду смотрел генерал Рычагов — ни к чему хорошему его близость к вождю не привела. Но некоторое время старые симпатии Сталина давали себя знать: на допросах его не били, не говорили, что он японский шпион и вступил в сговор с Герингом. Да и следователь попался какой-то странный, худенький, лысенький, в роговых очочках, к тому же все время нырял в груду книг, которыми был завален его стол.
— Вот ведь незадача, — досадовал он, — сколько не ищу, никак не могу найти автора мудрейшего изречения: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
— Может, кто-нибудь из древних греков — Гомер, Сократ или Геродот? — подсказал Рычагов
— Едва ли… Хотя чем Зевс не шутит, — обнажил он в делано дружелюбной улыбке два ряда стальных зубов. — А, кстати говоря, вы согласны с этим изречением? Вы бы изменили мнение о хорошо знакомом человеке, если бы узнали, что среди его друзей есть жулики, предатели и враги народа?
— Конечно, — не задумываясь, ответил Рычагов. — Я бы не только изменил свое мнение, но и прервал бы с ним какие-либо отношения… И сообщил бы куда следует, — вспомнив, где он находится, после паузы добавил Рычагов.
— А если такой человек что есть мочи вас нахваливает, на каждом углу воспевает ваши подвиги, да еще не устно, а письменно — в газетах, книгах и журналах, тогда бы сообщили куда следует?
— Я хорошо знаю, что если тебя хвалит враг, значит, он считает тебя своим, значит, где-то, в чем-то ты допустил серьезную ошибку, значит, ты стал на скользкий путь, который может привести тебя в стан врагов.
— Красиво говорите, — изобразил нечто вроде аплодисментов следователь. — А вот на деле… Вы с Кольцовым знакомы? — резко изменил тему следователь.
— Знаком… То есть был знаком, пока его не… — замялся Рычагов.
— Договаривайте, договаривайте… Вы хотите сказать, пока его не арестовали и не приговорили к расстрелу как немецкого и французского шпиона и врага народа? А его «Испанский дневник» вы читали, ведь он был издан баснословным тиражом?
— Честно говоря, нет. То полеты, то испытания новых машин, то поиски причин аварий, — развел руками Рычагов.
— Ничего, это дело поправимое. Вот одно из изданий «Испанского дневника». Я тут заложил пару страничек, так что, если не затруднит, почитайте вслух.
— Пожалуйста, — пожал плечами Рычагов, — вслух так вслух.
«Не такими уж огромными оказались ящики с якобы французской мебелью, которые мулы через территорию Андорры дотащили до испанской границы, где эту “мебель” ждали грузовики. А через три дня в воздух поднялись тридцать первоклассных истребителей И-15. В Советском Союзе их называли “чайками”, а в Испании “чатос”, то есть “курносые”: из-за большого радиатора они и в самом деле выглядели как задиристые курносые мальчишки.
Возглавлял эту группу Пабло Паланкар, который по-испански знал не более десятка слов, но в воздухе вел себя как потомственный тореро. Никогда не забуду один воздушный бой, свидетелем которого я стал.
Накануне нас всю ночь бомбили “юнкерсы”, они бесновались с одиннадцати вечера до пяти утра. Больше всего досталось госпиталям. Беспрерывно дрожали стены, звенели разбитые стекла, истерически кричали раненые. Лазарет, размещенный в отеле “Палас”, превратился в кровавый сумасшедший дом.
На рассвете бомбежки стихли, видимо, нужно было заправить самолеты и подвесить новые бомбы. Но вот из-за фашистского воронья небо снова стало черным. Завыли сирены, и люди помчались в переделанные под бомбоубежища подвалы, которые зачастую превращались в братские могилы.
И вдруг — я глазам не поверил, люди остановились и, задрав головы, устремили глаза в небо. Когда я посмотрел вверх, то чуть не зааплодировал: откуда-то сверху на обнаглевшие от безнаказанности “юнкерсы” навалилось два десятка “курносых”. Они врезались в сомкнутый строй бомбардировщиков, пять тут же подожгли, а остальные заметались, не понимая, что за истребители их атакуют.
А мадридцы с нескрываемым восторгом наблюдали за акробатическими фигурами высшего пилотажа, за боевыми разворотами и, как в неистовую мелодию фламенко, вслушивались в гул и стрекот пулеметных очередей. Десять “юнкерсов” загнали тогда истребители в землю!
Но вот на одного из “курносых” навалилась целая стая “хейнкелей”. Судя по всему, у пилота “чатоса” закончились патроны — его пулемет молчал. Он сделал боевой разворот и попытался пойти на таран, но ему хвост зашел один из фашистских истребителей и срезал храброго “чатоса”.
Толпа ахнула! Но как же она взорвалась от радости, когда раскрылся парашют, и летчик приземлился прямо на бульваре. Его тут же подхватили на руки и понесли к автомобилю. А еще не остывший от боя Пабло Паланкар — так звали героя, смущенно улыбаясь, говорил, что не сделал ничего особенного, что ему очень жаль своего сожженного самолета и что впредь он будет сражаться так, чтобы за сбитые фашистские самолеты не надо было платить республиканскими.
Об этом подвиге написал не только я, но и все мадридские газеты. Паланкара объявили национальным героем, с ним хотели встретиться активисты и особенно активистки общественных организаций, но найти его так и не смогли. И это немудрено, так как никакого Пабло Паланкара не существовало, а был молодой советский летчик Павел Рычагов».
— Ну, что скажете? — отбирая книгу, поинтересовался следователь.
— Скажу, что об этой публикации ничего не знал, а то бы кое-что попросил исправить. Воздушный бой он описал неправильно. Мы не врезались в сомкнутый строй бомбардировщиков, это было глупо — обломали бы себе крылья. Мы поступили иначе: два звена обошли «юнкерсы» справа и слева, а третье навалилось сверху. А в остальном? В остальном все так и было, тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.
— И это очень плохо! — поднял указующий перст следователь. — Ведь вы же сами пять минут назад признали, что если тебя хвалит враг, то это значит, что ты ступил на скользкий путь, который может привести тебя в стан врагов. Вот и привел!
На этом первый допрос был окончен, и Рычагова отдали в руки заплечных дел мастеров. Если на первом допросе обвинение в антисоветской деятельности и измене Родине Рычагов отрицал, то через три дня заявил:
— Я решил рассказать следствию все о своих преступлениях.
— В чем же вы признаете себя виновным? — поинтересовался следователь.
— В том, что являлся участником антисоветской заговорщической организации, по заданию которой проводил вредительскую работу в ВВС.
Выбив у Рычагова эти признания, следствие не успокоилось и предъявило ему обвинение в терроризме и шпионской работе. Рычагов это категорически отрицал. И даже во время очной ставки со Смушкевичем, к которой обоих основательно подготовили, агентом иностранной разведки себя не признал.
Последний допрос Павла Рычагова состоялся 25 октября 1941 года. Он был коротким, но Рычагов успел сказать главное.
— Все мои показания — неправда. И то, что говорили обо мне другие, тоже неправда. Я — не шпион и не заговорщик.
Но ни этот допрос, ни последние слова Рычагова никакой роли уже не играли, ведь еще 17 октября было вынесено заключение по делу № 2930, в котором сказано, что следствие полагало бы, что Павла Васильевича Рычагова нужно расстрелять.
И его расстреляли. В деле есть справка, что приговор приведен в исполнение 28 октября 1941 года.
Итак, то, что не смогли сделать франкисты в Испании, японцы у Хасана и Халхин-Гола, финны под Ленинградом, успешно доделали доблестные советские чекисты. Недрогнувшей рукой они убили Григория Штерна и Павла Рычагова, прекрасных военачальников, которых так не хватало на фронтах Великой Отечественной.
Прошло тринадцать лет… В 1954-м Генеральный прокурор Союза ССР Руденко подписал постановление о прекращении дел по обвинению Штерна и Рычагова за отсутствием в их действиях состава преступления.
Фактически это означало их полную реабилитацию. Как правило, в делах отсутствуют материалы, на которые опирается прокуратура, прекращая те или иные дела, — и это естественно. Но на этот раз мне несказанно повезло, сохранились показания не только тех извергов, которые допрашивали и пытали Штерна и Рычагова, но и палачей, росчерком пера которых эти невинные люди были отправлены на тот свет.
Вот что говорится в документе, подписанном Романом Руденко:
«Основанием к аресту Рычагова послужили показания Смушкевича, Сакриера и Ванникова. Их показания были получены в результате применения незаконных методов следствия: избиений, истязаний и других пыток, что было установлено при расследовании дела по обвинению врага народа Берия и его сообщников.
В частности, Берия показал:
“Для меня несомненно, что в отношении Мерецкова, Ванникова и других применялись беспощадные избиения. Это была настоящая мясорубка, и таким путем вымогались клеветнические показания.
Нарком госбезопасности СССР Меркулов играл главную роль, и у меня нет сомнений, что он лично применял пытки к Мерецкову, Ванникову и к другим.
Мне вспоминается, что, говоря со мной о деле Мерецкова, Ванникова и других, Меркулов преподносил это с позиций достижений, что он раскрыл подпольное правительство, организованное чуть ли не Гитлером”».
Далее Руденко приводит слова Смушкевича о том, что он дал свои показания по малодушию и от них отказывается, что хочет внести поправки в протоколы допросов. Увы, но сделать это Смушкевич не успел, так как тоже был расстрелян 28 октября 1941 года в числе 25 других арестованных, которых вывезли в Куйбышев.
Стало ясно и другое: допросы в Куйбышеве не имели никакого значения, так как предписание о расстреле этой группы Берия дал еще 18 октября.
Что касается показаний Ванникова, то они полностью дезавуированы, так как он был освобожден и реабилитирован еще в 1941 году.
Осенью 1953-го, когда раскручивалось дело Берии, на допросы вызывали не только его сообщников, но и многочисленных свидетелей.
Вот что сообщил бывший следователь Болховитин, проходивший в качестве свидетеля: «В июне — июле 1941 года по поручению Влодзимирского я вел дело генерал-лейтенанта Рычагова. На допросах, которые я вел, виновным себя во вражеской деятельности он не признал и говорил лишь об отдельных непартийных поступках.
В июле была проведена очная ставка со Смушкевичем. В порядке “подготовки” Рычагова, заместитель начальника первого отдела Никитин зверски его избил. Я помню, что Рычагов тут же сказал, что теперь он не летчик, так как Никитин перебил ему барабанную перепонку уха.
Смушкевич, судя по его виду, тоже неоднократно избивался.
В результате всякого рода недостоверных показаний, полученных в результате пыток и избиений, а также самооговора Рычагов был без суда расстрелян».
Болховитину вторит другой свидетель, тоже бывший следователь Семенов:
«В 1941 году, когда Влодзимирский занимал кабинет № 742, а я находился в приемной, я был свидетелем избиений Влодзимирским арестованных Мерецкова, Локтионова, Рычагова и других. Избиение носило зверский характер. Арестованные, избиваемые резиновой дубинкой, плакали, стонали и теряли сознание. В избиении Штерна участвовали еще Меркулов и Кобулов. Арестованный Штерн был так сильно избит, что его отливали водой».
Припертый этими показаниями к стене, раскололся и Влодзимирский:
«В моем кабинете действительно применялись меры физического воздействия к Мерецкову, Рычагову и Локтионову. Применялись они и к Штерну. Арестованных били резиновой палкой, и при этом они, естественно, охали и стонали.
Я помню, как один раз сильно избили Рычагова, но он не дал никаких показаний, несмотря на избиение».
Судьба этих изуверов с Лубянки хорошо известна, каждый из них получил свою, чекистскую, пулю. Вот уж поистине восторжествовала библейская заповедь: не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.
КОНСТАНТИН УМАНСКИЙ
Потом настал черед Константина Александровича Уманского. Как водится, чуть ли не с лупой начали изучать его биографию. Образование — высшее, окончил Московский университет и Институт красной профессуры, в партии с 1919 года, по отзывам коллег — хороший журналист и прекрасный искусствовед, много лет работал в ТАСС, в том числе собкором в Вене, Риме и Париже. С 1931-го — в Наркомате иностранных дел. Должность заведующего отделом печати позволяла в открытую общаться с иностранными журналистами, а среди них множество профессиональных разведчиков, так что информацию о заговорщических планах дипломатов можно было передавать без какой-либо опаски. Но к этому времени Уманский был далеко, еще в 1939-м его назначили советским послом в США. Ничего, для НКВД это не проблема, надо придумать благоприятный повод, скажем в связи с повышением, и отозвать в Москву.
Кто знает, быть может, так бы оно и случилось, но тут, совсем некстати, началась война: Атлантику перекрыли немецкие подводные лодки, и добраться до Европы не было никакой возможности. Уманский продолжал работать в Вашингтоне, а в Москве продолжали собирать компромат. Когда наткнулись на письмо шпиона из шпионов (по крайней мере, именно так называл его Кольцов) Ильи Эренбурга, в НКВД возликовали — это же убедительнейшая улика. Но их пыл быстро погас. Прочитав письмо, они поняли, что подшивать это письмо в дело нет никакого смысла.
А Эренбург между тем писал:
«Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции, — Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную “Новое русское искусство”, выпустило крупное берлинское издательство.
Конечно, встречаясь, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись. Все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет кибернетики. С разными людьми он разговаривал о разном — и не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни. В его номере на пятом этаже гостиницы “Москва” я встречал адмирала Исакова, писателя Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского».
Минутку-минутку, при чем здесь гостиница? И когда все это происходило? Смотрим на дату: декабрь 1941-го. Значит, Уманского в Москву все-таки заманили, и до столицы он добрался. А почему в разгар войны его отозвали из Вашингтона? Правильно, потому, что предложили повышение и назначили членом коллегии НКИДа. Все шло по разработанному на Лубянке сценарию, но в последний момент что-то не сработало — скорее всего, помешала война, крови лилось и без того много.
К тому же оказалось, что знающих и толковых людей в стране катастрофически не хватает.
Как бы то ни было, в 1943-м Уманского назначают Чрезвычайным и Полномочным Послом в Мексике, а в 1944-м еще и посланником в Коста-Рике (по совместительству). По идее, ему надо было немедленно отправляться в Сан-Хосе, чтобы вручить главе правительства верительные грамоты, но Уманский, будто предчувствуя что-то недоброе, как мог, оттягивал эту поездку. 25 января 1945 года он все же сел в самолет, направлявшийся в Коста-Рику. До Сан-Хосе самолет не долетел — он разбился. Все находившиеся на борту погибли.
Я не знаю, как встретили эту весть на Лубянке, но, скорее всего, с удовлетворением: что бы там ни говорили, но одним фигурантом в незавершенном деле дипломатов стало меньше.
МАКСИМ ЛИТВИНОВ
Следующей, куда более крупной рыбой был нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов (настоящая фамилия Баллах). Наркомом иностранных дел он стал в 1930-м, а сняли его с этого поста в 1939-м. К этому времени были расстреляны все его заместители, в пыточных камерах находились многие заведующие отделами и, как ни грустно об этом говорить, почти все они, как и Кольцов, не выдержав пыток и избиений, дали ужасающие показания против Литвинова. Нет никаких сомнений, что с этим компроматом был хорошо знаком Сталин. В принципе, можно было начинать грандиозный процесс (а его хотели сделать открытым) над «врагом народа Литвиновым», но Сталин почему-то тянул и, если так можно выразиться, отмашку не давал. Хотя снять его с должности велел.
Сделано это было, в худшем смысле слова, по-театральному. В ночь на 4 мая 1939 года в кабинет Литвинова нагрянули Берия, Молотов и Маленков. Можно себе представить, с каким иезуитским наслаждением они объявили о решении партии и правительства освободить товарища Литвинова от должности народного комиссара иностранных дел. Максим Максимович был к этому готов, он даже хотел оставить этот пост по собственному желанию, но не успел — заявление так и осталось в его сейфе.
Следующим шагом должен быть арест, но дипломата почему-то не тронули и дали уехать на дачу. А вот там его ждал целый взвод сотрудников НКВД. Но и они Литвинова не тронули, а их начальник сказал, что ему приказано охранять Литвинова. Максим Максимович дозвонился до Берии и поинтересовался: что все это значит и зачем нужна эта комедия с охраной?
— Максим Максимович, дорогой, — хохотнул Берия. — Да вы себе цены не знаете! Отныне мы вас будем беречь и охранять.
Так Литвинов попал под домашний арест… И об отставке Литвинова и о его домашнем аресте стало известно всему миру. Газеты западных столиц забили тревогу! Выразили озабоченность и правительства этих стран. В Париже с трибуны парламента большое беспокойство Франции выразил Эдуард Эррио, тот самый Эррио, который в 1924 году установил дипломатические отношения с СССР, а в 1932-м подписал договор о ненападении.
Подводя итог своему выступлению, Эррио с горечью сказал:
— Ушел последний великий друг коллективной безопасности.
Дошел до Москвы и довольно серьезный голос из-за океана: президент Рузвельт с ковбойской прямотой дал понять, что Америка нуждается в Литвинове.
Пока изучались и сопоставлялись все эти голоса и мнения, наступил сентябрь 1939 года, а с ним и Вторая мировая война. Потом Советский Союз ввязался в финскую кампанию, а потом грянуло 22 июня 1941 года. Все это время Сталину было не до Литвинова. Но когда немцы подошли к Москве, а второго фронта все не было и все понимали, что в огромной степени его открытие зависит от позиции США, вспомнили о словах Рузвельта, касающихся Литвинова. Молотову было велено немедленно связаться с Литвиновым.
— На какую должность вы претендуете? — спросил он по телефону.
— Только на вашу! — твердо ответил Максим Максимович. (А Молотов в это время был наркомом иностранных дел.)
Буквально через час к Литвинову примчался посыльный и сообщил, что Максим Максимович назначен заместителем наркома иностранных дел и послом СССР в Вашингтоне.
— Мне приказано доложить о вашей реакции, — не уходил посыльный. — Что мне сообщить?
— Сообщите, что я согласен… Идет война. Другого выхода нет.
Вскоре Максим Максимович оказался в Вашингтоне… О результатах его многотрудной деятельности очень хорошо написал в своих воспоминаниях Анастас Иванович Микоян: «После прибытия Литвинова в США дела пошли лучше. Вскоре мы получили миллиард долларов кредита. Успеху переговоров с Америкой способствовала личность Литвинова. Он умел воздействовать на государственных деятелей Америки, на президента Рузвельта, извлечь из своих хороших отношений с государственными деятелями Соединенных Штатов большую пользу для Советского Союза».
Какая муха укусила Сталина зимой 1943-го, сказать трудно, но неожиданно для всех он распорядился отозвать Литвинова в Москву. Заместителем наркома он остался, но никаких серьезных дел ему не доверяли. А чтобы унизить окончательно, загнали в крохотный кабинетик чуть ли не под лестницей.
Мы уже не раз говорили о том, что Сталин испытывал какое-то садистское наслаждение, возвышая и приближая к себе человека перед тем, как нанести ему смертельный удар. Вскоре после войны в английском посольстве состоялся большой прием. Неожиданно туда приехал Сталин. Увидев Литвинова, он подошел к нему и предложил выпить на брудершафт.
— Увы, но я не пью, — ответил Литвинов. — Врачи запретили. Все так и охнули! Отказаться выпить со Сталиным — это же ни в какие ворота. Умри, но пей! Это же великая честь! Но Сталин, как ни странно, не обиделся.
— Все равно, — сказал он. — Считайте, что мы выпили на брудершафт.
На другой день Литвинова перевели в большой, роскошный кабинет… А в июле 1946-го Максиму Максимовичу позвонил заместитель министра иностранных дел Деканозов, тот самый Деканозов, который был правой рукой Берии и который в 1953-м будет расстрелян в один день со своим шефом, и сухо сказал:
— Мне поручено сообщить, что вы освобождены от работы. Это был конец… Больше Литвинова никуда не приглашали
и никакой работы не предлагали. Он еще жил. Жил целых пять лет. Болел, страдал, практически не выходил из дому, перенес три инфаркта и умер, как принято говорить, своей смертью. По тем временам это было большим подарком. Гораздо чаще вождь народов дарил своим соратникам и приближенным пулю палача.
А вот за Потемкина, Сурица и Штейна всерьез так и не взялись, хотя показания против них собрали вполне убедительные. Да и других причин было немало. Взять хотя бы того же Потемкина. Дворянин, выпускник Московского университета, магистр исторических наук, преподаватель гимназии, журналист с дореволюционным стажем. Ну, арестовывался, ну, состоял под полицейским надзором, ну и что? Побывать под арестом — тогда это было модно, у гимназисток это вызывало восторг. Революцию, правда, принял безоговорочно и даже был членом Государственной комиссии по просвещению.
Но шла Гражданская война, и просвещенным людям было не до просвещения. Владимир Потемкин становится членом политотдела Южного фронта, где членом Реввоенсовета фронта был Сталин. Чем они так понравились друг другу, сказать трудно, но факт есть факт: Потемкин ни разу не сказал ни одного худого слова о Сталине, а тот ни разу не дал его в обиду. Больше того, есть данные, что именно Сталин рекомендовал Потемкина в Наркоминдел — это было в 1922 году.
С первым заданием Владимир Петрович справился блестяще. Ему поручили переговоры с французским правительством о возвращении русских солдат, которые в годы Первой мировой воевали в составе экспедиционного корпуса. Одни возвращаться в Россию хотели, другие не хотели, одних отпускали, других намеревались арестовать — как бы то ни было, но Потемкин французов одолел. 19 июня пароход «Брага» принял на борт 516 русских солдат и под флагом Красного Креста из Марселя направился в Новороссийск. Не успел Потемкин сойти на берег, как ему поручили другую миссию, надо было вернуть из Турции семь тысяч пленных русских солдат.
В Турции Владимир Петрович застрял надолго, сначала был генеральным консулом, а потом советником полпреда. При его активнейшем участии в 1927 году был наконец-то подписан договор о торговле и мореплавании между СССР и Турцией. Потом его перебросили в Грецию, оттуда в Италию, а затем во Францию. Главным достижением Потемкина было то, что он с необъяснимой легкостью устанавливал достаточно доверительные и чуть ли не дружеские отношения с главами этих государств и, общаясь в неформальной обстановке, убеждал их принимать те или иные решения в пользу Советского Союза. Скажем, у СССР не было договора о торговле с Италией. При этом Муссолини не без юмора объяснял отсутствие такого договора настойчивыми советами Гитлера. «Помни, дуче, — не раз говорил он, — коммунистические идеи могут проникать и через русский уголь, и через русский лес». И все же Потемкин дожал Муссолини, и договор о торговле тот подписал.
А пребывание во Франции запомнилось не столько дипломатическими победами, сколько благороднейшей акцией по возвращению на родину известного русского писателя Александра Куприна. Александру Ивановичу было уже под семьдесят, на чужбине он бедствовал и сильно болел, но больше всего тосковал по России. Шел 1937-й, год, как вы понимаете, не простой, Куприна могли и посадить. Потемкин же добился не только гарантий его неприкосновенности, но и убедил дать писателю небольшой домик в Гатчине. Всего год прожил Александр Иванович в этом домике, но умер он на родине, а именно это было главной мечтой последних лет его жизни.
Самого же Потемкина в апреле 1937-го перевели в Москву и назначили первым заместителем наркома иностранных дел. Если учесть, что Литвинов часто бывал в разъездах, наркоматом фактически руководил Потемкин. Но доверие надо было оправдывать, причем не работой, а, если хотите, беспрекословным послушанием и лакейским прислужничеством. Когда у Сталина вырос зуб на Литвинова и наркома начали травить, к великому сожалению, не остался в стороне и Потемкин. В журнале «Большевик» одна за другой стали появляться его статьи, в которых он резко критиковал точку зрения Литвинова на принципы советской внешней политики. Это же не только вопиющее нарушение субординации (многомиллионная аудитория читателей не профсоюзное собрание, где можно заниматься критикой и самокритикой), но и выбалтывание стратегических постулатов Наркомата иностранных дел. Да за это!.. Ничего, обошлось. Ведь всем было ясно, что эти публикации шли с подачи и благословения сослуживца по Реввоенсовету Южного фронта.
Исполнительность и преданность Потемкина была не только замечена, но и отмечена: на XVIII съезде партии его избрали членом ЦК. Как известно, из делегатов съезда почти никого не оставили в живых, а Потемкин не только уцелел, но и стал… наркомом просвещения. Сталин предложил ему эту должность как педагогу по образованию. Надо сказать, что на этом посту Владимир Петрович сделал немало, а когда в 1946 году скончался, то удостоился чести быть похороненным у Кремлевской стены.
ЯКОВ СУРИЦ
Странным образом уцелел и Яков Суриц, который сменил Потемкина на посту полпреда во Франции. Не исключено, что одной из причин, почему его не тронули, было то, что кому-то нужно было наладить негласные контакты с царем Борисом. Без его помощи отступавшие во Францию части разгромленной испанской республиканской армии могли стать легкой добычей Франко. Заметьте, слово царь я пишу без кавычек. Хоть это звучит на первый взгляд неправдоподобно, но факт есть факт: в 30-х годах прошлого века верховным правителем Андорры был царь Борис, носивший простую русскую фамилию — Скосырев.
История его появления и тем более воцарения и правления настолько фантастична, невероятна и, если хотите, авантюрна, что не рассказать об этом просто нельзя.
Но сперва немного о былом. Это сейчас Княжество Андорра принято и в ООН, и в Совет Европы, и в ЮНЕСКО, и в ОБСЕ, и даже присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия, а совсем недавно там жило 3 тысячи овец, 25 тысяч коз и 30 тысяч горцев, среди которых в основном испанцы, португальцы и французы. Скученность — невероятная, ведь протяженность территории с севера на юг — 48 километров, а с запала на восток всего лишь 32. И тем не менее среди путешественников Андорра пользовалась огромной популярностью. Еще Альфонс Додэ когда-то восклицал: «Как, вы не были в Андорре? Какой же вы тогда путешественник?!»
А вот как описывал свои впечатления от посещения Андорры еще один знатный странник: «Нагромождения скал, горные леса по склонам, могучие хребты с яркими шапками снега на вершинах, бурные горные речки и шумные водопады, кристально чистые ледниковые озера в глубоких котловинах горных цирков, самая дикость, первозданность природы этих мест — вот что, прежде всего, запечатлевается у попавшего сюда человека.
Высоко в горах более полугода всегда бело. Когда взойдешь на перевал Энвалира, всюду перед тобой слепящая яркость снежного покрова. Везде снег, снег и снег… А летом, в июне-августе, когда почти весь снег в горах растает, оставаясь лишь на самых высоких макушках гор, обширные площади склонов превращаются в зеленые, ярко разукрашенные альпийскими цветами луга.
Жители Андорры — добродушный, гостеприимный и трудолюбивый народ, выносливый и крепкий. Жизнь в суровых условиях гор веками заставляла людей бороться за свое существование, ведя в течение многих столетий натуральное хозяйство, чтобы в условиях почти полной изолированности от внешнего мира обеспечивать себя всем необходимым. Для них характерно чувство взаимной поддержки и помощи».
Годом основания Андорры считается 819 год, когда было составлено «Письмо свободы», которое давало права независимости пастушеским общинам по долинам Валиры и Ордино. Несколько позже, после многочисленных столкновений из-за этого клочка скалистой земли, урхельский епископ, который находился в Испании, и французский граф де Фуа подписали акт (так называемый «Акт-пареаж») о разделении сфер влияния. Больше войн в этих краях не было. Даже Наполеон специальным указом подтвердил право Андорры на независимость.
Все последующие революции, войны и перевороты никак не коснулись этой горной страны. Так продолжалось до 1933 года, когда здесь вспыхнули народные волнения, получившие название «Андоррской революции». Получив всеобщее избирательное право для мужчин старше 25 лет и кое-какие льготы в пользовании лугами, водами и лесами, народ не успокоился.
И вот тут-то, откуда ни возьмись, появился наш герой — не самый удачливый отпрыск разорившихся русских дворян Борис Скосырев. Не имея ни денег, ни работы, он обретался на юге Франции. А так как у него не было и постоянной крыши над головой, все свободное время Борис проводил в библиотеках Марселя и Тулузы. Начитавшись репортажей об «Андоррской революции», Борис начал публично сетовать на то, что причина неудач у свободолюбивых горцев в том, что у них нет вожака, нет должной организации, нет программы дальнейших действий.
Его слушателями были бывшие врангелевские офицеры, которым море по колено и которые от нищеты и безысходности готовы были вступить в любую организацию и составить любую программу. Бог весть, как им это пришло в голову, но, посовещавшись, они решили пробраться в Андорру, захватить там власть и на престол, именно на престол, посадить Бориса Скосырева. Самое странное, эта нелепейшая авантюра удалась им на сто процентов! И что еще больше удивительно, андоррцы с восторгом встретили Бориса, а когда в 1934-м он провозгласил себя сперва князем, а потом и королем, люди ликовали! Правда, Борис предпочитал, чтобы его на русский манер называли царем.
Надо сказать, что царем он оказался прогрессивным. Андорру он объявил демократической республикой, находящейся под скипетром просвещенного монарха, всеобщее избирательное право — это норма. Бесплатное образование — тоже норма. Природные ресурсы, а это железная руда, уголь, медь, свинец и серный колчедан, — национальное достояние, покушаться на которое не смеет ни одна транснациональная компания. Частная собственность на землю запрещена, она принадлежит либо государству, либо местным общинам, которые имеют право сдавать землю в аренду отдельным гражданам, но ни в коем случае не продавать. Он отправлял возмущенные послания в Мадрид, Париж и даже в Лигу Наций, требуя официально признать Андорру независимой и себя как короля.
Когда началась гражданская война в Испании, Андорра стала своеобразным ключом к Мадриду. Официально царь Борис не поддерживал ни франкистов, ни республиканцев, при этом закрывая глаза на то, что именно через Андорру шли караваны с оружием, техникой и продовольствием для республиканского правительства Испании. Шли этими тропами и так называемые советники из Советского Союза, а за ними интербригадовцы из многих стран Европы и даже из США. В то же время Борис не пустил на свою территорию ни одного международного наблюдателя из так называемого Комитета по невмешательству в испанские дела, базировавшегося в Лондоне.
Это вызвало неистовое возмущение премьер-министра Великобритании Чемберлена. «Скосырев — агент если не Москвы, то уж республиканцев или Пассионарии во всяком случае!» — заявил он.
Прямых контактов между Яковом Сурицем и Борисом Скосыревым не зафиксировано, но то, что сотрудники советского полпредства в Париже встречались с руководителем Андорры неоднократно, это не вызывает никаких сомнений. Особенно достойно проявил себя Борис после установления военно-морской блокады портов республиканской Испании, когда к берегам республики не мог подойти ни один советский пароход. Путь оставался только один — через Андорру. За три года войны Советский Союз поставил в Испанию 648 самолетов, 407 танков и бронемашин, 1186 орудий, более 20 тысяч пулеметов, 500 тысяч винтовок, не говоря уже о боеприпасах, медикаментах, продовольствии и запасных частях. А 3 тысячи летчиков, танкистов и артиллеристов, которые сражались в составе республиканской армии, — они ведь тоже в Испанию попали не по воздуху, а в основном через Андорру.
И совершенно неоценимую помощь оказал Борис республиканцам, когда 30 марта их разгромленные части, а с ними и беженцы оказались прижатыми к испано-андоррской границе. Франко ликовал! Он был уверен, что Скосырев их на свою территорию не пустит, а это значит, что все республиканские руководители, которых он объявил вне закона, окажутся в его руках. Но царь Борис открыл границу и разрешил республиканцам пройти через его территорию во Францию. При этом он приказал своим подданным оказывать беженцам всемерную помощь.
Франко разразился угрозами и поклялся расправиться с «русским царем». Этого нельзя было допустить! Судя по всему, представители советского полпредства смогли убедить руководителей Франции в том, что захват Андорры — беспрецедентное усиление позиций Испании на южных рубежах страны, не говоря уже о наглом нарушении старинных договоренностей и наполеоновского указа о независимости Андорры. Франция тут же сделала недвусмысленное заявление — и Франко от Андорры отступился.
И все же судьба Бориса Скосырева была предопределена. В 1940-м, когда две трети французской территории оккупировали немцы, а на юге создали прогерманский регион во главе с Петэном, существование «красной Андорры» было признано нецелесообразным, так как Борис Скосырев не скрывал своих симпатий к де Голлю и неприязни к Франко. Согласовав свои действия, Петэн и Франко отрядили в Андорру головорезов, которые осенью 1941-го арестовали царя Бориса и бросили в печально известный французский концлагерь Берне. О пребывании Бориса в концлагере, к сожалению, ничего не известно. Установить удалось лишь одно: весной 1944-го, то есть незадолго до освобождения Франции от оккупантов, просвещенного монарха Андорры, русского дворянина Бориса Скосырева не стало. А вот своей он умер смертью или ему помогли, дознаться так и не удалось.
Что же касается судьбы человека, с которым жизненный путь Бориса пересекся, если так можно выразиться, по касательной, то тому повезло больше. После возвращения из Франции Яков Суриц работал в центральном аппарате Наркоминдела, а сразу после окончания войны его направили послом в Бразилию. В 1948-м его отправили в отставку, и через четыре года он тихо ушел в мир иной.
БОРИС ШТЕЙН
Что касается этого дипломата, то довольно долго ему крупно везло. В коридорах Наркоминдела гремели громы и сверкали молнии, большие кабинеты освобождались чуть ли не каждый день, а Борис Штейн рано утром приходил на работу и поздним вечером благополучно возвращался домой. Да и в элитном доме, где он жил, по ночам не трещали тревожные звонки и не громыхали чекистские сапоги. И хотя по образованию он был историком, так сложилось, что прошлым он почти не интересовался, зато настоящее довольно долго было радужным. Судите сами, в 1920-м он становится сотрудником Наркоминдела и вскоре принимает участие в Генуэзской и Гаагской конференциях. Потом — Женева, где Штейн выступает в роли генерального секретаря советской делегации. Его старательность и исполнительность были замечены, и в 1932-м Штейна назначают полпредом в Финляндии. Затем — аналогичная должность в Италии и работа в Лиге Наций.
Война застала Штейна в глубоком тылу — он работал преподавателем в Ташкентском университете. По возвращении в Москву его ждал ответственный пост в центральном аппарате только что реформированного Министерства иностранных дел. К этому времени Борис Штейн защитил докторскую диссертацию, стал профессором Высшей дипломатической школы, так что жаловаться ему было не на что. К тому же и «соседи» из МГБ стали наведываться гораздо реже.
Но гром все-таки грянул! Причем ударил он с совершенно неожиданной стороны: в 1952-м его арестовали в связи с так называемым «делом врачей» и развернувшейся антисемитской кампанией. Евреев тогда пострадало немало, и не только врачей и дипломатов. Ведь по прямому указанию Сталина была арестована даже жена Молотова Полина Жемчужина, которой приписали участие в заговоре сионистов и связях с послом Израиля в СССР Голдой Мейер.
К счастью, эта кампания довольно быстро захлебнулась, и буквально через год Борис Штейн вернулся в свой кабинет. В качестве извинения ему вручили орден Трудового Красного Знамени. На этом история с арестом была забыта, как были забыты и те чудовищные откровения, которые по адресу Штейна еще до войны прозвучали из уст Михаила Кольцова.
ИВАН МАЙСКИЙ
Судьба этого человека настолько причудлива, замысловата и неординарна, что впору писать о нем не очерки, а приключенческие романы. Во-первых, он никакой не Майский, а Ляховецкий и не Иван, а Ян. Во-вторых, против его вступления в партию большевиков публично возражал сам Ленин, но, учитывая то, что с меньшевиками тот скандально порвал, большинством голосов в большевики Майского приняли.
Хотя, казалось бы, зачем ему это нужно? Ведь родился он в семье известного на всю Вологодскую губернию врача, не голодал, не холодал, окончил Мюнхенский университет, довольно долго жил и работал в Англии. Какие меньшевики? Какие большевики? Но еврей-выкрест Ян Ляховецкий стал Иваном Майским и посвятил себя свержению ненавистного царского режима.
Ну, свергли. И что дальше? А дальше оказалось, что грамотных людей у большевиков раз-два и обчелся — и Майского пригласили в Наркоминдел. Сперва он был полпредом в Финляндии, а с 1932 по 1943 — в Великобритании. Там-то и застала его война. Неожиданностью нападение Гитлера на Советский Союз для Майского не было, ведь почти все разведданные проходили через него, и они не просто говорили, а кричали, что войны не миновать. На этот случай наша дипломатия предусматривала заключение с Англией формального военного союза. В принципе, он был готов, но без одобрения Москвы приступать к его подписанию нельзя. Когда первые немецкие бомбы упали на Киев, Минск и Одессу, подписать англо-советский союз стало жизненно необходимо, но Москва молчала.
«Наступил второй день войны, а из Москвы ни звука, — вспоминал несколько позже Майский. — Наступил третий, четвертый день войны — Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ждал каких-либо указаний от Советского правительства, и, прежде всего, о том, готовить ли мне почву для заключения военного союза. Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел. Именно поэтому 22 июня по радио выступил Молотов, а не Сталин и советские послы за границей в столь критический момент не получали никаких директив из центра». Позже эти директивы поступили, и наступили горячие дни, связанные с организацией северных конвоев.
ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА ПОБЕДЫ
История с организацией северных конвоев заслуживает отдельного разговора. Ведь северные конвои — это походы зачастую беззащитных транспортов под непрерывными бомбежками немецкой авиации и атаками фашистских подводных лодок. Северные конвои — это беспримерное мужество моряков, это надежнейший фундамент дружбы, заложенной советскими, английскими и американскими моряками. И это при том, что этот фундамент постоянно расшатывали те, кто его закладывал. Хорошо помня, что «все расчеты англичан базируются на неизбежном поражении Красной Армии в самом ближайшем будущем», Иван Майский и весь аппарат посольства не вылезали из парламента, встречались с влиятельными политиками, давали бесчисленные интервью. И в конце концов добились того, что бывший премьер-министр Ллойд Джордж, к словам которого прислушивалась вся Англия, выступая в парламенте, заявил: «Оттягивая на себя всю германскую армию, СССР, так же как Россия в прошлую войну, спасает Англию. Англия же, по существу, ничего не делает для помощи СССР. Между тем исход всей войны сейчас зависит от СССР».
Результат этой энергичной деятельности сказался довольно быстро. Вот как рассказывалось об этом в одной из английских газет:
«Где-то далеко, где-то там, на западе, уже больше двух месяцев бушует война. А здесь, на берегах Северной Двины, в старинном Архангельске, гремят оркестры, колыхаются знамена, по улицам гуляют празднично одетые люди. Но больше всего поражают огромные транспаранты, на которых по-английски написано: “Добро пожаловать, дорогие союзники!” Объяснялась эта праздничная суматоха довольно просто: сегодня, 31 августа 1941 года, в Архангельск прибыл первый союзный конвой со стратегическими грузами и военной техникой для Красной Армии».
Этот конвой имел зашифрованное название «Дервиш» и состоял из 6 транспортных судов и довольно солидного охранения из 2 крейсеров, 2 эсминцев, 3 тральщиков, 4 корветов и даже одного авианосца. Среди прочих грузов англичане доставили 10 тонн необходимого военной промышленности каучука, а также 16 истребителей, причем вместе с летчиками, стрелковое оружие, продовольствие и медикаменты. Через несколько недель пришел еще один конвой, но он уже имел шифр PQ. До самого конца войны и немцы, и наши пытались разгадать, что означает это загадочное PQ. А разгадка оказалась на удивление простой. PQ — это инициалы английского офицера Эдвардса, занимавшегося планированием и организацией конвоев. До зимы 1942 года Архангельск принял семь конвоев, а потом суда стали разгружаться незамерзающем Мурманском порту.
Немцы на всю эту суетню в Баренцевом море первое время не обращали никакого внимания — они были уверены, что вот-вот возьмут Москву и война закончится сама собой. Но этого не случилось, и начиная с PQ-12, вышедшего из Шотландии в конце февраля 1942 года, германский флот взялся за конвои всерьез. На перехват 14 транспортам немецкие адмиралы послали целый отряд боевых кораблей во главе с грозой морей — сверхмощным линкором «Тирпиц» (42 тысячи тонн водоизмещения и восемь 380-мм орудий). Но конвой резко изменил курс, уйдя навстречу северным туманам.
Конвой немцы потеряли. Но когда туман рассеялся, прямо перед ними оказался небольшой советский пароход «Ижора». После нескольких торпед «Ижора» вместе с командой пошла на дно, а вместе с ней могла бы уйти на дно и тайна конвоев PQ, то есть тех, которые шли из Советского Союза в Англию и Америку. А эта тайна довольно неприятна и, если хотите, весьма дурно пахнет. Дело в том, что в соответствии с законом о ленд-лизе конгресс США дал президенту право «передавать, обменивать, сдавать в аренду или взаймы военные материалы правительству любой страны, если ее оборона против агрессии жизненно важна для обороны США». Советский Союз и США подписали двухстороннее соглашение, суть которого в том, что СССР получал долгосрочные кредиты, на которые, собственно, и приобреталась «бескорыстная» помощь. Аналогичное соглашение было подписано и с Великобританией.
Так вот в соответствии с этими соглашениями ни один английский или американский транспорт не уходил из Мурманска или Архангельска пустым, не говоря уже о наших пароходах, загрузить которые доверху считалось делом чести. Не забывайте, что шла война, народ голодал, на заводах работали вдовы да худосочные мальчишки, но мы были вынуждены, отказывая себе во всем, загружать трюмы уходящих из наших портов пароходов хлебом, мясом, маслом, а также лесом и металлом. Именно с таким грузом леса пошла на дно «Ижора».
Но что «Ижора»! 1 мая 1942 года немецкая подводная лодка торпедировала английский крейсер «Эдинбург», который шел в составе конвоя PQ-11, то есть из Мурманска в Ливерпуль. Но крейсер держался на плаву и довольно бодро шел на запад. И тут случилось нечто уму непостижимое! Откуда-то налетели английские эсминцы, в упор расстреляли гордость британского флота, и «Эдинбург» пошел на дно. Часть команды успела сбросить шлюпки, а часть так и осталась на борту.
Все это происходило неподалеку от Мурманска, и в принципе поврежденный крейсер можно было отбуксировать в порт. Но все же был риск, что появится немецкий корабль и отбуксирует его в свой порт. Казалось бы, черт с ним, с полузатонувшим крейсером! Ан нет, немцам он не должен был достаться ни в коем случае! Лишь много лет спустя тайна гибели «Эдинбурга», если так можно выразиться, всплыла на поверхность. Главное, оказывается, не крейсер и не затонувшие вместе с ним моряки, главное — это груз. Дело в том, что в трюмах крейсера лежало 10 тонн золота в слитках, причем высочайшей пробы. Это означало, что истекающая кровью Россия по первому требованию союзников начала расплачиваться за «бескорыстную» помощь.
Не думайте, что англичане об этом золоте забыли. Летом 1981-го была организована экспедиция по подъему драгоценных слитков, которую возглавил опытный водолаз Кейт Джессоп. Он договорился с Лондоном и Москвой, что если поднимет золото на поверхность, то 45 процентов будут принадлежать его фирме, а остальные 55 процентов поделят между собой СССР и Англия в соотношении 2:1. Корабль лежал на глубине 250 метров, и на его борту находилось не только золото, но и останки 57 погибших моряков. Это усложняло дело, так как по закону трогать могилы павших на войне матросов нельзя. Тогда Джессоп заверил английское правительство, что в кубрик, в каюты и в машинное отделение входить не будет, а в трюм проникнет через торпедную пробоину.
Как бы то ни было, но в сентябре 1981-го был поднят первый золотой слиток весом 11,5 килограмма, потом подняли еще 431 слиток. На этом работы на некоторое время были прекращены, и лишь через пять лет подняли еще 29 слитков. Как и договаривались, всю добычу поделили между Джессопом, Советским Союзом и Англией. Но 5 слитков, а это почти 60 килограммов золота, так и не нашли: то ли они ждут своего кладоискателя, то ли их давным-давно подняли — об этом история умалчивает.
Со временем англо-американские союзники конвоев стали посылать больше. Всего их за войну было 42 — в СССР и 36 — обратно. Из 813 транспортов, следовавших в Советский Союз, немцы потопили 58, а 33, получив повреждения, вернулись на базы. Из Мурманска и Архангельска вышло 717 транспортов, из них 27 погибли, а 8 вернулись обратно. Самым трагическим был конвой PQ-17, тогда из 37 транспортов 23 было потоплено. Реакция английских адмиралов последовала немедленно. «Арктические конвои становятся для нас камнем на шее, — заявил первый морской лорд адмирал Паунд. — Все это — самая ненадежная операция, в которой опасность подстерегает нас на каждом шагу». «Конвой в Россию остается сейчас и всегда был неоправданной военной операцией», — вторил ему контр-адмирал Гамильтон.
Чтобы покончить с цифрами, расскажу о том, что именно и в каком количестве мы получили по ленд-лизу за годы войны. Самолетов — 18 300, танков и самоходных артиллерийских установок — 12 480, орудий и минометов — 9400, автомобилей — 312 600, кораблей и судов — 521, стрелкового оружия — 151700. Цифры на первый взгляд впечатляющие, но… они составляют всего лишь 4 процента от того, что было сделано на заводах Советского Союза. Например, танков мы ежегодно выпускали по 30 тысяч штук, а самолетов — по 40 тысяч. Так что на исход войны эти поставки существенного влияния оказать не могли, хотя, конечно же, каждый танк, каждый самолет и каждая банка тушенки работали на победу.
Проценты — процентами, о них знали только высокопоставленные чиновники, а моряки о них не думали и зачастую шли навстречу верной гибели. Ведь спастись на море практически невозможно, здесь не спрячешься от пули за бугорок, не выбросишься с парашютом — в холодных водах Баренцева моря продержаться можно не более 10–15 минут. По официальным данным, во время атак на конвои погибло 829 человек с 90 торговых судов.
Но и отказаться от этих ненадежных операций англичане не могли, так как хорошо понимали, что, оттягивая на себя всю германскую армию, Советский Союз спасает Англию, поэтому по мере сил России надо помогать. Потому-то хоть и через пень-колоду, но конвои снаряжали и без всякой надежды, что они дойдут до Мурманска, отправляли в море.
Дело с конвоями вроде бы шло неплохо, но в Кремле были недовольны. А тут еще Черчилль во время визита в Москву возьми и похвали советского полпреда, назвав его хорошим дипломатом. Сталин согласно кивнул и, выдержав паузу, недовольно бросил: «Он слишком много болтает и не умеет держать язык за зубами».
Этого было достаточно, чтобы Майского из Лондона отозвать. Правда, чтобы избежать ненужных вопросов того же Черчилля, сделали это интеллигентно. Полпреда Майского отозвали в Москву в связи с повышением — его ждал кабинет заместителя наркома иностранных дел. И все же недоуменных вопросов и Черчилля, и Рузвельта избежать не удалось, ведь почти одновременно с Майским был отозван полпред в США Литвинов. И это в разгар войны, когда Сталин чуть ли не каждый день требовал открытия второго фронта, а союзники с высадкой в Нормандии не торопились. Если же учесть, что все переговоры шли через послов и они были полностью в курсе дел, то зачем их отзывать? Зачем прерывать налаженные связи и посвящать в сверхсекретное дело новых лиц? Или Майский и Литвинов где-то проболтались, и дата начала операции «Оверлорд» стала известна немцам?
В общем, хлопот и тревог сами себе кремлевские небожители причинили немало. Но ни Майский, ни Литвинов тогда не пострадали — должности заместителей наркома за ними остались. Именно в этом качестве Иван Майский принимал участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций, и это свидетельствовало о полном к нему доверии.
Но, как говорят в таких случаях, недолго музыка играла. В феврале 1953 года Майский был неожиданно арестован и исключен из состава членов Академии наук СССР. Обвиняли его по статье 58 УК РСФСР. «Это было ужасно, — неохотно рассказывал об этом времени Иван Михайлович. — Меня допрашивал сам Берия. Бил цепью и плеткой. Требовал, чтобы я сознался, что все время работал на Интеллидженс сервис. И я, в конце концов, признал, что был английским шпионом. Думал, что если не расстреляют, то сошлют, оставят в покое. Но меня продолжали держать в подвалах Лубянки. Не прекращались и допросы. Из них я вскоре понял, что речь, собственно, шла не только обо мне, что Берия подбирался к Молотову».
И это было правдой. В конце 40-х годов позиции Молотова пошатнулись. Его сменил на посту министра иностранных дел Вышинский. Была арестована жена Молотова Полина Жемчужина. Вскоре стало ясно, что и Майский, и Жемчужина нужны были для того, чтобы состряпать «дело Молотова — английского шпиона». Уже нашлись люди, которые клятвенно уверяли, что англичане завербовали Молотова во время его поездки весной 1942 года в Лондон.
Четыре года Иван Михайлович просидел на Лубянке. В чем его только не обвиняли — и в сионистском заговоре, и в работе на английскую, американскую и японскую разведки, и в согласии стать министром иностранных дел после того, как сионистские организации захватят власть! Иван Михайлович со всем соглашался и подписывал протоколы допросов, лишь бы только не били. А потом, когда не стало Сталина, Иван Михайлович отказывался этому верить, считая это очередной провокацией. Пришлось показать ему документальные кадры похорон Сталина.
Еще хуже ему стало, когда арестовали Берию. Теперь Майского обвиняли в том, что он пособничал Берии в захвате власти и был связным между Берией и английской разведкой. Берию, как известно, расстреляли, и Майскому об этом сказали, само собой разумеется, не без заднего умысла: смотри, мол, как бы не последовать вам, английский шпион, за своим хозяином. Ивану Михайловичу было под семьдесят, здоровья нет никакого, на ногах едва держится — и в таком виде, через четыре года тюремной одиночки, он предстал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстреливали в это время реже, нежели год-другой назад, поэтому приговорили его к десяти годам тюремного заключения, разумеется, с учетом уже отбытых четырех лет.
Но на этот раз судьба к нему благоволила: вскоре последовала амнистия, а потом и реабилитация. Ему вернули ордена, звания и даже восстановили в рядах членов Академии наук.
ЗАГАДКА ДЕЛА ВАЛЛЕНБЕРГА
Все началось с того, что фашистский диктатор Венгрии адмирал Хорти 27 июня 1941 года объявил войну Советскому Союзу. Пока Красная армия отступала, венгерские дивизии под барабанный бой и звон фанфар бодро маршировали по степям Украины и полям России. Но зимой 1943-го их встретили под Воронежем и такого дали дрозда, что от 2-й венгерской армии остались одни воспоминания, а чуть ли не сотня тысяч похоронок, пришедших в Будапешт, вызвала такую бурю возмущения, что, несмотря на военное положение, на фабриках и заводах начались массовые забастовки с требованием разорвать союз с Гитлером и отозвать всех венгров с территории Советского Союза.
Хорти с забастовщиками справиться не мог, и тогда на помощь пришли немцы: 19 марта 1944 года они ввели в Венгрию свои войска и фактически оккупировали всю страну, установив там свои законы и порядки.
Начали они с того, что решили очистить Венгрию от евреев, одних отправляли в Освенцим, других уничтожали на месте, третьих загоняли в гетто. Вселенский плач ни в чем не повинных жертв достиг ушей руководителей Всемирного еврейского конгресса, и они обратились к правительству нейтральной Швеции с просьбой направить в Будапешт известного своими гуманитарными акциями Рауля Валленберга — достойнейшего отпрыска одного из самых влиятельных и состоятельных банкирских домов не только Швеции, но и всей Европы.
Основателем империи Валленбергов был человек родом отнюдь не из воинственных викингов, и звали его Маркус-старший. Дела у Маркуса шли настолько успешно, что со временем он стал контролировать не только все финансы, но также электротехническую, шарикоподшипниковую, химическую, машиностроительную, горнодобывающую, металлургическую и фактически всю остальную промышленность Швеции. Не чурался он и политики, представляя страну на всевозможных съездах и конференциях.
Власть Маркуса была настолько велика, что его называли некоронованным королем Швеции. Некоторые источники утверждают, что Валленберги активно поддерживали германский фашизм и во время Второй мировой войны нажились на военных поставках Германии.
Из всего этого следует только одно: руководители Всемирного еврейского конгресса поступили очень мудро, ходатайствуя о командировании в Будапешт не какого-нибудь Карлсона, а члена могущественного клана, которого знают и уважают истинные хозяева Европы, независимо от того, на чьей стороне воюют их армии.
Чтобы обеспечить Раулю Валленберну дипломатическую неприкосновенность, его включили в состав Шведской миссии — фактически посольства — в Будапеште, назначив первым секретарем. Но задание у него было отнюдь не дипломатическое: Раулю поручили наладить систему спасения оставшихся в живых евреев. О цыганах, русских, сербах или поляках не было и речи — спасать Рауль должен был евреев, и только евреев. Деньги, предназначенные для подкупа, взяток и создания всякого рода липовых контор, выделялись без каких-либо ограничений.
9 июля 1944 года Рауль Валленберг прибыл в Будапешт. Человеком он был энергичным и за порученное дело взялся настолько активно, что за какие-то полгода выдал не менее 20 тысяч шведских паспортов, тем самым избавив людей от пули, петли или газовой камеры.
Но в конце декабря к Будапешту подошли части Красной армии и начали бои за освобождение восточной части города — Пешта. Немцы сопротивлялись отчаянно, отдельные дома и целые улицы по несколько раз переходили из рук в руки, но к середине февраля 1945 года противник был выбит из всего Будапешта — и Венгрия запросила мира.
В самый разгар боев, когда полностью еще не был освобожден даже Пешт, началась история, которая продолжалась без малого шестьдесят лет и в которую были вовлечены маршалы и генералы, ученые и общественные деятели, государственные мужи и дипломаты. Как вы, наверное, догадались, речь идет о печальной одиссее Рауля Валленберга. Вокруг имени этого человека наворочено столько лжи и полуправды, придумано столько фантастических историй и столько концов спрятано в воду, что даже сейчас разобраться в деле Валленберга очень и очень непросто.
Но точка в этой грустной истории все же поставлена, и я расскажу о многотрудном, извилистом, скорбном и порой позорном пути к этой, все ставящей на место, точке. Причем делать это буду, опираясь на документы, которые все эти годы были одной из самых больших тайн страны.
Самые ожесточенные бои за Будапешт были еще впереди, но в Стокгольме уже поняли, что город немцам не удержать, и конце 1944-го шведские дипломаты обратились в Народный комиссариат иностранных дел Советского Союза с просьбой взять под защиту шведских подданных, находящихся в Будапеште. Москва пообещала, и уже 2 января 1945 года командующим 2-м Украинским фронтом Малиновскому и 3-м Украинским фронтом Толбухину из Генерального штаба ушла шифровка № 117 с грифом «Особо важная».
«По сообщению НКИД, Шведская миссия в Будапеште осталась в окруженном городе. Состав миссии (далее следует список из десяти имен, среди которых впервые упоминается Валленберг. — Б. С). Миссия в данное время якобы скрывается “в подполье”. При обнаружении прошу принять меры охраны и сообщить в Генштаб.
Помощник начальника Генштаба ген.-майор Славин».И машина завертелась! Уже через двенадцать дней начальник политотдела одной из дивизий направляет донесение начальнику политотдела 7-й армии:
«На занятой нами улице Бенцур, дом № 16, находятся секретарь Шведского посольства в Будапеште Рауль Валленберг и шофер его автомашины. Остальные члены миссии во главе с полномочным министром Даниэльсоном находятся в главном здании посольства в Буде. Шведское посольство защищает в Будапеште интересы лиц еврейской национальности, проживающих в Центральном гетто и так называемом Чужом гетто.
Посольство имеет в городе девять бюро. Валленберг передал текст телеграммы в Стокгольм на немецком языке, находящейся у меня. Валленберг просит сообщить, что он находится на занятой нами территории. Рауль Валленберг и его шофер охраняются.
Прошу Ваших указаний».
Указания последовали немедленно: «Пока никуда не отпускать. Телеграмму никуда не передавать». Но уже на следующий день, то есть 15 января, поступает приказ: «Рауля Валленберга немедленно препроводить к командиру 18-й стрелковой дивизии генерал-майору Афонину, обеспечив его сохранность и удобств передвижения».
Как видите, о шведском дипломате заботятся, его охраняют и на генеральском уровне беспокоятся о всякого рода удобствах. И это в условиях жесточайших боев, это в те дни и часы, когда на улицах города тысячами гибнут наши солдаты, когда комдивам и командармам не до какого-то неведомого им шведа. Пробиться к Дунаю, захватить мосты, форсировать реку — вот что было главной заботой генералов. Но они вынуждены отвлекаться от выполнения боевых задач и заботливо опекать шведского дипломата.
Пока пылинки с Валленберга сдували комдивы и командармы, хоть и с большой натяжкой, но это можно было объяснить уважением к представителю нейтральной державы, но когда им занялся начальник штаба 2-го Украинского фронта, в недалеком будущем Маршал Советского Союза Захаров, всем стало ясно, что они имеют дело с чрезвычайно важной персоной. А скромная должность секретаря посольства — это так, для прикрытия. Не случайно же Захаров, отложив все дела, вне всякой очереди отправляет срочную депешу в Москву, и не кому-нибудь, а начальнику Генерального штаба Антонову.
«В восточной части Будапешта, на улице Бенцур, обнаружен секретарь Шведской миссии Рауль Валленберг. По словам Валленберга, остальной состав миссии находится в западной части Будапешта.
Меры охраны Валленберга и его имущества приняты».
Вот так-то! Оказывается, под заботливой опекой самых высоких должностных лиц с генеральскими погонами находится не только скромный сотрудник Шведской миссии, но и его имущество. Думаю, что такое Валленбергу и не снилось. Не исключено, что он уже видел себя посредником в каких-то грандиозных операциях — иначе, с какой стати с ним носятся как с писаной торбой.
Но, как это часто бывает, ни с того ни с сего разразился гром среди ясного неба! 17 января 1945 года из Москвы пришла шифровка, которая перечеркнула все и вся и стала началом неизбежно-трагического конца. Этот документ практически неизвестен, поэтому приведу его полностью.
«Командующему 2-м Украинским фронтом тов. Малиновскому.
Копия: тов. Абакумову.
Обнаруженного в восточной части Будапешта Рауля Валленберга арестовать и доставить в Москву. Соответствующие указания контрразведке “Смерш” даны. Для выполнения этой задачи обеспечьте необходимые средства. Время отправления в Москву и фамилию старшего сопровождающего лица донесите.
Зам. наркома обороны, генерал армии Булганин».Что случилось? Какие подули ветры? Какие громы прогремели в Москве? Почему вдруг третьестепенным сотрудником Шведской миссии заинтересовались на таком высоком уровне?
Почему приказано не просто доставить его в Москву, а предварительно арестовать? Что всплыло? Что натворил Валленберг за полгода пребывания в Будапеште? Шпионил, передавал какие-то секреты немцам?
Но тогда инициатива его задержания и последующего ареста должна была исходить от контрразведки, а не от руководителей Генштаба и Наркомата обороны. И что компрометирующего о деятельности Валленберга могли узнать в Москве, если в Будапеште ничего порочащего его репутацию обнаружено не было? Или что-то нашли? Где? Что?
Один документ, который мог послужить основанием для ареста не только Валленберга, но и всей Шведской миссии, я все же обнаружил, но он датирован 19 февраля, то есть спустя более чем месяц после шифровки Булганина. А Валленберг в это время уже сидел сперва в Лефортовской, а потом в печально известной внутренней тюрьме.
Сохранился довольно любопытный приказ одного из руководителей тогдашнего МГБ СССР, написанный, как это ни странно, в виде просьбы.
«Содержащихся в камере № 203 Лефортовской тюрьмы военнопленных Редель Вилли и Валленберг Рауля прошу доставить во Внутреннюю тюрьму МГБ СССР, поместить совместно в камеру № 7 и зачислить на офицерский паек военнопленного».
Я уже говорил о том, что вокруг имени Валленберга наворочено огромное количество лжи, полуправды и всякого рода нелепостей. Вот первая из них. Валленберга называют военнопленным, в то время как ни юридических, ни каких-либо иных оснований для этого нет. Военнопленные — это лица, принадлежащие к вооруженным силам сторон, находящихся в состоянии войны, а также добровольцы, партизаны, участники движения Сопротивления и другие комбатанты, то есть воины, бойцы. Считаются военнопленными и некоторые некомбатанты, проще говоря, люди, не принимающие непосредственного участия в боевых действиях: интенданты, юристы, журналисты и музыканты из военных оркестров.
Валленберг, как известно, был гражданином Швеции, которая не принимала участия в вооруженном конфликте. Не был он также ни добровольцем, решившим надеть военную форму, ни партизаном, ни журналистом. Валленберг был гражданином нейтрального государства, к тому же имеющим дипломатический иммунитет, поэтому его ни задерживать, ни тем более арестовывать представители советского командования не имели права, как не имели права называть его военнопленным. Впрочем, один плюс эта юридическая нелепица давала: Раулю определили офицерский паек, а это в условиях внутренней тюрьмы немало, значит, он не голодал и питался более или менее нормально.
Тем временем следователи не сидели без дела и даже в условиях боевых действий собирали компромат на бедного Рауля. Я уже упоминал о документе, составленном 19 февраля 1945 года, который мог послужить основанием для ареста не только Валленберга, но и всей Шведской миссии. Правда, должен отметить, что это основание или, скорее, причина была эмоциональной, но никак не юридической.
Называется этот документ «Спецсообщение» и подписан заместителем начальника Смерш 2-го Украинского фронта Мухортовым. Вот его подлинный текст:
«Взяв под свою защиту и покровительство значительное количество лиц из гражданского населения, не имеющего к Швеции никакого отношения, шведское посольство выдавало им на руки различного рода документы, а именно паспорта, удостоверения и так называемые охранные листы. Среди этой категории имеются скрывающиеся от Советских органов видные участники фашистских формирований в Венгрии, некоторые сотрудники разведывательных и контрразведывательных органов противника.
Изложенное выше подтверждается материалами следственной обработки задержанных лиц. Например, зав. секцией Шведского посольства Генрих Томпсон на допросе 20 января 1945 года показал:
— Шведское посольство и шведский Красный Крест в Будапеште давали шведское подданство только тем, кто платил от 2000 до 20 000 пенго. Были случаи, когда подданство получали и за 200 000 пенго. Таким образом получили шведское подданство богачи — евреи Хорин, Вайс, Конфельц и другие.
Всего в период июня — октября 1944 года выдано минимум 20 тысяч различного рода паспортов. Защитные паспорта Шведского Красного Креста, по словам его начальника профессора Лангле, выдавались по принципу: “Всем притесненным при всяком режиме. При фашистах будем давать евреям, а с приближением русских — христианам, даже если это фашисты, только не очень опасные”.
Враждебное отношение руководства шведского посольства к Советскому Союзу проявилось в феврале 1944 года, когда наш источник обратился к посланнику Даниэльсону с просьбой достать ему разрешение для оказания помощи советским военнопленным медикаментами, продуктами и одеждой.
Вот что заявил Даниэльсон:
— Все это ни к чему. Советская власть расстреливает своих военнопленных, возвратившихся из плена, поэтому все усилия в этом направлении будут тщетными.
А военный атташе Швеции подполковник Вестер после посещения лагеря советских военнопленных заявил:
— Был в лагере у этих свиней. Что это за звери! Второй раз меня на это поймаешь.
Вся помощь шведского посольства русским военнопленным выразилась в пожертвовании 10 рубашек и 20 коробок сардин».
Нетрудно догадаться, какие чувства вызвало это «Спецсообщение» у людей, в руках которых был хотя бы один швед. Как раз в эти дни один такой швед находился на Лубянке — и с ним начали работать.
Как вы, наверное, помните, еще в Будапеште Валленберг просил сообщить в Стокгольм, что находится на территории, занятой Красной армией, но его телеграмму было велено никуда не передавать. Но все же в Стокгольме стало известно, что Рауль уже несколько дней находится под опекой советских военных чинов: об этом сообщили добравшиеся до Стокгольма члены Шведской миссии.
Подтвердила это и Александра Коллонтай, которая в те годы была послом Советского Союза в Швеции. Еще в феврале 1945-го она заверила встревоженную мать Рауля в том, что ее сын находится в СССР, что он в полной безопасности и чувствует себя хорошо.
На радостях она поделилась этой новостью с журналистами. Но те, вместо того чтобы разделить чувства матери, подняли страшный вой. «Если Рауль в Советском Союзе, то где именно — в Москве или на Колыме? — вопрошали они. — И почему о Валленберге ничего не знают в шведском посольстве? Почему шведского дипломата не возвращают домой? А может быть, его уже нет в живых и возвращать просто-напросто некого?»
Такого рода вопросы задавали абсолютно все газеты, но ответа они получить не могли, так как находившиеся в Москве шведские дипломаты о Рауле ничего не знали, а московские бонзы эти газеты не читали.
Но 30 апреля 1945 года шведский посланник в Москве Седерблюм все же пробился к заведующему 3-м Европейским отделом Наркомата иностранных дел Абрамову. По правилам тех лет чиновники такого ранга должны были вести дневники, в которые самым тщательным образом заносили суть бесед со всякого рода иностранцами. Вот что записал Абрамов в своем дневнике:
«Сегодня принял Седерблюма по его просьбе. Он вручил мне копию ноты по поводу розыска секретаря Шведской миссии в Будапеште Валленберга. Передавая ноту, Седерблюм спросил, нет ли каких-либо новых сведений о судьбе Валленберга. Я ответил, что никакими новыми сведениями пока не располагаю. В ответ на это посланник стал рассказывать о том, какое большое значение придается делу Валленберга в Швеции. “Меня непрерывно осаждают письмами и телеграммами по этому вопросу, — сказал он. — В печати довольно часто появляются статьи и заметки об этом деле. Валленберг является членом семьи пользующегося мировой известностью банкирского дома, и я бываю иногда в отчаянии, что ничего не могу ответить на многочисленные запросы”.
Я на это ответил, что поиски Валленберга продолжаются».
Поиски? О каких поисках речь, если о местонахождении Рауля знали все высокопоставленные чиновники как НКВД, так и Наркомата иностранных дел?! Тем более что всплыло сообщение тогдашнего заместителя наркоминдела Деканозова, который еще 16 января 1945-го заявил представителю Шведской миссии в Москве, что Валленберг обнаружен в занятой советскими войсками части Будапешта и меры по его охране приняты.
Как стало известно уже в наше время, о деле Валленберга был прекрасно информирован и Сталин. В архиве сохранилась запись его беседы с Седерблюмом, которого он принял 15 июня 1946 года. Когда возник вопрос о Валленберге, Сталин сказал: «Вы знаете, нами отдано распоряжение о том, что шведы должны находиться под защитой».
Реакция Седерблюма была совершенно неожиданной. «Я лично убежден, — проронил он, — что Валленберг в Будапеште стал жертвой несчастного случая или бандитов».
Объяснить эту реплику не просто трудно, а невозможно, ведь Седерблюм знал и о сообщении Деканозова, и о заявлении Александры Коллонтай. Так почему же он подыгрывал Сталину? Почему несколько раньше Седерблюм высказал уверенность в том, что Валленберг погиб во время боев в Будапеште? Почему, прощаясь со Сталиным, он с облечением констатировал: «Я думаю, советские военные власти не могут ничего рассказать о дальнейшей судьбе Валленберга»? И почему в заключение аудиенции он попросил Сталина дать официальный ответ о том, что все поиски Валленберга ни к чему не привели, что он, скорее всего, погиб?
То ли в Стокгольме подули другие ветры, то ли надвигались парламентские выборы и намечалось перераспределение постов, то ли могущественное семейство, говоря современным языком, так достало Седерблюма, что он решил положить конец всей этой истории — этого я не знаю. Но факт есть факт: заместитель министра иностранных дел Вышинский получил задание подготовить соответствующий ответ и известить об этом шведскую сторону.
А тут еще, откуда ни возьмись, Альберт Эйнштейн, который прислал письмо Сталину с просьбой «сделать все возможное для того, чтобы разыскать и отправить на родину шведа Рауля Валленберга»!
Как ни могуществен был Вышинский, но и он мог далеко не все. Скажем, он не мог напрямую обратиться к министру государственной безопасности Абакумову, а без этого человека подготовить более или менее вразумительный ответ шведскому послу не было никакой возможности. И тогда Вышинский обратился с письмом к Молотову:
«15 июня 1946 года на приеме у тов. Сталина бывший шведский посланник Седерблюм обратился к тов. Сталину с просьбой поручить навести справки о судьбе Валленберга. Об этом в риксдаге сообщил и шведский премьер-министр Эрландер.
Ввиду настойчивости, проявленной шведами в этом деле, мы неоднократно устно и письменно запрашивали в течение 1945 и 1946 гг. “Смерш”, а позднее МГБ о судьбе и местопребывании Валленберга. В результате чего лишь в феврале этого года в устной беседе мне сообщили, что Валленберг находится в распоряжении МГБ.
Поскольку дело Валленберга до настоящего времени остается без движения, прошу Вас обязать тов. Абакумова представить справку по существу дела и предложения о его ликвидации».
Молотов, который в те годы был министром иностранных дел, наложил свою резолюцию и переслал письмо в МГБ. Но оттуда — молчок.
Пока шла эта диковинная переписка, подоспело объяснение более чем странных реплик Седерблюма на приеме у Сталина. Именно в эти дни одна финская газета опубликовала статью под заголовком «Нацисты убили Рауля Валленберга». Речь в ней шла о том, что на заседании Народного суда в Будапеште всплыл поразительный факт: оказывается, Рауль Валленберг был убит венгерскими нацистами. По делу проходило тридцать нацистов во главе с неким Дреганом, который и отдал приказ об уничтожении шведского дипломата. За совершенные преступления Дреган и десять его подельников приговорены к смертной казни.
Если бы статья была опубликована, скажем, в «Правде», шведы могли бы заподозрить Москву в дезинформации, но финская газета «Вапаа сана» считалась независимой и достаточно авторитетной. Да и венгры не будут расстреливать своих людей без достаточных на то оснований. Думаю, что так или примерно так рассуждал Седерблюм, соглашаясь с версией гибели Валленберга в Будапеште.
Не заставил себя ждать и ответ Вышинского.
«После проведенного нами тщательного расследования можно твердо сказать, что Валленберга на территории Советского Союза нет и мы ничего о нем не знаем», — сообщил он от имени Советского правительства.
Сколько израсходовано бумаги и чернил, сколько произнесено лживых слов и даже пролито крови — и все ради того, чтобы скрыть правду. А правда была горькой, грубой и жестокой: человек, вокруг имени которого завязалась преступно-неприличная возня, по-прежнему сидел в камере № 7 внутренней тюрьмы и получал офицерский паек.
Было бы ошибкой думать, что он просто сидел. Нет, он не просто сидел, с ним работали, вызывая на многочасовые допросы. Скажем, следователь по фамилии Сверчик 8 февраля 1945 года допрашивал Валленберга три с половиной часа. Затем Рауль попал в руки Кузмишина, тот изгалялся над ним полтора, а Копелянский — три часа.
Не буду говорить, чего это стоило, но мне удалось разыскать не только анкету арестованного Валленберга, заполненную во внутренней тюрьме, но даже журнал вызовов на допросы. Кое-где фамилия Валленберга была тщательно замазана тушью, но с помощью специальных методов тушь удалось снять — и проступила четкая запись: «29 мая 1945 года под № 620 на допрос вызывался Валленберг Рауль Густав».
Но вот что удивительно, допросов было множество, а вот протоколов — ни одного. Так что узнать, о чем расспрашивали Рауля, какие выбивали показания, что он все-таки сказал, а что утаил, нет никакой возможности. Больше того, не существует и самого дела Валленберга, нет ни одной папки, в которую были бы подшиты протоколы допросов, показания свидетелей, ордер на арест, опись имущества, результаты медосмотра и т.п.
Роясь во всякого рода документах, я так втянулся в это дело, что перестал трепетать перед бумагами, подписанными Сталиным, Молотовым или Вышинским. Но один скромненький рапорт, написанный от руки и подписанный всего-навсего полковником, заставил вздрогнуть! Я приведу его полностью, так как до сих пор его никто не видел.
«Сов. секретно
Министру Государственной безопасности Союза ССР
Генерал-полковнику Абакумову B.C.
РАПОРТ
Докладываю, что известный Вам заключенный Валленберг сегодня ночью в камере внезапно скончался предположительно вследствие наступившего инфаркта миокарда.
В связи с имеющимся от Вас распоряжением о личном наблюдении за Валленбергом, прошу указания, кому поручить вскрытие трупа на предмет установления причины смерти.
Нач. санчасти тюрьмы полковник медицинской службы А.Л. Смольцов».
17.VII–47 г.
А чуть ниже приписка, сделанная рукой того же Смольцова: «Доложил лично министру. Приказано труп кремировать без вскрытия.
17.VII–47 г. Смольцов».
Прошло девять лет… Мало-помалу о деле Валленберга забыли, и о нем никто, никогда и нигде не вспоминал. И вдруг в апреле 1956-го Молотов и тогдашний председатель КГБ Серов обратились в ЦК КПСС с не подлежащим оглашению письмом. Панический тон письма настолько очевиден, что не привести его просто нельзя.
«Во время пребывания в Москве правительственной делегации министр внутренних дел Швеции Хедлунд передал советской стороне свидетельские показания некоторых репатриированных в конце 1955 года из СССР в ФРГ бывших немецких военных преступников о Рауле Валленберге.
Правительство Швеции располагает доказательствами, что Валленберг был арестован и длительное время содержался в тюремном заключении в Москве.
Так, бывший полицейский атташе германской миссии в Бухаресте Густав Рихтер показал, что с 31 января 1945 года более месяца содержался в Лубянской тюрьме в одной камере с Валленбергом, который рассказал об обстоятельствах ареста его самого и его шофера Лангфельдера.
Бывший хранитель печати германской миссии в Бухаресте Вилли Бергман сообщил, что, находясь в Лефортовской тюрьме в камере № 202, он путем перестукивания и переговоров по водопроводу установил контакт с находящимся в камере № 203 Валленбергом и находящимся с ним в одной камере Ределем. Такая связь поддерживалась с сентября 1946 до мая 1947 года.
Аналогичные показания дали содержавшиеся в Лефортовской тюрьме Карл Зуппиан, Эрнст Валленштейн, Хорст Китчман, Эрнст Хубер и Эрхард Хилле.
Показания этих свидетелей во многом совпадают с фактическими обстоятельствами ареста и содержания Валленберга в тюремном заключении в СССР. Принимая во внимание важность урегулирования со шведами вопроса о Валленберге, а также и то, что они не прекратят расследования, считаем целесообразным информировать шведское правительство о судьбе Валленберга».
Всколыхнулись и венгры, их интересовала судьба венгерского подданного Вильмоша Лангфельдера. Мне удалось найти циничнейшее послание заместителя председателя КГБ Лунева, который настоятельно рекомендовал отвечать на запросы венгерского правительства, что «шофер Валленберга Вильмош Лангфельдер умер в заключении 2 марта 1948 года».
А теперь проанализируем письмо в ЦК с позиции спецслужб. То, что они допустили колоссальный прокол, за который в совсем недавние времена платили пулей в затылок, яснее ясного. Выпустить за пределы Союза немцев, которые сидели или вместе, или рядом с Валленбергом, — с профессиональной точки зрения непростительный просчет.
Я не знаю, что стало с теми людьми, которые имели отношение к делу Валленберга и репатриированных немцев, но выкручиваться из этой щекотливой ситуации пришлось первым лицам государства. Надо признать, что они это сделали блестяще и даже нашли козла отпущения, на которого свалили все грехи.
В феврале 1957 года ЦК КПСС утвердил текст так называемой «Памятной записки для вручения посольству Швеции в Москве».
В очередной раз нагло соврав, что были просмотрены все архивы и опрошены люди, которые могли иметь какое-либо отношение к делу Валленберга, руководители партии и правительства подписались под еще одной ложью: «Однако в результате этих мер не удалось обнаружить каких-либо данных о нахождении Валленберга в СССР».
Правда, несколько ниже они сообщили, что в архиве санитарной службы Лубянской тюрьмы был обнаружен рапорт полковника Смольцова о том, что Рауль Валленберг умер от инфаркта миокарда. Узнать что-либо от самого Смольцова не представляется возможным, так как он умер в мае 1953 года.
А вот следующий абзац я просто обязан привести полностью, так как он является ключевым:
«Рауль Валленберг был, по-видимому, в числе других лиц задержан в районе боевых действий советских войск. Вместе с тем можно считать несомненным, что последующее содержание Валленберга в заключении, а также неправильная информация о нем, дававшаяся некоторыми бывшими руководителями органов безопасности и МИД СССР в течение ряда лет, явились результатом преступной деятельности Абакумова.
Как известно, в связи с совершенными им тяжкими преступлениями Абакумов, действовавший в нарушение законов СССР и стремившийся нанести всяческий ущерб Советскому Союзу, был осужден и расстрелян по приговору Верховного Суда СССР».
Так вот кто, оказывается, во всем виноват! Виктор Абакумов — это он давал неправильную информацию Сталину, Молотову, Вышинскому, а позднее Булганину, Громыко и другим. Правда, до этого он успел поработать на фабриках и заводах, потом в комсомоле, в органах НКВД, в войну руководил Главным управлением контрразведки Смерш, а с 1946 по 1951 год был министром госбезопасности.
Со Сталиным у него были очень короткие отношения, и подчинялся он практически только ему, не говоря уже о том, что все более или менее значительные акции МГБ всегда согласовывал с вождем народов. Но в июле 1951-го он, как заключенный № 15, угодил в Матросскую Тишину. Абакумов знал, что своим арестом обязан доносу подполковника Рюмина, который написал в ЦК, что руководители МГБ «смазывают» террористические замыслы вражеской агентуры, направленные против членов Политбюро и лично товарища Сталина, а также ставят органы госбезопасности вне партийного контроля.
Знал Абакумов и то, что арестовать его могли только с личной санкции Сталина, поэтому из тюрьмы отправил ему довольно длинное письмо, в котором есть такие строки:
«С открытой душой заверяю Вас, товарищ Сталин, что отдаю все силы, чтобы послушно и четко проводить в жизнь те задачи, которые Вы ставите перед органами ЧК. Я живу и работаю, руководствуясь Вашими мыслями и указаниями.
Заверяю Вас, товарищ Сталин, что, какое бы задание Вы мне ни дали, я всегда готов выполнить его в любых условиях. У меня не может быть другой жизни, как бороться за дело товарища Сталина».
Не помогло. Сталин его из тюрьмы не выпустил, а пришедшие ему на смену Маленков, Хрущев и Булганин поспешили спровадить бывшего министра на тот свет: 19 декабря 1954 года в 12 часов 15 минут в соответствии с вынесенным приговором Виктор Абакумов был расстрелян.
А теперь вспомните последний абзац «Памятной записки», сопоставьте с письмом Абакумова из тюрьмы, и вы поймете, кто действовал в нарушение законов СССР, кто давал неправильную информацию о Валленберге и кто довел его то ли инфаркта, то ли до расстрела. Не мог Абакумов, ну никак не мог по собственной инициативе ни арестовать гражданина нейтральной Швеции, ни гноить его в тюрьме, ни тем более организовать так называемый инфаркт — он мог это сделать, лишь послушно и четко проводя в жизнь задачи, которые ставил Сталин.
На некоторое время о Валленберге снова забыли. Но с началом перестройки в печати стали появляться материалы, в которых утверждалось, что в тюрьме он не умирал, что довольно долго сидел сперва во Владимирской тюрьме, а потом в лагерях под Тверью. Откуда-то всплывали люди, которые уверяли, что видели Рауля то ли в психиатрической больнице имени Кащенко, то ли в Институте общей и судебной психиатрии имени Сербского.
Надо отдать должное сотрудникам ФСБ, которые пошли на создание международной экспертной комиссии по проверке этих материалов. Только во Владимирской тюрьме они изучили около 100 тысяч карточек, опросили 300 сотрудников, в том числе и врачей, — безрезультатно. Следов Валленберга обнаружить не удалось. Проверили картотеки Бутырской, Матросской и Краснопресненской тюрем — пусто. От отчаяния заглянули даже в Донской крематорий — нет, в числе кремированных ни Валленберг, ни Лангфельдер не значатся.
Проверили даже рапорт полковника Смольцова. Самые авторитетные эксперты Научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали почерк, бумагу, чернила — и пришли к выводу, что рапорт написан рукой Смольцова, на бумаге, выпускавшейся именно в те годы, и чернилами, изготовленными тогда же.
Не нашли четкого ответа и на самый главный вопрос: зачем Валленберга арестовали? Утверждение, будто НКВД хотело создать своеобразный запас из известных западных деятелей культуры, науки и даже дипломатов нейтральных стран для того, чтобы их можно было выгодно обменять на наших перебежчиков, не выдерживает критики. Как известно, из десяти сотрудников Шведской миссии в Будапеште был задержан один Валленберг, а остальные благополучно прибыли в Стокгольм.
Не убедительно звучит и намек на то, что советское правительство якобы хотело обменять Валленберга на шестерых советских моряков, отказавшихся возвращаться на Родину. Шведы без каких-либо условий вернули в Союз сотни интернированных военнопленных, которые умоляли их не выдавать палачам ГУЛАГа.
Так что ответ на вопрос, зачем арестовали Валленберга, знал лишь тот, кто отдавал этот приказ. Нам известно, что приказ был подписан Булганиным, но теперь уже нет никаких сомнений, что он был лишь канцелярским исполнителем, но никак не инициатором этой изуверской акции.
И все же точка в этом запутанном деле поставлена. Это сделала Главная военная прокуратура, которая Рауля Валленберга полностью реабилитировала и признала жертвой политических репрессий. Это все, что могли сделать россияне для родственников Рауля, для его страны и для него самого, вернее, для его души, которая, хочется надеяться, оценит наши хлопоты.
ПОДАРОК В 10 ТЫСЯЧ ДУШ
Адмирал Канарис не просто догадывался, а знал, что англо-американские войска вот-вот бросятся через Ла-Манш. Агентура абвера установила, что в английских портах скопилось около 7 тысяч боевых кораблей, транспортных и десантных судов, на аэродромах — 11 тысяч самолетов, а для захвата стратегического плацдарма выделено 32 дивизии и 12 отдельных бригад — иначе говоря, превосходство над армиями Роммеля и Рундштедта, прикрывающими западное направление, подавляющее.
И все же форсировать канал — не такое простое дело. Остановить англо-американскую армаду можно! Можно даже пустить ее на дно, если, конечно, абсолютно точно знать место и время начала операции. Но именно этого абверу установить так и не удалось.
И тогда на одном из совещаний в бункере Гитлера созрел дьявольский план: перебросить в район Атлантического вала как можно больше русских военнопленных. Пусть они там копаются, пусть что-то роют, а чтобы об этом узнал Эйзенхауэр, асы Геринга получили приказ не сбивать разведывательные самолеты с английскими и американскими опознавательными знаками. Ищейкам же Гиммлера предписывалось не трогать предполагаемых информаторов противника.
Совещание проходило в начале мая 1944 года, а уже через неделю более миллиона русских из концлагерей Германии, Австрии и Польши были переброшены на западное побережье Франции. В большинстве своем они были одеты в немецкую военную форму, а некоторым даже выдали старые винтовки, естественно, без патронов.
Как и планировал абвер, все это стало известно в Ставке Верховного главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. А 28 мая 1944 года по поручению министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена британский посол в Москве Арчибальд Кларк Керр направил наркому иностранных дел СССР полное тревоги письмо:
«Многоуважаемый господин Молотов! Как я узнал из Лондона, Главный англо-американский Объединенный штаб обладает сведениями, показывающими, что значительные силы русских вынуждены вместе с немецкой армией сражаться на Западном фронте. Верховное командование экспедиционными войсками союзников считает, что следовало бы сделать заявление с обещанием амнистии этим русским или справедливого к ним отношения при условии, что они при первой возможности сдадутся союзным войскам.
Это обещание не должно распространяться на тех, кто по доброй воле совершил акт предательства, а также на добровольцев и сотрудничающих с войсками СС. Амнистию следует сделать только тем советским гражданам, которые действовали по принуждению. Сила такого заявления заключалась бы в том, что оно побудило бы русских дезертировать из немецкой армии. В результате немцы стали бы с большим недоверием относиться ко всякого рода сотрудничеству с русскими».
В конце письма посол не преминул добавить, что такого рода заявление имело бы наибольший эффект, если бы исходило от маршала Сталина.
31 мая Керр получил ответ, подписанный Молотовым:
«Согласно информации, которой располагает советское руководство, число подобных лиц в немецких вооруженных силах крайне незначительно, и специальное обращение к ним не имело бы политического смысла. Руководствуясь этим, Советское правительство не видит особой причины делать рекомендованное в Вашем письме заявление ни от имени И.В. Сталина, ни от имени Советского правительства».
Так был дан зеленый свет началу операции «Оверлорд». Угрызения совести союзников больше не мучили, и 6 июня 1944 года они обрушили на западное побережье Франции такой мощный огневой шквал, что оборона немцев была смята и пехота союзников без особого труда высадилась на берег.
Победоносные колонны союзников катились на восток, а навстречу им шли разношерстно одетые толпы пленных. Здесь были и шагающие поротно, во главе с офицерами, немцы, и люди в полосатой робе, и возбужденные группы в пиджаках и платьях.
Но больше всего немногочисленных солдат охраны удивляло то, что многие немцы ни слова не понимали по-немецки и говорили только по-русски. Конечно же, в те дни никому и в голову не приходило, что именно эти люди впоследствии станут головной болью сотен англичан и американцев — от рядовых чиновников до премьер-министра и президента.
Уже 17 июня в сообщении английской разведки говорилось, что русские составляют не менее 10 процентов среди отправленных в Англию пленных. По данным офицеров передовых частей, первое время русские сдавались в плен куда охотнее немцев, а потом вдруг начали сражаться с яростью обреченных и бились до последнего патрона.
Причина вскоре была найдена, оказалось, что немецкая пропаганда умело обыграла сложившуюся во Франции ситуацию.
«Вы между двух огней, — говорили немцы русским. — Вы прокляты Сталиным, и дома вас ждет расстрел. Вас презирают англо-американцы и если не расстреляют сами, то выдадут НКВД. Единственная надежда на спасение — кровью доказать верность Третьему рейху. Только после этого Великая Германия примет вас под свое крыло».
Тем временем пленные все прибывали и прибивали. В Англии для них не хватало места, и многих стали переправлять в США и Канаду. Проблем возникало множество, но одну союзники решили сразу: настоящих немцев по возможности содержали отдельно от тех, кто не говорил по-немецки, хотя и был одет в немецкую, форму.
Руководство министерства иностранных дел Великобритании прекрасно понимало деликатность ситуации и 20 июля обратилось к советскому послу Федору Гусеву с более чем странным вопросом: «Что делать с тысячами граждан СССР, которые попали в плен?»
Ответом было молчание…
Надо сказать, что в этом запросе содержалась немалая доза иезуитства, ибо точка зрения МИДа уже была сформулирована и ею руководствовались чиновники на всех этажа власти.
«Этот вопрос целиком относится к компетенции советских властей, — говорилось в соответствующем документе, — и не имеет отношения к правительству Ее Величества. В дальнейшем все те, с кем советские власти пожелают иметь дело, должны быть им выданы. И нас не касается тот факт, будут ли они расстреляны или подвергнутся каким-либо иным наказаниям, даже если эти наказания будут более строгими, чем наказания, предусмотренные английскими законами».
Казалось бы, все ясно, приговор советским военнопленным подписан, но нашлись в Англии люди, категорически не согласные с точной зрения МИДа, а стало быть, и правительства. Одним из них был лорд Селборн — министр военной экономики, он же руководитель Управления особых операций, организации, занимавшейся разведывательной и диверсионной работой. 21 июля он направил Идену такое из ряда вон выходящее письмо, что оно всполошило всю правительственную верхушку Англии.
«Мой дорогой Энтони! — писал Селборн. — Я глубоко потрясен решением Комитета отослать в Россию всех граждан русской национальности, которые попали к нам в плен на полях сражений в Европе. Я намерен обратиться по этому вопросу к премьер-министру, но прежде хотел бы ознакомить Вас с причинами моего несогласия в надежде, что мы могли бы прийти к соглашению по этому вопросу.
Как Вы знаете, в течение последних недель один из моих офицеров опросил ряд русских военнопленных, и в большинстве случаев их истории оказались сходными в своей основе. Сначала, попав в немецкий плен, они стали объектами невероятных лишений и жестокого обращения. Во многих случаях пленные по нескольку дней вообще оставались без пищи. Их поместили в концентрационные лагеря, в ужасающие санитарные условия, где они голодали. Их заедали насекомые, их заражали отвратительными болезнями, а голод доходил до такой степени, что людоедство стало среди них обычным явлением. И не раз немцы в пропагандистских целях фотографировали эти людоедские трапезы.
Через несколько недель такого обращения, когда их моральные силы были полностью сломлены, их выстраивали в шеренгу, и немецкий офицер предлагал им вступать в немецкие трудовые батальоны, где они получат достаточно пищи, одежду и нормальное обращение.
Потом немцы начали спрашивать каждого в отдельности: согласен он или нет? Первый ответил «нет». Его тут же расстреляли. То же случилось и со вторым, и с третьим и т.д. до тех пор, пока, наконец, кто-то не сказал, что он согласен. Расстрелы тут же прекратились. И тогда другие тоже согласились, но только после того, как они убедились, что это единственный способ уцелеть».
Казалось бы, такое письмо должно вызвать по меньшей мере потрясение. Но Идеи, не позволив возобладать эмоциям, в ответном послании продолжал отстаивать позицию министерства иностранных дел: все пленные, независимо от их желания, должны быть выданы Москве. Селборн горячо возражал, уверяя, что выдать русских пленных — это значит подписать им смертный приговор. При этом Селборн ссылался на слова Сталина, сказанные им в самом начале войны, что Советский Союз пленных не знает, он знает лишь мертвых и предателей.
«И это не пропагандистская оговорка, — убеждал Селборн. — Сталин последователен. Он убийственно последователен, отказавшись вызволить из плена даже собственного сына! Можете не сомневаться, что судьба тысяч и тысяч неизвестных ему людей предопределена».
Но Идеи и его сотрудники заняли чрезвычайно жесткую позицию, уверяя, что, если Великобритания будет чинить препятствия возвращению русских военнопленных, это может сказаться на отношении советских властей к английским военнопленным, освобожденным Красной армией из нацистских лагерей в Восточной Европе.
Против этого аргумента ни Селборн, ни его сторонники никаких разумных возражений найти не смогли, они знали, с кем имеют дело, и прекрасно понимали, что судьба каких-то там англичан Сталина совершенно не волнует и, если понадобится, он, не раздумывая, прикажет сгноить их на Колыме, а то и попросту перестрелять.
Тем не менее, ознакомившись с письмом Селборна, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль нашел время ответить Селборну, причем в свойственной ему многозначительной манере.
«Даже если мы пойдем на какой-нибудь компромисс (с советским правительством), следует пустить в ход машину всевозможных проволочек. Я думаю, на долю этих людей выпали непосильные испытания».
А между тем в графствах Йоркшир и Сассекс спешно сооружались лагеря для русских военнопленных. К концу лета в лагерях Баттервик, Кемптон-Парк, Стадиум и других содержалось более 12 тысяч советских граждан, и еженедельно прибывало еще не менее 2 тысяч.
В конце августа в лагерь Баттервик было доставлено 2400 военнопленных, одетых в немецкую форму. Судя по тому, как гордо они ее носили, даже английские охранники поняли, что все они убежденные сторонники Гитлера. А так как многие были в бинтах, стало ясно, что они сражались на передовой, и сражались, не жалея жизни. С большим трудом, но их все же заставили переодеться в лагерную форму.
Все было спокойно до тех пор, пока не подошла разношерстно одетая колонна из 550 пленных. В лагерную форму они переоделись, не пререкаясь, но когда узнали, кто их соседи по бараку, началась буза: одни требовали старую полосатую робу, другие — потертые пиджаки, третьи — обноски немецких мундиров.
— С власовцами не смешиваться! Держаться отдельно! Требовать немедленного возвращения на Родину! — кричали они.
А на утреннем построении комендант лагеря чуть не упал в обморок: перед ним стояла шеренга мужчин, одетых в…нательные рубахи и кальсоны. Чуть дальше стояли женщины…без юбок. И те и другие держались невозмутимо, лишь штанины кальсон и полы нижних рубах полоскались на ветру.
— Разрешите доложить, — шагнул вперед высокий, изможденный старик лет тридцати пяти. — Гвардии подполковник Ковров, — представился он. — Вы хотели уравнять нас с теми, которые надели немецкую форму и стали врагами русского народа. Мы этого не допустим! Уж если мы не пошли на это в немецких концлагерях, а там за отказ надеть немецкую форму расстреливали, то, будучи в гостях у союзников, тем более не пойдем на это. Понимая, что поставили вас в затруднительное положение, мы написали официальный протест, — протянул вчетверо сложенный лист, — и просим передать его представителям советского посольства.
Через день комендант снова объявил общее построение и приказал всем надеть лагерную форму — только сто из пятисот пятидесяти человек подчинились. Тогда разъяренный комендант приказал снести палатки, а бунтовщиков посадить на хлеб и воду!
Наступил сентябрь, холодный дождь лил круглые сутки, начались серьезные заболевания, но четыреста пятьдесят русских солдат оставались под открытым небом. Командующий местным военным округом отправлял в Лондон депешу за депешей. В одной из них он в отчаянии писал:
«Заключенные подвергаются и будут подвергаться самому жестокому режиму. Однако они настолько закалились в концентрационных лагерях Германии, что мы едва ли сможем их сломить».
Лишь 5 сентября протест заключенных Батгервика был передан послу СССР в Великобритании Федору Гусеву. О том, что произошло в лагере, сотрудники посольства уже знали и, естественно, ждали, что в письме будет слезная просьба перевести в теплый барак и дать горячую пищу, но об этом пленные не писали ни слова. Они жаловались совсем на другое.
«Уважаемый товарищ посол! — писали они. — Мы находимся здесь, в лагере для военнопленных, вместе с немцами, с членами Русской Освободительной Армии, то есть с власовцами, и с другими злостными врагами и предателями. У нас силой забрали гражданскую одежду, и мы носим унижающую человеческое достоинство форму, украшенную ромбовидными заплатами на спине и на штанах.
С нами обращаются хуже, чем с немцами, и как преступников держат под усиленной охраной. Условия нашего содержания стали намного хуже. Пища плохая, нам не дают табака. Нас не слушают, нам не сообщают военных сводок.
Мы просим Вас, товарищ посол, выяснить наше положение и предпринять шаги по ускорению отправки нас на родину, в Советский Союз».
Справедливости ради надо сказать, что советское посольство располагало и другой информацией, в частности, о бунте в одном из лагерей, расположенном в графстве Сассекс. Когда администрация лагеря начала составлять списки для первоочередной отправки на родину, сорок два человек закрылись в бараке, отказались принимать пищу и потребовали, чтобы британское правительство взяло их под свою защиту.
Далее они сообщили, что всей группой вступили в немецкую армию, чтобы бороться с коммунизмом. У них свои счеты с большевистским режимом в России. Когда им предложили встретиться с кем-нибудь из советского посольства, они заявили, что с радостью умрут за возможность отправить на тот свет хотя бы одного коммуниста.
В посольстве немедленно собрали совещание, которое закончилось решением требовать от англичан скорейшей отправки на родину всех без исключения советских военнопленных. А там компетентные органы разберутся, кто есть кто и кого — к стенке, а кого — домой.
То, что произошло дальше, можно объяснить либо полным незнанием обстановки в СССР, либо сознательным предательством попавших в беду советских людей. Вот несколько официальных писем той поры, вчитайтесь в них…
«Министру иностранных дел Великобритании господину Энтони Идену.
От имени правительства Союза Советских Социалистических Республик настоятельно требую передачи военнопленных и прошу правительство Великобритании как можно скорее подготовить суда для их транспортировки.
Посол СССР в Великобритании Ф. Гусев».Идеи тут же запрашивает военное министерство:
«Что вы об этом думаете? Здесь ничего не сказано о том, что если эти люди не поедут назад в Россию, то куда они денутся. Здесь они нам не нужны».
Ответ старшего министра министерства обороны Грига не заставил себя долго ждать.
«Дорогой Энтони! Мы стоим перед очевидной дилеммой. Если мы сделаем так, как хотят русские, и, невзирая на их желание, выдадим всех военнопленных, то мы пошлем некоторых из них на верную смерть. И хотя, как Вы не раз отмечали, мы не можем во время войны позволить себе быть сентиментальными, я признаюсь, что считаю такую перспективу отвратительной, и думаю, что общественное мнение будет испытывать то же самое чувство».
Первым результатом этой переписки стало разрешение сотрудникам советского посольства посещать лагеря для русских военнопленных. В одних лагерях эти встречи проходили дружелюбно, а других дело доходило до скандалов.
Главная задача, которую поставила Москва перед посольскими работниками, — убедить всех пленных добровольно вернуться на родину, — решалась со скрипом. Сотрудники посольства вынуждены были идти на заведомую ложь, говоря, что Москва считает всех пленных полноправными советскими гражданами, несмотря даже на то, что некоторые из них были вынуждены надеть немецкую форму, что советская власть никогда не преследует людей без разбора, что она добра и гуманна, что она простит и примет всех своих сынов.
Многие этому верили. Но было немало и тех, кто решительно отказывался вернуться в Союз, прекрасно понимая, что их там ждет либо пуля, либо Колыма. Парадокс заключался в том, что те, которые рвались на родину, Москву совершенно не интересовали, ей нужны были те, которые категорически заявляли, что, если английские власти примут решение вернуть их в Советский Союз, они покончат с собой. Кроме того, они требовали вернуть им немецкую форму и настаивали на том, чтобы с ними обращались как с немецкими солдатами.
Последнее требование очень смутило английских чиновников. Дело в том, что немало юристов, и не только в Англии, но и в Германии, считали, что принадлежность солдата к той или иной армии определяется формой, которую он носит, и только. Если стать на эту точку зрения, то окажется, что все русские пленные, которые были в немецкой форме, являются полноправными немецкими солдатами. Из этого следует, что, как только Гитлер узнает, что англичане отдают его солдат Сталину, а для них это верная смерть, он тут же вызовет Гиммлера и отдаст такие указания, что английским солдатам, находящимся в немецких концлагерях, станет очень и очень худо.
Не считаться с таким вариантом развития событий английское правительство не могло, поэтому была удвоена охрана лагерей, усилен режим секретности — и ни один звук протеста не выходил за пределы того же Баттервика. На этом фоне все больше и больше возрастала настойчивость советского посла. Он договорился до того, что начал требовать, чтобы русских пленных держали под охраной советских офицеров, а в самих лагерях следовало организовать нечто вроде самоуправления, причем начать надо с создания трибунала и строительства внутренней тюрьмы.
Английские власти на основании договора о боевом союзе 1940 года пошли на удовлетворение этих требований, они даже обещали снабдить все лагеря решетками, замками и другим тюремным оборудованием. Единственное, о чем просили англичане, — не выносить смертных приговоров без предварительной консультации с английскими юристами. Для других наказаний, предусмотренных советскими законами, таких консультацией не требовалось.
Но все это происходило на английской земле, и ни один пленный все еще не был возвращен на родину. Не исключено, что тактика «всевозможных проволочек», провозглашенная Черчиллем, срабатывала бы и дальше, если бы вопрос о пленных не поднял лично Сталин.
9 октября 1944 года Черчилль и Идеи прибыли с официальным визитом в Москву. Три дня продолжались крайне напряженные переговоры, all октября Сталин принял приглашение на ужин в английском посольстве. Там-то и произошел разговор, решивший судьбу тысяч советских военнопленных.
Когда официальная часть была позади, Сталин подозвал своего переводчика и попросил как можно точнее перевести то, что он скажет Черчиллю.
— Под английскими дождями уже не один месяц мучаются более десяти тысяч русских, а их жены и невесты, дети и родители ждут не дождутся своих мужей, женихов, отцов и сыновей, — как бы между делом обронил Сталин.
— Вы — о пленных? — уточнил Черчилль.
— Да, господин Черчилль, о них. Нельзя ли ускорить их доставку на родину? Люди волнуются, пишут письма… Я был бы вам крайне признателен, если бы достигли договоренности об их возвращении.
— Энтони, — сделав вид, что речь идет о недостойном внимания главы правительства пустяке, подозвал Идена Черчилль. — Какие у нас проблемы?
— Проблема только одна, господин премьер-министр, — подыграл ему Идеи. — Транспорт. Сейчас все наши суда заняты перевозкой войск через канал. Как только…
— Никаких «как только»! — сделав строгое лицо, перебил его Черчилль. — Завтра же передайте шифровку в Лондон, чтобы моряки выделили приличное транспортное судно! Вопрос решен, — обернулся он к Сталину. — Не пройдет и месяца, как ваши люди будут дома.
— У нас скоро праздник — двадцать седьмая годовщина Октября, — благодарно кивнул Сталин. — Нельзя ли сделать так, чтобы судно с нашими людьми прибыло седьмого ноября? Это было бы большим подарком и семьям, и лично мне.
— Седьмого? Переход до Мурманска займет примерно неделю, — прикинул Черчилль. — Что ж, можно и седьмого.
— Вы мне оказали большую услугу, устроив это дело, — удовлетворенно кивнул Сталин.
— Надеюсь, что вы положительно решите вопрос и об английских военнопленных, когда Красная армия освободит их из немецких лагерей, — не столько спросил, сколько констатировал Черчилль.
— В этом можете не сомневаться. Даю слово, что к вашим людям будут проявлены всяческое внимание и забота. Под мою личную ответственность! Детали обговорите с Молотовым, — обернулся Сталин к Идену.
На следующий день состоялась конфиденциальная встреча Идена и Молотова. Идеи не скрывал, что есть определенное количество пленных, не желающих возвращаться в Советский Союз и эта проблема беспокоит как правительство, так и общественное мнение — с этим нельзя не считаться, особенно накануне выборов.
Молотов понимающе кивнул и предложил распространить в печати официальную точку зрения Советского правительства, которое, мол, настаивает на возвращении всех без исключения пленных, находящихся в английских лагерях, независимо от их желания или нежелания.
— Кроме того, мы настаиваем на своем праве рассматривать преступную деятельность некоторых из этих людей в соответствии с нашими законами, — жестко закончил Молотов.
— Именно это я без конца повторяю нашим защитникам предателей, взявших в руки немецкое оружие и воевавших на стороне Германии! — обрадованно подхватил Идеи. — В этом, господин Молотов, наши взгляды полностью совпадают.
Совпали они и во всем другом. После недолгой дискуссии министр и нарком сошлись на том, что, независимо от желания пленных, англичане отправлять будут всех и что количество отправляемых пленных будет зависеть только от размеров судна, и ни от чего другого.
Уже 20 октября начальник лагерей для военнопленных генерал Гепп направил циркулярную телеграмму комендантам лагерей:
«Отправка первой партии 31 октября 1944 года. Погрузка в порту Ливерпуля. Транспортное судно “Скифия” может принять не более 10 тысяч человек. Группа должна состоять из тех, кто желает немедленно отбыть на родину Но если их будет менее 10 тысяч, включить и тех, кто хотел остаться в Англии. Сопротивление подавлять силой».
31 октября 1944 года последняя фраза телеграммы сыграла решающую и роковую роль. В порту пленных окружили солдаты, образовав плотный коридор. Первая колонна состояла из тех, кто рвался на родину, поэтому вначале никаких проблем с посадкой не было. Но вот кто-то закричал, что не поедет на убой! Его поддержал другой, третий… Одни лезли вперед, другие рвались назад, третьи, взявшись за руки, уселись прямо на причале.
Полицейские и солдаты охраны метались среди пленных, хватали их за шиворот, толкали. Мелькали кулаки, дубинки, приклады! И хотя русские отбивались лишь голыми руками, загнать их на «Скифию» не было никакой возможности. Пришлось из ближайшего гарнизона вызывать подмогу. Тут уж доблестные представители морской пехоты показали себя во всей красе, ни дубинок, ни прикладов они не жалели! Переломанных костей, синяков и крови становилось все больше, а люди, один за другим, проваливались и проваливались в черную пасть трюма.
И вдруг после хриплого рева пароходной сирены и прощальных гудков стоявших рядом кораблей установилась жуткая тишина… Только тогда оставшиеся на причале англичане поняли, какую мерзость они сотворили.
* * *
Дощатый причал. Островерхие сопки. Из прилипших к земле туч валит густой снег. На ветру полощутся кумачовые транспаранты с неровно намалеванной надписью: «Да здравствует 27-я годовщина Великого Октября!» Оркестрик, состоящий из одетых в черные ватники людей, выдувает какой-то марш.
Из «Скифии» вытекает колонна измученных морским переходом людей. Их тут же окружает конвой с взбесившимися овчарками на поводках. Кто-то отстал, кто-то упал… Автоматчики привычнно лениво взбадривают их ударами прикладов. Голова колонны втягивается в окруженный колючей проволокой лагерь.
Бараки. Вышки с пулеметчиками. Злющие собаки… Круг замкнулся.
Этот подарок Сталину, сделанный не без энергичной помощи дипломатов, был первым, но не последним. Самое удивительное, этот изуверский процесс продолжался и в разгар холодной войны. Вплоть до 1947 года, пока не был выслан последний пленный, вчерашние союзники исправно поставляли на расправу русских людей, которые и без того прошли все муки ада. Эта тайна русской дипломатии остается тайной и поныне. Во всяком случае, упоминания об этом «подвиге» вы не найдете ни в одной энциклопедии, ни в одном исследовании, ни в одном учебнике истории.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
А.А. Ордин-Нащокин. Неизвестный художник
П.А. Толстой. Художник Г. Гзелл
М.И. Голенищев-Кутузов в конце XVIII в. Неизвестный художник
Ш.-М. Талейран-Перигор. С портрета работы Ф. Жерара
А.С. Грибоедов. Художник М. Мотков
Первая встреча графа Паскевича Эриванского с наследным персидским принцем Аббас-Мирзой (пятый справа — А.С. Грибоедов)
A.M. Чернышев. Художник Дж. Доу
Доротея фон Ливен. Художник Т. Лоуренс
Карикатура на графиню Ливен и князя Козловского. Художник Дж. Крукшенк
A.M. Коллонтай
Н.И. Крестинский
A.M. Карахан
Х.Г. Раковский с Л.Д. Троцким
Г.Я. Сокольников
Ф.Ф. Раскольников
Л.M. Рейснер
Я.Х. Давтян
Г.М. Штерн. Фото из следственного дела
П.В. Рычагов. Фото из следственного дела
В.М. Примаков
Т. Нетте
A.M. Коротков
M.E. Кольцов. Фото из следственного дела
Справка из следственного дела М.Е. Кольцова
Р. Валленберг в годы войны
Выписка из протокола №13 заседания Президиума ЦК от 3 мая 1956 г.
А.Д. Огородник
Пилар Суарес Баркала. Кадр оперативной съемки
В.М. Молотов
А.А. Громыко
Примечания
1
Агреман — предварительное согласие одной страны на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другой страны.
(обратно)2
Дуайен — лицо, возглавляющее дипломатический корпус.
(обратно)


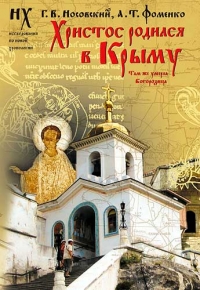


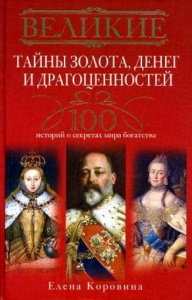
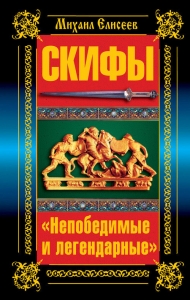
Комментарии к книге «Тайны русской дипломатии», Борис Николаевич Сопельняк
Всего 0 комментариев