Дмитрий Володихин ИВАН ГРОЗНЫЙ
Его… судьба наделила исключительными данными выдающегося правителя и воителя. Его вина или несчастье состояли в том, что поставивши громадную цель превращения полуазиатской Москвы в европейскую державу, он не мог вовремя остановиться перед возрастающим врагом, что он растратил и бросил в бездну истребления одну из величайших империй мировой истории.
Опять-таки оправданием или объяснением этой невольной трагедии может служить его личная судьба: так же как он быстро исчерпал средства державы, он вымотал свой могучий организм, истратил свои таланты, свою нервную энергию
(Из книги «Иван Грозный» Р.Ю. Виппера)Яко волки ото овец, ненавидимых им, отдели любезныя ему. Знамения же на усвоеныя воины тьмообразны наложи: вся от главы и до ног в черное одеяние облек, сообразно же одеждам их и коня им своя имети повеле; по всему воины своя вся яко бесоподобны слуги сотвори. Идеже они на казнь осужены посылаемы суть, — яко нощь темна видением зряхуся и неудержанно быстро ристаху свирепеюще, одни державнаго повеления презирати не смеюще, другие же самохотию от немилосердия работающе, суетне богатящеся, взором бо единем, неже смерти прещением, страшаху люди. Се чтущим ото образа вещи свойство ея знатно есть…
(Из «Временника» Ивана Тимофеева)БИЧ БОЖИЙ
Разными способами может человек, живущий в нашей стране, содействовать ее процветанию — дальновидной политической деятельностью, стойкостью в сражениях, развитием идей, благоприятных для России и русских, да и просто честным трудом. Сюда же можно отнести христианское подвижничество и поддержку Церкви, от века бывшей главным столпом нашего Дома. Иными словами, честно послужить отечеству позволено и скипетром, и пером, и мечом, и монашеской рясой… Здесь в один ряд становятся иноки и государи, философы и генералы, епископы и поэты.
Но наша земля — нечто большее, нежели просто территория, оформленная государственными границами и населенная представителями многообразных народов. Для всех людей, народов, цивилизаций действительны одни законы и одни заветы, заключенные в христианстве. Но свыше им даются разные роли. Спрашивают со всех одинаково, но проявиться дают по-разному. Возможно, кого-то силы небесные предназначили на роль «богословской мастерской», как Византию, кого-то — на роль нескончаемого исповедничества, как Сербию… В Руси можно увидеть театр Господа. Все, происходящее у нас, имеет высший смысл и управляется высшими законами. Таково же устройство всего мира, но у нас оно, вероятно, в наибольшей степени обнажено, в наибольшей степени доступно для скудного человеческого разумения. Вся наша история представляет собой ряд притч, печальных и добрых, о сути человеческой, о диалоге человека с Богом, о сердечной мудрости и умственном распутстве. За какую ниточку ни потяни, всюду откроются обстоятельства, самым естественным образом вызывающие желание покаяться в собственных грехах или восхититься духовной чистотой людей, давным-давно ушедших на встречу с Высшим Судией.
Преосвященный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн писал о Руси, что «…она есть подножие Престола Господня». Значит, смысл ее истории бесконечно далек от суммы корыстных действий, вызванных экономическим и политическим интересом. И если Бог радуется нашим мыслям, словам и действиям, и если Он печалится о нашей греховности, в каждом значительном событии русской исторической судьбы — благом или преступном — видна и Его любовь к нам, и Его отеческое вмешательство в нашу жизнь.
Порой Он попускает кому-то из нас ужасное своеволие, мятеж и даже кровопролитие. Верю, что для тех, кто стал невинными жертвами этих действий, Господь уготовал доброе утешение в Царствии Своем; для всех прочих в поступках злодея содержится Урок. Таким образом, явление Бича Божьего — тоже часть промысла Господня. И видеть в нем надо не наказание, не мщение, а увещевание. Бич Божий должен бы считаться устроителем Русской земли в неменьшей степени, чем воевода, павший за отечество, талантливый литератор или благочестивый архиерей.
Кажется, государь Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, сыграл именно такую роль в биографии Русской цивилизации. Его много критиковали за «недемократический» образ правления, за самодержавный «террор», за агрессивную внешнюю политику по отношению к Европе, за азиатчину… Но в большинстве случаев эта критика была инициирована определенными политическими предпочтениями, и не то что к христианским идеалам, а даже и к правильной академической науке не имеет никакого отношения. Впрочем, похвала «прогрессивному войску опричников» со всеми вытекающими выводами столь же далека и от первого, и от второго. Все это мнения людей, пребывающих бесконечно «левее» позиции, где православное самодержавие кажется приемлемым и даже родным.
Но как выглядит роль государя Ивана Васильевича, если смотреть на русскую судьбу из толщи Русской цивилизации? Был ли он адекватен царской доле, выпавшей ему по изволению Господню? Или, быть может, заслуживает принципиально иной критики — «справа», а не «слева»?
Вот о чем эта книга.
Бесполезно искать в ней традиционную биографию Ивана Грозного, в которой жизнь первого русского царя год за годом рассматривалась бы под увеличительным стеклом. Подобным образом представлено лишь детство государя и его юность. Далее повествование распадается на несколько самостоятельных рассказов. Каждый из них посвящен области государственной жизни России, где характер Ивана IV проявился с особой яркостью и рельефностью. Государь показан как реформатор, военачальник, дипломат, основатель опричнины, а также первейший христианин Царства.
Основной принцип изложения — заменять логические спекуляции живым текстом источника везде, где это возможно; современный образованный читатель, думается, достаточно подготовлен, чтобы самостоятельно делать выводы, ознакомившись со сведениями по нашей старине. Время от времени приходится констатировать: источники противоречат друг другу и «помирить» их нет никакой возможности. В тех случаях, когда невозможно выделить наиболее достоверный, представительный и наименее «ангажированный» из них, остается честно признаться в том, что информация сомнительна. В таких случаях нетрудно на одной информационной основе построить с полдюжины правдоподобных реконструкций того или иного события, процесса; с тем же основанием можно отказаться от суждения и честно положить перо. И то и другое уместно делать довольно часто, поскольку документальная основа нашей истории страшно пострадала от пожаров 1571, 1611 и 1626 годов, осталось немногое. Если по более поздним периодам русская историческая судьба документирована в достаточной степени, то XVI век (не говоря уже об удельных временах или доордынской Руси) почти «гол». Не добротное архивное одеяние, но дырявое рубище прикрывает тело России периода последних Рюриковичей.
Автор этих строк просит у всех читателей прощения за пристрастность своих суждений — откуда взяться ледяному спокойствию, когда грозненская эпоха выходит на подмостки!
Остается поблагодарить за помощь в работе С.В. Алексеева и Г.А. Елисеева.
Глава 1. ЮНОСТЬ ГОСУДАРЯ
Государю Ивану Васильевичу досталось не самое счастливое детство и сиротская юность. Многие историки XIX и XX столетий склонны были несчастьями первых лет его жизни объяснять искривление характера, неровность воли и даже отыскивать в этой почве корни психических заболеваний, приписываемых царю. Конечно, личность складывается в весеннюю пору жизни. Но одними юными годами всего объяснить невозможно. Многие русские государи с младых ногтей принуждены были видеть ужасные вещи, приходилось им и пострадать, некоторые рано лишались родителей, другим доставались такие родители, что не приведи Господь; но характеры выходили разные. Иван III скитался со своим отцом, постоянно терпевшим поражение от политических противников. Федор Иванович, сын Ивана Грозного, лишился матери, Анастасии Захарьиной-Юрьевой, когда был юнее годами, чем его отец; детство будущего государя-праведника прошло в декорациях опричнины. Михаил Федорович рос в эпоху Великой Смуты и править начал в нежном возрасте. Петр I сполна получил ужас стрелецких бунтов… И много ли в них общего? В конце концов, человек сам отвечает за свои грехи, сам выбирает себе дорогу и сам правит своей судьбой. Зрелая личность покидает детские страхи, преодолевает юношеские комплексы и сама формирует себя…
И все же печальная судьба малолетнего наследника престола достойна сочувствия.
Будущий царь Иван Васильевич родился 25 августа 1530 года. Крестили его в Троице-Сергиевом монастыре. К тому времени его отцу, великому князю Василию Ивановичу, было за пятьдесят, однако наследником Бог его не наделил. Летопись показывает рождение Ивана Васильевича как событие мистического характера, сравнивая его с ветхозаветными историями: зачатием Исаака у Авраама и Сарры или зачатием Пречистой у Иоакима и Анны. Бесплодие стало для Василия III мучением и чуть ли не позором. Никоновская летопись трогательно и торжественно рассказывает о снятии этого бремени: «Бе… ему[1] все тщание везде к Богу молебная простирати, желаше бо попремногу от плода чрева его посадити на престоле своем в наследие роду своему, и тако потщася принудити непринудимое существо благости Божиа, его же ради Господь не преслуша молениа его и слезам его внят. Весть бо Богу содетель всяческих, яко сего ради многожеланным подвигом непрестанно разгорается сердце царево на молитву к Богу, да не погибнут бес пастыря не точию едины Русскиа страны, но и вси православнии; и сих ради милосердый Бог разверзе союз неплодства его[2] (курсив мой. — Д. В.) и дарова ему родити наследника державе его…»{1}
Дорогой ценой куплено было семейное счастье великого князя Василия III… Ему пришлось расторгнуть первый брак и жениться вновь. История с разводом отца будет на протяжении всей жизни сына отбрасывать зловещую тень на его царствование.
Впрочем, ликование московского правителя после рождения первенца принесло и добрый плод русской культуре. Государь велел построить знаменитую церковь Вознесения в Коломенском (1532). Порой искусствоведы добродушно шутят: дескать, форма храма — свеча, устремленная к небу, — явилась благодаря желанию Василия III сказать еще разок народу: «Нет, не старик я, люди добрые, отнюдь не старик!»
В 1532 году у Василия III родился младший сын Юрий, единокровный брат Ивана Васильевича. Он, очевидно, страдал каким-то наследственным заболеванием, поскольку летопись говорит о нем: «несмыслен и прост». Никакой роли в судьбе старшего брата и в делах правления он не сыграл.
Отец с необыкновенным вниманием заботился о сыновьях, но недолго пробыл с ними. После мучительной болезни великий князь скончался в декабре 1533 года. Тогда старшему сыну шел четвертый год.
На смертном одре Василий III призвал своего первенца, Ивана, и благословил его крестом на великое княжение. Этот крест, по словам летописи, имеет древнюю историю: им благословлял еще св. Петр-митрополит Ивана Калиту{2}. Умирая, Василий Иванович призвал «бояре своя» оберегать Русскую землю и веру «…от бесерменства и от латынства и от своих сильных людей, от обид и от продаж, все заодин, сколько… Бог поможет», а также взял крестное целование со своего взрослого брата Юрия в том, что тот будет честно служить Елене Глинской и малолетнему сыну Ивану, не пытаясь захватить власть{3}. Впрочем, этот символический акт отнюдь не воспрепятствовал политической борьбе, развернувшейся после смерти Василия III…
Большинство историков придерживались и придерживаются концепции, согласно которой Василий III из числа влиятельных людей, которым он мог доверять, перед кончиной назначил «регентский» или «опекунский» совет. И этот совет мог действовать чуть ли не как особое учреждение, обладающее значительной властью. Но состав названного совета не определен, документов, составленных от его имени, науке не известно, а попытки реконструировать списки «опекунов» чаще всего выливаются в прикидывание: кто из «думных людей» получил наибольшее влияние на дела? По всей видимости, значение имеет прежде всего то, какие силы правили страной, а не какие представители этих сил входят в реестр «опекунов». Само наличие «регентского совета» и четко очерченных властных полномочий «опекунов» до сих пор не могут считаться доказанными[3].
В среде современных историков одно время были популярны догадки о незаконном происхождении Ивана Васильевича. Во всяком случае, высказывались предположения (А.Л. Хорошкевич), что русская знать и соседние государи намекали время от времени молодому правителю о сомнительности отцовства Василия III. Летопись и иные официальные документы (кроме тонких обмолвок в дипломатической переписке) не дают для подобных умозаключений ни малейшего повода. Но, во-первых, великий князь Василий Иванович зачал сыновей лишь во втором браке, да и то далеко не сразу, притом будучи, как уже говорилось, на шестом десятке[4]. И, во-вторых, вскоре после его кончины возникли обстоятельства, заставляющие предполагать связь его вдовы, Елены Глинской, с боярином и воеводой Иваном Федоровичем Телепневым-Оболенским по прозвищу Овчина. В годы регентства Елены Глинской (1533—1538) князь И.Ф. Телепнев-Оболенский был могущественным человеком, крупным военачальником и приближенным великой княгини. Об этом свидетельствует императорский дипломат Сигизмунд Герберштейн. Он пишет: «…по смерти государя вдова его стала позорить царское ложе с неким боярином, по прозвищу Овчина, заключила в оковы братьев мужа, свирепо поступает с ними и вообще правит слишком жестоко». Далее Герберштейн добавляет: князь Михаил Львович Глинский, дядя Ивана Васильевича, крупный полководец и политический деятель, принялся увещевать великую княгиню, но был обвинен в измене, «ввергнут в темницу», где и умер «жалкой смертью». Вскоре после его гибели вдову Василия III, «по слухам», отравили, «…а обольститель ее Овчина был рассечен на куски[5]. После гибели матери царство унаследовал старший сын ее Иван…»[6]. Сейчас трудно определить, до какой степени верны сплетни об «опозоренном ложе», но само их возникновение обязано мыслям, бродившим в русских головах, а не в немецких. Русская служилая аристократия без особой лояльности относилась к Елене Глинской.
Прежде всего, с ее именем связывали некрасивые обстоятельства, связанные с расторжением первого брака Василия III. Его предыдущая супруга, Соломония, из старинного боярского рода Сабуровых, не дала ему ребенка. Трудно судить, кто в этом виноват. После насильственного пострижения в монахини она как будто родила (уже в монастыре!) царевича Георгия, что больше похоже на басню[7]. Большинство современных историков скептически относятся и к возможности рождения Георгия Васильевича, и подавно к возможности его соперничества с Иваном IV. Однако состояние источников не позволяет ни окончательно опровергнуть, ни подтвердить гипотезу о тайном сыне Василия III.
Две эти истории — с самым знаменитым разводом за всю русскую историю и с появлением на свет Божий фантомного великокняжеского наследника — требуют особого внимания. Они с большой силой повлияли на жизнь Ивана Васильевича.
Соломония Сабурова родилась в конце 80-х — начале 90-х годов XV века. Она происходила из древнего и богатого боярского рода, издавна служившего московским князьям. В 1506 году великий князь московский Василий III, избрав Соломонию из множества красавиц, сделал ее своей женой. Их брак продлился два десятилетия, и ничто не сообщает о ссорах между ними: по всей видимости, их супружеская жизнь устроилась счастливо. Соломония была благочестивой женщиной, и до наших дней сохранился вышитый ее руками покров на гробницу святого Сергия Радонежского.
Одно омрачало жизнь венценосной четы: у них не было ребёнка. Супруги совершали богомольные поездки в монастыри, молились о чадородии, но их мечта всё никак не исполнялась. Между тем бездетность великого князя угрожала стране большой смутой. Его братья, прежде всего князь Юрий Дмитровский, хищно посматривали на престол московский, в среде служилой знати были свои претенденты, в глазах которых Московский княжеский дом был не самым родовитым на Руси… За столетие до того споры о наследовании великокняжеского звания вызвали на землях Московского княжества кровавую войну, продлившуюся двадцать пять лет! Русские рати несколько раз сходились в кровопролитных сражениях. Подверглись ослеплению князья Московского дома — Василий Косой и Василий Темный, а еще один князь, прямой потомок Дмитрия Донского Дмитрий Шемяка, по всей видимости, был отравлен… Теперь стране угрожала новая бойня. Судьба всего государства зависела от отношений между мужем и женой.
Существует две версии того, что происходило дальше. Одна из них основывается на свидетельствах немецкого дипломата барона Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Москве в 1526 году, а также на истории, рассказанной через много десятилетий князем Андреем Курбским, перебежавшим во время войны на сторону литовцев.
Что пишут они?
Вот история, рассказанная Герберштейном в его труде «Записки о московитских делах»: «…рассерженный бесплодием супруги, он [Василий III] в тот самый год, когда мы прибыли в Москву, т.е. в 1526-й, заточил ее в некий монастырь в Суздальском княжестве. В монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский куколь, но она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами. Возмущенный этим недостойным поступком, Иван Шигона, один из первых советников, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил ее бичом, прибавив: “Неужели ты дерзаешь противиться воле государя? Неужели медлишь исполнить ее веления?” Тогда Саломея [так Герберштейн называет Соломонию] спросила его, по чьему распоряжению он бьет ее. Тот ответил: “По приказу государя”. После этих слов она, упав духом, громко заявляет в присутствии всех, что надевает куколь против воли и по принуждению и призывает Бога в мстители столь великой обиды, причиняемой ей. Итак, Саломея была заточена в монастырь, а государь женился на Елене, дочери князя Василия Глинского Слепого, в то время уже покойного, — он был братом князя Михаила Глинского, который тогда содержался в плену. Вдруг возникает молва, что Саломея беременна и даже скоро разрешится. Этот слух подтверждали две почтенные женщины, супруги первостепенных советников, казнохранителя Георгия Малого и постельничего Якова Мазура, и уверяли, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, что она беременна и скоро разрешится. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, велел даже подвергнуть бичеванию за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он посылает в монастырь, где содержалась Саломея, советника Федора Рака и некоего секретаря Потата и поручает им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые утверждали нам за непреложную истину, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней присланы были некие лица для расследования истины, то она, говорят, отвечала им, что они недостойны того, чтобы глаза их видели ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, будто она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко».
А вот свидетельство князя Курбского, взятое из его «Истории о великом князе Московском»: «Прожив с первой своей женой Соломонией двадцать шесть лет, он постриг ее в монашество, хотя она не помышляла об этом и не хотела этого, и заточил ее в самый дальний монастырь, находящийся за двести с лишним миль от Москвы, в Каргопольской земле. Итак, он распорядился ребро свое, то есть Богом данную святую и невинную жену, заключить в темницу, крайне тесную и наполненную мраком. А сам женился на Елене, дочери Глинского, хотя и препятствовали ему в этом беззаконии многие святые и добродетельные не только монахи, но и сенаторы его».
Эти два рассказа свидетельствуют о том, что Соломо-нию Сабурову заставили постричься в монахини, чему она всеми силами сопротивлялась. Вскоре после этого распространились слухи о том, что у нее там родился ребенок. В 1934 году реставратор А.Д. Варганов вскрыл в Суздале гробницу, которую приписывали «сыну» Соломонии Сабуровой, и, по его словам, обнаружил там детскую рубашечку. Находку Варганова многие истолковали как косвенное доказательство того, что какой-то ребенок все-таки был. Нашлись романтически настроенные любители отечественной истории, построившие на этой основе версию об «истинном» претенденте на русский престол, персоне, которой-де боялся сам Иван Грозный. Его связывали то с сыном боярским Тишенковым, перешедшим на сторону крымцев в 1571 году и способствовавшим разгрому русской армии, то с разбойничьим атаманом Кудеяром.
Но есть и иная версия, более правдоподобная. Соломония Сабурова видела несчастье мужа и знала об угрозе смуты, нависшей над Россией. Она сама великодушно предложила Василию III постричь ее в монахини, а потом найти вторую жену и родить наследника — ради мира на Руси. Ведь после кончины бездетного супруга, как уже говорилось, могла разразиться большая война претендентов на московский престол — братьев Василия III и других представителей рода Рюриковичей, не принадлежавших Московскому княжескому дому. Этого боялись всерьез. Для страны с точки зрения общественного спокойствия лучшим исходом был второй брак Василия III и рождение ребенка — бесспорного наследника престола. Русские летописи XVI столетия содержат информацию о духовном подвиге Соломонии Сабуровой, переступившей через свою гордость. Так, в Никоновской летописи говорится, что великая княгиня была пострижена в монахини «по совету ея», т.е. по ее собственному желанию. Допустим, этот монументальный свод создавался под присмотром и с участием великого «книжника» митрополита Даниила; он сам был одним из главных действующих лиц в истории с разводом великого князя, и его точка зрения могла быть введена в летописный текст. Но в Воскресенской летописи, составленной, по разным данным, то ли в 1541 году, то ли в 1542—1544 годах, изложена та же версия: «В лето 7034, ноября, князь велики Василей Иванович постриже великую княгиню Соломонию по совету ея (курсив мой. — Д. В.), тягости ради и болезни и бездетства; а жил с нею 20 лет, и детей не было». Между тем к 1541 году митрополит Даниил был уже насильственно сведен с кафедры, и ничто не мешало правительственным летописцам изменить трактовку событий 1525 года, если бы она была, по их мнению, неверна.
Текст Типографской (или, как ее в старину называли, «Синодальной») летописи начала 30-х годов XVI века (по другим данным, конца 40-х — начала 50-х годов) рисует такую же картину: великая княгиня со слезами молит супруга о разводе; он отказывается: «Как могу брак разорити и вторым совокупитися?»; были отвергнуты и советы вельмож аналогичного содержания; тогда с увещеваниями обратился к Василию III сам митрополит Даниил, глава Русской Церкви; он «…многа моли о сем государя и с всем священным саном, да повелит воли ея бытии. Царь же и государь всея Руси, видя непреклонну веру ея, и моления отца своего, Данила митрополита, не презре, повели совершити желание ея».
Откуда тогда взялись сведения о насильственном пострижении и о страшном заточении Соломонии Сабуровой?
Присмотримся к рассказчикам.
Назвать Сигизмунда Герберштейна злопыхателем великокняжеского рода и всей России было бы неправильно. Этот иноземец не был врагом нашей страны, а для его стиля характерна беспристрастность. Как минимум — стремление к беспристрастности. Но… каковы источники информации, на которые он опирался? Свидетелем пострижения Соломонии Сабуровой барон быть не мог. Сомнительно, чтобы по этому поводу был составлен какой-то документ, содержащий подробное описание происходившего, и уж совсем фантастичным надо назвать предположение, согласно которому подобная бумага могла попасть в руки иностранного дипломата. Сигизмунд Герберштейн полагался на молву, слухи — так, во всяком случае, сообщает читателям сам барон. Иными словами, он собирал столичные сплетни. Немецкий дипломат не знал русского, но он навычен был в одном из южнославянских языков, а потому мог находить собеседников в русской среде. Для сравнения можно представить себе современного российского дипломата, прибывшего в Сербию или, скажем, Словению, не имея представления о южнославянских языках и полагаясь на знание родственного им русского. Он подбирает слух о странной истории, произошедшей с женой политического лидера страны… насколько, разумеется, способен понимать сказанное. Сколько в этом слухе истины? А Бог весть. Одни говорят так, другие эдак, словарного запаса для полного прояснения ситуации катастрофически не хватает… Отсюда и вопиющие несообразности в сообщении Герберштейна. Во-первых, летопись четко сообщает о том, что супругу великого князя постригли в Москве, в девичьем Рождественском монастыре, а Герберштейн говорит о суздальских местах, куда прибыла уже инокиня. Во-вторых, пострижение производил, по словам барона, сам митрополит, а несомненно более осведомленный летописец сообщает, что это был «Никольский игумен Старого Давид».
В-третьих, зачем это великокняжескому фавориту Шигоне бич в храме? Кого он там собирался стегать? Монашек? Или на него снизошло предвидение, что великую княгиню придется бить, и он прихватил с собой удобный инструмент? Подробность эта более всего напоминает деталь из городского романса «о жестокой любви и страданиях». Наконец, даже имя супруги Василия III Герберштейн воспроизводит неверно. Очевидно, Соломонию называл Саломеей в разговоре с ним человек, пожелавший очернить ее: ведь аналогия с Саломеей — погубительницей Иоанна Предтечи, дочерью евангельской Иродиады, — должна была бросить тень на благочестие бедной женщины… Какова после всех этих замечаний цена рассказу Герберштейна? Та же, что и любой городской сплетне. «Говорят, что скоро всё подорожает… А особенно поваренная соль!»
Нетрудно представить себе среду, в которой могли зародиться такого рода сказки.
Московская знать, настроенная на политические игры вокруг престола, который должен был опустеть после смерти бездетного Василия III, была разочарована его разводом и новым браком, а потому распустила слухи, порочащие великого князя и его супругу. Сплетни эти дошли до ушей Герберштейна.
Кто же известен в числе противников развода Василия III и его второго брака? Прежде всего, инок Вассиан Патрикеев, сам происходивший из знатнейшего аристократического рода, близкий семейству Сабуровых и настроенный неблагожелательно к суровому правителю Василию III. Преподобный Максим Грек, на которого вряд ли может падать подозрение в связи с московской аристократией, но… с Иваном Даниловичем Сабуровым доброе знакомство он водил. И… князь Семен Курбский, брат деда князя Андрея Курбского! Выходит, один из ярых противников второго брака Василия III, князь Семен Курбский, сохранил эту нелепую историю в своей семье как старинное предание, которым потом воспользовался его отдаленный родич Андрей Курбский. Насколько достоверным является свидетельство Курбского? В двух словах — совершенно недостоверным. В основе своей оно восходит к истории непосредственного участника событий 1525 года, заинтересованного в определенном толковании своей роли. Возможно, Курбский опирался также и на историю Герберштейна, которую знал (в «Истории о великом князе Московском» есть ссылка на Герберштейна как раз в том месте, где тот расхваливает князя Семена Курбского). Князь-диссидент ненавидел Ивана IV — сына Василия III от второго брака, т.е. и сам был, что называется, «заинтересованным лицом». Наконец, «История о великом князе Московском» появилась через много десятилетий после развода Василия III и, соответственно, изобилует ошибками. Не 26 лет длился брак великого князя и Соломонии Сабуровой, а 20, да и не в Каргополье отправили ее после пострижения, а в Суздаль. Об этом сообщает большинство летописей середины XVI столетия, в том числе независимая Вологодско-Пермская летопись: «В лето 7034 декабря князь великий Василий Иванович велел постричь в черницы свою великую княгиню Соломаниду и послал в Суздаль… к Покрову Пречистые в девичь монастырь». Наконец, мрачными красками обрисованная «темница» бывшей государыни — просто плод воображения Курбского. Как известно, Василий III сохранил к бывшей супруге доброе отношение и даже пожаловал ее, уже ставшую старицей Софией, селом Вышеславским Суздальского уезда в 1526 году, с условием передачи села после ее смерти игуменье и келарю обители; грамота получила подтверждение в 1534 году. А за несколько месяцев до того Василий III пожаловал Покровскому монастырю село Павловское того же уезда на особых, льготных условиях. Сидела бы инокиня София в «тесном» заточении, так понадобился бы ей доход с богатого села? Нонсенс.
Любопытно, что так называемый Постниковский летописец середины XVI столетия также сообщает, что вскоре после пострижения Соломонии Сабуровой, 29 ноября 1525 года, она была отправлена «в Каргополье», и там было велено устроить ей в лесу келью, «отыня тыном» (высоким забором). «А была в Каргополе пять лет и оттоле переведена бысть в Девичь монастырь в Суздаль к Покрову Пречистые». Многих смущает мнение известного историка М.Н. Тихомирова, согласно которому автором значительной части Постниковского летописца был крупный чиновник — великокняжеский дьяк Постник Губин, превосходно информированный о «дворцовых новостях». Однако Тихомиров приписывает дьяку отрывок между 1533 и 1547 годами. Что же касается оригинальных известий за вторую половину 20-х годов (в том числе и «каргопольского отрывка»), то источник их неизвестен, и о степени достоверности его судить трудно. Но сообщение о пяти годах ссылки в лесную чащобу, за «тын», явно неправдоподобно. В сентябре 1526-го и марте 1534 года инокиня София пребывала в Суздале: именно этими месяцами датируется жалованная грамота на село Вышеславское и ее подтверждение. Следовательно, возможны три варианта.
Первое: преподобная София никогда не была в Каргополе, и сведения о ее сидении в лесу — выдумка.
Второе: ее отправили туда буквально на несколько месяцев в первой половине 1526 года, а потом доставили в Суздаль.
Третье и наиболее вероятное: все-таки правы другие летописцы, и преподобная София первоначально была направлена в Покровскую обитель. Но затем, в результате распространения слухов о том, что у монахини и бывшей жены великого князя родился ребенок, ее на некоторое время увезли в Каргопольский уезд. Была ли она там целых пять лет? Неизвестно. Однако между 1531 и 1534 годами преподобная София точно была возвращена в Суздаль, где в дальнейшем жила и закончила свои дни.
У брака Василия III в среде московской служилой аристократии имелись как противники, так и сторонники. Многих интересовало прежде всего сохранение покоя в стране, перспектива нарушения устоявшегося порядка вызывала тревогу; к тому же не все были заинтересованы в поддержке политической «партии», связанной с кланом Сабуровых. Независимые псковские летописцы оставили противоречивые толкования этой истории. Один из них увидел во втором браке великого князя прелюбодеяние: «…А все то за наше согрешение, яко же писал апостол: иже аще пустит жену свою, а оженится иною, прелюбы творит». Зато другой приводит мнение Боярской думы, настаивавшей на разводе и новом браке: «И начаша бояре говорили: князь де великий… неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда».
До какой степени развод Василия III и его второй брак соответствуют нормам канонического права XVI столетия — вопрос, нуждающийся в оценке крупного специалиста с богословским образованием. В начале XVII века в московской приказной среде, близкой к дипломатическому ведомству, возникла «Выпись» о втором браке Василия III — богословско-публицистический трактат. В нем, с точки зрения отдаленных потомков, дается оценка действиям великого князя, его приближенных и митрополита Даниила. В сущности, речь идет об осуждении второго брака Василия Ивановича как неканоничного и повлекшего за собой небесные кары для династии и всей страны. По мнению крупнейшего знатока того периода А.А. Зимина, «…разбор реалий (сведений о событиях и лицах), имеющихся в выписи, приводит к выводу, что в этом памятнике содержится причудливая смесь достоверных фактов и совершенно ошибочных данных, касающихся самого стержня повествования». В частности, там сообщается об отрицательном мнении преподобного Максима Грека, инока Вассиана Патрикеева, некого чернеца Селивана, Саввы «святогорца» и книжника Михаила Медоварцева. Поддержали второй брак сам митрополит, Коломенский епископ Вассиан Топорков и некоторые другие представители русского духовенства. Всё это более или менее подтверждается другими источниками. Однако дальнейшее вызывает сомнения: «Выпись» сообщает о послании, отправленном четырем вселенским патриархам, с просьбой высказать мнение по этому вопросу. И они единомысленно отрицают возможность развода и второго брака в подобных обстоятельствах, особенно же строг патриарх Иерусалимский Марк. Но никаких патриарших грамот, касающихся этой проблемы, не найдено. Неизвестно, существовали они на самом деле или же были плодом воображения поздних публицистов…
Но гораздо важнее другое обстоятельство: все упреки в неканоничности действий Василия III, правильными они были, или нет, адресовывались ему, и только ему. За великой княгиней никакой вины нет. К тому же митрополит Даниил, бывший тогда главой Русской Церкви, не увидел в истории добросердечной женщины и ее страдающего мужа ничего преступного. Он позволил развод и дал благословение на второй брак.
Осталось обвинение Соломонии Сабуровой в колдовстве. Действительно, до наших дней дошли документы времен Василия III (часть следственного дела «о неплодии великой княгини»), в том числе показания казначея Юрия Малого (Георгия из рода греков Траханиотов) и брата Соломонии, Ивана Юрьевича. Дело относится к ноябрю 1525 года. В свидетельских показаниях сообщается, что Соломония Сабурова прибегала к услугам ворожеи Стефаниды-рязанки. Та огорчила великую княгиню, сказав: «Детем не быти», — а потом «наговаривала воду», с помощью которой супруга Василия III могла, по ее словам, сохранить любовь мужа. Затем по просьбе Соломонии Сабуровой Иван Юрьевич, как он говорил, «допытался» иных ворожей. В частности, привел к себе на подворье некую безносую «черницу». Она «наговаривала» воду и пресный мед, «…да посылала к великой княгине… а велела ей тем тертися от того же, чтоб ее великий князь любил, да и детей для». Соломония, по словам брата, испытала эти средства, пыталась привлечь к себе любовь супруга и побороть безчадие.
Есть версия, согласно которой все «наговоренные» составы от «ворожей» являлись обыкновенными ароматическими притираниями, своего рода «афродизиаками» того времени. Просто неюная женщина пыталась вернуть себе внимание мужа, призвав на помощь знахарок-от-парфюмерии. Так и сейчас поступают многие дамы… А ее недоброжелатели надавили на свидетелей, чтобы придать делу угрожающе-колдовской характер.
Существует и другая версия, более серьезная, — политическая.
Историки уже высказывали предположение, согласно которому какая-то группировка знати инспирировала розыск, пытаясь таким образом приблизить решение Василия III о разводе и втором браке. Так, могущественные семейства московских великокняжеских бояр должны были всячески противиться приходу кн. Юрия Дмитровского на престол, ибо он привел бы на их места в Думе, административном и военном аппарате России своих приближенных. К тому же Юрия подозревали — и, кажется, не без основания — в тайных сношениях со злейшим врагом Московского государства — татарами, чуть ли не с самим крымским ханом. Но в случае бездетности Василия III до самой его кончины именно этот удельный правитель, скорее всего, занял бы великокняжеский престол. Для группировки противников Юрия Дмитровского второй брак и рождение прямого наследника были политически спасительными. Таким образом, великая княгиня попала в центр сложной политической игры… Если бы обвинения в колдовстве сочли существенными, то Соломонии Сабуровой грозило бы страшное наказание. Уже при отце Василия III, Иване Великом, в Московском государстве жгли еретиков, а колдовство заслуживало не менее суровой кары. Но… никто Соломонию Сабурову не жег, не пытал, жизнь ее в монашестве получила богатое обеспечение. Следовательно, скорее всего вина ее в колдовских действиях доказана не была. Или просто Василий III разобрался в сути интриги. Ведь тот же Иван Юрьевич Сабуров (рында и, возможно, кравчий в свите великого князя), которому вроде бы предстояло понести наказание как прямому пособнику в колдовских делах, остался жив. Более того, точно известно, что в 1543 году он получил ответственный воеводский пост. Да и весь род Сабуровых не пропал, хотя и «притих»: на службах государевых его до самой смерти Василия III не видно. А вот при его малолетнем сыне Иване положение изменяется: в конце 1531 года боярин Андрей Васильевич Сабуров упомянут в документах как воевода на Костроме, а в начале 1540-х Яков Иванович Сабуров (близкая родня Соломонии) воеводствует в Галиче.
Против версии, согласно которой Соломония Сабурова пыталась победить бесчадие с помощью колдовства, работает еще один аргумент. В 1525 году, т.е. накануне расторжения брака, от имени великокняжеской четы в Троице-Сергиеву обитель был сделан драгоценный вклад — шитый жемчугом «воздух», на котором изображено видение преподобного Сергия Радонежского о Пречистой Богородице и апостолах. На нем вышита молитва о чадородии. По отзыву музейных сотрудников Ризницы в Троице-Сергиевой лавре, где сейчас хранится этот предмет, традиции XVI века обязывали знатную женщину лично принять участие в вышивании такой вещи. Известно, что работа над нею могла длиться годами (известен факт о вышивании подобного предмета в середине XVI века на протяжении трех лет). Следовательно, последние годы перед пострижением великая княгиня московская надеялась не на ведовство и волхвование, а на помощь сил небесных. Упование ее было тщетно — не дал ей Бог детей, но поднял ее к высотам духовного подвига.
Можем ли мы сейчас твердо установить: прибегала великая княгиня к колдовским чарам или же на нее был возведен поклеп, в том числе и ближайшей родней? Нет. Остается ли шанс на то, что Стефанида-рязанка и прочие персонажи того же ряда посещали палаты великой княгини? Да, остается. Нельзя, к сожалению, полностью отвергнуть эти сведения, хотя они и сомнительны. Но даже если допустить, что женщина, впавшая в отчаяние, совершила этот грех, то ее долгая добродетельная жизнь во иночестве должна была смыть его, как смыло монашество злобу и жестокость святого Никиты Переяславского.
Итак, Соломония Сабурова стала инокиней Софией. Она отправилась в суздальский Покровский монастырь. Василий III женился во второй раз, и через несколько лет у него родился сын Иван. Самопожертвование Соломонии Сабуровой не было напрасным.
А как же ребенок, якобы родившийся вне закона? Здесь хотелось бы добрым словом помянуть сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В январе 2008 года они предоставили автору этих строк два документа, проливающих свет на историю с мифическим Георгием, «сыном» Сабуровой. Это, во-первых, акт о раскопках в суздальском Покровском монастыре 19—20 мая 1996 года — за четырьмя подписями, среди которых есть и подпись старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН С.А. Беляева. О гробнице, раскрытой А.Д. Варгановым, в акте говорится следующее: «Погребения на этом месте не могло быть по причине физического отсутствия места для него, ибо фундамент представляет единый монолит, сохранившийся в неповрежденном виде без каких-либо выемок в нем, а совершение захоронения между плитами пола и фундаментом невозможно, так как толщина этого слоя в самом его глубоком месте не превышает 0,3 м». Иначе говоря, раскопки 1996 года поставили под сомнение то, что А.Д. Варганов действительно нашел в указанном им месте захоронение с рубашечкой. Ведь там вообще не могло быть гробницы — сплошной камень… А научного протокола вскрытия гробницы А.Д. Варгановым просто нет. Его не составили. Как нет ни фотографий, ни зарисовок. Что ж, провинциальная археология 1934 года, как видно, не знала простейших правил научной работы… Второй важный документ — официальное письмо директора музея-заповедника, заслуженного работника культуры РФ, кандидата исторических наук А.И. Аксеновой в суздальский Покровский монастырь от 11 декабря 2006 года. В нем среди прочего сказано: «Легенда, не подтвержденная документально, остается легендой. Прямых неопровержимых данных о существовании ребенка, приуроченности предметов погребения к имени Соломонии (Софии) нет». Сказано честно и точно.
История с «рубашечкой Георгия» и прежде выглядела странно: на экспертизу в ГИМ экспонат был отправлен только в 1944 году (через десять лет после раскопок Варганова!), представлял собой клубок из металлических шнурков и тесемок, из которого «реконструировали» на современной материальной основе «рубашечку». Из письма самого Варганова известно, что в ГИМе часть сотрудников первоначально склонялась датировать «рубашечку» XVII веком. Аргументы, приложенные к ее окончательной датировке, выглядят невнятно: специалист ГИМ Е.С. Видонова сравнила остатки «рубашечки» с тремя рубашками XVII века из фондов ГИМ и сделала вывод: «Более плотная шелковая тафта, нарядные и в то же время строгие серебряные украшения, тонкая и сложная техника шитья и другие признаки позволяют отнести рубашку к более раннему времени — к XVI и скорее к его первой половине». Вот так резюме! Не имея ни одной рубашки XVI столетия для сравнения, Е.С. Видонова сопоставляла предмет неизвестного времени с материалом XVII века и, повинуясь не Бог весть какой логике, утверждает: раз сделано наряднее, строже, тоньше и сложнее, значит, XVI век! А к XVII, вероятно, люди разучились так шить и стали делать рубашки скромнее, ласковее, грубее и проще… Но почему? Или, может быть, ком металлического шитья, попавший в ГИМ, относится к XVII или XVIII столетиям? Сравнивая несколько разнородных вещей, столь определенные выводы делать просто легкомысленно.
К настоящему же времени вся история этой находки утратила научное основание.
Остается приложить к фактам здравый смысл. Крайне маловероятно рождение сына после двух десятилетий бесплодного брака. Еще менее вероятно сохранение в тайне самого факта рождения (и воспитания!) ребенка в женском монастыре. Невозможно мотивировать отказ Василия III от желанного наследника — ведь во втором браке сын у него родится лишь несколько лет спустя, в 1530 году! Исключительно трудно представить себе способ, с помощью которого инокиня скрыла мальчика от московской комиссии. Если бы версия Герберштейна о гордых словах Соломонии-Софии, брошенных главе следствия, были верны хоть на золотник, то Покровскую обитель и весь Суздаль, наверное, перерыли бы от подвалов до чердаков, а сама женщина закончила бы свои дни в месте куда менее приемлемом, чем богатый аристократический монастырь.
И уж совсем ничем не подкрепленные байки — связь между мифическим Георгием и атаманом Кудеяром. Эта версия пригодна только для «альтернативной истории».
Инокиня София скончалась в Покровском монастыре в 1542 году. Она оставила добрую память как человек глубокой веры. Известно, что она сама выкопала колодец для нужд обители. Монастырская традиция сообщает о многочисленных чудесах, совершавшихся у гроба Софии. Особое почитание ее началось еще в XVI столетии, а в середине XVII века состоялось ее прославление в лике святых. Со времен петровских преобразований и на протяжении синодального периода ее почитание оказалось под запретом. Но оно возобновилось в 90-х годах XX века. 27 марта 2007 года патриарх Алексий II повелел внести имя преподобной Софии Суздальской в Месяцеслов РПЦ. Таким образом, эта старинная святая обретает общерусское почитание.
* * *
Итак, на место Соломонии Сабуровой, абсолютно «своей» в среде старомосковской служилой аристократии, к тому же оказавшейся жертвой политических обстоятельств, является чужачка Елена Глинская, к тому же человек властный. Она имела большое влияние на мужа. Желая «угождать» ей, Василий III сбрил бороду — поступок на Руси небывалый! — и завел кое-какие обычаи, характерные для Великого княжества Литовского, откуда явилась со всем семейством Глинских великая княгиня.
После кончины супруга Елена Глинская, опираясь на группировку верной ей знати, правила твердой рукой. При ней было построено несколько важных крепостей, проведена реформа денежного обращения 1535—1538 годов, унифицировавшая монетную чеканку во всем Московском государстве{4}. Худо-бедно ей удавалось подвигнуть русских воевод на активные действия в Стародубской войне[8]. И, главное, великая княгиня обезглавила оппозицию, способную сместить ее с престола.
В начале ее регентства дядя Ивана Васильевича, удельный князь Юрий Иванович Дмитровский, повел странные переговоры с князем Андреем Михайловичем Шуйским. Оба они могли стать претендентами на престол, покуда прямой наследник великого князя мал и не способен за себя постоять. Первый — брат Василия III, а второй принадлежал к числу «принцев крови». Об особом положении Шуйских советский историк Г.В. Абрамович писал следующее: «Князья Шуйские выделялись среди московской знати… родовитостью. Будучи, как и московские великие князья, потомками великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича, они считались принцами крови, т.е. персонами, имеющими право на великокняжеский престол в случае вымирания Московского рода»{5}. Более того, сами Шуйские считали себя (и не без причин) более родовитым семейством, нежели Московский княжеский дом. В 1606 году, когда на российский престол взойдет князь Василий Иванович Шуйский, у него будут на это все генеалогические основания{6}.[9] Но в 1530-х дело обернулось иначе… По приказу Елены Глинской князя Юрия Дмитровского отправили в темницу, где он и умер через несколько лет «на чепи и в железах»{7}. Князя Андрея Михайловича Шуйского арестовали, но он, хотя был, как показывает летопись, ведущей фигурой в мятежных настроениях, отделался легко. Наконец, другой брат покойного Василия III, удельный князь Андрей Иванович Старицкий, летом 1537 года попытался захватить Новгород и едва не вступил в прямое вооруженное столкновение с войсками Елены Глинской. Во главе правительственной армии встал князь И.Ф. Телепнев-Оболенский. Мятеж был подавлен, а некоторые крупные фигуры, вставшие на сторону удельного князя, — казнены. Сам князь Андрей Иванович через несколько месяцев после ареста умер «в нуже и страдальческою смертью»{8}. Это произошло в декабре 1537 года. Наиболее влиятельный представитель рода Глинских, как уже говорилось, также отправился в заточение. Некоторые другие аристократы попали в опалу.
Трудно определить, до какой степени братья Василия III на самом деле стремились занять престол и затевали мятежи. Их активность во многом явилась ответом на жесткие превентивные меры Елены Глинской и ее партии. Великая княгиня опасалась за судьбу малолетних сыновей, поэтому она избрала курс радикального подавления всех политических противников, в том числе потенциальных. В этом смысле характер ее правления напоминает образ действий Екатерины Медичи… Великая княгиня, словно птица, пыталась защитить двух сыновей крыльями и готова была биться за них с любым врагом до смерти. В конечном итоге Елена Глинская достигла своей цели. Но после всех принятых регентшею истребительных мер московская знать не имела ни малейшего повода относиться к ней мало-мальски доброжелательно.
Через много лет князь Андрей Михайлович Курбский, изменивший Ивану IV, передаст мнение большого пласта русской аристократии на этот счет в нескольких фразах: «…посеял дьявол скверные навыки в добром роде русских князей прежде всего с помощью их злых жен-колдуний. Так ведь было и с царями Израиля, особенно когда они брали жен из других племен». И, далее, обращаясь к Ивану Васильевичу: «Ведь отец твой и мать — всем известно, сколько они убили»{9}.[10]
Поэтому, даже если великая княгиня после кончины супруга вела чистую и праведную жизнь, за ней повсюду и во всем следовал шлейф недоброжелательства. Надо полагать, это отношение хотя бы отчасти перенесено было и на ее сына. Отсюда разговоры о «незаконнорожденном» наследнике престола, о тайном «истинном» первенце Василия III.
Невозможно проверить, кто был настоящим отцом Ивана Васильевича, да и недостойное дело — пытаться подглядывать семейные тайны далекого прошлого через замочную скважину. В этой истории гораздо важнее другое. Ситуация 1530-х годов позволяла русской аристократии строить планы на повышение ее роли в управлении государством или даже о смене правящей династии. После смерти двух братьев Василия III оставался еще один серьезный претендент на трон — князь Владимир Андреевич Старицкий, сын князя Андрея Ивановича. Он, по всей видимости, являлся человеком, лишенным твердой воли и честолюбия. Но за его спиной стояла мать, княгиня Евфросинья, — особа существенно более энергичная и к тому же имевшая причины ненавидеть малолетнего государя из-за смерти супруга и унижения семьи Старицких.
После кончины Елены Глинской защитниками государя-мальчика можно считать митрополита Даниила, ослабевшую от репрессий семью Глинских и, возможно, Вельских (родственников великого князя, хотя и отдаленных)[11]. Значительная партия стояла за Старицких. И еще одну сильную партию составляли Шуйские. Этим, последним, приход к власти кн. Владимира Андреевича с его властной матерью представлялся, надо полагать, версией «Елена Глинская номер два». Иными словами, нежелательным вариантом развития ситуации[12]. Исследователи XVI столетия сосредотачивались на роли князя Владимира Андреевича в придворных интригах и притязаниях знати, упуская из виду, что претендента из семейства Старицких уравновешивала целая гроздь претендентов из семейства Шуйских. Выставить своего претендента до смерти князя Владимира Андреевича Шуйские не могли. Но «выбить» разрозненную и, видимо, довольно слабую группировку, окружавшую Ивана Васильевича, оттеснить ее от кормила власти, а потом сделать великого князя орудием своей воли — о! — это был очень хороший план. Он приводил к тому, что Шуйские, используя нелюбимого мальчишку как фасад для княжения их собственного клана, становились реальными правителями России.
Так и сложился действительный ход событий. Разумеется, в подобных обстоятельствах слухи о незаконнорожденности великого князя оказались выгодными и для сторонников Старицких, поскольку оправдывали их стремление к трону, и для сторонников Шуйских, поскольку ослабляли и без того нетвердую позицию группировки, честно ориентировавшейся на самого Ивана Васильевича.
Итак, в конце 30-х — первой половине 40-х годов XVI столетия Шуйские делают несколько решительных шагов к верховной власти и на некоторое время завоевывают ее[13]. Для этого им пришлось в 1538 году разгромить слабейшего противника. Весной Шуйские арестовали князя И.Ф. Телепнева-Оболенского, отправили его в темницу и там уморили голодом. Двух представителей рода Шуйских вскоре «пожаловали» боярским чином, и вместе с прежними боярами-Шуйскими в Думе сидело уже четыре князя этой фамилии!{10} Осенью того же года князя Ивана Федоровича Вельского взяли под стражу, а свиту его разослали «по селом». Дьяка Федора Мишурина, возвысившегося еще при Василии III и державшегося партии великого князя — мальчика, обезглавили «без государского веления». Боярина Михаила Васильевича Тучкова выслали из Москвы «в село». А несколько месяцев спустя самого митрополита Даниила свели с кафедры. Летопись, отражающая точку зрения Церкви, сообщает о событиях того времени следующее: «…и многу мятежу и нестроению в те времена быша в христианьской земле, грех ради наших, государю младу сущу, а бояре на мзду уклонишася без возбранения, и много кровопролития промеж собою воздвигоша, в неправду суд держаще, и вся не о Возе строяше, Богу сиа попущающе, а врагу действующе»{11}.
В 1542 году Шуйские свергли митрополита Иоасафа, вступившегося за князя И.Ф. Вельского. Тот же Вельский отправился на Белоозеро «в заточение», где его позднее убили, а виднейшие сторонники князя — в ссылку «по городом». Летопись добавляет: «И бысть мятеж велик в то время на Москве и государя в страховании учиниша»{12}. Более того, с князем Вельским расправились вопреки мнению малолетнего государя, который его «в приближении держал и в первосоветниках». Шуйских поддерживала мощная группировка московской знати и, возможно, Новгород, — не было силы, способной им противостоять[14].
Покуда свершался переворот, малолетнего государя разбудили среди ночи и заставили «пети у крестов». Великий князь, несмотря на громкий титул, был бессилен как-либо помочь своему любимцу князю Вельскому… Он не был настоящим государем даже в собственной комнате! Но самое страшное унижение ему пришлось испытать в сентябре 1543 года. Шуйские и их сторонники избили государева приближенного, Федора Семеновича Воронцова, за то, «…что его великий государь жалует и бережет»{13}. Это произошло во время заседания Боярской думы! На Ф.С. Воронцове разорвали одежду и собирались его убить. Иван IV едва упросил пожалеть фаворита. Однако уговорить Шуйских не отправлять Воронцова в дальнюю Кострому, а ограничиться ссылкой в близкую Коломну, великому князю уже не удалось.
Впрочем, торжество Шуйских длилось недолго. Через несколько лет они перестают играть столь заметную роль. Но, по некоторым версиям, напоследок Шуйские громко хлопнули дверью, натравив в 1547 году московский посад, разозленный большим пожаром, на родственников Ивана IV, Глинских. Тогда погиб князь Юрий Васильевич Глинский, буквально разорванный толпой, а другие члены семейства пытались бежать в Литву, опасаясь подобного же конца. Их вернули, государь им это малодушие простил, и дело было «замято».
Для мальчика период приблизительно в шесть или семь лет стал самым черным, самым горьким во всей биографии. Между 1538-м и концом 1543 года в Московском государстве настала пора «Шуйского царства». А для мощного клана аристократов юный государь был всего-навсего пешкой в большой игре. Позднее сам Иван IV будет с горечью вспоминать о годах заговоров: «…когда по божьей воле, сменив порфиру на монашескую рясу, наш отец, великий государь Василий, оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в царство небесное, предстоять перед царем царей и господином государей, мы остались с родным братом, святопочившим Георгием. Мне было три года, брату же моему год, а мать наша, благочестивая царица Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь: со всех сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы — литовцы, поляки, крымские татары, Астрахань, ногаи, казанцы, и от вас, изменников, пришлось претерпеть разные невзгоды и печали…[15] Потом изменники подняли против нас нашего дядю, князя Андрея Ивановича, и с этими изменниками он пошел было к Новгороду… а от нас в это время отложились и присоединились к дяде нашему, к князю Андрею, многие бояре во главе с твоим родичем… Но с Божьей помощью этот заговор не осуществился…» Но худшие воспоминания остались у Ивана Васильевича именно от периода, начавшегося после смерти Елены Глинской: «Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний — получили царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили! Дворы, и села, и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища матери моей перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная ногами и тыча палками, а остальное разделили… Так вот князья Василий и Иван Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и так воцарились; тех же, кто более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе. А князь Василий Шуйский поселился на дворе нашего дяди, князя Андрея, и на этом дворе его люди, собравшись, подобно иудейскому сонмищу, схватили Федора Мишурина, ближнего дьяка при отце нашем и при нас, и, опозорив его, убили; и князя Ивана Федоровича Вельского и многих других заточили в разные места; и на церковь руку подняли: свергнув с престола митрополита Даниила, послали его в заточение; и так осуществили все свои замыслы, и сами стали царствовать. Нас же, с единородным братом моим, святопочившим в боге Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле и не так, как обычно поступают дети. Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ… Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать мне о доставшейся родительской казне?»{14} Любопытно, что итальянский архитектор Петр Фрязин в 1538—1539 годах бежал за рубеж от «великого насилия» бояр, а бегство свое оправдывал состоянием страны, емко переданным в одной фразе: «мятеж и безгосударьство»{15}. Этим подтверждаются слова государя, а также свидетельства ряда других источников.
После приведенных выше строк кажется одновременно и абсолютно верным, и невероятно лукавым замечание князя A.M. Курбского о воспитании великого князя и его поведении в годы, когда господство Шуйских пошатнулось: «… юный, воспитанный без отца в скверных страстях и самоволии, крайне жестокий, напившийся уже всякой крови — не только животных, но и людей»{16}. А кто воспитывал его так? Все та же служилая аристократия, страстно мечтавшая поменьше служить и побольше править[16]. Иными словами, та аристократическая среда, откуда вышел и сам Андрей Курбский — плоть от плоти ее, голос ее, одушевленная правда ее. Нехорош, с его точки зрения, державный младенец, — что ж, можно понять: откуда взяться в таких обстоятельствах доброму воспитанию! Но хороши ли оказались люди, корыстной толпою окружившие трон в пору его детства? Те люди, коих так любил и нахваливал Курбский?
В 1539 и 1542 годах служилая знать московская совершила страшные злодеяния: насильно свела с митрополичьего престола сначала святителя Даниила, а потом и святителя Иоасафа. В будущем князь Курбский станет бичевать государя Ивана Васильевича бестрепетно и грозно: дескать, как мог православный царь стать виновником смерти митрополита Филиппа и других архиереев?! Назовет его «зверем-кровопийцей», сравнит с Иродом и «лютым драконом, губителем рода человеческого». А у государя были добрые учителя к этой мерзости: цвет русской аристократии, князья Шуйские, в интересах придворной борьбы унизившие двух русских митрополитов. Притом обстоятельства, сопровождавшие сведение их с кафедры и отправку в почетную ссылку, весьма некрасивы. Так, о событиях, связанных с оставлением митрополичьего престола владыкой Иоасафом, человеком кротким и добрым, летопись рассказывает следующее: «…митрополиту Иоасафу начаша безчестие чинити и срамоту великую. Иоасаф митрополит, не мога терпети, соиде с своего двора на Троецкое подворье. И бояре послаша детей боярских городовых на Троецкое подворье с неподобными речми. И с великим срамом поношаста его и мало его не убиша, и едва у них умоли игумен Троецкой Алексей Сергием чюдотворцем от убиения»{17}. Когда святитель Иоасаф пытался найти убежище у великого князя, «бояре пришли за ним ко государю в комнату шумом»{18}. Таким образом, мальчик стал невольным свидетелем мятежных действий знати. О митрополите Данииле источники сообщают, что он будто бы отличался сребролюбием, чревоугодием, был честолюбив и жестокосерд. Не все в этом списке заслуживает доверия, но дело не в отдельных фактах, более или менее сомнительных, дело в нарушении очень важного принципа. Каким бы ни был грешником митрополит Даниил[17], а он прежде всего сосуд Св. Духа, учитель и владыка. И автору этих строк представляется низостью входить в подробности личной жизни своего же, русского, архиерея. Кто такие были Шуйские, судившие его и лишившие митрополичьей кафедры? Говоря языком современного традиционализма, обнаглевшая кшатра. Им бы полы святительских одежд целовать, а они на духовного владыку Руси смеют поднять руку![18] Для государя-мальчика это был прескверный урок на всю жизнь. Если какие-то Шуйские, властолюбивые интриганы у подножия престола[19], позволяют себе играть архиереями, как тряпичными куклами, правителю, выходит, и вспоминать не стоит о церемониях… Гибель митрополита Филиппа, умертвленного одним из вождей опричнины, Малютой Скуратовым, уходит корнями в день унижения владыки Даниила.
Князь Курбский писал о крови, которой «напился» Иван Васильевич еще в детстве. Да, если не со вкусом крови, то, во всяком случае, с ее запахом, юному государю пришлось познакомиться очень рано. Мать и думные люди понемногу приучали его к участию в государственных делах: мальчик присутствовал на приемах иностранных дипломатов, участвовал в церковных торжествах и церемониях. Однако до первой половины или даже середины 40-х годов XVI столетия он вряд ли что-то значил в делах правления. Правили то Елена Глинская, то Шуйские, то, недолгое время, Вельские с группой сторонников. Государю просто не хватало годочков для участия в серьезных играх державства.
Впервые он выходит на арену как фигура, способная отстаивать собственный интерес, в 1543 году — мальчик спас от смерти Федора Воронцова. Тогда дети взрослели раньше, чем сейчас, а сиротство и обстановка нестабильности, борьбы между сторонниками разных «дворовых» группировок, вполне реальная возможность лишиться трона — все это очень способствовало быстрому возмужанию Ивана Васильевича. В конце 1543-го — 1544 году он начинает переламывать ситуацию в свою пользу. Вряд ли одни только усилия венценосного подростка могли изменить позиции на шахматной доске большой политики. Была к тому и значительно более серьезная предпосылка: «Шуйское царство», т.е. попытка монополизации власти одной аристократической партией, входило в противоречие с интересами других групп и семейств. Как ни парадоксально, сильный государь оказался не столь уж бесполезен для русской знати того времени: при ее многолюдстве и, может быть, даже избыточности, великий князь исполнял роль арбитра в спорах и следил за тем, чтобы в разделе административного пирога участвовали все значительные силы[20]. К середине 1540-х правителя-юношу поддерживали: новый митрополит, а также семейство Глинских, пусть и ослабленное прежними потерями. «Врагами его врагов» стали многочисленные аристократические кланы, противостоявшие Шуйским (Щенятевы, Хабаровы, Тучковы, Вельские, предположительно Морозовы, и особенно Воронцовы), а также все те, кому Шуйские вчистую отрезали дорогу к власти. Эта совокупная сила начинает действовать, превратив малолетнего великого князя в свое знамя. Зимой 1543/44 года «партия государя» наносит ответный удар.
Вот что сообщает об этом летопись: «Тоя же зимы декабря в 29 день князь великий Иван Васильевич всеа Русии, не мога того терпети, что бояре безчиние и самовольство чинят без великого князя веления своим советом едино-мысленных своих советников, многие убийства сотвориша своим хотением и перед государем многая безчиния и государю безчестия учиниша и многия неправды земле учиниша в государеве младости, и великий государь велел поимати первосоветника их князя Андрея Шуйскаго и велел его пре-дати псарем. И псари взяша и убиша его, влекуще к тюрьмам противу ворот Ризположенских в граде. А советников его розослал, князя Федора Шуйскаго, князя Юрия Темкина, Фому Головина и иных. И от тех мест начали бояре боя-тися от государя, страх имети и послушание»{19}. Видимо, сопротивление группировки Шуйских было подавлено недостаточно. Поэтому ровно через год, в декабре 1544-го, был нанесен второй удар, на добивание. Пострадало лишь одно семейство, относившееся к числу явных сторонников Шуйских: «…положил князь великий опалу свою на князя на Ивана на Кубенского за то, что они [так в летописи!] великому князю государю не доброхотствовали и его государьству многие неправды чинили, и великое мздоимство учинили и многие мятежи, и бояр многих без великого государя веления поймали и побили. И князь великий велел, его поймав, сослати в Переславль и посадити за сторожи и со княгинею…»{20} Опала была кратковременной и закончилась в мае 1545 года. Очевидно, эта мера имела своей целью оказать устрашающее воздействие. Сторонникам «Шуйского царства» давали понять: прежнее влияние им не возвратить, а лучше бы вести себя поскромнее и потише. Так было совершено первое значительное политическое деяние Ивана IV. Сопровождалось оно действительно кровопролитием. И для партии Шуйских подобный разгром стал полной неожиданностью…
Но…
Допустим, государь-подросток впервые показал зубы, впервые пролил кровь, освободился от ненавистных врагов. Стал ли он после этого самовластным правителем? Освободился ли он от преобладающего влияния служилой знати на дела высшей государственной важности? Да об этом и речи быть не может. Совершенная неопытность великого князя в дипломатии, военном деле и внутренней политике, его юношеский возраст, недостаток сил, которые могли бы оказать прямую поддержку в конфликте с мощными аристократическими группировками, делали его полностью зависимым от действий служилой знати. Освободился личный государев обиход, но это никак не означает начала единовластного правления.
«Шуйское царство» кончилось, но боярское правление продолжалось.
На протяжении трех лет или около того Иван Васильевич отстаивает свой новый статус от попыток принизить его, реставрировать наиболее неприятные для него моменты из времен боярского правления. Так, например, в сентябре 1545 года Афанасию Бутурлину, представителю древнего московского боярского рода, отрезали язык «за его вину, за невежливые слова». А через месяц Иван IV возложил опалу на целую группу служилых аристократов. Впрочем, довольно быстро они получили прощение в результате «печалования» митрополита Макария. Опала для середины XVI столетия — очень неприятное событие, ставящее целую семью в униженное положение и не позволяющее участвовать в государственных делах. Так вот, помимо самих Шуйских и их явных сторонников, подвергся опале старый царский любимец Федор Воронцов. Таким образом, можно заподозрить: юный царь рвался к полноте власти, равной временам правления его отца, а верхушка военно-служилого сословия не торопилась сдать юноше позиции, занятые ею в 30-х — начале 40-х годов[21]. В результате начинаются столкновения и с теми, кто раньше явно поддерживал великого князя, пытавшегося прекратить «Шуйское царство».
Впрочем, источники не позволяют судить, действительно ли эти удары наносил юный правитель. Его именем для расправы над врагами с той же вероятностью могли воспользоваться аристократические группировки, потеснившие клан Шуйских. Чего было больше — молодого задора в борьбе монарха за право самому решать державные дела, или же тонко рассчитанной интриги, смысл которой государь не обязательно понимал, а и понимая, не обязательно мог воспротивиться? Нет четкого ответа на этот вопрос.
Характер Ивана Васильевича резко испортился. От тех лет сохранились известия от молодом незамысловатом хулиганстве великого князя, о его странных играх и жестоких забавах. В частности, псковская летопись, абсолютно независимый источник, сообщает о потравах и разоре, учиненном в псковских землях резвым молодым человеком и его товарищами{21}. Видимо, во время одного из игрищ Иван Васильевич разъярился на одного из свитских молодых людей, княжича Михаила Богдановича Трубецкого, и велел удавить его[22]. По косвенным известиям можно строить догадки о том, что великий князь любил охоту, скоморохов[23], был охоч до женского пола и, возможно, какое-то время склонялся к содомии. Молодой правитель отличался крайне эмоциональным и притом несдержанным характером. Видные представители духовенства обращались к нему с увещеваниями. К счастью, увеселения перемежались поездками по монашеским обителям, продолжавшимися неделями, а порой и месяцами.
В то же время столь насыщенная жизнь не оставляла времени для дел правления. То ли сам Иван Васильевич не стремился утрудить себя заботами державства, то ли ему не очень-то и давали вмешиваться в работу государственного механизма.
Напряжение постепенно нарастало и закончилось жестоким кризисом. В мае или июне 1546 года Иван Васильевич выходил с войсками под Коломну, видимо, по «крымским вестям». Боевых действий не случилось, и великий князь остался на некоторое время в тех местах для игр и развлечений. Отряд новгородских пищальников попытался подать ему какое-то челобитье; не желая принимать его, Иван Васильевич попробовал было отослать отряд, но пищальники уперлись, не собираясь уходить. Между ними и дворянами великокняжеской свиты произошло настоящее сражение, с обеих сторон были убитые. Полагая, что за попыткой в неурочное время в неурочном месте подать челобитную кроется заговор людей, стоящих намного выше простых пищальников, государь поручил дьяку Василию Захарову-Гнильевскому розыск. Тот указал нескольких виновных, и в истинности его слов, судя по нескольким странным оговоркам в летописном тексте, Иван Васильевич впоследствии сомневался. Но тогда он велел (может быть, не вполне обоснованно) казнить Федора Семеновича Воронцова, ставшего влиятельным человеком при особе государя, его родича Василия Михайловича Воронцова, а также старого крамольника князя Ивана Ивановича Кубенского. Иван Михайлович Воронцов и Иван Петрович Федоров отправились в ссылку{22}.
Источники не дают возможности определить, существовал ли на самом деле заговор[24]. Но расправа с несколькими видными представителями знати показала: конфликт на самой вершине власти грозит вновь обернуться открытым противостоянием.
Надо было что-то менять.
Глава 2. РЕФОРМАТОР
Иван Васильевич вошел в брачный возраст. Источники того времени рисуют его молодым человеком, рано повзрослевшим и еще в юношеские годы вымахавшим с коломенскую версту. Позднее, видимо, он несколько растолстеет. Более поздний источник сообщает о государе в зрелом возрасте следующее: «царь Иван образом нелепым (не отличался красотой), очи имел серы, нос протягновенен и покляп (изогнут), возрастом (ростом) велик был, сухо тело имел, плещи высоки имел, грудь широкую, мышцы толсты». Что же касается внешнего благообразия, то оно, вероятно, было подпорчено дурной привычкой скоро и бурно впадать в ярость, каковую государь приобрел на закате жизни. Когда он был молод, его считали красивым.
В январе 1547 года Иван Васильевич венчался на царство. Царским титулом именовал себя в дипломатических документах его дед, Иван III. Но официальное принятие его было и серьезной реформой, поскольку поднимало московского государя выше всех его западных соседей[25], и серьезным шагом в укреплении позиций лично Ивана IV. Более того, «книжные люди» того времени понимали: на их глазах происходит перенос византийского политического наследия на Русь. В Москве появляется новый «удерживающий», чье место на протяжении века, после падения Константинополя, пустовало. Политика соединялась с христианской мистикой — «удерживающий» или «катехон» предотвращает окончательное падение мира в бездну, к полному развращению и отходу от заповедей. Если нет его, значит, либо должен появиться новый, либо Страшный суд близится, а вместе с ним и конец старого мира. Таким образом, на плечи молодого человека свалился тяжкий, поистине неподъемный груз.
За этим преобразованием видится и мудрость св. Макария, короновавшего молодого монарха, и острый ум князей Глинских. Церемония венчания прошла с большой пышностью в кремлевском Успенском соборе. Через несколько дней государь выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь{23}.
В том же году Иван Васильевич женился на Анастасии Захарьиной-Юрьевой, происходившей из древнего боярского рода, который даст впоследствии Московскому государству династию Романовых. Многочисленные источники, в том числе и тексты, исходящие от самого государя, свидетельствуют о глубоком и нежном чувстве, которое испытывал этот человек к своей жене. Обретя любимого человека, государь также нашел сильных союзников в лице богатой и влиятельной семьи Захарьиных-Юрьевых. Нельзя сказать, чтобы свадьба и венчание на царство моментально исправили характер Ивана IV[26]. Но они способствовали этому. Государь до тех пор был юношей у власти — без твердого определения, кто он есть по отношению к своей же аристократии, по каким образцам должна строиться его жизнь, что в ней будет играть роль непреложных законов, а чему уготована судьба маргиналий на полях биографии. Принятие царского титула и женитьба мощно встроили его в социальный механизм Русской цивилизации. Ивану Васильевичу фактически предложили роль на всю жизнь — роль христианского государя, в перспективе — светского главы православного мира, да и главы собственной семьи, человека, стоящего недосягаемо высоко по сравнению со всеми знатными родами страны. Это положение возвышает необыкновенно, и в то же время оно налагает значительные ограничения на монарха, — на его образ жизни и даже на его образ мыслей. На протяжении нескольких лет молодой государь приносил Церкви покаяние за прежнее беспутство[27] и «врастал» в свою роль. В середине 1550-х, по отзывам нескольких независимых источников иностранного происхождения, Иван Васильевич выглядел как человек, идеально ей соответствующий. Один итальянский дипломат оставил весьма привлекательный его портрет: «…Князь и великий император по имени Иван Васильевич имеет от роду 27 лет, красив собою, очень умен и великодушен. За исключительные качества своей души, за любовь к своим подданным и великие дела, совершенные им со славою в короткое время, достоин он встать наряду со всеми другими государями нашего времени, если только не превосходит их… Император руководствуется своими несложными законами, по которым он с величайшей справедливостью царствует и управляет всем государством… Император запросто разговаривает и обращается со всеми; он обедает со всеми вельможами всенародно, но с истинным благородством: с царским величием он соединяет приветливость и человечность».
Укрепиться в этой роли заставил его страшный московский бунт 1547 года. 12 апреля, 20 и 21 апреля в Москве вспыхивали большие пожары. Последний из них приобрел катастрофический масштаб. Рвались пороховые погреба, пылали церкви, падали колокола, были объяты пламенем Пушечный двор, Оружейная палата, Постельная палата, Казенный двор, царская конюшня и добрая половина города… Митрополита Макария попытались спустить из крепостного тайника на веревках к Москве-реке. Но вожжи оборвались, и митрополит, ударившись оземь, чуть не отдал Богу душу. В огне погибло 1700 москвичей. Царь, к счастью, пребывал под городом в селе Воробьеве и не пострадал. Это бедствие, не случавшееся в Москве ни разу на памяти современников, воспринято было как Божья кара за грехи и, в частности, «беззакония». По всей видимости, партия Шуйских попыталась использовать последний шанс на восстановление своего политического лидерства и спровоцировала посадских людей на страшный, бессмысленный, разрушительный мятеж. Этот бунт острием своим был направлен на группировку, поддерживавшую царя, в частности Глинских, которых вовремя пущенные слухи обвиняли в колдовстве и беззакониях.
Летопись рассказывает о мятеже лапидарно, без особых цветов красноречия: «Черные люди града Москвы от великие скорби пожарные восколебашася, яко юроди, и пришедше в град и на площади убиша камением царева великого князя болярина князя Юрья Василиевича Глинскаго и детей боярских многих побиша, и живот княжей розграбиша, рекуще безумием своим, яко «вашим зажиганием дворы наши и животы погореша. Царь… повелел тех людей имати и казнити; они же мнози разбегошася по иным градом»{24}. Иван Васильевич пережил смертный ужас: к нему в Воробьево явилась бунтовская чернь и потребовала выдать главную колдунью княгиню Анну Глинскую, да и ее сына князя Михаила Васильевича Глинского, оставшегося главой рода. Недалеко было и до того, что руки мятежников потянутся и к государеву горлу… Впоследствии царь станет с ужасом вспоминать события 1547 года: «…вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися дух мой, и умилися, и познах свои согрешения»{25} Иван Васильевич получил представление о том, как страшна может быть народная стихия, как дорого может обойтись любой неверный ход монарха.
Страна в ту пору управлялась сложно и пестро. Каждая область имела собственные административные и правовые обычаи. «Церковная область», рассыпанная по всей державе, управлялась по особым законам и правилам. Служилая знать получала в «кормление» доходы от административной деятельности на местах, занимая должности по очереди, на сравнительно короткий срок. Чаще всего на год. Следовательно, эти доходы распределялись неравномерно, — в зависимости от силы и слабости аристократических партий, способных реже/чаще продвинуть на кормление своих людей. А люди, получавшие должности как разновидность жалованья, отличались большими или меньшими способностями к работе, которую им вменялось в обязанности выполнять… Государственное устройство России было отмечено многочисленными следами политической раздробленности, т.е. суверенного положения разных земель, позднее вошедших в состав Московского царства. Военно-служилый класс отлично помнил те времена и ностальгировал по самовластию и независимости удельной старины. Центральное управление не успевало за все нарастающим валом задач, возникающих на колоссальной территории. Ведь размеры страны увеличились в несколько раз по сравнению с началом правления Ивана III!
Не существовало даже единого для всей России пантеона святых…
Административной структуре, правовой сфере и церковному устройству требовались реформы. В 30-х — первой половине 40-х годов преобразованиям уделялось мало внимания. Борьба за власть пожирала творческие силы политической элиты. В активе того периода — лишь денежная реформа Елены Глинской. Ко второй половине 1540-х проблем накопилось выше крыши…
После венчания государя наступает период, благоприятный для реформаторства. У кормила власти стоят все те же аристократические кланы, но среди них нет первенствующей партии. Иными словами, наступило примирение могущественнейших людей России, они договорились между собой о более или менее равномерном распределении власти. Число «думных людей» возросло. Государь уже не являлся мальчишкой, которым нетрудно помыкать, теперь он мог выполнять роль арбитра и влиять на политический курс в желательном для себя направлении; однако совокупной силе нашей аристократии Иван Васильевич мало что может противопоставить[28]. Поэтому внутреннюю политику формулирует в конечном итоге не он. Формальное примирение между ним и его недоброжелателями происходит в 1549 году: царь публично снимает с них вину за прежние злоупотребления. На митрополичьей кафедре стоит человек государственного ума, великого милосердия и обширных знаний — св. Макарий.
В ходе реформаторской деятельности образуется… нечто, впоследствии поименованное князем Андреем Михайловичем Курбским как «Избранная рада»{26}. На протяжении поколений лет историки спорят, чем она являлась — постоянно действующим административным органом, политическим клубом, Ближней думой, группой теснейших сотрудников царя? Не так давно вышла книжка, автор которой вообще отрицал существование Избранной рады{27}.[29]
По всей видимости, Избранная рада была чем-то вроде политического кружка, работавшего при Александре I в начальные годы его правления. С той лишь разницей, что деятельность Избранной рады оказалась намного результативнее. В ее состав, помимо самого государя, входили: окольничий Алексей Федорович Адашев[30], священник кремлевского Благовещенского собора Сильвестр, боярин князь Дмитрий Иванович Курлятев, возможно, митрополит Макарий. Что касается других политических деятелей того времени, то их присутствие в составе кружка менее вероятно. Однако, поскольку ни в летописи, ни в каких-либо архивных комплексах работа Избранной рады не отражена, о ее функционировании и о ее составе больше приходится гадать, чем делать выводы на устойчивой информационной основе.
Вероятно, Избранная рада играла роль политического консультативного совета, а также «буфера» между государем, аристократическими партиями и Церковью. Здесь согласовывались позиции по важнейшим вопросам внутренней политики и рождались окончательные формулировки административных решений. Но реальной властью наделена была все же не Избранная рада, а Боярская дума и государь.
Итак, государь и боярское правительство, используя в качестве инструмента Избранную раду, провели ряд серьезных реформ.
Были отменены кормления, и на их место пришел сбор «кормленого окупа», т.е. денежных средств, которые потом распределялись казной между представителями военно-служилого класса{28}. На местах ограничена была власть наместников и волостелей — администраторов, присылаемых из Москвы; значительная часть их прерогатив перешла к выборным должностным лицам: излюбленным головам, земским и губным старостам{29}. Они теперь занимались оперативной работой, следствием и судом по воровским, разбойным делам и прочей уголовщине{30}, а также урегулированием поземельных дел.
Казенные денежные сборы возросли. Представители знати и монастыри, освобожденные от уплаты государственных налогов и пошлин так называемыми тарханными грамотами, утратили эту льготу (хотя и не повсеместно). Специальным уложением о службе определялось следующее: служилые люди обязаны приходить на воинские смотры «конны, людны, оружны», а количество бойцов, которых они обязаны были выставлять, рассчитывалось по строго установленным нормам в зависимости от размеров их земельных владений.
Сформировалась стройная система центральных ведомств. Их тогда называли «избами» («Поместная изба», «Челобитенная изба», «Розбойная изба») или приказами. Умножилось количество «приказных людей» (грамотных профессиональных чиновников) — дьяков и подьячих.
В 1550 году вступил в силу новый Судебник, заменивший своего «предшественника» — маленький Судебник 1497 года: тот содержал целый ряд устаревших за полстолетия норм. Новый свод общерусских законов оказался значительно обширнее. Он является аналогом современного уголовно-процессуального кодекса, но помимо этого содержит ряд важных норм по другим отраслям права[31]. Многие области Московского государства получили территориальные своды законов — «уставные грамоты»[32]. Приказные органы того времени работали в соответствии со специальными инструкциями, по значению и составу своему соответствующими современным профильным «кодексам». Известен, например, подобного рода документ, специально разработанный для Разбойного приказа. Он представляет собой аналог значительной части уголовного кодекса в современном понимании.
Церковь, ведомая св. Макарием, создала Великие Минеи Четьи, т.е. тот самый общерусский пантеон святых, а на соборе 1551 года одобрила «Стоглав» — важнейший универсальный сборник, содержащий юридические, нравственные, вероисповедные и административные нормы. В нем же декларировалось исключительно важное для истории русского просвещения решение учредить по городам «книжные училища»{31}. На протяжении нескольких десятилетий московские митрополиты вели с правительственными кругами полемику о церковном землевладении. Государство всячески стремилось ограничить его, а еще того лучше — реквизировать владения архиерейских домов и монашеских обителей. Напротив, Церковь желала сохранить и приумножить свое достояние. В 1551 году удалось прийти к приемлемому компромиссу: выходу поместий и вотчин из «службы» в пользу монастырей и архиереев были поставлены жесткие ограничения{32}.[33] В честь казанской победы 1552 года был воздвигнут великолепный Покровский собор[34], более известный нашим современникам в качестве храма Василия Блаженного.
Это была великая по объему работа, и она была выполнена в необычайно короткий срок. Всего-то за десятилетие! Ко второй половине 1550-х годов главное реформаторам удалось завершить. Административно-политическая структура державы обрела черты устойчивости и здравой унификации.
Можно сказать, при Иване III Старая Русь очищалась в плавильном горне, вытекая оттуда чистым металлом России, а при Иване IV Россия отливалась в конкретные формы государственного бытия.
В марте 1553 года царь слег с тяжелой болезнью, от которой не чаял оправиться. Он пишет завещание и велит привести к присяге царевичу Дмитрию Ивановичу бояр, а также князя Владимира Андреевича Старицкого. Большинство не изъявило воли к сопротивлению, некоторые сказались хворыми, но Старицкие не торопились повиноваться. Некоторые вельможи (князь Д.Ф. Палецкий, князь Д.И. Курлятев, казначей Н.А. Фуников-Карцов[35]) начали с ними переговоры. В них явственно звучало предположение, что новым государем будет не малолетний Дмитрий Иванович, а Владимир Андреевич. Сильвестр также пытался помочь Старицким. Князь И.М. Шуйский, а также окольничий Ф.Г. Адашев затеяли настоящий скандал. «И бысть мятеж велик и шум, и речи многия в всех боярех, а не хотят пеле-ночнику служити»{33}. Сторонники и противники принятия присяги «бранились жестоко». Оказалось, что противников принесения присяги мальчику не столь уж мало… Сам царь с ложа болезни принялся воодушевлять верных ему людей. Оробевшим Захарьиным-Юрьевым, прямой родне царевича Дмитрия, он бросил: «А вы… чего испужались? Али чаете, бояре вас пощадят? вы от бояр первые мертвецы будете! и вы бы за сына моего и за матерь его умерли, а жены моей на поругание бояром не отдали!» Князя Владимира Андреевича пришлось принуждать к целованию креста, угрожая применением силы…
В конце концов государь выздоровел, и вопрос о присяге на верность маленькому Дмитрию потерял актуальность. Но «боярский мятеж» показал Ивану Васильевичу в очередной раз, сколь зыбко его положение и сколь мало у него возможностей в случае скорой кончины обеспечить достойную судьбу своей семье. Он него отошли доверенные люди, знать вновь принялась прикидывать, как бы переделить власть в отсутствие сильного монарха. Казалось бы, мощная партия сторонников царя позволяла ему питать добрую надежду на будущее. Но как знать, не была ли верность этих людей знаком тонкого расчета: ведь у Старицких были свои приоритеты, и не всем при их владычестве достался бы чаемый кус. А попечение о благе очередного царя-мальчика давало богатые возможности… Запахло вторым изданием «Шуйского царства». Та же Избранная рада не проявила особенной лояльности, скорее напротив. И, видимо, царь не очень понимал, как ему дальше строить отношения с аристократическими «столпами державы», с Боярской думой…
Вскоре после событий, связанных с болезнью Ивана Васильевича, государь отправляется в длительную поездку по иноческим обителям. Там он получал разного рода советы от церковных деятелей, обладавших незаурядным духовным авторитетом. Среди них — преподобный Максим Грек (Михаил Триволис) и видный иосифлянин Вассиан Топорков, лишившийся архиерейской кафедры в годы «Шуйского царства». Князь A.M. Курбский впоследствии прокомментировал эту встречу бранными словами, назвав Вассиана Топоркова «сыном дьявола» и обвинив его в дурных советах, поданных царю. С точки зрения беглого князя, именно они разрушили взаимопонимание Ивана Васильевича и Избранной рады{34}. Разумеется, Андрей Михайлович, как и многие аристократы того времени, склонялся к нестяжательскому лагерю Русской Церкви. Еще бы! Домовитые сторонники преподобного Иосифа Волоцкого стерегли пуще глаза колоссальные земельные угодья Церкви — лакомый кус для знати! — в то время как нестяжатели готовы были с ними расстаться. Конечно, Курбский и не мог иначе отнестись к рекомендациям, поданным государю в духе укрепления его, монаршей, власти. За счет кого ее можно укрепить? Только за счет той же служилой аристократии, не очень-то допускавшей царя к делам правления. Влияние на Ивана Васильевича стяжателей (хотя бы того же Вассиана Топоркова), неуютно чувствовавших себя рядом с боярской вольницей, весьма возможно. В те годы их поддержка могла воодушевлять царя.
На протяжении второй воловины 40-х — середины 50-х годов наша аристократия сделала немало полезного для страны. Низкий ей поклон. Но и возжелала увековечить правящее свое положение на веки вечные, а этого уже не требовалось никому, кроме нее самой. Рано или поздно подобное положение дел должно было привести к очередному острому конфликту с государем. Так и вышло — когда стали обсуждаться перспективы активной внешней политики[36]. Иван Васильевич вошел в противоречие с прежними ближайшими советниками и настоял на своем. Какие рычаги он при этом использовал, не вполне понятно. Возможно, создал партию своих сторонников из числа аристократов, одобрявших курс на активизацию усилий в западном направлении[37]. Во второй половине 50-х годов XVI столетия, в связи с подготовкой и началом Ливонской войны, он выходит из-под контроля аристократического правительства, преодолевает авторитет Избранной рады и начинает проводить достаточно самостоятельный курс. Несколько лет спустя прежние лидеры Избранной рады оказываются в опале и сходят с арены большой политики.
Воля царя, прежде стесненная, теперь освобождается от ограничений и стремится к самовластию.
Отношения государя Ивана Васильевича с верхушкой военно-служилого класса никогда на протяжении всего периода его правления не были идиллическими. До середины 1540-х годов он вообще мало значил в делах правления — по малолетству и неискушенности. Конец 40-х — 50-е — время неустойчивого, но плодотворного для всей страны компромисса. Аристократы кое-чем поступились в пользу царя и кое в чем договорились между собой. Политические и материальные приоритеты у старомосковской знати за все это время ничуть не изменились, память разнузданных лет «Шуйского царства» была свежа и грозила рецидивом — при первом же удобном случае. Государь научился сдерживать свой крайне эмоциональный, своевольный и бурный характер, возжелал потрудиться на благо державы, однако тепла в его общении со знатью увидеть невозможно… Видимо, в ту пору очень большую роль играл авторитет Церкви. Именно он был скрепляющим материалом для всей этой конструкции, пребывавшей в динамическом равновесии. За многими реформами — прямо или косвенно — видится подвижническая фигура св. Макария. Вероятно, его пастырское рвение сыграло роль главного фактора, сдерживавшего страсти и направлявшего хаотические выплески молодой нации в русло правильного общественного строительства.
В первой половине 1560-х прежние деятели, составлявшие «буферную» группу Избранной рады, уходят в тень, государь стремится усилить свою власть, и успехи первых лет войны за Ливонию как будто способствуют этому… Но именно тогда происходит несколько событий, пошатнувших Русский дом, до тех пор стоявший крепко волей Божьей и стараниями св. Макария. Во-первых, умирает первая жена Ивана IV, Анастасия Захарьина-Юрьева (1560)[38], и на ее место рядом с царем быстро приходит Мария Темрюковна Черкасская, кавказская княжна, для которой собственно русский политический узор был делом не особенно интересным. Видимо, ей не удалось поддержать в царе ощущение ответственности за семью и за Большую семью — всю Россию… Уходит к Господу и сам митрополит Макарий (1563). Военные успехи сменяются неудачами. Жесткость царя и непокорство знати усиливаются, взаимно питая друг друга.
1564 год. Страна пребывает в шаге от опричной бездны.
Глава 3. «ЗА ДЕРЖАВУ СТОЯТЕЛЕН…»
«Военная» глава в этой книге больше всех прочих по объему. Причина такова: именно войны, военная организация и военное дело объясняют важнейшие повороты в царствовании Ивана IV. Историки разных времен искали то в социальном, то в экономическом развитии страны причины реформаторской деятельности, воздвижения опричнины и самодержавных устремлений Ивана IV, или же, соблазнившись психоаналитическими домыслами, диагностировали у самого царя признаки сумасшествия[39]. Но, кажется, основа всего — географическое положение Русской цивилизации, в силу которого она вынуждена была воевать очень много, и все ее внутреннее устройство в значительной степени «заточено» под масштабные военные усилия, предпринимаемые регулярно.
В XVI столетии Московское государство воевало часто и на всех границах, за исключением разве что северной, проходившей по побережью Северного Ледовитого океана. Иван IV не обязан был лично принимать участие во всех крупных походах и сражениях, но положение государя принуждало его самым активным образом заниматься обороной страны. Историки спорят о том, насколько Иван Васильевич сумел проявить полководческие способности, решительность, волю, энергию в качестве главного защитники страны. Впрочем, современники также расходились во мнениях на этот счет. Одни обвиняли его в трусости, а другие считали, что царь был «ко ополчению дерзостен и за державу стоятелен…».
Все монархи из династии московских Даниловичей в большей или меньшей степени получали опыт боевых действий, водили армии, с младых ногтей привыкали к обстановке крупных военных кампаний. Вдосталь хлебнули такого опыта и Василий II, и Иван III, и Василий III. Они рисковали своими жизнями, побеждали и терпели поражения, а Василий II даже побывал в плену у татар. Правда, если большое войско татар двигалось на Москву, оборонительный корпус обычно возглавлял не государь, а «большие» воеводы. Татары считались самым серьезным, самым страшным врагом как в XV столетии, так и в XVI[40]. Рисковать в подобных обстоятельствах монаршей особой было все равно что ставить на кон судьбу всего государства, и великий князь, как правило, отправлялся в «замосковные» города собирать войска. А в остальных случаях присутствие государя в полевой армии диктовалось масштабом боевых действий, конкретной надобностью, в конце концов, характером самого великого князя… Так, например, Даниил Московский, Иван Калита и Иван III дипломатию предпочитали войне, а большую политику — личному геройству на поле боя. Зато Юрий Данилович, Василий II и Василий III, кажется, любили хорошую драку… Так или иначе, ремесло полководца самым естественным образом входило в круг обычных занятий монарха. Иван IV был своего рода исключением среди государей московских. Учителей в воинском деле для него не нашлось.
По разным причинам.
Во-первых, его отец не дожил до времени, когда сын стал взрослым.
Во-вторых, настоящих больших войн во времена его юности Россия просто не вела. То есть, когда Иван Васильевич был маленьким мальчиком, шла так называемая Стародубская война с Великим княжеством Литовским. Без «хозяйской руки» старомосковская служилая аристократия показала необычный способ ведения боевых действий.
Войны великого князя литовского и Москвы при Иване III дважды заканчивались для Литвы значительными территориальными потерями. Василию III удалось свести итог целого ряда тяжелых и кровопролитных кампаний в пользу Московского государства: за ним остался Смоленск. Во всех этих случаях боевые операции российских войск делились на две части: во-первых, набеги на территорию неприятеля, разорение литовских земель, захват добычи; во-вторых, правильные осады вражеских укрепленных пунктов и оборона собственных крепостей. Большие полевые сражения были относительно редки, в основном они оказывались способом защитить города на дальних подступах… Так вот, в московско-литовских войнах до 30-х годов XVI века два упомянутых вида боевых операций присутствовали примерно в равной пропорции. Стародубская же война действий второго типа с русской стороны почти не знала. Служилая аристократия увлеклась грабежом и отгоном скота, не пытаясь вести планомерное наступление на земли Литовской Руси и недостаточно заботясь о защите собственной территории[41]. В 1535 году литовские войска сожгли Радогощ и Стародуб, в плен попал стародубский наместник князь Федор Васильевич Телепнев-Оболенский. Позднее литовцами был захвачен Гомель. По «перемирным грамотам», города Любеч и Гомель с волостями перешли под власть великого князя литовского{35}. Пока шла Стародубская война, казанские татары совершали разорительные набеги на нижегородские, вологодские, устюжские и костромские места; попытки организовать им отпор закончились без особого успеха. Казанцев активно поддерживал Крым, и набеги с юга приносили разорение на степные окраины России. За всем этим чувствуется недостаток дисциплинирующей монаршей воли. Впоследствии Иван Васильевич гневно писал о служилых аристократах 1530-х годов: «Они, как подобает изменникам, стали уступать нашему врагу, государю литовскому, наши вотчины, города Радогощь, Стародуб, Гомель… если в своей земле некого подучить, чтобы погубили славу родной земли, то вступают в союз с иноплеменниками — лишь бы навсегда погубить землю…»{36}. Но в те годы ему рановато было выезжать на театр военных действий с полками. А в возрасте двенадцати, четырнадцати, семнадцати лет великому князю негде было учиться военному делу: подходящих походов просто в те годы не случилось. Набеги татар с большим или меньшим успехом отбивали его воеводы[42].
Летом 1541 года огромная орда крымского хана сделала попытку форсировать Оку и угрожала Москве с юга. «Боя-ря» с митрополитом решили оставить государя-мальчика в столице, поскольку замосковные города были тогда небезопасны от набега казанцев, а Псков и Новгород — от удара литовцев. Летопись сообщает, что правитель-мальчик принял участие в организации обороны столицы. Впрочем, войско крымцев удалось отбить на Оке, и приготовления к защите Москвы стали ненужными.
Наконец, в середине 40-х годов XVI века произошло очередное обострение отношений с Казанью, вылившееся в трудную затяжную войну. Первые походы на Казань, по всей видимости, не отличались особым размахом. Иван Васильевич в них не участвовал[43].
В 1547 году он венчался на царство и женился. Через несколько месяцев юный государь начал подготовку к большому походу на Казань, в котором должен был сам принять участие. Однако масштабное зимнее 1547/48 года наступление сорвалось как будто из-за ранней оттепели и таяния льда на реках[44]. Иван Васильевич оставил армию и вернулся в Нижний Новгород, нимало не понюхав пороху. Между тем его воеводы, несмотря на путевые сложности, добрались до столицы Казанского ханства и даже нанесли под ее стенами полное поражение противнику. Возникает предположение, что сам государь не очень-то рвался участвовать в рискованном воинском предприятии.
Через два года он все-таки дошел до Казани, но так и не приступил к штурму. Простояв под городом недолгое время, царь вновь отступил по той же самой причине — из-за оттепели и дождей. Таким образом, для него это были «мирные» походы.
В 1552 году на Казань опять отправились объединенные силы Московского государства, во главе которых должен был встать сам государь. Тогда он был совершенно взрослым по тем временам человеком — 22 года[45]. В соответствии с обычаями XVI столетия монарх в подобном возрасте не считался слишком юным, чтобы возглавлять армии. Более того, Иван Васильевич успел к тому времени дважды побывать во главе московских войск, хотя и не вступил ни разу в сражение с неприятелем. Но из его переписки с князем Андреем Курбским, бежавшим в 1564 году из пределов России и перешедшим на службу к великому князю литовскому, известны странные подробности очередного казанского похода. По всей вероятности, Иван Васильевич не ладил с собственными воеводами, возможно, он даже опасался плена. Позднее, через много лет, царь напишет Курбскому: «Когда мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего православного воинства ради защиты православных христиан двинулись на безбожный народ казанский, и по неизреченному Божьему милосердию одержали победу над этим безбожным народом, и со всем войском невредимые возвращались обратно, что могу сказать о добре, сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот что: как пленника, посадив на судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную землю! Если бы рука всевышнего не защитила меня, смиренного, наверняка бы я жизни лишился. Вот каково доброжелательство к нам тех людей, о которых ты говоришь, и так они душой за нас жертвуют — хотят выдать нас иноплеменникам!»{37} Трудно сказать, насколько эти заявления соответствует истине. Тот же Курбский сообщает, что царь сам, под влиянием «шуринов», решил спешно отплыть из Казани, а конницу отправил крайне неудобной дорогой, из-за чего большинство лошадей пало[46]. Однако царские укоризны наводят на мысли иного рода: в армии во время большого похода государь не является полновластным хозяином и распорядителем. Отчасти это могло происходить от его нулевого опыта в ведении боевых действий, отчасти же — по причине мощного влияния аристократических кланов, видимо истинных хозяев войска. Вызывает определенное недоумение сама необходимость присутствия монарха в войсках, отправленных на Казань. В подавляющем большинстве случаев государями не рисковали, когда речь шла о большой и опасной воинской операции против Крыма, ногаев или Казани. Видимо, пленение Василия II и последующий колоссальный выкуп за него многому научили Москву. Тот же Иван III Великий, удачно действовавший против казанцев, сам ни разу не возглавлял армии, выступавшие на восточного соседа. В 1571 году крымцы во главе с ханом Девлет-Гиреем разорили и спалили русскую столицу; в следующем, 1572-м году силы Девлет-Гирея были разгромлены у Молодей, на южных подступах к Москве. Отнюдь не Иван IV оба раза руководил обороной, а его воеводы, хотя, казалось бы, решалась судьба страны. Гибель государя или его пленение, очевидно, рассматривались как худшее зло, даже по сравнению с захватом столицы[47]. Поход 1552 года (да и предыдущие два с его участием), очевидно, мог обойтись без молодого царя, несведущего в тактике крупных соединений. Эта военная операция натолкнулась на упорное сопротивление неприятеля, а движение по вражеской территории происходило в условиях нехватки пищи и воды. Вероятно, фигура государя потребовалась для воодушевления войск. Вряд ли стоит всерьез воспринимать фразу Ивана IV: «…хотят выдать нас иноплеменникам!» — но участие его в походе было, объективно говоря, мерой необязательной и рискованной.
Возникает вопрос: до какой степени победы и поражения русского войска в тех кампаниях, где его возглавлял Иван IV, могут зависеть от его личного полководческого таланта, воли, отваги? В отношении походов 1547—1548, 1549—1550 годов и «Казанского взятия» 1552 года подобная зависимость должна быть поставлена под сомнение. Реальными командующими были все те же большие воеводы, т.е. та же служилая аристократия[48]. Летопись и разряды дают возможность указать людей, сыгравших в «Казанском взятии» решающую роль, занимавших тогда высшие должности и являвшихся, по всей видимости, истинными хозяевами положения. Это прежде всего князья Иван Федорович Мстиславский, Михаил Иванович Воротынский (первый и второй воеводы Большого полка), князь Владимир Иванович Воротынский, Иван Васильевич Шереметев (первые и второй воеводы Государева полка), а также князья Александр Борисович Горбатый и Семен Иванович Микулинский (возглавляли отдельное полевое соединение, действовавшее против татарских отрядов, нависавших над русскими тылами). Помимо них выделяются князья Иван Иванович Пронский, Дмитрий Иванович Хилков, Петр Михайлович Щенятев, Андрей Михайлович Курбский, Василий Семенович Серебряный, Дмитрий Иванович Микулинский. Заметны также князья Юрий Андреевич Пенинский-Оболенский, Федор Иванович Троекуров и Юрий Иванович Шемякин, а также представители влиятельных боярских родов Семен Васильевич Шереметев, Дмитрий Михайлович Плещеев и Даниил Романович Юрьев{38}. Все они занимали в армии высокие воеводские посты, активно участвовали в боевых действиях. Ни один из них не играл сколько-нибудь серьезной роли в Стародубской войне. Зато большинство участвовало в боевых действиях войны с Казанью на значительных должностях (кроме князей Пенинского-Оболенского[49], Шемякина, Курбского и Пронского). Все это — верхушка титулованной знати, самые ее сливки, люди весьма богатые и влиятельные[50]. Трудно определить, до какой степени молодой Иван IV был волен отдавать им распоряжения…
С одной стороны, Андрей Курбский в «Истории о великом князе Московском», сочинении крайне недружелюбном в отношении Ивана Васильевича, отмечает личную храбрость и энтузиазм государя: «…сам царь исполнился усердием, сам и по собственному разумению начал вооружаться против врага и собирать многочисленные храбрые войска. Он уже не хотел наслаждаться покоем, жить, затворясь в прекрасных хоромах, как в обыкновении у теперешних царей на западе (прожигать целые ночи, сидя за картами и другими бесовскими измышлениями), но сам поднимался не раз, не щадя своего здоровья, на враждебного и злейшего своего противника — казанского царя». Далее Курбский как будто пишет о полной самостоятельности Ивана Васильевича: «он велел…», «он отправил…». Однако важнейшие решения принимались государем только по совету «со всеми сенаторами и стратегами». И особенно характерный эпизод произошел в день решающего штурма Казани. Московские войска уже проникли в город, но в уличных боях под напором его защитников, некоторые отряды обратились в бегство; государь, по словам Курбского, утратил твердость духа. Видя беглецов, он «…не только лицом изменился, но и сердце у него сокрушилось при мысли, что все войско христианское басурманы изгнали уже из города. Мудрые и опытные его сенаторы, видя это, распорядились воздвигнуть большую христианскую хоругвь у городских ворот, называемых Царскими, и самого царя, взяв за узду коня его, — волей или неволей — у хоругви поставили: были ведь между теми сенаторами кое-какие мужи в возрасте наших отцов[51], состарившиеся в добрых делах и в военных предприятиях. И тотчас приказали они примерно половине большого царского полка… сойти с коней, то же приказали они не только детям своим и родственникам, но и самих их половина, сойдя с коней, устремилась в город на помощь усталым… воинам»{39}. Вскоре после взятия Казани у царя произошел острый конфликт с воеводами. В частности, его скорейшее возвращение в Москву противоречило мнению высшего военного командования.
Насколько свидетельства Курбского находят подтверждение в официальном летописании того времени? Определенные признаки несамостоятельности государя в вопросах руководства армией имеются. Видно, что стратегические решения принимаются им «по совету» с аристократической верхушкой. Так, например, неудача похода 1549—1550 годов заставила Ивана IV построить на подступах к Казани опорный пункт Свияжск. Впоследствии его наличие сильно облегчило жизнь наступающим русским войскам и сыграло, быть может, решающую роль в успехе 1552 года. Так вот, решение о постройке Свияжской крепости и выбор места производились по совету с бывшим казанским царем Шигалеем, «воеводами» и «казанскими князьями», «исбояры, и со князьми», по благословению митрополита Макария…
Что же в итоге произошло? Картина участия Ивана IV в Казанской войне 1545—1552 годов[52] реконструируется следующим образом:
1. Государь-мальчик не знает военного дела и не имеет ни малейшего представления о тяготах большой войны. Но он желает попробовать, что это такое. В конце концов, такова его работа: сражаться за православную страну с басурманами всех сортов. До совершеннолетия его стремление вяло (вспомним 1541 год!) сдерживается окружающими.
2. Впоследствии царь бросается в военную стихию и с маху сталкивается с трудными обстоятельствами Казанской войны. Служилая аристократия не препятствует ему: присутствие государя в действующей армии может воодушевить воинов, а в случае его гибели есть достойный наследник престола в виде князя Владимира Андреевича Старицкого… Невероятно сложная, рискованная, кровавая война с Казанским ханством не стала предметом, способным воодушевить юного государя. Видимо, он то исполняется боевого пыла, то падает духом. Свидетельством тому служит скорое возвращение из неоконченного похода 1548 года, припадок робости во время решающего штурма Казани в 1552 году, но в то же время и упорство, с которым Иван IV выходил с полками на Казань. В конечном итоге всё, что требовалось от православного монарха, было им совершено.
3. Отношения между Иваном Васильевичем и его воеводами — далеко не безоблачные. Важнейшие решения принимаются совместно, и, следовательно, царь не является полновластным командующим полевой армией. Вероятно, не столько руководит он, сколько руководят им. Это порождает конфликтные ситуации.
4. Однако в целом результат положительный: колеблющейся воли молодого государя и понимания его воевод, что дело делать надо, оказывается достаточно для триумфального «Казанского взятия».
Иван Васильевич прошел тяжелое испытание и узнал вкус победы. Казанские походы надолго закалили волю царя. Пройдет двенадцать лет, прежде чем она вновь начнет давать сбои. Кроме того, Иван Васильевич обрел тот бесценный опыт, которого ему так не хватало. По ходу последнего противоборства с казанцами он получил представление о самых разных типах боевых операций. Сконцентрированные для решающего удара вооруженные силы Московского государства двигались к Казани через Коломну, Муром, Свияжск, но по дороге им пришлось завернуть в Тулу, чтобы отразить фланговый удар крымцев. Это был наглядный урок, насколько опасен союз Крымского ханства с кем-либо из серьезных противников Москвы. Осадив неприятельскую столицу, русские полки широко использовали артиллерию и военных инженеров — «розмыслов», как их тогда называли[53]. Были построены осадные башни, сооружены земляные укрепления, засыпаны казанские рвы, осуществлялись подкопы и был взорван вражеский источник воды. В конечном итоге именно подрыв стен Казани обеспечил удачу решающего штурма. Позднее Иван
Васильевич покажет, сколь успешно он усвоил урок: без мощной артиллерии, «розмыслов» и многолюдной посохи[54] крупные, хорошо укрепленные города не берутся… его отец Василий III умел при захвате городов «заболтать» или купить защитников. Иван IV знал, что такие методы иной раз оказываются эффективнее орудийных залпов. Впрочем, ему впоследствии отлично удавалось брать мощные крепости силой. Не серебром и не посулами, а с помощью пороха и ядер. Наконец, русским полкам, осаждавшим Казань, извне угрожали мобильные отряды, наносившие страшный урон внезапными ударами. Пока князья Александр Борисович Горбатый и Семен Иванович Микулинский не разбили их, дела не пошли на лад. Урок номер три: осаждающие войска должны быть избавлены от назойливой активности деблокирующего корпуса.
Государь ничего не забыл из казанских уроков, полученных дорогой ценой…
Более поздние военные кампании проходили в совершенно иных условиях, там царь явно не был номинальным предводителем войска. Воеводы обязаны были ему подчиняться в полной мере. И у него хватало возможностей применить полученный опыт на деле.
В 1555 году Иван Васильевич вышел с войсками к Туле, навстречу воеводе боярину Ивану Васильевичу Шереметеву, столкнувшемуся с крымцами. Царя отговаривали от столь опасного шага, но он решился возглавить войско. Шереметев задержал хана, вступив с ним в сражение, отчаянно сопротивлялся, однако был разбит. Часть наших сил заняла укрепленную позицию и отбила яростные атаки татар, не позволив себя уничтожить. Измотанное вражеское войско не решилось вступать в бой с основными силами русских. В свою очередь, полки под водительством государя не стали преследовать отступающего неприятеля. Таким образом, Иван IV показал подданным: у него хватает мужества и воли выйти против самого опасного врага, иными словами, «за державу» он «стоятелен»… Вместе с тем всерьез рисковать удачным исходом противостояния царь не стал, отказавшись от преследования[55]. Это может показаться признаком нерешительности. Но на самом деле Иван Васильевич принял мудрое, взвешенное решение. Оторвавшись от коренных земель Руси, наше полевое соединение могло наткнуться на свежие отряды крымцев и подвергнуться уничтожению. Разгром московского войска в южных степях означал бы одно: столица осталась без защиты и без монарха. Как при Батые…
Есть вещи поважнее репутации.
Та же история повторилась через год. В мае 1556-го, узнав, что крымские татары готовят поход на Русь, Иван IV двинул полки к Серпухову. Готовность русских войск к отпору и моровое поветрие, поразившее Крым, предотвратили очередное нашествие. А Иван Васильевич вновь показал твердость.
С 1556 года в военной деятельности государя наступил долгий перерыв. Он решал стратегические проблемы, сидя в Москве, и не участвовал в походах на протяжении семи лет. И в кратком, но жестоком столкновении со шведами, и даже когда началась исключительно важная для царя и всей страны война в Ливонии (1558), Иван Васильевич доверял ведение боевых действий воеводам.
В середине 50-х годов решалось, какое направление военных усилий должно стать основным: Ливония или Крым. Царь должен был сделать стратегический выбор.
Казалось бы, тяжелое положение Крымского ханства (подданные хана страшно пострадали от массовой эпидемии) и ряд частных успехов русского оружия давали уникальную возможность одним мощным ударом ликвидировать угрозу набегов с юга. Речь шла ни много ни мало об уничтожении ханства. Это избавило бы русские земли от чудовищных потерь. В худшие годы татарский набег мог нанести стране урон в десятки тысяч угнанных[56]. Горели города, русские окраины теряли нажитое имущество, скот. Плодородная земля Дикого поля не осваивалась, между тем в центральных районах Московского государства ощущался настоящий земельный голод. Кроме того, с исчезновением южной угрозы военно-служилое сословие оказалось бы избавленным от тяжкой и опасной службы «на берегу» (как писали в документах того времени), т.е. на степных рубежах государства, по линии Оки. Там военное командование постоянно держало мощные гарнизоны, работала система оповещения об очередном набеге, русские войска должны были то и дело выходить на юг и становиться заслоном на пути захватчиков. Кровавая, изматывающая военная работа страшным грузом лежала на «служилых людях по отечеству». Дворянство несло значительные потери, в том числе и его аристократическая верхушка. Разгром Крымского ханства, казалось бы, столь близкий и столь желанный, устроил бы многих и был бы очень полезен стране. Наконец, многие аристократические семейства были кровно заинтересованы в южном направлении. Вот что пишет по этому поводу известный исследователь XVI столетия П.А. Садиков: «…княжье и боярство явно предпочитали… вести наступление на юг, в сторону Крыма, где на Диком поле открывались широкие перспективы к освоению больших черноземных участков и где у некоторых из них (кн. Мстиславского, боярина И.В. Шереметева) имелись уже целые “городки” с вооруженными отрядами и огромные вотчины; да и старинные, бывшие когда-то “удельными” владения массы княжат расположены были к югу от Москвы, в “заоцких” и “украинных” уездах, постоянно находившихся под угрозой набегов крымцев»{40}. Целый регион России жил из года в год на краю беды. По нему проходила цивилизационная граница между крестом и полумесяцем. Передвижение ее «на полдень» происходило невероятно медленно, и каждый год мог принести резкое отступление сил креста «на полночь».
Но Иван IV предпочел иное направление для приложения военных усилий — Ливонию. Историки, стоящие на позициях западничества, нередко упрекали его в «исторической ошибке»: не стоило воевать с Европой, надо было дружить с ней, а нажать следовало на Крым, тем более страна остро нуждалась в решении этой проблемы. В подтексте читается: ах, почему мы так варварски набросились на европейцев! Они обиделись… Последней в этом духе писала А.Л. Хорошкевич, сетуя, что не суждено было Ивану Грозному «…вывести Российское царство на путь интеграции в Европе Нового времени»{41}. Исследовательница не задумывается над вопросом: а нужна ли была нам в XVI веке интеграция в Европу? Да и в какую Европу? Ни о какой единой Европе для XVI столетия и речи быть не может. Во всяком случае, Европарламента тогда точно не существовало, а интегрироваться в Ливонский орден было бы немного странно…
В советское время этот шаг Ивана Васильевича склонны были оправдывать следующим образом: России требовался выход к морю, к балтийской торговле, а когда удалось на завоеванных землях наладить так называемое нарвское плавание, то есть использовать порт города Нарвы в качестве ключа к масштабной торговле со всей Европой, от этого вышла большая польза государству. И, кстати, если до того западные соседи имели склонность не допускать на территорию России европейских специалистов военно-технического профиля, а также некоторые виды товаров, то «нарвское плавание» решило все проблемы подобного рода.
Это, конечно, серьезный аргумент. Но… неизвестно, насколько Иван IV принимал в расчет торговый аспект завоеваний в Ливонии. Ни один источник не содержит сведений об этом, остается строить гипотезы[57]. Более того, у Московского государства был выход на Балтику. Например, то же устье Невы. Его Россия потеряет лишь после тяжелой борьбы на протяжении Смуты начала XVII века и вернет ценой огромных усилий через сто лет. Если бы речь шла о расширении товарообмена с Европой, там всего-навсего требовалось построить город-порт, чем спустя полтора века и занялся Петр I…[58] Незадолго до начала Ливонской войны у Ивангорода, стоящего, как и Нарва, на реке Нарове, русские стали возводить портовые сооружения. Но портовое строительство ничуть не предотвратило боевые действия.
Как раз в середине 1550-х годов Россия установила дипломатические отношения с Английской короной: англичане открыли торговый маршрут вокруг Скандинавского полуострова, ставший впоследствии весьма оживленным. Держава могла невозбранно пользоваться северным мореходным путем.
Наконец, судя по переписке Ивана Васильевича с Елизаветой I, русский царь вообще считал купеческие дела второстепенными…
Так что прямой необходимости воевать в Ливонии по причинам торгового плана у Московского государства не было.
Зато были другие, и достаточно серьезные причины.
Во-первых, сколь бы ни было соблазнительно прикончить крымскую силу раз и навсегда, но уж слишком этот проект напоминает военно-политическую авантюру. Замечательный российский историк С.Ф. Платонов высказался по данному поводу с исчерпывающей ясностью: «Отказываясь “подвигнуться” против Крыма сам “с великим войском”, Грозный был, несомненно, прав. Хотя Курбский обругал его советников, отвративших будто бы царя от Крымской войны, “ласкателями” и “товарищами трапез и кубков”, однако эти ласкатели — если вина на них — были на этот раз умнее “мужей храбрых и мужественных”, толкавших Грозного на рискованное, даже безнадежное дело»{42}. Крым не раз впоследствии попадал в неприятное положение, однако окончательно сбросить эту фигуру с шахматной доски большой политики смогла лишь необъятная Российская империя времен Екатерины II — государство с ресурсами и военной мощью на порядок выше, чем у Московии грозненской эпохи. Наша страна неоднократно сталкивалась с Крымом, но всякий раз русской военной мощи не хватало для решительной победы — ив XVII столетии, и в XVIII… Только при Потемкине и Суворове, в «век золотой Екатерины», это наконец удалось. Борясь на уничтожение с Крымом, даже ослабленным эпидемией, Россия эпохи Грозного многим рисковала. Можно было перенести мор в ряды русской армии, а там и в русскую столицу. Можно было положить лучшие полки вдалеке от русских границ, в голодных степях. Можно было в конце концов увязнуть в противостоянии с политическим патроном Крымского ханства — Османской империей (так оно и произойдет во второй половине XVII — начале XVIII столетия).
Во-вторых, Ливония, истерзанная междоусобьями, разделенная между несколькими слабыми государственными образованиями, была несравненно менее опасным противником, нежели агрессивный Крым. Первые несколько лет Ливонской войны показали это наглядно.
В-третьих, балтийские государства располагали значительным фондом издавна обрабатываемых земель, притом земель с крестьянами. Ни Казань, ни Крым ничего подобного предложить не могли: там устойчивых очагов землепашества не имелось. А освоение целинных земель требовало переселения на «голые» места крестьянства; только откуда его взять? Особенно если учесть, что сажать его на землю придется в полосе постоянных бунтов и военных действий, чуть ли не на верную смерть, а потери придется вновь и вновь возмещать очередными «вливаниями»… Нет, «подрайская» землица Казани и Дикого поля на первых порах для российского дворянства оказалась совершенно бесполезной. Ливония — другое дело. Между тем небогатые и воинственные «служилые люди по отечеству» давно испытывали недостаток доброй поместной землицы[59]. Реальные «дачи»[60] заметно уступали положенным им земельным «окладам». «Городовые» и «выборные» дети боярские составляли основу вооруженных сил, самую надежную опору трона. Ведение войны в их интересах соответствует интересам самого государя[61].
Наконец, в-четвертых, на территории Прибалтики и Литовской Руси кипела борьба католиков с протестантами, причем среди протестантов попадались, помимо умеренных лютеран, антитринитарии самого отчаянного пошиба{43}. Русские еретики (например, Феодосии Косой) бежали не в Крым, а на запад… Волны Реформации, подкатывающие к самым стенам России — страны-крепости, — тревожили правительство и Церковь[62]. Позиции православия западнее «литовского рубежа» подверглись мощному прессингу. В ближайшем будущем «конфессиональный натиск» мог стать серьезной опасностью и для самого Русского царства.
Таким образом, решение Ивана Васильевича о начале военных действий в Ливонии имело под собой серьезные основания. Это не каприз деспота, а продуманная, логически объяснимая стратегия.
Итак, в 1558 году московские воеводы вошли с полками на Ливонские земли. Сам Иван Васильевич вплоть до зимнего 1562/63 года похода на Полоцк в боевых действиях не участвовал. Как и прежде, он вполне доверял представителям княжеско-боярской знати высшие военные должности.
Очень редко воеводами в городах и еще того реже — командирами в полках действующей армии назначались люди… не то чтобы совсем «худородные», но хотя бы на два уровня ниже высшей аристократии, «казанских сливок». На задворках время от времени мелькают Роман Алферьев, да Осип Полев, да Андрей Яхонтов, да кое-кто из Вяземских, по роду своему стоявшие невысоко. За государем остается принятие «генеральных», наиболее важных решений. До 1562 года события на Ливонском театре военных действий развиваются в основном благоприятно для Московского государства.
Ливонский орден разрушен, его войска разгромлены по частям, российские воеводы заняли Нарву, Юрьев, Феллин, Мариенбург и целый ряд других городов. В 1560—1561 годах заинтересованность в дележе «ливонского наследства» проявили Дания, Швеция и Польско-Литовское государство. Открытое противостояние с литовскими силами принесло русским воеводам частные успехи под Перновым и Тарвастом. Но в 1562 году российские полки потерпели поражение у Невеля, причем возглавлял тогда войско не кто иной, как сам князь A.M. Курбский, вследствие этой неудачи лишившийся царского благоволения.
Иван IV принимает решение нанести сокрушительный удар объединенными силами Московского государства. Так сказать, произвести демонстрацию русской военной мощи.
Эта военная операция оказалась самой крупной и самой удачной в карьере полководца Ивана Грозного.
По всей видимости, отношения политического компромисса между царем и верхушкой служилой аристократии сохраняются на протяжении как минимум всего десятилетия — с начала 1550-х[63]. Причем самостоятельность Ивана Васильевича растет, и боярско-княжеская испытывает на себе растущее давление. Косвенным, но серьезным свидетельством этого являются сведения о побегах русских аристократов и переходе их на службу к великому князю литовскому. Один из таких беглецов объяснял свое желание переменить государя так: по его мнению, Иван Васильевич «бесчестит» «великие рода», приближая к себе худородных («молодых») людей. В трудах историков общим местом является датировка острого конфликта между царем и знатью — конец 50-х — начало 60-х годов. Но уточняется эта широкая хронологическая полоса по-разному. В данном случае важно следующее обстоятельство: два удавшихся побега значительных людей Московского государства приходятся на 1562 и 1564 годы (окольничий Богдан Никитич Хлызнев-Колычев и князь Андрей Михайлович Курбский). Притом Курбский принадлежал к Ярославскому княжескому дому и стоял в аристократической иерархии России весьма высоко; кроме того, он был одним из опытных воевод, участвовал в крупных кампаниях на высоких постах, знал стратегические планы русского командования… Попытки сбежать совершали князья И.Д. Вельский, а также Д.И. Курлятев. Опалы сыпались направо и налево. Так, оказался в опале и был отправлен в ссылку князь М.И. Воротынский, являвшийся одним из главных козырей в колоде высшего командования России, полководец умный и отважный. Казнь постигла родню А.Ф. Адашева, занимавшего важные воеводские должности и умершего в 1560 году.
В чисто военном отношении это означает следующее: царь берет бразды правления на себя, понемногу оттесняя «сливки» военно-служилого сословия от руля управления страной и армией, делает это жестко, не щадит родовитых и заслуженных людей. В Невеле им был собственноручно убит князь Иван Шаховской — возможно, в связи с изменным делом Хлызнева-Колычева… Следовательно, во время зимнего похода 1562/63 года Иван Васильевич является уже полновластным командующим. Удачи и просчеты, таким образом, следует относить к его способностям и его воле. «Коллективный разум» тут уже не при чем[64].
Время наступления и точка приложения усилий были выбраны исключительно удачно. В силу политических обстоятельств литовцы не имели возможности собрать значительные силы. Небольшой корпус (около двух с половиной тысяч человек) во главе с гетманами Н. Радзивиллом и Г. Ходкевичем оперировал на значительном расстоянии от русских полков, опасаясь вступать с ними в битву. Он мог только оттягивать на себя часть сил с направления главного удара да устраивать стычки с нашими разъездами… Таким образом, один из главных уроков казанской кампании был государем отлично усвоен.
Основной удар пришелся на Полоцк. При Василии III московские воеводы пытались взять его как минимум четырежды. Этот город представлял собой стратегически важный пункт по целому ряду причин. Полоцк был богат, многолюден, имел большой посад и «стягивал» значительное количество пахотной земли. На протяжении XVI века он являлся крупнейшим городом на территории современной Белоруссии, а потому представлял собой выгоднейшее приобретение. Полоцк нависал над левым флангом русской воинской группировки в Ливонии. Он также был отличным плацдармом для наступления на Вильно — столицу Великого княжества Литовского. Еще в XIV веке Полоцк являлся столицей крупного самостоятельного княжества, а в XV веке на несколько лет оказался центром мощного, хотя и эфемерного политического образования «Великое княжество Русское»[65]. Как заметила А.Л. Хорошкевич, вся Ливонская война велась «…под лозунгом овладения наследием, якобы оставленным Августом-кесарем своему далекому потомку Рюриковичу»{44}. Иван IV считал Ливонию, и тем более западнорусские земли по праву своим владением, неправомерно отторгнутым соседями. И древняя слава Полоцка, центра важного княжения, как нельзя более привлекала царя с этой точки зрения. Кроме того, Полоцк оказался одним из центров распространения Реформации на землях Литовской Руси. Здесь в конце 50-х — начале 60-х годов возник кальвинистский сбор, разогнанный после прихода московских войск. Здесь же проповедничал русский еретик-феодосианин Фома, ставший протестантом{45}. Рассадник ереси — а именно так воспринимали в Москве XVI столетия любые виды протестантизма, — у самых русских границ вызывал озабоченность у Церкви и государства{46}.
Трудно выбрать пункт, более подходящий для генерального наступления!
Подготовка к походу началась как минимум в сентябре 1562 года. По своему масштабу это военное мероприятие было грандиозным. Оно едва ли уступало «Казанскому взятию» 1552 года и требовало тщательной организации. Поздней осенью отдельные отряды двинулись к месту общего сбора из 18 населенных пунктов: Москвы, Калуги, Можайска, Ярославца, Кременска, Вереи, Вышгорода, Боровска, Рузы, Звенигорода, Волока, Погорелого городища, Зубцова, Ржева, Холма, Молвятиц, Пскова и Вязьмы. Всего, по разным источникам, общая численность полевого соединения составляла как минимум 130 000 человек[66]. Из них 30 000—35 000 человек дворянского ополчения, 12 000—20 000 стрельцов и не менее 80 000 посохи. Артиллерия («наряд») насчитывала около двухсот орудий разных типов. Вообще, этот род войск был предметом особых забот царя Ивана IV. На пушки не жалели средств, пушкарей натаскивали, устаивая учебные стрельбы. Один английский дипломат оставил рассказ об искусных действиях русских артиллеристов, разбивавших во время подобных «учений» фигуры изо льда… С русскими войсками отправились в поход итальянские военные инженеры. Рать в назначенный день (5 января 1563 года) собралась в Великих Луках и стояла там четверо суток. Удивительно, насколько отлаженной была военная машина Московского государства в первые годы Ливонской войны! В организационном смысле она представляла собой настоящее совершенство. Историк Р.Ю. Виппер в восхищении пишет: «В механизме военной монархии все колеса, рычаги и приводы действовали точно и отчетливо, оправдывали намерения организаторов…»{47} На первом этапе похода Ивану Васильевичу удалось сконцентрировать в приграничной области колоссальные силы. Как свидетельствуют источники, для польско-литовского командования это стало неприятной неожиданностью.
На пути от Великих Лук к Полоцку русская армия была обнаружена литовцами, однако времени для подготовки к осаде у них оставалось совсем немного. Даже если учесть низкую скорость движения наших полков, «заторы» и «мотчание» из-за худо налаженного взаимодействия частей на марше, неприятель все-таки не успевал как следует подготовиться к отражению российского удара с востока…
Так или иначе, 30 января 1563 года армия московского государя подходит к городу, а на следующий день начинается расстановка полков.
Городской гарнизон составлял, видимо, 1000 —2000 бойцов, но они располагали мощным артиллерийским арсеналом. Особую стойкость придавал обороне отряд поляков, настроенных защищаться до последней крайности. К тому же Полоцк славился своими укреплениями. Взятие города представляло собой трудную задачу.
С первого же дня осады московские ратники обстреливали противника из пищалей и легких пушек. Стрелецкий отряд приступом захватил одну из башен, но впоследствии то ли получил приказ отступить, то ли был отброшен контрударом — летопись не дает ясности. Через неделю под город прибыли тяжелые осадные орудия. Их залпы произвели на полоцкие стены и башни сокрушительное воздействие. Один из очевидцев осады впоследствии с ужасом рассказывал: гром от московских пушек стоял такой, будто небо и земля обрушились на город. Летопись рассказывает: «якоже от многого пушечного и пищального стреляния земле дрогати и в царевых великого князя полкех, бе бо ядра у больших пушек по двадцати пуд, а у иных пушек немногим того легче…»{48}. Сила артиллерийского удара увеличивалась малой дистанцией от орудийных жерл до цели. Полоцкий воевода С. Довойна подпустил московский наряд под самые стены. Случилось это так: с первого дня осады русские полки занялись интенсивными инженерными работами — они сооружали деревянные щиты и «туры» (передвижные деревянные каркасы, заполненные мешками с песком). Эти самые туры постепенно пододвигались к стенам, а под их прикрытием шла пехота и подтягивался «наряд». Довойна попытался отвлечь внимание московского командования переговорами, надеясь, по всей видимости, на помощь деблокирующего корпуса, собранного Н. Радзивиллом. Но вышло только хуже для него самого: пока представители обеих сторон пытались прийти к соглашению, взаимный огонь не велся… и русские беспрепятственно подтаскивали туры. Когда переговоры сорвались, туры стояли у самых стен. Таким образом, осадные орудия били по городу в упор.
Стены полоцкого посада перестали быть преградой для русских войск. Гарнизон нес серьезные потери. В результате воевода велел посад сжечь, а гарнизону отойти в Верхний замок — городскую цитадель. Задержавшиеся поляки были, по образному выражению летописи, «вбиты» в Замок атакой русских отрядов князей Дмитрия Хворостинина и Дмитрия Овчинина.
Переговоры со стороны Иван Васильевича были двойной уловкой. Ему удалось не только придвинуть туры поближе к неприятелю, но и смутить умы полочан. В городе имелась партия доброжелателей Москвы (например, православное духовенство). В далеком 1514 году Василий III получил в свои руки Смоленск отчасти потому, что в городе многие склонялись к переходу под руку Москвы, и это обстоятельство удалось с выгодой использовать. Горожане, вышедшие из горящего полоцкого посада в расположение московских войск, оправдали ожидания царя. Они не могли открыть ему ворота или помочь в штурме Замка. Но русским воеводам были показаны секретные лесные ямы со значительным запасом продовольствия…
Осадные орудия встали на пожарище, передвинулись туда и туры. 11—14 февраля московский «наряд» возобновил разрушительную работу на новых позициях. Ядра разбивали замковую стену, достигая противоположной стены, защитники Замка несли от них жестокий урон. Русские артиллеристы использовали зажигательные снаряды (то ли раскаленные ядра, то ли сосуды со специальной смесью). В замке заполыхали пожары.
Таким образом, казанский урок по части инженерного дела и артиллерии также был отлично усвоен государем…
Пушки били без перерыва на протяжении нескольких суток. Московские ядра уничтожили 20 процентов замковых стен, превратив их в подобие стариковской челюсти с выпавшими зубами… Гарнизон оказался принужден одновременно защищать замок, чинить стены и тушить пожары. Довойна устроил отчаянную вылазку, но наши ее отбили. За всю осаду русская армия потеряла менее ста бойцов, хотя защитники и нападающие как минимум трижды вступали в рукопашный бой. По тем временам это были ничтожные потери. Таким образом, положение обороняющихся стало безнадежным, в то время как московские полки, понеся лишь незначительные потери, готовились к решающему штурму. Его начало планировали на 15 февраля.
Но в этот день полоцкий воевода утратил твердость духа. Он сдал городское знамя и отправил епископа со священниками за ворота, чтобы те уговорили Ивана IV начать переговоры о сдаче замка. Царь захотел вести их только с самим Довойной, и тот отправился в русский стан, где смог выторговать лишь одно условие: жизнь. Уже после сдачи, по некоторым источникам, поляки попытались наперекор достигнутому соглашению организовать оборону. Однако и они в конце концов оставили позиции, когда царь пообещал отпустить их, беспрепятственно проведя со всем имуществом сквозь ряды московских полков. Обещание русская сторона впоследствии добросовестно выполнила.
Великий град Полоцк пал к ногам Ивана Васильевича. В городе была взята богатая добыча[67]. Он на шестнадцать лет стал частью Московского государства. Иван IV добавил к своему титулу слова «…великий князь полоцкий». Государь оставил там значительный русский гарнизон во главе с воеводами-ветеранами — князьями П.И. Шуйским, П.С. Серебряным и B.C. Серебряным, повелев возвести новые, более мощные укрепления. Полоцкая шляхта, а потом и мещане отправились под охраной в Москву. Впоследствии часть полоцких шляхтичей обменяли на русских пленников, другую же часть отдали за выкуп — обычная для войн того времени практика.
Взятие Полоцка стало величайшим успехом русского оружия за всю Ливонскую войну, пиком военных достижений России на протяжении XVI века и к тому же личным триумфом Ивана IV. Лебедевская летопись, служащая основным источником по истории «Полоцкого взятия», в этом месте представляет собой запись очевидца. По всей видимости, «заготовку» для летописного текста готовил участник событий[68]. Так вот, Иван Васильевич представлен здесь как абсолютно самостоятельный в своих решениях полководец, полновластный хозяин армии, к тому же смелый человек, попадавший во время полоцкой кампании в рискованные ситуации, но не терявший присутствия духа. Со времен Казани многое изменилось…
Иван Васильевич отправил было татар в направлении Вильно — развивать успех «Полоцкого взятия», однако боевые действия вскоре прекратились: литовцы запросили перемирия и получили его[69]. Для Великого княжества Литовского падение Полоцка было как гром с ясного неба. В долгосрочной перспективе оно инициировало процесс политического сближения Польши и Литвы, закончившийся их объединением в 1569 году. А в краткосрочной — польский король Сигизмунд II Август вынужден был пойти на уступки литовско-белорусской православной шляхте, уравняв ее в правах со шляхтой католической (жалованная грамота от 7 июля 1563 года). В этом акте видно стремление сплотить все наличные силы для дальнейшей борьбы с Московским государством. Известия об успехе Ивана IV прокатились по половине Европы, вызывая тревогу. Наоборот, в России полоцкую победу долго помнили и гордились ею. Известия об успехе 1563 года вошли во многие летописи, в том числе и краткие летописцы.
Однако Иван IV недолго радовался своему большому успеху. 1564 год крепко подпортил впечатление и от Полоцка, и от всей войны, начавшейся столь удачно.
Русский корпус, двинувшийся в пределы Литовской Руси, был разбит на реке Уле (январь 1564 года). Разгром вышел ужасный, потери оказались очень велики. Среди главных воевод были князь Петр Иванович Шуйский и боярин Иван Васильевич Шереметев — опытные, заслуженные, доверенные люди. Но на этот раз они явно оплошали и покрыли свое имя позором; сам Шуйский погиб. Воевод Захария Ивановича Очина-Плещеева и князя Ивана Петровича Охлябинина литовцы пленили. Московской армии враг нанес значительный урон: судя по летописи, одних только детей боярских легло около 150 человек…{49}
В апреле того же года сбежал в Литву князь Андрей Михайлович Курбский. Впоследствии он участвовал как один из командиров в литовских походах против Московского государства, и первый раз это произошло всего через несколько месяцев после его побега. В том же году воевод стародубских заподозрили в сговоре с целью передать город великому князю литовскому; дело кончилось для них казнями[70]. Литовские войска вторгались на собственно русские территории. Осенью крымцы совершили опустошительный набег на рязанские земли.
Русская армия не потеряла ни способности к обороне занятых ею территорий, ни способности дальше вести активные боевые действия в поле. И другой московский экспедиционный корпус достиг в ноябре успеха, хоть и незначительного: его поход против литовцев закончился взятием Озерища. Однако впечатление от предыдущих бед, особенно от страшной резни на Уле, было ошеломляющим. К тому же потери в людях вряд ли позволяли теперь собирать столь же мощные соединения, как во время полоцкого похода. А поход на Минск, Новогрудок, Ревель и уж тем более на Вильно требовал очень значительных сил…
Конфликт между царем и служилой аристократией, очевидно, нарастает, до взрыва уже недалеко. В том же злополучном 1564-м гибнут либо по повелению, либо непосредственно от рук царя князья Михаил Петрович Репнин, Юрий Иванович Кашин и Дмитрий Федорович Оболенский-Овчинин. Первый и второй из них — участники нескольких удачных кампаний, опытные воеводы.
В декабре Иван Васильевич отправляется в поход к Троице, а затем к Александровской слободе, — поход, закончившийся учреждением опричнины.
Трудно отделаться от впечатления, что именно военные неудачи, особенно после успеха, совершенного русскими полками под командой самого царя, привели Ивана Васильевича к мысли о необходимости этого странного учреждения. Последние полстолетия причину начала опричнины ищут в социально-экономической и социально-политической сферах. Но, по всей вероятности, преобладающим фактором был все-таки сбой военной машины Московского государства, заставивший царя почувствовать всю шаткость своего положения. Со времен казанских походов Иван IV находился в состоянии вынужденного компромисса со служилой аристократией, поставлявшей основные кадры командного состава и значительную часть войск. Несколько десятков человек являлись ядром начальствующего состава русской армии с середины 40-х по середину 60-х годов XVI столетия. Заменить их было некем, поскольку иного сословия, по организационному и тактическому опыту равного служилой аристократии, просто не существовало. Иван Васильевич не жаловал высшую знать, особенно — гордых «княжат», и отлично помнил те времена, когда высокородные кланы фактически правили страной через голову юного, «игрушечного» монарха. Но обойтись без служилой знати никак не мог. Аристократические семейства, в свою очередь, не симпатизировали растущему самовластию царя, но отнюдь не планировали изменить государственный строй России.
Таким образом, обе стороны поддерживали «худой мир». Он продержался до тех пор, пока не перестал удовлетворять и царя, и княжат. Аристократическая верхушка, не вынося давления центральной власти, принялась «перетекать» в стан противника; но это полбеды: аристократия московская регулярно бегала от царской опалы на литовский рубеж, чаще всего попадалась и каялась; некоторые ее представители даже успели повоевать на стороне врага, как, например, было с князем С.Ф. Вельским и окольничим И.В. Ляцким, ушедшими из московских пределов в 1534 году. Попытки перехода — как удачные, так и неудачные — стали привычным делом, вряд ли они могли привести к катастрофическим последствиям. При Иване IV бегать стали чаще, чем при Василии III или при Елене Глинской. Но хуже другое: аристократия перестала быть надежным орудием решения военных задач. Невель, Ула и разор рязанских земель показали: высшее командование не справляется со своими обязанностями, оно не эффективно. Следовательно, для продолжения войны требуются перемены.
Это ведь XVI столетие, а не XXI! Слабая армия любой державе того времени приносила скорый крах. Московское государство с 1492 года без конца воевало с литовцами, а непримиримую, страшную войну с татарами и вовсе унаследовало от далеких предков. Игры с перераспределением земельной собственности и изменениями в структуре высшей политической власти не должны заслонять простого факта: зазевайся воеводы, годовавшие на «берегу», прояви они недостаток боевого духа, и всему русскому расцвету можно было бы заказывать гроб да могильную плиту. В XVI столетии наша цивилизация во всем ее великолепии висела на волоске, порой этот волосок истончался почти до невидимости, а пару раз не порвался только из-за великой любви Господней к нашей многострадальной земле… Следовательно, вялая верхушка военно-служилого сословия не нужна была никому. Слабость выглядела хуже измены и опаснее самовольства.
Собственно, военный или — шире — внешнеполитический фактор считали главным изо всех, что повлияли на учреждение опричнины, разные историки. Данная точка зрения не является чем-то абсолютно новым. Высказывались в этом смысле Р.Ю. Виппер, К.В. Базилевич, И.И. Полосин, П.А. Садиков и (более сдержанно) А.Л. Хорошкевич. Имелись идеи в этом ключе и у Р.Г. Скрынникова. Виппер, в частности, писал: «Опричнина отражает взгляд на служилое сословие, в силу которого оно должно явиться вполне послушным орудием центра; порядки, заведенные с 1564 года, составляют верх напряжения военно-монархического устройства… То обстоятельство, что реформа совершалась во время трудной войны, что она осложнялась столкновением с княжатами… придало ей характер судорожно-резкий. Но не в террористических мерах Грозного заключалась сущность перемен. Работая над введением нового военного строя, реформатор не имел покоя и простора. Преобразование было задумано как орудие для устранения опасных людей и для использования бездеятельных в интересах государства, а сопротивление недовольных превращало самое реформу в боевое средство для их уничтожения, и вследствие этого преобразование становилось внутренней войной»{50}. П.А. Садиков так характеризует обстановку осени 1564 года, предшествующую опричнине: «Известия, полученные царем Иваном о настроениях поместной служилой массы, были весьма неудовлетворительны: дворянское ополчение не тронулось с места даже в минуты грозной опасности; боярское командование действовало очень вяло, стратегически неоправданно, и средние и мелкие феодалы явно не склонны были долее терпеть господство “ленивых богатин” и из-за них подвергаться смертельной опасности, предпочитая лучше отсиживаться дома, в родных углах. Надо было предпринять, очевидно, немедленные и решительные меры»[71].
Чем была опричнина в военном отношении? Ведь именно военные причины заставили царя ввести ее и, следовательно, в этой сфере следовало ожидать значительных изменений.
Так и было. Прежде всего, произошел «перебор» основного состава высших воевод. Показательна расстановка на воеводские должности в действующей полевой армии. Беглый князь Андрей Михайлович Курбский в «Истории о великом князе Московском» писал: «Убиты им (Иваном IV. — Д.В.) многие стратеги или командиры, люди храбрые и искусные в военном деле…» В первом послании к Ивану Васильевичу он вопрошает: «Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах Божьих пролил… Не они ли разгромили прегордые царства и обратили их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были предки наши? Не отданы ли тебе Богом крепости немецкие благодаря мудрости их? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими?» В третьем послании та же тема выражена предельно ясно и концентрированно: «Лютость твоей власти погубила… многих воевод и полководцев, благородных и знатных, и прославленных делами и мудростью, с молодых ногтей искушенных в военном деле и в руководстве войсками, и всем ведомых мужей — все, что есть лучшее и надежнейшее в битвах для победы над врагами, — ты предал различным казням и целыми семьями погубил без суда и без повода… И, погрязнув в подобных злодеяниях и кровопролитии, посылаешь на чужие стены и под стены чужих крепостей великую армию христианскую без опытных и всем ведомых полководцев, не имеющую к тому же мудрого и храброго предводителя или гетмана великого, что бывает для войска особенно губительно и мору подобно, то есть, короче говоря, — без людей идешь, с овцами и с зайцами, не имеющими доброго пастыря и страшащимися даже гонимого ветром листика, как и в прежнем послании я писал тебе о каликах твоих, которых ты бесстыдно пытаешься превратить в воеводишек взамен тех храбрых и достойных мужей, которые истреблены и изгнаны тобою»{51}. Таким образом, опальный князь обвиняет царя в том, что тот, истребив командирский корпус, фактически лишил армию лучших воевод.
А значит, остается добавить, и боеспособности.
Следует проанализировать, кого понимает Курбский под именем «храбрых и достойных мужей», а кого воспринимает как бездарных в военном отношении бродяг. А поняв это, проверить, таково ли было на самом деле положение командного состава грозненской армии. Если же все было именно так, придется заняться проверкой иного рода: действительно ли худородные «калики» проявили неспособность к военным делам, или им удавалось справляться с обязанностями аристократической верхушки, не роняя боеспособности войск.
Что касается первого вопроса, то ответ на него не вызывает особых проблем. Сам же Андрей Михайлович поместил в «Истории о великом князе Московском» список казненных аристократов, отметив, в частности, кто из них славился как талантливый полководец или хотя бы имел опыт и авторитет в военном деле.
Вот реестр Курбского[72]:
Алексей Федорович Адашев — опала и арест, вскоре после чего он скончался;
родственники А.Ф. Адашева (Шишкины, Адашевы — в том числе и Данила Федорович Адашев, Федор, Алексей и Андрей [Захаровичи] Сатины-Постниковы, Петр [Иванович] Туров) — подверглись казням;
князь Дмитрий [Федорович] Оболенский-Овчинин — убит;
князь Михаил [Петрович] Репнин — убит;
князья Кашины, Юрий и Иван Ивановичи — убиты;
князь Дмитрий [Андреевич] Шевырев — казнен;
князь Дмитрий [Иванович] Курлятев — насильственно пострижен в монахи, впоследствии убит со всей семьей;
князь Владимир [Константинович] Курлятев — убит;
князь Александр [Иванович] Ярославов — убит;
князь Петр [Семенович] Серебряный-Оболенский — убит;
князь Александр [Борисович] Горбатый-Суздальский с сыном Петром — убиты;
Петр [Петрович] Ховрин-Головин — убит;
Михаил [Петрович] Ховрин-Головин — убит;
князь Дмитрий Ряполовский[73] — казнен;
князья Ростовские Семен [Васильевич Звяга], Андрей [Иванович Катырев] и Василий [Васильевич Волк]{52} — убиты;
князь Ростовский-Темкин Василий [Иванович] — убит;
князь Петр [Михайлович] Щенятев[74] с братьями Петром и Иваном — убиты;
князь Федор Львов [скорее всего, Федор Иванович Троекуров] — убит{53};
князь Федор [Александрович], вероятно, Аленкин или Оленкин — убит{54};
князь Иван Шаховской — убит;
князья Прозоровские Василий, Александр, Михаил — убиты;
князья Ушатые, «весь род» — убиты;
князья Пронские Иван [Иванович Турунтай] и Василий [Федорович] Рыбина (или Рыбин) — убиты;
князь Михаил [Иванович] Воротынский — был в опале, ссылке, умер на пытке;
князь Одоевский Никита [Романович] — умер на пытке, пострадала его семья;
Иван Петрович [Федоров-Челяднин] — убит с женой, слугами и родами служилых его дворян;
Иван Васильевич Шереметев Большой — искалечен на пытке, потом умер калекой;
Никита [Васильевич] Шереметев — убит;
Семен Яковлевич [Захарьин] — убит с сыном;
Хозяин [Юрьевич] Тютин (казначей, греческого происхождения) — убит с семьей;
Иван [Иванович] Хабаров — убит с сыном;
князь Михаил Матвеевич Лыков — убит с родней;
род Колычевых и, в частности, Иван Борисович Колычев — убиты;
Василий [Васильевич] Разладин или Розладин — убит;
Дмитрий [Ильич Шафериков] Пушкин{55}— убит;
Крик [Зуков] Тыртов — убит;
Андрей [Иванович] Шеин — убит;
Владимир [Васильевич] Морозов — заточен, а потом убит;
Михаил [Яковлевич] Морозов с сыном Иваном — убит;
Лев [Андреевич] Салтыков — убит с сыновьями;
Игнатий [Иванович], Богдан [Васильевич], Феодосии (Федор?) [Иванович] Заболоцкие{56} — убиты;
Василий [Андреевич] Бутурлин — убит с братьями и родственниками;
Иван [Федорович] Воронцов — убит;
[Тимофей] Замятия [Иванович] Сабуров — убит;
Андрей и Азария [Федоровичи] Кашкаровы{57} — убиты;
Василий и Григорий Тетерины-[Гундоровы]{58} — убиты;
Данила [Григорьевич] Чулков-[Ивашкин]{59} — убит;
князь Федор-Меньшой [Матвеевич] Булгаков-Денисьев[75] — убит с братьями и другой родней;
князь Владимир [Константинович] Курлятев — убит;
Григорий Степанович Сидоров — убит;
семейство Сабуровых-Долгово — убиты;
семейство Сарыхозиных — убиты;
Никита Казаринов с сыном Федором — убиты;
князь Андрей [по разным версиям Васильевич или Владимирович] Тулупов-Стародубский[76] — убит.
Среди перечисленных Курбским людей можно выделить две группы военачальников: те, кого беглый князь называет людьми «благородными», «мужественными», «искусными», опытными и т.п.; а также тех, за кем, по его мнению, числятся особые военные заслуги, — иными словами, настоящих полководцев.
Вот эти две группы:
1. Князь Владимир Константинович Курлятев, князь Александр Иванович Ярославов, князь Иван Иванович Турунтай Пронский, князь Михаил Матвеевич Лыков, князь Федор Матвеевич Булгаков, Василий Васильевич Разладин-Квашнин, Дмитрий Ильич Шафериков-Пушкин, Крик Зуков Тыртов, Замятия Иванович Сабуров, Данила Григорьевич Чулков, род Колычевых, род Заболоцких, род Кашкаровых, род Сабуровых-Долгово.
2. Князь Петр Семенович Серебряный-Оболенский, князь Александр Борисович Горбатый-Суздальский, князь «Дмитрий Ряполовский», князь Федор Иванович Троекуров, князь Михаил Иванович Воротынский, Иван Васильевич Шереметев Большой.
* * *
Насколько прав беглый князь в своих оценках? Во второй группе к числу воеводской элиты совершенно однозначно следует отнести князя Петра Семеновича Серебряного-Оболенского, князя Александра Борисовича Горбатого-Суздальского, князя Михаила Ивановича Воротынского, а также Ивана Васильевича Шереметева Большого. Родственник Курбского князь Федор Иванович Троекуров («князь Федор Львов»), по его словам, был человеком «выдающейся храбрости и святой жизни», верно служил государю с молодости до сорока лет, «…не раз одерживал светлые победы над погаными, обагряя руки свои кровью, вернее же, освящая их кровью басурман», — что, в общем, не встречает возражений. Князь Дмитрий Ряполовский — таинственная фигура. Если имелся в виду князь Дмитрий Иванович Хилков или князь Дмитрий Федорович Палецкий, то оба они бывали на высоких ролях в действующих полках, правда, воеводские должности Д.Ф. Палецкого превосходили «карьерные достижения» Д.И. Хилкова. Иными словами, Курбский избыточно превозносит деяния родственника, а в остальных оценках совершенно адекватен.
Что касается первой группы, то там придется выделить еще нескольких опытных военачальников, значение которых Курбским даже несколько преуменьшено. Это прежде всего Иван Петрович Федоров[77], князь Владимир Константинович Курлятев, князь Александр Иванович Ярославов, князь Иван Иванович Турунтай Пронский, Замятия Иванович Сабуров, Василий Васильевич Разладин-Квашнин, Дмитрий Ильич Шафериков Пушкин, Данила Григорьевич Чулков[78].
Сюда надо приплюсовать также тех, чья опытность в военном деле, боевые заслуги или хотя бы высокое положение в армии не вызывают сомнений, хотя Курбский оставил без внимания их воинские «регалии». Таковы князь Петр Михайлович Щенятев (поистине звезда «генералитета» грозненских времен, очень крупная фигура), князь Юрий Иванович Кашин, князь Никита Романович Одоевский, кн. Василий Иванович Темкин-Ростовский (сам видный опричник), Головины Михаил Петрович и Петр Петрович (в особенности первый из них), Алексей Федорович Адашев, Данила Федорович Адашев, Андрей Иванович Шеин, Василий Андреевич Бутурлин, Григорий Степанович Сидоров[79], Михаил Яковлевич и Иван Михайлович Морозовы
Курбский далеко не всегда достоверен. Наиболее надежной следует считать в его посланиях и «Истории о великом князе Московском» информацию по периоду до весны 1564 года, т.е. до побега в Литву. Позднее он пользовался слухами, надежность которых просто не имел возможности проверить. В некоторых случаях он сам признается, что судьбу того или иного человека не может проследить с точностью.
Немудрено, что Андрей Михайлович просто не в состоянии перечислить все потери высшего армейского командования от предопричных и опричных казней. Поэтому придется добавить еще несколько человек к списку воевод, выбывших из рядов действующей армии по причине безвременной кончины на плахе или от иного орудия убийства…
Князя Петра Ивановича Горенского казнили в 1565 году за попытку перейти к литовцам. Ивана Петровича Яковлева-Захарьина — в 1571 году за неудачный поход под Ревель. Из числа опричных воевод по цареву повелению расстались с жизнью князь Михаил Темрюкович Черкасский (но это, впрочем, потеря небольшая, ибо значительного командного опыта у князя не было), Василий Иванович Умной-Колычев, Захарий Иванович Очин-Плещеев и другие. Уже после отмены опричнины казнили князя Петра Андреевича Булгакова-Куракина, ветерана грозненских войн.
Разумеется, вообще в эпоху Ивана Васильевича от казней погибло намного больше знати, чем здесь перечислено. Известные историки С.Б. Веселовский и Р.Г. Скрынников, работая с синодиками, содержащими списки людей, пострадавших от грозненских репрессий, уточнили потери военно-служилого сословия[80]. В данном случае отбирались сведения о служилых аристократах, входивших в костяк военного руководства и пострадавших от террора[81]. Вот итоговый их реестр[82]:
Алексей Федорович Адашев[83]
Данила Федорович Адашев
Алексей Данилович Басманов
Никита Васильевич Борисов-Бороздин
князь Петр Андреевич Булгаков-Куракин
Василий Андреевич Бутурлин
Иван Наумов[84] Бухарин
князь Михаил Иванович Воротынский
князь Иосиф (Осип) Федорович Гвоздев-Приимков (или Гвоздев-Ростовский)
Михаил Петрович Головин
Петр Петрович Головин
князь Александр Борисович Горбатый-Суздальский
князь Петр Иванович Горенский
Василий Дмитриевич Данилов
князь Семен Иванович Засекин-Баташев
Михаил Андреевич Карпов
Федор Андреевич Карпов
князь Андрей Иванович Катырев-Ростовский
князь Юрий Иванович Кашин
князь Дмитрий Андреевич Куракин
князь Владимир Константинович Курлятев
князь Михаил Матвеевич Лыков
Иван Михайлович Морозов
Михаил Яковлевич Морозов
князь Никита Васильевич Оболенский
князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный
князь Никита Романович Одоевский
Захарий Иванович Очин-Плещеев
князь Дмитрий Федорович Палецкий (?)
князь Иван Иванович Пронский Турунтай
Дмитрий Ильич Шафериков-Пушкин
Василий Васильевич Разладин-Квашнин
князь Василий Волк Васильевич Ростовский
Тимофей Замятня Иванович Сабуров
Григорий Степанович Сидоров
князь Федор Васильевич Сисеев
князь Василий Иванович Темкин-Ростовский
князь Федор Иванович Троекуров
Василий Иванович Умной-Колычев
Иван Петрович Федоров-Челяднин
князь Дмитрий Иванович Хилков (?)
князь Михаил Темрюкович (или Темгрюкович) Черкасский
Данила Григорьевич Чулков-Ивашкин
Андрей Иванович Шеин
Иван Васильевич Шереметев-Большой
князь Петр Михайлович Щенятев
Петр Иванович Яковлев
Семен Васильевич Яковля (Яковлев)
князь Александр Иванович Ярославов
Всего, таким образом, около пяти десятков с конца 50-х годов по вторую половину 70-х годов XVI столетия. Много это или мало? Если учесть, что в середине XVI века на воеводские должности в полках действующей армии и крупных городах могли претендовать человек сто, от силы сто пятьдесят, то получится, что из высшего эшелона русского командования выбыла как минимум треть. Катастрофический результат!
По большей части в список попали служилые аристократы, «худородных» тут крайне мало, зато персон, принадлежащих к высшей знати, предостаточно. Высок процент видных представителей нетитулованной знати — старинных боярских родов, особенно московских. То крепкое боярство, на которое опирались когда-то московские Даниловичи как на самый надежный резерв, при государе Иване Васильевиче потеряло лучших командиров и в конечном счете получило самый страшный удар[85].
Причем выбыли почти все талантливые, искусные, удачливые полководцы. Р.Г.Скрынников пишет, в частности, что к концу 1570-х годов, когда Россия начала последнее масштабное наступление в Ливонии, «…все крупнейшие военачальники были казнены Грозным»… В их числе оказались Александр Горбатый, Михаил Воротынский, Алексей Басманов, Михаил Репнин, Юрий Кашин, Андрей Шеин». Не было с ним также бесстрашного И.В. Шереметева-Большого, энергичного В.И. Умного-Колычева, рассудительного А.Ф. Адашева, опытных кн. И.И. Пронского Турунтая и П.М. Щенятева… Это как будто подтверждает тезис Скрынникова о том, что «…военное руководство перешло в руки воевод, не имевших особых заслуг, опыта и способностей»{60}.
Но гибель «генералитета» — еще полбеды. Реставрированные Скрынниковым синодики показывают: счет ведется на тысячи жертв. Из них большую часть занимают служилые люди по отечеству, гибнувшие под секирой террора с семьями и слугами. Они не принадлежат к боярско-княжеской аристократии. Это в основном дети боярские московские, выборные и городовые — от очень заметных родов до совершенно неизвестных. Трудно установить, сколько именно и по какому «делу» было их казнено. Однако масштаб ущерба, нанесенного военно-служилому сословию в целом, весьма велик. В 1563 году под Полоцком Иван IV располагал корпусом дворянской конницы численностью в 18 000 бойцов (к самим дворянам добавляют, как правило, такое же количество вооруженных холопов). Для XVI столетия это высший предел. Больше, теоретически, могло выйти только в казанский поход 1552 года, но не сохранилось документов, способных пролить свет на этот вопрос. В ливонских кампаниях 70-х годов царю удавалось собрать примерно в два раза меньше помещиков-кавалеристов. Конечно, многих из них повыбило на войне. Кое-кто скрывался от службы «в нетях». Но, видимо, и террор сказал веское слово: ущерб, понесенный от него дворянской конницей — основой русской армии того времени, — был таков, как если бы основные силы Московского государства подверглись разгрому в генеральном сражении…
Наконец, худо сказалась на боеспособности войск так называемая казанская ссылка 1565 года[86]. Она надолго вывела из оперативного оборота значительное количество служилых людей.
С кем же Иван Васильевич остался? Каких московских военачальников князь Курбский презрительно именует «каликами»? Хороши ли они в деле? Много ли у государя осталось незаменимой и верной поместной конницы? Тот же Скрынников считает, что к 1577 году у Ивана Васильевича «…не оказалось способных воевод, которые могли бы овладеть опорными крепостями Ригой и Таллином»{61}. Между тем сам Иван Грозный более оптимистично смотрел на этот вопрос. Полемизируя с Курбским, писавшим об истреблении «сильных во Израиле», он демонстрирует уверенность и в своей правоте, и в работоспособном состоянии командирского корпуса: «…Сильных во Израиле мы не убивали, и не знаю я, кто это сильнейший во Израиле, потому что Русская земля держится Божьим милосердием, и милостью пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими государями, а не судьями и воеводами, а тем более не ипатами и стратигами. Не предавали мы своих воевод различным смертям[87], а с Божьей помощью мы имеем у себя много воевод и помимо вас, изменников. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить»{62}.
И в годы опричнины, и после ее отмены, московская армия регулярно совершала крупные операции — главным образом наступательные на западе и северо-западе, а также оборонительные на юге. Всякий раз с началом новой операции требовалось назначить с десяток воевод в полки. Их, разумеется, назначали: имена этих людей дошли до нас в разрядных книгах, а также источниках иностранного происхождения (царское летописание прервалось на 1567 годе). И если анализировать их социальный состав, то выяснится, что в подавляющем большинстве случаев они были… все теми же служилыми аристократами. Провинциальных дворян в командирский корпус добавилось совсем немного. Дворян московских — тоже не столь уж большое количество.
Художественная литература многим привила неадекватное восприятие военной стороны опричнины: царь будто бы дал возможность представителям низшей ступени в иерархии военно-служилого класса проявить себя на воеводских должностях! Энергичные дворяне будто бы заменили в полках «ленивых богатин», жирных бояр! Да ничего подобного. Правда состоит в том, что русское армейское командование в опричные и постопричные годы стало всего лишь… несколько менее аристократичным.
Кто возглавлял армии в главных походах, а также оборонительных операциях на юге в 1565—1584 годах?[88] Если не считать самого Ивана IV и татарских царевичей, то высшие воеводские посты занимали следующие лица[89]:
князь Василий Иванович Барбашин (Борбашин-Суздальский), опричный воевода (1570)
Федор Алексеевич Басманов, опричный воевода (1568— 1569), умер в ссылке на Белоозере
князь Иван Дмитриевич Вельский (1565,1567—1571), погиб в 1571 г. в Москве от пожара
Иван Михайлович Бутурлин (1580)
Лобан Андреевич Бутурлин (1575)
Фома Афанасьевич Бутурлин (1580)
князь Иван Михайлович Воротынский (1580—1582)
князь Михаил Иванович Воротынский (1565, 1569—1570, 1572), подвергся пыткам, умер по дороге в ссылку в 1573 г.
князь Дмитрий Иванович Вяземский, опричный воевода
князь Василий Юрьевич Голицын (1570—1575, 1577)
князь Иван Иванович Голицын (1577)
князь Иван Юрьевич Голицын-Булгаков (1565, 1570, 1572—1576, 1578-1580)
князь Иван Михайлович Елецкий (1582)
князь Михаил Петрович Катырев-Ростовский (1579—1582)
князь Андрей Петрович Куракин (1575,1583)
князь Григорий Андреевич Куракин (1577)
князь Владимир Константинович Курлятев (1565, 1566),
казнен (вероятнее всего, в 1568 г.)
князь Иван Константинович Курлятев (1580—1582)
князь Иван Семенович Лобанов-Ростовский (1577)
князь Федор Михайлович Лобанов-Ростовский (1582)
Михаил Яковлевич Морозов (1568—1569), казнен в 1573 г.
Петр Васильевич Морозов (1576)
Иван Михайлович Морозов-Большой (1571—1572), казнен в 1573 г.
князь Иван Федорович Мстиславский (1567, 1573, 1576— 1580)
князь Федор Иванович Мстиславский (1582, 1583)
князь Иван Андреевич Ноготков (1582—1583)
князь Данила Андреевич Ногтев-Суздальский (1577, 1582-1583)
князь Михаил Юрьевич Оболенский-Лыков (1570), погиб в бою за крепость Сокол в 1579 г.
князь Борис Васильевич Оболенский-Серебряный (1573-1575)
князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный (1567), казнен в 1570 или 1571 г.
князь Михаил Никитич Одоевский (1579—1580)
князь Никита Романович Одоевский (1572—1573), казнен в 1573 г.
Андрей Иванович Очин-Плещеев, опричный воевода (1567-1568)
Захарий Иванович Очин-Плещеев, опричный воевода (1568-1569), казнен в 1570 г.
князь Андрей Дмитриевич Палецкий (1569—1570,1574), погиб в бою за крепость Сокол в 1579 г.
Иван Дмитриевич Плещеев-Колодка, опричный воевода (1567-1568)
князь Петр Данилович Пронский, опричный воевода (1571-1572)
князь Семен Данилович Пронский (1572—1573, 1579— 1580)[90]
князь Иван Иванович Пронский Турунтай (1565, 1566), убит в 1569 г.
Данила Борисович Салтыков (1579), погиб под Венденом в 1578 г.
князь Иван Васильевич Сицкий (1582)
князь Андрей Петрович Телятевский, опричный воевода (1565, 1568—1569)
князь Иван Петрович Зубан (Зубов) Телятевский, опричный воевода (1568—1569)
князь Василий Иванович Темкин, опричный воевода (1570), казнен в 1571 г.
князь Андрей Васильевич Трубецкой (1577) князь Тимофей Романович Трубецкой (1577, 1579— 1580)
князь Федор Михайлович Трубецкой, опричный воевода (1571-1572)
князь Иван Самсонович Туренин (1583)
князь Василий Муса Петрович Туренин (1581)
князь Василий Васильевич Тюфякин (1571)
князь Никита Васильевич Тюфякин (1575—1576)
Василий Иванович Умной-Колычев, опричный воевода (1570), казнен в 1575 г.
князь Василий Дмитриевич Хилков (1579—1580)
Никифор Павлович Чепчугов-Клементьев (1581 — 1582)
князь Борис Камбулатович (Камбулович) Черкасский (1582-1583)
князь Михаил Темрюкович Черкасский, опричный воевода (1567, 1570—1572), казнен в 1571 году
князь Семен Ардасович Черкасский (1572—1573)
Федор Васильевич Шереметев (1584)
князь Андрей Иванович Шуйский (1582)
князь Василий Иванович Шуйский (1580—1581)
князь Иван Андреевич Шуйский (1565, 1567, 1571), погиб в 1573 году в Ливонии, под городом Коловерью (Лоде)
князь Иван Петрович Шуйский (1569—1570, 1577)
князь Петр Михайлович Щенятев (1565)
князь Меркул Александрович Щербатый (1583)
Никита Романович Юрьев (1572, 1575)
Иван Петрович Хирон Яковлев-Захарьин (1565, 1570), казнен в 1571 году.
Всего, таким образом, за два десятилетия немногим менее 70 человек[91]. Худо в этой ситуации то, что первых лиц оказалось слишком много. Это значит: настоящих «фаворитов», т.е. полководцев, стабильно добивающихся успеха, совсем мало, прочие же равноценны, и можно их тасовать, как колоду, в которой полсотни разномастных валетов…
Если не считать представителей «старой гвардии», вроде князя М.И. Воротынского или князя И.Д. Вельского, сгинувших в начале обозреваемого периода, кто постоянно, из года в год, руководит главными силами русской армии? В 60-х — начале 70-х годов — князь Иван Андреевич Шуйский, в 70-х годах — князья Иван Юрьевич и Василий Юрьевич Голицыны, на рубеже 70-х и 80-х — князь Михаил Петрович Катырев-Ростовский, а также князь Иван Федорович Мстиславский, единственный ветеран из «старой гвардии», уцелевший после всех опричных и постопричных репрессий, хотя неприятности были и у него. Последний в 80-х передает «вахту» сыну, Федору Ивановичу Мстиславскому. И если отец был исключительно опытен, воевал на высоких воеводских должностях еще со времен последней казанской войны, неплохо проявил себя в 1552 году, взял Феллин в 1560 году, то сын, по общему мнению, военных талантов был лишен. В самом конце «набирают ход» князь Семен Данилович Пронский да князь Тимофей Романович Трубецкой (этот еще послужит и государю Федору Ивановичу, и государю Борису Федоровичу).
Есть ли среди них хотя бы один «калика»? Иными словами, хотя бы один ничтожный — по сравнению с любым служилым аристократом — городовой сын боярский? Или хотя бы выборный сын боярский? Или хотя бы один дворянин, служащий по московскому списку, но не принадлежащий знаменитой древностью рода знати? Ничуть не бывало. Все те же «сливки». Удалось ли «худородным» отметиться хотя бы раз среди «больших воевод», то есть пробиться не в постоянные командующие, а хотя бы в полководцы-на-одну-кампанию? Случай именно один-единственный за все 20 лет[92]: Никифор Павлович Чепчугов в 1582 году ходил во главе маленькой рати из двух полков из Казани на Каму. Этот начинал из стрелецких голов и долго выслуживал высокие воеводские должности; он был, по всей видимости, по-настоящему талантливым военачальником[93]. Впрочем, его почетное воеводство никак не связано с опричниной: назначение произошло через 10 лет после ее отмены…
Среди упомянутых в этом списке опричных воевод худородных нет ни единого. Допустим, князь Дмитрий Иванович Вяземский, а также Иван Дмитриевич Плещеев-Колодка с Шуйскими, Трубецкими, Черкасскими и т.п. тягаться в знатности не могут ни при каких обстоятельствах. Но все-таки первый из них служит по княжескому списку, а второй принадлежит к видному московскому боярскому роду. Пусть они и второго сорта знать, однако для рядовых провинциальных детей боярских они недостижимы, и не все ли равно, через сколько уровней надо прыгать, чтобы сравняться с ними: через пять или через семь?
Правда, на воеводские должности, рангом стоящие ниже «больших воевод», попадали опричники с тех самых «придонных» уровней служилой старомосковской иерархии. В основном они «годовали» в порубежных крепостях и ходили в походы вторыми или третьими полковыми воеводами. Среди них следует назвать прежде всего Михаила Андреевича Безнина, Малюту Лукьяновича Скуратова-Бельского, Романа Васильевича Алферьева[94], Константина Дмитриевича Поливанова, Григория Осиповича Полева[95], Петра Васильевича Зайцева, Ивана Боушева (Бушева? Унковского?), Игнатия Борисовича Блудова, Ивана Ивановича Мятлева, Ивана Наумовича Бухарина, Афанасия Новокшенова. Но их немного, да и карьера их складывалась довольно своеобразно. В конце опричного периода опричные и земские[96]войска действовали вместе. На закате опричнины туда записали многих родовитых аристократов, потеснивших худородных «воинников» первых лет, — таким образом, у «молодых волков» уже возникли сложности. А после «закрытия» опричнины бывшим опричным командирам пришлось строить довольно сложные отношения с бывшими земскими воеводами, в большинстве случаев заведомо превосходившими их по знатности. Некоторых из прежних выдвиженцев Ивана Грозного встречаем в роли уже не воевод, а всего-навсего стрелецких голов… От начальной опричной генерации сохранили высокое служебное положение, во-первых, самые дельные и толковые люди (например, Михаил Андреевич Безнин и Роман Васильевич Алферьев). Их в итоге оказалось совсем мало. Они счастливо дослужили до царствования государя Федора Ивановича благодаря покровительству Ивана IV[97], но затем их служебный статус был резко понижен{63}. Во-вторых, сохранили позиции поднявшиеся представители служилой знати «второго сорта» (например, князь Дмитрий Иванович Хворостинин, князь Андрей Старко Иванович Хворостинин, Иван Дмитриевич Плещеев Колодка из старинного московского боярского рода), которые, при случае, могли небезуспешно поместничать[98], да и в целом не занимали позицию противостояния высшей аристократии. Этим удалось сохранить свое положение и после опричнины, и после смерти Ивана IV. Собственно, фраза о русском армейском командовании, ставшем несколько менее аристократичным, относится именно к их выдвижению.
Период, когда существовала самостоятельная опричная армия, довольно краток. Всего несколько лет. И появление когорты опричных воевод из низов военно-служилого класса — тоже явление единичное. Государи московские и прежде опричнины, и после нее приближали к себе худородных фаворитов. Иван IV в годы опричнины попытался сделать из этого систему, несколько лет «экспериментировал», а потом отказался от нее, оставив за собой право на сохранение некоторых элементов радикальной опричной схемы[99].
Собственно, демонтаж ее начался за два года до официальной отмены, еще в 1570 году, когда государь наложил опалу на видных опричников «первого призыва»: Басмановых, Плещеевых, Афанасия Вяземских. Вместо казненных, отправленных в тюрьмы и «разжалованных» опричных деятелей «старой формации» государь Иван Васильевич срочно набирает в опричную Думу и в опричное военное командование высшую знать. А после поражения от крымцев Девлет-Гирея, в мае 1571 года, опричнина более не формирует самостоятельных полевых соединений. Доверие к ней утрачено.
Причины здесь надо искать, опять-таки, в военной сфере.
Опричное войско представляло собой ударные отряды из поместной конницы, одновременно служившей для охраны государевой особы и для участия в обычных боевых действиях. Нет сведений, что на уровне тактики, вооружения, походного снаряжения опричная армия сколько-нибудь отличалась от земской. Но она управлялась по-другому, и в этом все дело.
Русская военная система, унаследованная государем Иваном IV от своего отца, Василия III, и деда, Ивана III, была исключительно сложна.
Удельные князья со своими боярами и со своими армиями. Князья, сохранившие огромные вотчины в княжествах, где их предки были полновластными хозяевами, и обладающие на этих территориях значительными судебно-административными привилегиями. Князья — крупные землевладельцы. Князья — рядовые помещики. Князья — рвань, князья — нищета, однако же способные носить оружие и ищущие карьеры при дворе великого князя. Князья, давным-давно попавшие на службу московским государям. Князья, выехавшие к Москве совсем недавно. Бояре из родов, служивших еще Даниилу Московскому или Ивану Калите. Бояре из родов, служивших совсем другим князьям, в том числе прямым противникам Московского княжеского дома в политической борьбе. Захудалые родом и богатством бояре, способные исправить личный служилый статус и положение рода только в Москве, на «дворовой» службе. Знатные в провинции дети боярские «по выбору», они же — никто или почти никто в Москве. И — самое дно, городовые дети боярские… При Василии III все это варево еще кипело и булькало, не застыв, не отвердев до конца. Иногда градус повышали выезды к Москве настоящих магнатов, например того же князя Михаила Львовича Глинского…
Многие из них еще помнили эпоху неограниченного владычества отцов и дедов на землях, впоследствии подчинившихся Москве. Некоторые (те же Воротынские, например) продолжали чувствовать себя таковыми. Привести эту гордую, своевольную, хорошо вооруженную массу к повиновению, заставить ее «честно и грозно» служить великому князю московскому было непростым делом. Иван III умело балансировал, учитывая интересы различных аристократических группировок: то жаловал, то налагал опалу, но в целом на казни был скуп. Мощь Москвы многих привлекала. Блистательный политик, Иван III умел сделать так, чтобы могущественные княжеские семейства бежали к нему, а не от него. В его времена московская армия, поразительно пестрая по своему составу, управляемая на первый взгляд хаотично, добилась тем не менее грандиозных успехов. Василий III действовал попроще, для него более свойственно было применять силу. Переезды при нем шли в обе стороны. Но при Василии III уже вовсю действовала социальная машина местничества. Автор этих строк полагает, что первому государю, позволившему «работать» местническому механизму, надо бы поставить памятник[100]. Эта мудрая система иной раз, конечно, боком выходила во время боевых действий, зато она сглаживала противоречия внутри правящего класса и позволяла находить компромиссные пути выхода из конфликтов между отдельными аристократическими группами. А компромиссные — значит, прежде всего мирные! Орава воинственной, пассионарной знати, оказавшейся в распоряжении великого князя московского, могла ведь и передраться, как это бывало, например, в Польше и Литве… А могла стать сокрушительным орудием завоеваний. Полки, состоящие из выносливых, агрессивных, спаянных единой верой служилых людей, пугали соседей России. Тем более во времена, когда страна была на подъеме и территория ее стремительно увеличивалась.
Так вот, русская военная система второй половины XV — середины XVI века напоминает мощный гоночный автомобиль с тремя рулями и сверхсложной приборной доской. Умея управляться со всеми этими нагромождениями, можно выжать из машины невиданную скорость и маневренность (Иван III). Заблокировав кое-какие возможности и научившись жесткому вождению в стиле «только наверняка», можно было преодолевать довольно сложные трассы (Василий III). Но если выпустить рули из рук, машина начнет взбрыкивать, как норовистый конь (регентство Елены Глинской). Еще того хуже — перестать вмешиваться в ее работу. Едет сама, ну и едет… Так было, в силу сложившихся обстоятельств, на протяжении детских лет Ивана Грозного. Тогда автомобиль, во-первых, постарался свернуть туда, куда ехать надо было ему, а не шоферу и, во-вторых, попробовал произвести апгрейд самого водителя.
Детские ужасы Ивана Васильевича — вовсе не плод подростковой фантазии и не признак паранойи. Мальчик ехал во взбесившемся автомобиле, автомобиль вез его прямо в логово страшных татар, заботился о водителе очень умеренно и когда тот протягивал руки к рулям, старался не дать ему власти над собой…
Ведь это страшно!
А испытывалось на прочность не стальное хладнокровие Ивана III, а нервная, артистическая натура его внука. Иван Васильевич знал, что у матери и, особенно, у отца получалось привести служилую аристократию к несравненно большей покорности, чем удавалось ему самому — до поры до времени. Понимал, что такое положение вещей для страны неестественно. Боялся влететь на сбрендившей машине в большую аварию. Но как управлять доставшимся по наследству военно-служилым классом, не знал. Просто научить было некому…
Между тем татарская опасность постоянно нависала над Московским государством. Войны с Казанью вовсе не были своего рода футбольным матчем, где одна команда заведомо сильнее другой, и игра идет в одни ворота. Сцепились два молодых хищника, обе стороны получали глубокие, исходящие кровью раны. А война на западе затихла только по одной причине: московское правительство поспешило зафиксировать результаты неудачной для России Стародубской войны. В результате обе стороны — и Москва, и Литва — остались неудовлетворенными. Таким образом, и здесь граница всегда могла трансформироваться в линию фронта. Требовалось как-то обрести контроль над ситуацией.
Хорошо же, если с этой системой справиться трудно, — мог рассуждать молодой Иван Васильевич, — не заменить ли ее на другую, более простую? А значит, и более управляемую. Вместо поисков баланса интересов, лавирования, четкого выбора, в какой момент и в каком направлении стоит использовать всю мощь военной машины, следует прежде всего установить другую… «приборную панель». И очень желательно оставить один руль вместо трех… Новая система должна основываться на двухчастном принципе администрирования: отдать приказ — получить отчет о выполнении. Не ломать голову о том, кто и как отнесется к тому или иному заданию, кого задуманный план может задеть, а кто охотно его поддержит, не выстраивать из года в год «домены» союзного большинства в аристократической среде, не оставлять «деталям» машины некоторую самостоятельность, а просто — приказать и выслушать потом отчет о выполнении. Пусть будут почти неодушевленные «винтики», лишь бы система упростилась до того, чтобы ею мог управлять даже полный идиот в состоянии расслабленности. Как бы это сделать? И можно ли в принципе сделать это, не сокрушив прежнюю, традиционную систему?
Сначала государь Иван Васильевич идет путем компромисса. Во время последней войны с Казанью он учреждает стрелецкое войско, абсолютно независимое от служилой аристократии и призванное прежде всего охранять царскую особу. По разным подсчетам, в царствование Ивана Васильевича стрелецкий корпус достиг численности 20 000—30 000 бойцов. Судя по многочисленным известиям иностранцев (Ф. Тьеполо, Дж. Горсей, Г. Штаден), государь постоянно нанимал на службу выходцев из Европы — в качестве солдат, артиллеристов, младших командиров, военных инженеров и инструкторов. Русские источники подтверждают участие целых отрядов иностранных наемников в боевых действиях. На западном фронте Иван Грозный постоянно использовал служилых татар. Все это были силы, которыми принципиально легче управлять, нежели дворянским ополчением. Однако последнее было ядром вооруженных сил, да и самой боеспособной их частью…
Удается также чуть-чуть ограничить местничество, приведя его в какую-то систему указом 1550 года о старшинстве воевод в полках. Вот текст указа в двух редакциях[101]:
«I. Того же лета [1550 год] месяца июля в… день царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил с отцом своим Макарьем митрополитом, и з братом со своим Юрьем Васильевичем, и со князем Володимером Ондреевичем и з бояры своими, где кому быти случится на службе бояром и воеводам по полком: в большом полку быти большому воеводе; а передового полку и правые руки и левые и сторожевому полку первым воеводам менши быть большого полку первого воеводы; а хто будет другой воевода в большом полку, и до того другова воеводы правые руки большому воеводе дела и счету нет, быти им без мест; а передовому полку и сторожевому первым воеводам правые руки быти не менши; а левой руке воеводам быти не менши передового полку и сторожевого первых воевод; а быти левой руке воеводам менши правые руки. А князем и дворяном болшим и детем боярским быти с бояры и с воеводами большими и с легкими воеводами на цареве и великого князя службе без мест. И в Розряд государь велел записати, что боярским детем и дворяном большим случится где быть на государеве службе с воеводами не по их отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет».
«II. Лета 7058 [1550/1551 г.] приговорил царь государь с митрополитом и со всеми бояры. В полкех быти княжатам и детем боярским с воеводами без мест, ходити на всякие дела со всеми воеводами для вмещения людем, а в том отечеству их уничижения нет. Которые будут впредь в боярех или в воеводах, и они считаются по своему отечеству. А воеводы в полкех: большой полк, да правая рука, да левая рука по местом, а передовой полк да сторожевой полк менши одного в большом полку большого воеводы, а до правой руки и до левой руки, и в большом полку до другого воеводы дела нет, с теми без мест; хто с кем в одном полку послан, тот того и менши. А воевод государь прибирает, розсуждая их отечество и хто того дородитца, хто может ратный обычай содержати»{64}.
Иван Семенович Пересветов, русский публицист конца 40-х годов XVI столетия и, по словам А.А. Зимина, «горячий защитник прав и прерогатив “воинников”-дворян»{65}, советует царю поставить на дворян и стрельцов, как на ядро армии, а также, по возможности возвышать наиболее мужественных из них до командных должностей. Государь пытается обеспечить поместьями «избранную тысячу» дворян, способных стать основой для нового, легкоуправляемого войска[102]. Ученые спорят о том, удалось ли решить эту задачу в полной мере, но, во всяком случае, хотя бы часть «тысячников» землю получила. В «избранной тысяче» уже виден прообраз опричнины: ведь и опричнина начнется с назначения «…князей и дворян, и детей боярских дворовых и городовых, 1000 голов», т.е. формирования нового командирского корпуса{66}. Хорошо было бы заменить капризных и самолюбивых «княжат» на небогатых дворян, кушающих из рук у государя![103] Или хотя бы на выходцев из старинных боярских родов, веками служивших московским правителям, а в середине XVI столетия претерпевших немалое утеснение от тех же «княжат». Управляемость войсками, надо полагать, резко повысится…
Выйдя живым и невредимым из кампании 1552 года, Иван Васильевич понимает: «обойти», «обмануть» старую систему не удастся. Можно либо смириться с нею, либо приняться давить на нее, либо разрушить ее совсем и на этом месте построить новую…[104]
В результате государь довольно долго пытается действовать методами Василия III, оказывая давление на служилую аристократию. Та в ответ затевает бесчисленные побеги. «Жесткий режим» ее не устраивает. Но не устраивает он и царя: по всей видимости, он боится, что руль опять вырвется из его рук. 1563 год, полоцкая победа, вроде бы примиряет Ивана IV с общим положением дел. Однако следующий, 1564 год, с его поражениями, изменами, а значит, яркой демонстрацией слабостей военной машины, вызывает у государя нервный срыв. И тогда он, наконец, начинает свой «исторический эксперимент»: вырывает из страны и военно-служилого сословия фрагмент, чтобы в рамках этого фрагмента создать более простую, более управляемую и в конечном итоге более эффективную систему. Набирает для нее людей, не имеющих столь высокого социального статуса, как величайшие семейства «княжат», а значит, по идее, в большей степени зависимых от престола. Наделяет себя неограниченной властью над этим войском, а само войско — неограниченной властью над страной.
Система действительно оказалась намного проще предыдущей, сохраненной в земщине. Да и более управляемой, хотя и не настолько, насколько рассчитывал Иван IV. Но только — вот беда! — эффективность ее оказалась невелика. За опричными боевыми формированиями числится только одна самостоятельная, вне взаимодействия с земскими войсками, победа над неприятелем: в 1570 году великий полководец князь Д.И. Хворостинин разгромил крымцев под Зарайском. Добавить нечего. Опричное войско годилось для охранных целей и было незаменимым инструментом репрессий. Но даже во время борьбы с земскими заговорами, даже во время грабительского похода на Новгород и Псков в 1570 года[105], опричники покидали царя, предпочитая кровавой, страшной, но все же службе личное обогащение. В записках немца-опричника Генриха Штадена есть очень характерное место: царь после этого похода делает в Старице смотр опричному войску, желая знать «…кто остается при нем и крепко его держится»{67}. И «мемуары» Штадена, и записки других иностранцев об опричном времени изобилуют свидетельствами многочисленных злоупотреблений опричных должностных лиц, не меньше заботившихся о собственном обогащении, чем старая, аристократическая администрация, но более «голодных», а значит, менее сдержанных в методах и масштабах вымогательств, взяточничества, открытого грабежа. При этом они осмеливались оставлять Ивана IV в его походах…
Но это, так сказать, цветочки.
Ягодки подкинула очередная военная кампания в Ливонии. Летом 1570 года русское войско, усиленное отрядами ливонского короля Магнуса, союзника Ивана IV, осадило Таллин (Ревель). В распоряжении воевод была отличная артиллерия и значительные по численности полки. Однако и город оказывал упорное сопротивление. Через два месяца после начала осады из России подошло подкрепление — опричный корпус. Его присутствие в осаждающей армии дало эффект, прямо противоположный ожидавшемуся. В хронике таллинского пастора Бальтазара Рюссова, в частности, сообщается: «Этот отряд гораздо ужаснее и сильнее свирепствовал, чем предыдущие, убивая, грабя и сжигая. Они бесчеловечно умертвили много дворян и простого народу». В итоге решимость защитников города лишь возросла, а мирные переговоры с ними потеряли всякий смысл. Проведя всю зиму под стенами неприступной крепости, русские полки в марте 1571 года вынуждены были отступить.
Воеводы, виновные в срыве Ревельской операции, под арестом отправились в Москву.
Тогда же немец-опричник Таубе пытается поднять мятеж в Юрьеве-Ливонском.
Еще хуже складывались дела на южном фронте.
Во второй половине 1560-х годов опричные полки не раз выходили на юг, «по крымским вестям»: напряженность в отношениях с Крымом не убывала. Но в боевых действиях они принимали участие довольно редко. Уже осенью 1565 года опричный корпус был выдвинут под Волхов, где стоял с войсками крымский хан Девлет-Гирей. Однако тогда дело не пошло дальше авангардных стычек. Впоследствии войско опричников отправляли в Одоев, Мценск, Калугу, на Хотунь и т.д. В 1569 году турки совместно с крымцами и ногаями угрожали Астрахани, но взять город и разбить русских воевод не смогли. В 1570 году татары совершили несколько дерзких набегов малыми силами. Как уже говорилось, сам царь, встревоженный обстановкой на юге и уверенный в силе своей новой армии, ненадолго выезжал к Серпухову.
Гром грянул весной следующего года. Разразившаяся тогда военная катастрофа пошатнула здание опричнины. Как, впрочем, зашаталась и вся Россия…
Девлет-Гирей явился на южные «украины» Московского государства с большим войском и полный решимости разорить страну, а еще того лучше — погубить ее. Между тем Москва равноценных сил выставить в поле не могла: значительная часть русских войск занята была в Ливонии, да и поредели полки Ивана IV после многолетней войны на два фронта…
Более того, действия наличных сил трудно было скоординировать: командование-то делилось на опричное и земское.
С русской стороны к татарам перебегают дети боярские, напуганные размахом опричных репрессий. И один из перебежчиков показывает крымцам дорогу в обход оборонительных позиций русской армии. Другой сообщает, сколь малы силы, противостоящие хану. Девлет-Гирей переходит Оку вброд, и, сбивая наши заслоны, стремительно движется к Москве. Опричным отрядам не удается затормозить его наступление.
Царь с частью опричного корпуса отступает к Москве, оттуда к Александровой слободе, а из слободы — аж в Ростов. В ту несчастную весну все идет неудачно, все не работает, все происходит не по плану. К тому же Московское государство ослаблено: страну терзает моровое поветрие, два года засухи привели к массовому голоду. Людей, которых можно поставить в строй, катастрофически не хватает.
Иван Васильевич испытывает настоящее потрясение. В 1552 году под Казанью он боялся по милости собственных воевод попасть к неприятелю в руки. Теперь старые его страхи оживают и материализуются. Неожиданно для Ивана IV татары оказываются в непосредственной близости от его ставки. Никто не привел государю «языка». Никто не позаботился о ведении сторожевой службы. Прежде всего, допустили странное легкомыслие командиры передового и сторожевого полков, на которые возлагались обязанности авангардных частей армии. Опричные воеводы проходят мимо царя с полками в растерянности, не зная, что предпринять. Иван IV опасается, как бы кто-нибудь не взял его коня под уздцы, как тогда, под Казанью, и не привел его вместе со всадником к Девлет-Гирею. Отступление кажется государю меньшей из бед. Так поступали многие князья Московского дома, застигнутые татарским набегом врасплох. Курбский в третьем послании Ивану Грозному напишет: «…мог бы ты… вспомнить… какие язвы были Богом посланы — говорю я о голоде и стрелах поветрия (мора), а напоследок и о мече варварском, отомстителе за поругание закона Божьего, и внезапное сожжение славного града Москвы, и опустошение всей земли Русской, и, что всего горше и позорнее, — царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде бывших храбрыми; некие здесь нам говорят, будто бы тогда, хоронясь от татар по лесам, с кромешниками своими, едва ты от голода не погиб!»{68} Для Штадена тоже все понятно: «…великий князь вместе с воинскими людьми — опричниками — убежал в незащищенный[106] город Ростов». Но в той ситуации государю, вне зависимости от того, испытывал ли он необоримый ужас, или был способен преодолеть его, не следовало рисковать жизнью. Его гибель могла ввергнуть Московское государство в еще горшие неприятности. Другое дело — опричное войско. Стоило ли значительную часть его уводить с собой, оголяя оборону Москвы, и без того скудную? Бегство царя в обстоятельствах 1571 года логично и понятно. Но бегство войска и непонятно, и нелогично[107]. Совершенно также непонятно и то, почему Иван Васильевич не остановил опричный корпус: если бы дело было в одном только страхе, если бы царь вел себя на протяжении всей жизни как патологический трус (чего не было), то и в этом случае не находит объяснений желание уйти с ненадежным воинством в неукрепленный город, в то время как из-под Таллина в Россию возвращалась первоклассная полевая армия. Или же сами опричники не очень-то соглашались вернуться и дать бой крымскому хану? На эти вопросы нет здравых и точных ответов.
В отсутствие опричного корпуса земские воеводы попытались организовать оборону столицы. Им удалось собрать полки под Москвой незадолго до подхода Девлет-Гирея. Во главе земской рати стояли опытные и храбрые военачальники: князь Иван Дмитриевич Вельский (старший из воевод), князь Иван Федорович Мстиславский и князь Михаил Иванович Воротынский. Оставленной для защиты столицы частью опричного корпуса руководил князь Василий Иванович Темкин. Казалось, положение города небезнадежно. Вельский контратаковал татар и, видимо, добился успеха: «…выезжал против крымских людей за Москву реку на луг за болото и дело с ними делал»{69}, а по другим источникам даже «забил» крымцев «за болото, за луг». Как видно, земская рать изготовилась драться до последнего. Вот уж, воистину, «отступать некуда, позади — Москва!».
К сожалению, во время атаки на татарское войско главнокомандующий князь Вельский получил ранение. Он был отвезен на свой двор. Его отсутствие, по мнению Р.Г. Скрынникова, внесло известную дезорганизацию в действия обороняющихся{70}.
Не умея взять город, Девлет-Гирей велел запалить его. Он намеревался разграбить все, что не смогут защитить русские воеводы, занятые тушением пожара. Татары подожгли сначала царскую летнюю резиденцию в Коломенском, а на следующий день — московские посады. Пожар обернулся огненной бурей, настоящим бедствием. Результат превзошел все ожидания хана. Огонь стремительно и неотвратимо убивал город. Земские ратники оставались в Москве. Не покидая позиций, они перемогались с крымцами посреди пылающих улиц. Тогда погиб боярин Михаил Иванович Вороной-Волынский и раненый князь Вельский, а также множество наших воинов. Девлет-Гирей так и не смог занять город. Ужаснувшись зрелищем разбушевавшейся стихии, понеся значительные потери, татары отошли прочь[108], прихватив с собой трофеи и полон. К тому времени в русской столице армии уже не было — лишь несколько сотен чудом уцелевших детей боярских…
Небольшой полк Воротынского стоял на отшибе и уцелел. Князь преследовал крымцев, однако, по малолюдству своего отряда, не сумел отбить пленников. Орда ушла, по дороге разорив Рязанщину.
Невозможно без ужаса и печали читать источники, повествующие о смерти великого города в огне. Блистательная Москва, многолюдная, богатая, защищенная прочными стенами, украшенная храмами, кипящая на торгах, грозная своими полками, окруженная кольцом тихих и славных обителей, отчего ты пала? Отчего допустили к тебе врага? Отчего была ты венценосной владычицей, а стала грязной нищенкой? Отчего царь и его слуги допустили бесчестие православной столицы? Невозможно забыть этой боли и этого позора, и только Богу, наверное, легко простить такой грех!
У нас нет надежных данных ни о населении Москвы в XVI столетии, ни о потерях, нанесенных русской столице в несчастный год Девлет-Гиреева нашествия. Но записки иностранцев, побывавших в Москве тогда или несколькими годами позднее, дают общее представление о масштабах катастрофы.
Вот письмо неизвестного англичанина, ставшего свидетелем событий 1571 года: «12 мая в день Вознесения крымский хан пришел к городу Москве с более чем 120 тысячами конных и вооруженных людей[109]. Так как царские воеводы и воины были в других городах как охрана, а москвичи не приготовлены, то названные татары зажгли город, пригороды и оба замка. Все деревянные строения, какие там находились, были обращены в пепел, и я убежден, что Содом и Гоморра не были истреблены в столь короткое время… Утро было чрезвычайно хорошее, ясное и тихое, без ветра, но когда начался пожар, то поднялась буря с таким шумом, как будто обрушилось небо, и с такими страшными последствиями, что люди гибли в домах и на улицах… На расстоянии 20 миль в окружности погибло множество народа, бежавшего в город и замки, и пригороды, где все дома и улицы были так полны народа, что некуда было притесниться; и все они погибли от огня, за исключением некоторых воинов, сражавшихся с татарами, и немногих других, которые искали спасение через стены, к реке, где некоторые из них потонули, а другие были спасены… Большое число (людей) сгорело в погребах и церквях. Среди них, между прочим, 30 человек в погребах Английской компании, из них трое служителей сэра Томаса Бентама; умерли также Томас Филд, Джон Уересли, ремесленники Томас Чефи, Томас Карвер, аптекарь и некоторые другие… Это великое и ужасное и внезапное разрушение, постигшее москвитян, сопровождалось сильной невиданной бурей, а под конец погода снова прояснилась и стала тихой, так что люди могли ходить и видеть великое множество трупов людей и лошадей, не говоря уже о тех, которые обращены были в пепел. Молю Бога не видеть впредь подобного зрелища. В ночь после того, как собака-татарин учинил это злодейство, он бежал со всею ратью к реке Оке… Число погибших при разорении Москвы показывают такое громадное, что я не решаюсь передать его. Скажу только, что из окрестностей Москвы на 60 миль и более и восьми человекам не удалось спастись в городе… В два месяца едва ли будет возможно очистить от человеческих и лошадиных трупов город, в котором остались теперь одни стены, да там и сям каменные дома, словно головки водосточной трубы…»{71}
Вот известие из Польши (лето 1571 года): «…прибыл татарский посол с сообщением о поражении, нанесенном Московиту, чтобы получить дань, и говорил следующее: что они разорили, сожгли и разграбили (территорию) около 60 лиг в длину и 45 в ширину во владениях Московита; что мертвыми пало, может быть, около 60 тысяч (людей) того и другого пола; затем взято около 60 тысяч лучших пленных; что они (татары) дошли до Москвы, сожгли весь город и замок, куда собралось много народу и, должно быть, задохнулись в дыму; что около 120 штук пушек утонули в реке Москве, не могли их увезти; что Московит удалился в Александрову слободу, отстоящую на 18 миль, и остался там у своей казны в весьма безопасном месте, так как там находится большое озеро, окружающее его…»{72}
Генрих Штаден, современник событий, офицер опричного войска, скорее всего, оказался в сожженной Москве вскоре после отхода Девлет-Гирея. Он, в частности, пишет: «…за шесть часов выгорели начисто и город, и Кремль, и Опричный двор, и слободы. Была такая великая напасть, что никто не мог ее избегнуть!.. В живых не осталось и трехсот боеспособных людей. Колокола у храма и колокольня, на которой они висели, [упали], и все те, кто вздумал здесь укрыться, были задавлены камнями. Храм вместе с украшениями и иконами, был снаружи и изнутри выжжен пламенем; колокольни также. И остались только стены, разбитые и раздробленные. Колокола, висевшие на колокольне посреди Кремля, упали на землю и некоторые разбились. Большой колокол упал и треснул. На опричном дворе колокола упали и врезались в землю. Также и все [другие] колокола, которые висели в городе и вне его на деревянных [звонницах] церквей и монастырей. Башни или цитадели, где лежало пороховое зелье, взорвались от пожара — с теми, кто был в погребах; в дыму задохнулось много татар, которые грабили монастыри и церкви вне Кремля, в опричнине и земщине… Одним словом, беда, постигшая тогда Москву, была такова, что ни один человек в мире не смог бы того себе и представить… Татарский хан приказал поджечь весь тот хлеб, который еще необмолоченным стоял по селам великого князя… Татарский царь Девлет-Гирей повернул обратно в Крым с сотнями тысяч (viel hundert tausent) пленников и положил в пусте у великого князя всю Рязанскую землю»{73}.
Джером Горсей, агент Московской компании англичан, прибывший в Москву в 1573 году, доносит в своих записках несколько страшных подробностей Московского разгрома: «Река и рвы вокруг Москвы были запружены наполнившими их тысячами людей, нагруженных золотом, серебром, драгоценностями, ожерельями, серьгами, браслетами и сокровищами и старавшихся спастись в воде, едва высунув поверх нее головы. Однако сгорело и утонуло так много тысяч людей, что реку нельзя было очистить от трупов в течение двенадцати последующих месяцев, несмотря на все предпринятые меры и усилия. Те, кто остался в живых, и люди из других городов и мест занимались каждый день поисками и вылавливанием на большом пространстве [реки] колец, драгоценностей, сосудов, мешочков с золотом и серебром. Многие таким путем обогатились. Улицы города, церкви, погреба и подвалы были до того забиты умершими и задохнувшимися, что долго потом ни один человек не мог пройти [мимо] из-за отравленного воздуха и смрада… Крымский царь со своими войсками наблюдал этот большой пожар, удобно разместившись в прекрасном Симоновом монастыре на берегу реки в четырех милях от города, захватив награбленное и отобрав богатство у тех, кто успел спастись бегством от пожара. Хотя пожар города принес им мало пользы, они удовлетворились этим, возвращаясь назад с пленными и с тем, что успели награбить…»{74}
Антонио Поссевино, папский посол, побывавший в России в 1581—1582 годах, слышал о былом величии Москвы: «Конечно, и при нынешнем государе [Иван Грозный. — Д. В.] Москва была более благочестива и многочисленна, но в 70-м году нынешнего века она была сожжена татарами[110], большая часть жителей погибла при пожаре, и все было сведено к более тесным границам. Сохранились следы более обширной территории в окружности, так что там, где было 8 или, может быть, 9 миль, теперь насчитывается уже едва 5 миль»{75}.
Даже к 1588 году, когда в Московское государство приехал английский дипломат Джильс Флетчер, столица страны еще не залечила страшные раны: «Число домов, как сказывали мне, во всем городе, по подсчетам, сделанным по царскому указу (незадолго до сожжения его крымцами), простиралось до 41500. Со времени осады города татарами и произведенного ими пожара (что случилось в 1571 году) земля во многих местах остается пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особенности же на южной стороне города…»{76}
Расправа с видными деятелями опричнины, непосредственно виновными в московском кошмаре, произошла моментально. Как пишет Р.Г. Скрынников, «…в ближайшее время после майской катастрофы были казнены опричные бояре, подставившие монарха под удар противника и допустившие уничтожение Опричного двора в Занеглименье — второй воевода передового полка, помощник Черкасского, боярин князь Василий Темкин-Ростовский с сыном, первый воевода сторожевого полка Василий Петрович Яковлев-Захарьин, опричный кравчий Федор Салтыков»{77}. И, разумеется, нашел свою смерть главный виновник поражения — князь Михаил Темрюкович Черкасский. Между ним и царем и до того установились неприязненные отношения. Тот же Скрынников намекает на возможность осознанной и заранее спланированной Черкасским мести за смерть жены и сына, убитых по приказу Ивана Грозного. Казнили еще нескольких влиятельных опричников, в том числе воеводу Петра Васильевича Зайцева из захудалого боярского рода[111]. По свидетельству немцев-опричников Таубе и Крузе, вместе с В.П. Яковлевым насмерть забили палками его брата, земского боярина И.П. Яковлева, воеводствовавшего в несчастливом Таллинском походе. Обвинили было в измене крупнейшего политического деятеля земщины боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского, но, видимо, Иван Васильевич не решился сносить голову фигуре такой величины — последнему из воеводской «старой гвардии» начала царствия, столпу государства. Тем более что Мстиславский ни от кого не бегал, а стоял за Москву вместе с покойным Вельским. Или, по мнению ряда историков, само расследование «измены» князя Мстиславского, которого демонстративно заставили признать вину, а потом быстро простили, было своего рода инсценировкой: не одним же опричникам быть виноватыми…{78}
Но все эти расследования не должны заслонять одного факта: за московский разгром 1571 года ответственен прежде всего сам царь. Людей не хватило для обороны? А где они, эти люди? Страна еще не запустела, и есть откуда взять людей. В Ливонии главные полки? Почему они оказались в Ливонии, если вот уже несколько лет над столицей России нависает угроза с юга?[112] Почему она вообще идет эта война за чужие земли, если положение собственной столицы небезопасно? Воеводы оказались слабы? Но кто поставил этих воевод? Изменники провели войска крымского хана в обход русской армии? А откуда они взялись эти изменники? Почему их так много? Из-за чего явилось в них такое рвение? Перед лицом христианской общины за тактические просчеты отвечают военачальники, но за стратегическое поражение, столь страшное, столь унизительное, — только сам государь. Ничего подобного не было со времен Дмитрия Донского, со времен Тохтамышевой рати 1382 года. Государь Василий Дмитриевич, располагавший намного меньшими силами, чем Иван Грозный, не отдал столицу Едигею, подступавшему под самые ее стены. При Иване III враг даже издалека не угрожал ей. А Иван IV почему-то позволил врагам креста нанести удар в самое сердце державы…
Царь потерпел поражение, а опричная военная система не оправдала ожиданий царя. Более того, она чуть не привела его к гибели. Поэтому и свернута была довольно быстро. Сначала были «задвинуты» выдвиженцы, не проявившие ни достаточной преданности, ни достаточного искусства в военном деле. Потом пришлось отказаться и от системы в целом. К этому подтолкнула царя Ивана Васильевича вторая военная гроза на юге — события 1572 года.
Девлет-Гирея ждали и готовились к новому вторжению. Иван IV готов был поступиться Астраханью и дать хану значительные «поминки», т.е. фактически дань. Однако хан, почувствовавший запах победы, требовал, помимо Астрахани, еще и казанских земель, в противном случае был настроен разорить все Московское государство.
Побережье Оки по приказу царя укреплялось. Весной в Коломне прошел смотр полков. Опричные и земские отряды объединялись под общим командованием нелюбимого государем Михаила Ивановича Воротынского. Опальный князь был идеальным главнокомандующим русского юга: опытный и храбрый человек, он отлично знал все особенности обороны «на берегу» и даже составил нечто вроде устава пограничной службы. Князь Воротынский отличился еще под Казанью в 1552 году, а полки начал водить и того раньше. Видимо, его назначение стало для Ивана Васильевича вынужденной мерой, зато для дела — наилучшим выбором.
У Воротынского под командой оказался сильный воеводский состав: Иван Васильевич Шереметев-Меньшой, князь Никита Романович Одоевский и особенно второй воевода в передовом полку князь Дмитрий Иванович Хворостинин[113]. С русскими полками вышел также отряд иностранных наемников под командой Юрия Францбека{79}. Скорее всего, участник сражения, Генрих Штаден, вышел в поход вместе с солдатами Францбека.
Наконец, в июле 1572 года Девлет-Гирей появился в Поочье[114]. Армия крымского хана, по разным оценкам, насчитывала от 40 000 до 100 000 воинов. По подсчетам Р.Г. Скрынникова, русские воеводы могли противопоставить интервентам не более 30 000 бойцов, но доказательно можно говорить лишь о 20 000 с небольшим бойцов{80}.[115] Но и эта оценка может быть завышенной. Штаден пишет о том, что крымцы «расписали» между собой русские земли, — кто чем будет владеть. Последнее вызывает сомнения: откуда бы опричнику, не принадлежавшему к «дворовой» верхушке, знать планы крымского хана? Скорее всего, в записках Штадена отразились устрашающие слухи, наполнившие русское общество…[116]
Впрочем, еще одного удара, подобного прошлогоднему, вероятно, могло бы хватить для полного государственного крушения России, разделения страны и низведения ее остатков до роли третьего плана в политическом театре Восточной Европы. Татарское вторжение 1572 года угрожало повтором Батыева разорения, случившегося более чем за 330 лет до того.
И Русская цивилизация бросила последнюю горсть защитников на направление главного удара. Терять им было нечего. В случае разгрома — смерть. В случае отступления — смерть, поскольку татар больше некому было останавливать… Свет клином сошелся на православном воинстве, насмерть вставшем против Девлет-Гирея в обезлюдевших южных землях. Если бы они тогда дрогнули, если бы они тогда побежали, быть может, 1572 годом от Рождества Христова и закончилась бы история России.
Сначала крымцев счастливо отбили от переправ через Оку. Но потом им все же удалось перейти реку вброд недалеко от Серпухова, уничтожив сторожевой отряд. Русские заслоны не могли сдержать наступление татар, устремившихся к Москве. У воеводы Федора Васильевича Шереметева не выдержали нервы, и он бежал с поля боя, бросив оружие… Но крымцев неутомимо преследовал князь Дмитрий Хворостинин, выбирая удобный момент для удара. Наконец, он напал на арьергард Девлет-Гирея и рассеял его. Хану пришлось приостановить движение к Москве, вступить в бой с полком Хворостинина, а в это время князь Воротынский развернул полевой «гуляй-город» — передвижную крепость из деревянных щитов на возах.
Итак, дорогу на русскую столицу перекрыли основные силы армии Воротынского, расположившиеся в районе села Молоди. Первый приступ татарский был отбит огнем из орудий и пищалей. Теперь судьба сражения, Москвы и всей державы должна была решиться на поле у «гуляй-города». Поэтому крымцы в течение нескольких дней, то устраивая передышки, то вновь тараня русские позиции, с остервенением штурмовали нашу крепость. Атакующие несли колоссальные потери от огня государевых ратников, однако их решимость победить не ослабевала.
Штаден сообщает: «Мы захватили в плен главного военачальника крымского царя Дивей-мурзу и Хаз-Булата. Но никто не знал их языка. Мы [думали], что это был какой-нибудь мелкий мурза. На другой день в плен был взят татарин, бывший слуга Дивей-мурзы. Его спросили — как долго простоит [крымский] царь? Татарин отвечал: что же вы спрашиваете об этом меня! Спросите моего господина Дивей-мурзу, которого вы вчера захватили. Тогда было приказано всем привести своих полоняников. Татарин указал на Дивей-мурзу и сказал: “Вот он — Дивей-мурза!” Когда спросили Дивей-мурзу: “Ты ли Дивей-мурза?”, тот отвечал: “Нет! Я мурза невеликий!” И вскоре Дивей-мурза дерзко и нахально сказал князю Михаилу Воротынскому и всем воеводам: “Эх вы, мужичье! как вы, жалкие, осмелились тягаться с вашим господином, с крымским царем!” Они отвечали: “Ты [сам] в плену, а еще грозишься”. На это Дивей-мурза возразил: “Если бы крымский царь был взят в полон вместо меня, я освободил бы его, а [вас], мужиков, всех согнал бы полоняниками в Крым!” Воеводы спросили: “Как бы ты это сделал?” Дивей-мурза отвечал: “Я выморил бы вас голодом в вашем гуляй-городе в 5—6 дней”. Ибо он хорошо знал, что русские забивали и ели своих лошадей, на которых они должны выезжать против врага. Русские пали тогда духом»{81}.
В русском лагере действительно не хватало воды и пищи. Однако следующая попытка штурмовать «гуляй-город» встретила мощный контрудар. В завязавшемся бою татар опять отбросили, положив нескольких военачальников{82}. Девлет-Гирей получил известие о движении крупных сил князю Воротынскому на подмогу. По всей видимости, русское командование подкинуло «фальшивую грамоту», — никаких резервов для спасения Москвы не было. Все, что можно, заранее стянули под команду Воротынского. Однако крымский хан мог этого и не знать. Угроза нового большого сражения, видимо, подтолкнула его к назревшему решению: отступать…[117]
Так была спасена страна.
Николай Михайлович Карамзин пишет: «Сей день принадлежит к числу великих дней воинской славы: россияне спасли Москву и честь; утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань; отомстили за пепел столицы и если не навсегда, то по крайней мере надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли…»{83}
Это далось ценой необыкновенной стойкости, мужества и больших потерь. Тот же Штаден пишет: «Все тела, у которых были кресты на шее, были погребены у монастыря, что около Серпухова. А остальные были брошены на съедение птицам… Все русские служилые люди получили придачу к их поместьям, если были прострелены, посечены или ранены спереди. А у тех, которые были ранены сзади, убавливали поместий, и на долгое время они попадали в опалу…»{84}
Опыт боевых действий против Девлет-Гирея показал: даже если соединить опричные и земские полки, этих сил едва-едва хватает, чтобы отразить крымцев. Дальнейшее разделение страны и, что еще опаснее, армии в любой момент могло вновь привести к катастрофическим последствиям.
Государь Иван Васильевич вплоть до полного отражения крымцев сидел в Новгороде Великом, пережидая бурю. Затяжной характер боев на юге, недостаток сил, и, напротив, удачный пример сотрудничества опричных воевод с земскими показывали со всей очевидностью: опричнина как военная система бессмысленна и опасна. Ее эффективность оказалась иллюзорной, зато вред — явным. Это, по всей видимости, нетрудно было понять хоть в Москве, хоть в Новгороде. Достаточно было почитать «отписки»[118] воевод, по обязанности составлявшиеся для Разрядного приказа и самого государя.
Между тем царь замышлял новый взрыв военной активности. Ему требовалось сплочение войска и, в частности, командного состава. В казанских землях опять бушевало восстание. Планировался новый большой поход в Ливонию. После поражения Девлет-Гирея многое показалось возможным, и государь вновь принялся азартно тратить полки в мясорубке большой войны… Но опричнина была в 1572 году отменена. Видимо, осенью. Большинство историков грозненской эпохи сходится на том, что главным поводом для отказа от нее стали военные события 1571—1572 годов; автору этих строк остается лишь присоединиться к сему здравому мнению: война породила опричные порядки, война же их и дискредитировала[119].
Все-таки боярско-княжеская знать представляла собой настоящую «расу господ», выпестованную на протяжении многих поколений. С детства ее представители проникались ролью правящего сословия, рано узнавали от родителей основные принципы современной военно-административной практики, могли воспользоваться опытом предков. Узкий круг служилой аристократии продуцировал лучших в России управленцев и военных командиров. Попытка заменить их выдвиженцами из нижних слоев военно-служилого класса потерпела крах: не тот материал поставляла дворянская масса, качеством пониже, попроще… Можно ведь и кухарку заставить управляться с государственными делами, но они идут существенно лучше, когда ими занимается тот, кого сама жизнь предназначила для этого. Русская служилая аристократия XVI столетия, энергичная, разворотливая, выносливая, мужественная, готовая к самопожертвованию[120] дает сто очков вперед высшему российскому дворянству, скажем, первой половины XIX века. Люди времен Александра I успели привыкнуть к тому, что им можно не служить на великого государя, не готовить себя к тяготам военной работы или грузу администрирования, изнежились, стали стремительно превращаться в обломовых… Дворянство восприняло право на «вольность», дарованное ему матушкой Екатериной II, как великое благо; а с него начинается история погибели наших дворян. Сначала они стали социально ненужным элементом, — что полезного эти люди умели делать, кроме царской службы? — а потом утратили само умение служить. Лучших из них, самых твердых, самых отважных, прикончили буденновские сабли. Всех прочих погубила вольность… Но в грозненскую эпоху о ней и речи быть не могло. Первая и самая сладкая вольность удельного периода потрескивала косточками в страшной мясорубке, а на вторую, либеральную и просвещенную, рассчитывать тогда не приходилось никому. В этих условиях наша знать была очень хороша, и Россия должна бы ею гордиться; но все, что существовало ниже ее уровня, хотя бы и среди «служилых людей по отечеству», заменить высшую знать на ее месте явно не могло. Конечно, она была несколько избалована обстоятельствами «боярского правления», лелеяла проекты реорганизации центральной власти, проявляла своеволие и даже принималась строить заговоры. Капризы обходились ей дорого, Иван III, Василий III и — до поры до времени — Иван IV ставили ее на место адекватными методами. Твердость государевой руки была благодетельна: аристократия, так же, как и любой другой социальный слой, участвует в общественном разделении труда и не может иметь монополии на власть. Во всяком случае, вся полнота военно-политической власти в Русской православной державе принадлежит монарху, а не аристократической верхушке, как бы ни манили ее привилегии польско-литовской магнатерии, как бы ни хотелось ей сделать из монарха пожизненного премьер-министра. При всем том наша знать никак не заслуживала ни опричного террора, ни страшного унижения грозненской эпохи. И, главное, не достойна была она разрушения той социальной машины, которая составляла самое суть ее иерархического устройства. Иван Васильевич решил по одному своему произволу поднимать из дворянских низов военачальников, дипломатов, судей и равнять их с высшей знатью[121]. Но военное командование и административная служба составляли смысл социальной работы аристократии, и, следовательно, у нее были все права претендовать на рекрутирование управленцев только из ее среды и допускать противное лишь в виде исключения, малым ручейком, в честь очевидных заслуг перед державой…
Итак, Иван IV попытался эту систему сломать и на ее место поставить новую. В начале 70-х годов XVI столетия он оказался в ситуации, когда армии его были разгромлены, страна пришла на грань мощного социального взрыва, грозный неприятель добрался до столицы, а новая система не давала монарху возможности справиться со всеми этими напастями. Опричнина «закрывается», служебно-родовая организация правящего класса сохраняется, государь взамен получает право косметических вторжений в его структуру[122], но более никогда не посягнет на фундаментальные свойства старой системы…
«Когда эта игра была кончена, — пишет Штаден, — все вотчины были возвращены земским, так как они выходили против крымского царя. Великий князь долее не мог без них обходиться. Опричникам должны были быть розданы взамен этого другие поместья»{85}. Курсивом здесь выделено главное: без собственной знати, организованной именно так, как сложилось еще при Василии III, Иван Васильевич не мог обходиться. Ему оставалось только признать это.
Однако всякий эксперимент и всякий поворот на попятный имеют свою цену. Как уже говорилось, когда-то Иван IV получил по наследству нечто вроде гоночного автомобиля с чудовищно сложной системой управления. Так вот, после всех попыток упрощения этой системы, после всех общественных и военных «аварий» этот автомобиль пришел в полуразбитое состояние и нуждался в ремонте. Но пока продолжалась Ливонская война, у Московского государства не было времени на необходимую передышку, накопление новых сил, восстановление разрушенного. Автомобиль с каждым годом ездил все медленнее, а на поворотах из него сыпались гайки. Лишь в царствование Федора Ивановича страна получила долгожданную передышку. Правда, слишком краткую и явно недостаточную для «капремонта».
В военном отношении это означало следующее: нет ни достаточного количества талантливых военачальников, ни достаточного количества простых воинов.
Относительно первого показательна оценка Джильса Флетчера: «Главные начальники, или полководцы… по названию их и степеням следующие: во-первых, большой воевода, то есть старший военачальник, или генерал-лейтенант, подчиненный прямо царю. Обыкновенно он избирается из четырех главных дворянских домов в государстве, впрочем, так, что выбор делается не по степени храбрости или опытности в делах воинских; напротив, считают вполне достойным этой должности того, кто пользуется особенным значением по знатности своего рода и вследствие этого расположением войска, хотя ничем более не отличается. Стараются даже, чтобы эти два достоинства, то есть знатность происхождения и власть, никак не соединялись в одном лице, особенно если в нем заметят ум или способность к делам государственным…[123] Большим воеводой, или генералом, бывает теперь обыкновенно в случае войны один из следующих четырех: князь Федор Иванович Мстиславский, князь Иван Михайлович Глинский, Черкасский и Трубецкой[124]. Все они знатны родом, но не отличаются никакими особенными качествами, и только Глинский, как говорят, обладает несколько лучшими дарованиями. Чтобы заменить этот недостаток воеводы, или генерала, к нему присоединяют другого, также в качестве генерал-лейтенанта, далеко не столь знатного родом, но более замечательного по храбрости и опытности в ратном деле, так что он распоряжается всем с одобрения первого. Теперь главный у них муж в военное время некто князь Дмитрий Иванович Хворостинин, старый и опытный воин, оказавший, как говорят, большие услуги в войнах с татарами и поляками. Под воеводой и его генерал-лейтенантом находятся еще четверо других, которые командуют всей армией, разделенной между ними, и могут быть названы генерал-майорами… Каждый из четырех последних имеет в своем распоряжении свою четверть, или четвертую часть, из коих первая называется правым полком, или правым крылом, вторая левым полком, или левым крылом, третья ручным полком или разъединяющим отрядом[125], потому что отсюда посылаются отдельные лица для внезапных нападений, выручки или подкрепления, смотря по обстоятельствам; наконец, четвертая называется сторожевым полком, или охранным отрядом…»{86} Флетчер мог пользоваться сведениями Джерома Горсея, давно находившегося на территории Московского государства, мог просмотреть архивы Московской компании англичан и, несмотря на отдельные неточности по части военного дела в России, он выглядит в этой области достаточно осведомленным человеком. Важно не перечисление полков и не звания воевод, а порядок их назначения на службу. Всякий англичанин в соответствии с жесткими лондонскими инструкциями, попадая в Россию, так или иначе исполнял разведочную службу. Флетчеру сам Бог велел интересоваться русской армией и русскими военачальниками. Вследствие этого словам британского дипломата стоит доверять. Из них видно: либо верхушка российского военно-служилого сословия вообще не отличалась выдающимися командными способностями — а после Казани, Полоцка, Молодей в это трудно поверить, либо в результате грозненских войн, опричных и постопричных казней, а потом удаления с видных постов и самих бывших опричников-выдвиженцев из числа людей худородных (в первые годы правления Федора Ивановича) армия оскудела командирами искусными и храбрыми[126].
Как уже говорилось, в 1577 году Иван IV во втором послании к Андрею Курбскому высказался в том духе, что хороших воевод у него хватает. Между казнями 1573 года и составлением этого послания промежуток невелик. Кое-что известно о потерях в воеводском корпусе, но, в сущности, они были незначительны. Самой серьезной из них стала казнь бывшего опричного воеводы, опытного военачальника Василия Ивановича Умного-Колычева в 1575 году, да кончина еще одного незаурядного воеводы, князя Юрия Ивановича Токмакова в 1576 году[127]. В целом же ущерб, нанесенный армии во время боевых действий и от казней, несравним с утратами 1565—1573 годов. Значит, одно из двух: либо государь делает хорошую мину при плохой игре, либо лучшие полководцы были выбиты в последние годы войны за Ливонию — позже, чем появилось второе царское послание Курбскому.
Период между 1578 и 1583 годами — самый несчастливый для русской армии, наверное, за все XVI столетие. Подробнее о нем будет рассказано ниже, здесь же хотелось бы остановиться на потерях в списке военачальников.
В 1577 году скончался от ранения Иван Васильевич Шереметев-Меньшой. В 1578 году под Венденом (Кесью) пали князь Василий Андреевич Сицкий, окольничий Василий Федорович Воронцов, дворянин «из Слободы» (т.е. приближенный к царю) Данила Борисович Салтыков, князь Михаил Васильевич Тюфякин. Тогда же попали в плен князь Петр Иванович Татев, князь Петр Иванович Хворостинин, князь Семен Васильевич Тюфякин. В 1579 году Стефан Баторий взял Полоцк. В плену оказались тамошние воеводы: князь Василий Иванович Телятевский (когда-то он возглавлял основные силы опричной армии!), князь Дмитрий Иванович Щербатый, Петр Иванович Волынский[128] да Иван Григорьевич Зюзин[129]. В крепости Сокол убит Борис Васильевич Шеин и попал в плен Федор Васильевич Шереметев. Тогда же погибли князь Михаил Юрьевич Лыков и князь Андрей Дмитриевич Палецкий. В 1580 году, после падения Великих Лук и ряда других укрепленных пунктов, русская армия потеряла пленными князя Федора Ивановича Лыкова, князя Михаила Федоровича Кашина, Юрия Ивановича Аксакова, Василия Петровича Измайлова, Василия Бобрищева-Пушкина. В Заволочье умер от ран Василий Юрьевич Сабуров и был захвачен поляками Иван Степанович Злобин. В результате поражения русского полевого корпуса под Торопцом думный дворянин Деменша Иванович Черемисинов и Григорий Афанасьевич Нащокин попали в плен. В 1581 году перебежал к литовцам стольник Давыд (Нежданович) Вельский. Литовцы взяли Холм, и в плену оказались князь Петр Иванович Борятинский да Меньшой Панин. Под Старой Руссой был пленен князь Василий Муса Петрович Туренин[130]. И это далеко не полный список[131]. Особенно неприятно то, что выбыли из строя И.В. Шереметев-Меньшой, князь М.В. Тюфякин, князь В.П. Туренин, князь М.Ю. Лыков, князь И.С. Лобанов-Ростовский, князь В.И. Телятевский, князь П.И. Татев, князь П.И. Хворостинин и Б.В. Шеин. Все это опытные люди, костяк воеводского корпуса. Утрата их для армии стоила дорого.
А в целом это колоссальные потери. В 1577 году ни Курбский, ни царь представить себе не могли, что такое возможно. Приходится вернуться к тезису об отсутствии в Московском государстве надежных и талантливых полководцев в постопричное время и все-таки отвергнуть его. Прав-то был, хотя бы отчасти, Иван Васильевич. А «первый русский диссидент» ошибался[132]. Та же служилая аристократия исправно поставляла государю высшее офицерство. Вовсе не «калики» возглавляли русские полки под Венденом[133]. И уж совсем не «калики» отстаивали в 1581 году Псков от нашествия Батория. К началу последнего раунда войны с западными соседями у Московского государства оставалось еще достаточно воевод для ведения боевых действий. Пусть их состав и не был столь же «звездным», с каким Иван Грозный начинал Ливонскую войну, но армия отнюдь не была обезглавлена. У него еще оставался опытнейший Иван Мстиславский, старик, битый палкой по подозрению в измене и на несколько лет отставленный от дел; стойкий Иван Шуйский, который также пребывал в изрядном возрасте; деятельный Иван Шереметев, сложивший голову на государевой службе; гениальный Дмитрий Хворостинин, впоследствии жестоко униженный царем за то, что не дошел до врага из-за «великих снегов». И все они честно работали, закрывая собой Россию. Просто в середине 60-х вооруженные силы Московского государства были способны безболезненно возместить потери в командном составе, хотя бы они и были значительно больше. А к концу 1570-х полководцев-«звезд» под рукой осталось мало, государю приходилось использовать в основном тех, кто считался дюжину лет назад… — как бы получше выразиться? — наверное, вторым и третьим составом. «Дублерами» по футбольной терминологии. Растратив и этих, царь оказался на безрыбье. Одним безотказным Дмитрием Хворостининым всех брешей в обороне великой державы закрыть невозможно. Учитывая даже ветерана Шуйского.
В недостатке живой силы позволяет убедиться история последнего десятилетия Ливонской войны и, в частности, сообщения ряда иностранцев, совершенно не связанных друг с другом.
Датский дипломат Якоб Ульфельд в 1578 году проехал половину России. По дороге он вдосталь навидался нищеты, безлюдья, запустения земель и описал все это в красках{87}.
Тот же Антонио Поссевино отмечает: «Московскому князю нужно было размещать гарнизоны в чрезвычайно удаленных друг от друга областях и в многочисленных крепостях, а войну вести почти с помощью только своих солдат в разных местах и в течение многих лет. Защитники крепостей оставляли дома жен бездетными. Если кто-нибудь из них погибал, его место занимал другой, — в результате народ очень поредел. К тому же нужно было еще обучать стрельцов… которые пользуются небольшими ружьями. Этот вид оружия был неизвестен его (Ивана IV. — Д. В.) предкам, пользовавшимся почти только луками и стрелами. В войско набирают каждого десятого. Они становятся либо княжескими телохранителями, либо служат на войне, либо размещены по гарнизонам крепостей. Дома они оставляют жен и детей, и иногда, в случае их гибели, дома мало-помалу лишаются людей. Многих погубила чума, о которой никогда до этого времени не было слышно в Московии из-за очень сильных здешних холодов и обширных пространств. Многочисленные войны, казни многих тысяч людей (даже знатных), постоянные набеги татар, сожжение ими 12 лет тому назад столицы (к этому можно прибавить постоянные победы короля Стефана (Батория. — Д. В.) в течение последних трех лет) довели князя до такого состояния, что его силы можно считать не только ослабленными, но почти подорванными. Известно, что иногда на пути в 300 миль в его владениях не осталось уже ни одного жителя, хотя села и существуют, но они пусты. В самом деле, ровные поля и молодые леса, которые повсюду выросли, являются свидетельством о ранее более многочисленных жителях»{88}.
Во второй половине 1570-х воеводы, не боясь царского гнева, угрожавшего опалой, ссылкой и казнью, отказывались решать боевые задачи, докладывая, что сил явно не хватает. Гарнизоны самовольно покидали крепости. Дети боярские бежали из полков. В 1579 году князь Василий Иванович Ростовский и Михаил Иванович Внуков разыскивают детей боярских, которые со службы «изо Пскова сбежали». Р.Г. Скрынников нашел множество документальных свидетельств разорения русских земель, в частности Новгородчины, особенно пострадавшей от войны, голода и массовых эпидемий. Учитывая лишь строго документированные потери Новгорода Великого с пригородами, опричные казни и разгром 1570 года обошлись в 2700—2800 жизней, а стихийные бедствия и потери от боевых действий стоили намного больше{89}. Б.Н. Флоря пишет о том, что в Деревской и Шелонской пятинах, судя по писцовым книгам, «население составляло 9—10% от того количества, которое проживало здесь в начале XVI столетия»{90}. До наших дней дошел фронтовой архив небольшого корпуса[134], стоявшего в 1580 году на великолукском направлении и подчиненного князю Василию Дмитриевичу Хилкову. Бумаги красноречиво свидетельствуют о распространении «нетства», т.е. невыезда детей боярских на место службы. Вот характерные места из грамот Разрядного приказа, адресованных командиру корпуса В.Д. Хилкову: «Писали к нам в Невля воеводы Меньшой Колычев с товарыщи, что от них с Невля дети боярские нижегородцы и невляне розбежались (курсив мой. — Д. В.), а на Невле с ними людей мало. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б тотчас послали на Невль детей боярских из коломнич, да из ярославцов пятьдесят человек, выбрав лутчих…» (20 августа 1580 г.); или: «Писали есте к нам и неты детей боярских ярославцов имяна, которые к вам на службу не приехали, к нам прислали, и мы тех нетчиков по поместьям сыскали пять человек и, бив их кнутом на Москве, послали к вам (курсив мой. — Д. В.) з зборщиком с Смиряем с Симановым, и список есмя тех детей боярских к вам послали с Смиряем ж. И как Смиряй тех нетчиков… к вам приведет, и вы б, по списку пересмотря, тем детем боярским ярославцем велели быти на нашей службе с собою… А вперед бы есте того берегли накрепко, чтоб дети боярские от вас с нашей службы не разъезжались (курсив мой. — Д. В.)» (21 августа 1580г.){91}. Корпус, испытывавший очевидные сложности с комплектованием, был разгромлен под Торопцом в сентябре 1580 года. По свидетельству поляков, участников той кампании, полки Хилкова не проявили достаточной стойкости в бою. Немудрено: их с таким трудом собирали, доводили до фронта… там явно не хватало бойцов.
Таким образом, московская сила была перемолота ливонскими жерновами. Великие армии без следа сгинули, и Московское государство едва-едва в состоянии было наскрести малые полки для пассивной обороны. Между тем казанские земли пылали очередным восстанием, южная «украйна» по-прежнему небезопасна была от крымцев. В начале 1580-х слово «война» и слово «смерть» стали для России синонимами.
Остается рассказать о том, какова была езда государя Ивана Васильевича на «гоночном автомобиле», который он сам же и разломал. В таких-то условиях!
Ливонская война стала одновременно делом чести и идеей фикс Ивана Васильевича. В 1570-х царь пытался добиться перелома личным участием в боевых действиях. Это вновь показывает, что, несмотря на изменчивый, неровный нрав и впечатлительный характер, государь не был тем фатальным трусом, каким его порой изображают. Вообще, идея была плодотворной: когда сам царь возглавлял войска, отправляясь в поход, московской армии сопутствовала удача; воеводы проявляли чудеса храбрости и рвения — то ли от страха перед крутым нравом царя, то ли исполнившись уверенности в успехе кампании, если уж сам государь взялся за дело. Да и тактиком Иван Васильевич проявил себя недюжинным. В 1572 году он возглавил зимний поход на Ливонию, в результате которого была взята Пайда (Вайссенштайн). При штурме крепости 1 января 1573 года «на пролом» были расписаны виднейшие опричники «первого призыва», среди них Михаил Андреевич Безнин, Роман Васильевич Алферьев, Василий Григорьевич Грязной… Тогда же погиб главный «фаворит» государя Малюта Лукьянович Скуратов-Вельский. Царь, видимо, хотел приучить старых своих любимцев к новому положению: мол, будете служить как все, а если надо, жизнь ставить на кон тоже придется на общих основаниях. Удачным продолжением взятия Пайды стал поход объединенной армии Магнуса Ливонского и русского корпуса Н.Р. Юрьева на Каркус. Эта крепость также пала. А вслед за ней — мыза Ропа.
Несмотря на успех, у Ивана Васильевича не доставало оснований быть довольным. Пайда — не Полоцк. Ценность Пайды на два уровня ниже. Каркус — еще менее ценный приз. Зато корпус князя И.Ф. Мстиславского, отправленный под Колывань (Таллин), потерпел поражение и отступил, понеся большие потери. Погиб один из воевод, князь Иван Андреевич Шуйский. Подводя итоги, можно сказать: результат похода, пусть и положительный, был довольно скромным. Надо полагать, иного ожидал государь, впервые за всю войну выйдя с полками в Ливонию…
Между тем продолжать наступление в Ливонии явно было нечем. Восстание на казанских землях и напряженные отношения с Крымом не позволяли сконцентрировать значительные резервы для захвата ливонских территорий, оставшихся неподконтрольными. Русские воеводы предприняли в середине 1570-х несколько удачных экспедиций на этом фронте, действуя сравнительно небольшими силами. В 1575 году Н.Р. Юрьеву удалось взять Пернов, правда, положив немало своих бойцов на штурме. В 1576 году капитулировал порт Гапсаль, города Коловерь, Лиговерь и Падца. Таким образом, наши армии медленно, но верно выталкивали шведов из Ливонии.
Однако такие стратегически важные пункты, как Рига, Таллин, Венден, стояли крепко. Очередная попытка взять Таллин провалилась весной 1577 года.
Вероятно, именно последняя неудача вызвала у Ивана Васильевича желание вновь самому взяться за Ливонский театр военных действий и исправить создавшуюся ситуацию.
Летом 1577 года он выходит с большой армией в Южную Ливонию. Сдавшимся городам и замкам царь обещает оказать милость и, действительно, мягко обходится с их жителями. Напротив, сопротивление подавляется с большой жестокостью. Впрочем, польско-литовские гарнизоны малочисленны и не способны противопоставить русской мощи эффективную оборону. Где-то добрыми обещаниями, а где-то силой Иван Васильевич приобретает несколько городов, в том числе Режицу и Чествин.
Неожиданной помехой на пути к осуществлению царских планов оказывается Магнус, правитель буферного королевства Ливонского[135]. Доселе он являлся верным союзником Московского государства. Но в 1577 году Магнус проявляет излишнюю самостоятельность. Он договаривается с местной знатью о передаче городов ему, т.е. в состав его королевства. Многие идут на это с радостью, опасаясь прямого захвата русскими войсками и власти переменчивого нравом Ивана IV. Бояться им было чего: когда-то жители Юрьева-Ливонского (Дерпта или Тарту) и Полоцка жестоко пострадали от Ивана Васильевича, а молва о новгородском разгроме 1570 года и бесчинствах опричников под Таллином получила широкое распространение. Прибалтика наполнена была летучими листками и публицистическими сочинениями о зверствах Ивана IV, частично преувеличенных, но и в той части, где сведения о суровости царского характера были верны, хватало подробностей, способных оледенить самое храброе сердце. Уже после окончания войны выйдет книга немца-пастора Павла Одерборна, живописавшего кровопийство русского государя с небывалыми выдумками, в духе какого-то ветхозаветного суперзлодейства. Одерборн врал изрядно; однако труд его поучителен тем, что в нем отразился панический ужас ливонского населения перед властью Ивана Грозного.
К сожалению, отчасти этот ужас был оправдан…
Магнусу один за другим сдаются города и замки, однако государь Иван Васильевич не рад этому. Ведь он сам явился «в свою вотчину»! К чему теперь посредник между ним и местным населением, когда русские пушки способны уговорить кого угодно? К чему буфер между ним и плательщиками податей, держателями земель, каковые могут быть отданы русским помещикам? Взятие городов обойдется дороже, чем их мирное подчинение? Но, во-первых, для силы, собранной в 1577 году, потери не страшны и, во-вторых, двойное подчинение, хотя бы и установленное мирным путем, недорого стоит в глазах Ивана IV.
Государь отправляет ливонскому королю гневное послание. Там он говорит ясно: у России сейчас достаточно сил для очистки всей страны без вмешательства Магнуса; если ему мало владений, доставшихся раньше, он может убираться к себе в Данию или отправиться на воеводство в Казань. Полки Грозного занимают Магнусовы новые приобретения[136]. Сам король ливонский со свитой по требованию Ивана Грозного выходит из сдавшегося ему Вендена. Царь всячески унижает и бесчестит его[137], подвергает аресту и некоторое время держит в ожидании смертной казни. Потом прощает и даже дает небольшой удел. Но отношения между прежними союзниками, как видно, оказались капитально испорченными. Более того, Венден затворяет двери перед царем и начинает артиллерийский обстрел русского лагеря. Город берут штурмом. Инициаторы сопротивления подрывают себя порохом, с прочими русское командование обходится весьма неласково; впрочем, население иных городов, сдавшихся Магнусу, а потом занятых русскими войсками, также стало свидетелем серии казней. Казнили приближенных короля…
В итоге русские войска устанавливают контроль над тремя десятками городов и замков. Но жестокость по отношению к тем, кто защищал свои города, и суровость, проявленная Иваном Васильевичем в «деле Магнуса», настроили местное население неблагожелательно по отношению к новым властям. В дальнейшем переход земельных владений к русским помещикам явно не улучшил отношений. С самого начала Ливонской войны местные жители по большей части находили мало поводов радоваться русскому завоеванию и поддерживать наши армии; теперь они получили еще несколько весомых аргументов в пользу мятежа. Если наш государь хотел навеки закрепить за Россией этой край, наверное, ему стоило подумать о более мягкой и более гибкой политике на присоединенных землях. Вероятно, несколько большая мягкость была уместна и в отношении Магнуса[138]. Да, тот повел себя как авантюрист, пытаясь спекулировать на «русской угрозе». Но слабый и своевольный союзник все же намного лучше, нежели открытый враг.
Вся военная кампания 1577 года уподоблена была масштабному театрализованному представлению. Так бывало и раньше. Например, походу 1562—1563 годов предшествовал крестный ход, а также иные события, придавшие военной кампании характер борьбы против поругания веры. Но тогда главную роль во всем действе играло православие, и было это вполне справедливо. Теперь же основным действующим лицом государь делает не веру, а себя самого.
Еще до начала боевых действий Иван Васильевич прислал вице-регенту князю Александру Полубенскому, начальствовавшему над силами Речи Посполитой в Ливонии, торжественное послание. Оно послужило своего рода «третьим звонком». В послании царь сообщает о намерении управить дела в «своих вотчинах» ливонских, а потому предлагает вывести все польско-литовские гарнизоны, дабы предотвратить лишние конфликты между Московским государством и Речью Посполитой. Основной смысл: «Всем будет лучше, если ваши войска подобру-поздорову уйдут восвояси».
Но это, так сказать, «сухой остаток», голая суть. Между тем письмо государя необыкновенно обширно и содержит философические рассуждения. Мало того что Полубенский, участвовавший в военной экспедиции на Изборск, в ходе которой православные церкви подверглись ограблению, ставится на одну доску с вероотступниками и предводителями бродяг, т.е. сущей уголовщиной. Ему еще и предъявляют полную неправомерность сопротивления государю, который является оружием воли Господней. А именно к этому ведет дело Иван Васильевич, помещая длинное историко-философское отступление о сути государства и государственной власти. Б.Н. Флоря комментирует его слова следующим образом: «…царство[139] превращается в избранное орудие Божьей воли, утверждающее во всем мире истинную веру. Послание Грозного производит впечатление полемики со сторонниками иных взглядов, которые, считая государство созданием дьявола, сомневались в его высоком назначении. Доводы царя должны были эти сомнения рассеять»{92}.
Зачем понадобилась вся эта риторика? Ради одного лишь устрашения противника? Ради вразумления заблудшего человека? Князь Полубенский, человек не юный, в делах войны и большой политики — тертый калач, вряд ли мог быть напуган или же вразумлен образчиком русской изящной словесности того времени. И государь, конечно, понимал это. Но для задуманного им спектакля письмо Полубенскому послужило ярким началом; Иван IV загодя позаботился о том, чтобы произвести эффект на зрителей, как заботится светская дама о роскошном наряде, отправляясь на бал.
Во время военной кампании он милует и казнит широкими мазками, судит ливонского короля и ставит его претензии ни во что, устанавливает власть истинной веры над целой страной и, ликуя, пирует под занавес.
По окончании похода государь Иван Васильевич, завершая «постановку», пишет горделивое письмо князю Курбскому: «Вы ведь говорили: “Нет людей на Руси, некому обороняться”, — а ныне вас нет; кто же нынче завоевывает претвердые германские крепости? Это сила животворящего креста, победившая Амалика и Максентия, завоевывает крепости. Не дожидаются бранного боя германские города, но склоняют головы свои перед силой животворящего креста! А где случайно за грехи наши явления животворящего креста не было, там бой был. Много всяких людей отпущено [из плена][140]: спроси их, узнаешь… Писал ты нам, вспоминая свои обиды, что мы тебя в дальноконные города как бы в наказание посылали, — так теперь мы со своими сединами и дальше твоих дальноконных городов, слава богу, прошли и ногами коней наших прошли по всем вашим дорогам — из Литвы и в Литву, и пешими ходили, и воду во всех тех местах пили, — теперь уж Литва не посмеет говорить, что не везде ноги наших коней были. И туда, где ты надеялся от всех своих трудов успокоиться, в Вольмер, на покой твой привел нас Бог: настигли тебя, и ты еще дальноконнее поехал…»{93}
Другие изменники московские, активно помогавшие неприятелю, — Тимофей Тетерин, да прежние государевы опричники Таубе и Крузе, — получили еще более издевательские письма.
Гетман Ходкевич удостоился послания, равнозначного фамильярному похлопыванию по плечу. Общий смысл его: не стоит расстраиваться, убытка никакого операция московских войск не нанесла (читай: поскольку вся занятая территория все равно не принадлежит Речи Посполитой), да и пора бы начать переговоры «…о покое християнском». Короля Стефана Батория царь ставил в известность о результатах своего похода и призывал «досаду отложить», поскольку не при нем эта война началась, да и все происходящее на ливонских землях — не его, Батория, дело[141]. Иван Васильевич со вкусом объясняет королю, какие политические действия тому «непригоже» предпринимать, не видя в нем противника, достойного серьезного отношения. Он не столько просит Стефана Батория о начале мирных переговоров, сколько повелевает ему, «не мешкая», прислать послов.
В Московском государстве по городам и областям рассылаются царские послания с известиями о приобретении новых земель и городов в Ливонии. Об этом можно судить по неофициальным летописным памятникам того времени: в них вошли известия об удачных походах середины 1570-х годов, причем переданы они примерно одинаковыми словами. В собрании ГПИБ есть рукописный сборник, содержащий краткий летописец, который представляет собой компиляцию сведений из разных источников, совершенную в 1735 г. Этот летописец ранее находился в библиотеке П.В. Щапова, поэтому можно условно назвать его Щаповским. В состав Щаповского летописца вошли отрывки из летописного памятника, относящегося приблизительно к 1610-м или 1620-м годам. От 1570-х годов в нем 7 кратких сообщений, причем 5 из них отмечают взятие различных ливонских городов. События похода 1577 года разделены на два сообщения. От 7085 года (верная дата): «Взятъ Куканаус и иных 24 города»; от 7087 года (явно ошибочная дата): «Ходилъ государь и вся[142] Свейского короля 27 городовъ»{94}. Это, очевидно, связано с тем, что Иван IV не ограничился отправкой в Россию одного послания, но, впечатленный собственными успехами, велел разослать из ставки целых два: после падения Кокенгаузена (Кокнесе) и в конце кампании.
По этой эпистолярной игре можно понять две вещи. Во-первых, государь видит в последнем своем походе исполнение воли Божьей и, одновременно, решающее усилие по овладению ливонским наследством. То, что Рига и Таллин не открыли ворота перед русскими полками, по всей видимости, не особенно волнует его. Надо полагать, Иван Васильевич считал их падение делом времени: для него прибалтийская постановка была завершена, а сцены, выпавшие из нее при последнем сокращении сценария, можно вписать и постфактум… Во-вторых, Иван Васильевич уверовал в свою непобедимость, подобно тореадору, щелкающему бешеного быка по носу.
Что ж, тактически действия державного полководца безупречны, результат вторжения в Ливонию — явно позитивный. Но стратегически итоги масштабного вторжения в Ливонию оказались ничтожными. Пик успехов русского оружия в этой войне был пройден пятнадцатью годами ранее, после взятия Полоцка. Формально, в 1577 году под контролем у московского государя оказалась значительно большая территория, нежели в 1563-м. Но, во-первых, после катастрофы 1571 года любая компенсация на Западе представляется далеко не достаточной. Во-вторых, все занятые города оптом не стоили одного Полоцка с прилегающими землями. Невозможно из сотни карамелек слепить шоколадный торт! В-третьих, внутренние области России к тому времени пришли в такое состояние, когда любую наступательную войну необходимо прекратить, поскольку экономический и демографический ресурс на исходе. Наконец, в-четвертых, последние завоевания оказались непрочными: не доставало сил, чтобы их удержать. Вскоре после того, как русская армия покинула занятые ею земли, неприятель с легкостью отбил несколько городов. Единственный союзник Московского государства на этом театре военных действий, Магнус, в 1578 году перешел на сторону поляков. Вероятно, ему трудно было простить то страшное унижение, которому подверг его Иван Васильевич, и те потери, которые он понес в связи с крахом своей авантюры. Таким образом, эмоции государя дорого обошлись стране. Победы 1577 года рухнули, как карточный домик, от первого же дуновения войны…
Последним значительным успехом русской армии в Ливонии было взятие Полчева в конце 1578 года[143]. К тому времени Венден уже был потерян (притом латыши, находившиеся в городе, помогли полякам занять его)[144], и государь, вероятно, очень досадовал, лишившись главной жемчужины в короне триумфального похода 1577 года. Эта потеря обессмысливала успехи, достигнутые нашими полками при личном участии Ивана Васильевича, а царь ко всякой своей победе относился трепетно. Он велел воеводам идти отбивать Венден[145]. Но тут произошло странное событие, о котором кратко сообщает разрядная книга: «И воеводы сделали не по государеву наказу, не пошли к Кеси (Вендену), а пошли в Юрьев в Ливонской»{95}. С чем связано феноменальное неповиновение командующего русской армией князя Ивана Юрьевича Голицына? Воевода ссылается на то, что наступать просто «…не с кем, людей мало».
Этот малозаметный эпизод маркирует перелом в последних наших успехах на Ливонском театре военных действий и, одновременно, точку, откуда началось падение в бездну. Все. Страна истощила военные ресурсы.
Итак, 1578 год — переломный…
Очень важна реакция Ивана IV. Он не замечает знамений времени, не желает их видеть. Ему все мерещится тот великий час, когда русским полкам сдался Полоцк. Ему все кажется, что Московское государство неистощимо. Ему видится та идеальная военная машина, которая работала на него пятнадцать лет назад. А ее больше нет. «Автомобиль» находится в полуразбитом состоянии, бензин на исходе, покрышки облысели, гайки сыплются на поворотах, вода закипает в карбюраторе… Государь велит: брать Венден! Он пытается усилить армию, снимает «з берега» воевод князя Василия Андреевича Сицкого, а также князя Петра Ивановича Татева, и, возможно, их отряды. Как видно, страшный урок 1571 года Иваном IV уже забыт… Затем под Венден отправляются государевы эмиссары «из Слободы»: Данила Борисович Салтыков и дьяк Андрей Щелкалов. Их задание: «промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними»{96}, т.е. поторопить действия западной армии. Фактически царь делает последнюю крупную ставку в ливонской игре, еще не зная, что больше у него таких возможностей не будет.
Сценическое действие заканчивается, начинается расплата за спектакль. Зрители требуют вернуть деньги, заплаченные за билеты, и лезут на сцену — бить актеров…
Воеводы осаждали город, жестоко местничая друг с другом. Московские пушки пробили брешь, но до штурма дело не дошло.
Польско-литовские и шведские войска предприняли совместную наступательную операцию против осаждающих. Их внезапное нападение, а также неспособность русского командования организовать должный отпор[146] привели к трагическим результатам.
Наши войска бегут. Часть воевод погибает, другие покидают поле боя, заботясь лишь о спасении жизни. Среди последних оказался и князь И.Ю. Голицын, большой воевода. Курбский глуповато злорадствует, поминая несчастную судьбу плененных тогда военачальников: «…здесь, на великом сейме, на котором бывает множество народа, [они] подверглись всеобщим насмешкам и надругательствам, окаянные, к вечному и немалому позору твоему и всей святорусской земли, и на поношение народу — сынам русским»{97}. Потери — огромные[147]. 17 орудий захвачены неприятелем как трофеи. Датский дипломат Якоб Ульфельд оставил описание венденского разгрома. Среди подробностей, страшных и позорных, есть одна отвратительная. Русские артиллеристы, не желая покинуть свои пушки и не имея возможности их спасти, повесились прямо на орудиях, совершив тем самым, по понятиям христианским, ужасный грех.
Русские полки не проявили стойкости, характерной для первых лет войны или хотя бы для молодинской битвы. Видимо, сказывалась общая усталость от боевых действий, нежелание драться всерьез.
Далее поражения следуют одно за другим, каскадами. В 1579 году польский король Стефан Баторий, блестящий полководец, берет Полоцк, затем важную крепость Сокол, где были сконцентрированы крупные силы русских, а также ряд других укрепленных пунктов. Этим он наносит личное оскорбление царю Ивану Васильевичу, ведь царь так гордился грандиозной победой, достигнутой в 1563 году! Кроме того, сами полочане, видимо, не рвались остаться под скипетром Ивана IV. Местное население, прежде склонное доверять единоверным подданным русского царя, пострадало от жестокости, проявленной при взятии города, депортационной политики государя, а также опричных репрессий, и теперь оно склонялось к поддержке Батория. Так, польской армии помогал полочанин Коссонский{98}.[148]
В Соколе наемники из армии Стефана Батория учинили такую резню, что даже не смогли остановиться, перебив всех живых русских, и принялись с остервенением кромсать трупы.
Затем поляки взяли Великие Луки и учинили там жесточайший разгром, вполне достойный опричного террора в самые худшие его периоды. Была захвачена мощная крепость Заволочье, пали Невель, Велиж, Холм и Старая Русса. Наши корпуса разбиты под Торопцом и у той же Старой Руссы. Вражеские отряды разоряют ржевские и зубцовские места в сердце Тверской земли и почти доходят до новой резиденции Ивана Васильевича в Старице.
Ливонские замки сдаются шведским войскам. Шведы берут Нарву, затем, осмелев, — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу… Захват Нарвы оканчивается жутким погромом, хуже татарского.
Опять восстает «луговая черемиса», и казанское направление требует новых войск. На юге крымцы и ногаи жестоко разоряют русские области. Московских полков не хватает прежде всего там, но пока не завершилась война в Ливонии, снять их с северного и западного фронтов невозможно.
В последние годы войны русским командованием несколько раз предпринимались попытки контрнаступления. Воеводам Трубецкому, Бутурлину, Хилкову и Хворостинину удавалось отбросить неприятеля. Под Смоленском польско-литовские войска терпят серьезное поражение. Однако это были частные успехи. Они, скорее, должны были показать способность нашей армии сопротивляться и в дальнейшем, нежели вести к стратегическому разгрому неприятеля.
Многие историки подчеркивали нравственное опустошение Ивана Васильевича в последние годы войны. Он вел себя вяло, нерешительно, запрещал воеводам вступать в сражения со значительными силами поляков. Из Разрядного приказа в полки приходят инструкции следующего содержания: «А будут пойдут против вас литовские люди на прямое дело, и вы б от них отходили, а на прямое дело с литовскими людьми не ставилися…»{99} Относительно крепостных гарнизонов у царя было прямо противоположное требование: стоять насмерть. Но и здесь были исключения: по некоторым сведениям, Иван IV позволил отступить гарнизону Суши, выдвинутой в литовские владения и, очевидно, обреченной в условиях того времени. Кажется, воля его надломилась. Он опять всюду видит измену. Вождь, потрясенный неудачами, утративший стремление к победе, вряд ли мог переломить несчастливый ход боевых действий.
Р.Ю. Виппер прямо пишет о нем как о человеке физически и нравственно разбитом, «старике в пятьдесят лет», правда, способном еще на сильные дипломатические ходы… Н.М. Карамзин строго судит царя: «…гибли добрые россияне, предаваемые в жертву врагам Иоанновой боязливостью… Имея силу в руках, но робость в душе, Иоанн унижался исканием чуждого, отдаленного вспоможения, ненужного и невероятного[149]. Он не думал сам выступить в поле; расположил войско единственно для обороны… Иоанн был в ужасе, не видел сил и выгод России, видел только неприятельские…»{100}
Да, возможно, царь переживает не лучшие свои дни. Он деморализован, он впервые осознает свою беспомощность в борьбе против западных соседей. Но его требование избегать столкновений с армией Батория опирается на здравое суждение о боеспособности вооруженных сил России. Люди измотаны, живую силу трудно собрать в кулак, командный состав по большей части — не первого сорта и, главное, утрачен боевой дух. Венден и Торопец четко показали: полки разбегаются, едва почувствовав на себе серьезный напор неприятеля. Но сам противник еще не до конца уверен в слабости московской армии, привыкнув к прежней ее мощи. Вступить в битву с ним означает, скорее всего, лишиться последних сил, еще способных изображать заслон на пути во внутренние области державы. Государю в таких обстоятельствах гораздо полезнее побыть трусом, нежели броситься в бой очертя голову. Политика бездействия, перемежающегося с короткими и редкими контрударами, — лучшее из возможного. Здесь Ивану Васильевичу трудно отказать в благоразумии…
В конечном итоге ресурсы главных противников Ивана IV также исчерпались. Стефан Баторий осадил Псков с армией в 47 000 бойцов, да и застрял там надолго. Напал на Псково-Печерский монастырь, но тамошние монахи и воинские люди храбро отбивали приступы… Воевода князь Иван Петрович Шуйский искусно устроил оборону Пскова, отбивал все атаки королевских солдат и крепко досаждал им вылазками{101}. Огонь мощной городской артиллерии способствовал утрате боевого духа неприятелем. В итоге королевские войска понесли тяжелые потери, однако выполнить задачу не смогли и вынуждены были отступить от Пскова, проведя под его стенами около четырех месяцев…
В феврале 1582 года великолепная армия Стефана Батория, усиленная отрядами наемников, набранных по всей Европе, пошла прочь от города. По значению своему псковская осада близка к молодинской битве. Внутренние области России оказались избавлены защитниками Пскова от почти неминуемого вторжения поляков. Теперь у самой Польши недоставало сил и средств для продолжения войны.
Между тем наступление шведов также затормозилось. Их полевой корпус потерпел поражение, а осенью 1582 года попытка взять Орешек на Ладоге окончилась неудачей. Талантливый шведский полководец Делагарди положил немало своих солдат, пытаясь захватить крепость, стоящую на острове, там, где Нева вытекает из Ладожского озера. Но Орешку вовремя пришла на помощь рать князя Андрея Ивановича Шуйского. Шведам пришлось отступить.
В январе 1582 года было заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, а в августе 1583 года — Плюсское перемирие со Шведским королевством[150]. Россия лишилась значительной территории. Потеряны были все завоевания России, а также собственно русские земли — Велиж, Ивангород, Копорье, Ям. Лаконичный итог тяжелой Ливонской войне, вчистую проигранной Московским государством, подведен псковской летописью: «Царь Иван не на велико время чужую землю взем, а помале и своей не удержа, а людей вдвое погуби». Б.Н. Флоря завершает рассказ о четвертьвековой борьбе за Ливонию справедливым вопросом: «Был ли неизбежен столь плачевный исход этой войны для Русского государства? Не привели ли к такому шагу ошибки и просчеты, допущенные самым главным инициатором войны Иваном IV, который, верно наметив цель, не смог найти верные средства для ее достижения?»{102}
По мнению некоторых историков, Иван IV жаждал реванша и был настроен возобновить войну при удобном стечении обстоятельств. Он мог надеяться на ссору Речи Посполитой и Швеции из-за ливонских земель: это создало бы благоприятную дипломатическую и военную ситуацию для Московского государства. Государь искал также военного союза с англичанами. Во время Ливонской войны подданные Елизаветы I сталкивались на море с неприятелями России, завязывали с ними бои и наносили поражения. Английская корона выгодно сбывала Московскому государству стратегически важные товары, например медь, серу, селитру, свинец, против чего восставали поляки, ливонские немцы и германские города. В 1582—1583 годах Иван Васильевич попытался навязать англичанам обязательство оказать ему военную поддержку в новом противостоянии со Стефаном Баторием. Те выставили заведомо невыполнимые контртребования, и сделка сорвалась.
О чем свидетельствует сам факт подобных переговоров? Прежде всего, о том, что царю вновь изменили чувство меры и здравый смысл. Досада от проигрыша ослепляла его, а унижение вызывало гнев. За ничтожный срок, прошедший после заключения Ям-Запольского перемирия, страна нимало не оправилась от военных потерь, армия отнюдь не восстановила прежнюю мощь. А государь вел себя подобно капитану, однажды потерпевшему крушение у скалистых берегов и, по прошествии недолгого времени, вновь направляющего свой корабль на те же камни. Казалось бы, совсем недавно Иван Васильевич проявил способность видеть горькую правду и разумно оценивать силу поредевших русских полков. Теперь беспечная жажда реванша снедала его… До самой смерти.
Итак, со времен последней Казанской войны царь Иван IV был главнейшим военачальником России. На протяжении нескольких десятилетий он имел решающее слово в делах, касающихся боевых действий и армии. Все успехи и неудачи Московского государства в значительной степени — его успехи и неудачи[151]. Допустим, во времена «Казанского взятия» ни упорство государя, ни его способности, ни испуг его в решающий момент не играли еще первенствующей роли, хотя и влияли на дела[152]. Зато впоследствии воля Ивана Васильевича оставляла отпечаток повсюду и везде.
Был ли он храбрым военачальником? Оправдывает ли его биография знаменитые слова: «к ополчению дерзостен и за державу стоятелен»? Отчасти. Немногие из русских государей, считая от Ивана Великого до Федора Алексеевича, могут сравниться с Иваном IV по количеству выходов в поле с войсками. Царь играл роль командующего в походах не менее десяти раз, если не считать опричный разгром северных городов и походы, отмененные при самом начале. Иной раз государь проявлял недостаток решительности, в другое время бывал храбр и настойчив. Его действия выдают пылкий характер и, одновременно, недостаточную твердость.
Задумывая наступление, Иван Васильевич обыкновенно проявлял себя как хороший тактик. Возглавленные им экспедиции 1562—1563, 1572—1573 и 1577 годов закончились победой. Как полководец первый русский царь ни разу не потерпел поражения.
Другое дело, как он проявил себя в качестве стратега и организатора военного дела.
Выбирая направление главного удара во второй половине 1550-х годов, Иван Васильевич не согласился с настояниями влиятельной политической группировки, настаивавшей на концентрации всех сил против Крыма. Это решение имело под собой серьезные основания. Так же как начало борьбы за Ливонию и стремление любой ценой удержать казанские земли. Но чрезмерное оголение южных окраин государства в погоне за успехами в Ливонии оказалось непоправимой ошибкой. Московский пожар 1571 года и разгром обороняющей столицу армии ничем оправдать невозможно. Столь же трудно найти оправдание для бесконечного затягивания военных действий в Прибалтике и жестокого отношения к местным жителям. Маниакальное стремление захватить всю Ливонию, неспособность умерить аппетиты, вовремя удовлетвориться достигнутым, не рискуя «повышением ставки», привело к катастрофическим последствиям. Иван III умел прервать боевые действия и пойти на мировую, как только чувствовал, что результат войны становится неочевидным. К сожалению, его внук был лишен подобного умения. В итоге ливонская бездна пожрала русскую армию, да еще и отгрызла от русского пирога изрядный кусок.
Что касается организационно-административной деятельности царя, то и ее невозможно счесть удовлетворительной. Да, введение стрелецкого войска, а также «избранной тысячи» представляется весьма разумными, своевременными преобразованиями[153]. Но опричный военный «эксперимент» стоил вооруженным силам Московского государства столь дорого, что польза от предыдущих здравых реформ абсолютно перекрывается его негативными последствиями.
Общий итог деятельности Ивана IV в военной сфере с рядом оговорок следует признать отрицательным.
Глава 4. ПОСОЛЬСКИХ ДЕЛ РАЗОРИТЕЛЬ
Автор этих строк в энциклопедической статье, написанной лет десять назад, примерно в 1994 году, назвал государя Ивана Васильевича «ведущим дипломатом» державы{103}. Николай Михайлович Рогожин, настоящий большой специалист по средневековой русской дипломатии[154], заметил: «Ну что вы, батенька! Настоящими-то дипломатами были посольские дьяки — Висковатый, Щелкаловы…» И он был, конечно, прав, в том смысле, что истинными профессионалами, на которых держалась внешняя политика Московского государства, были все-таки главы Посольского приказа — тогдашнего Министерства иностранных дел. Именно они играли роль специалистов высочайшего уровня, лучших из лучших в этой области. С другой стороны, разработка ключевых решений в области дипломатии традиционно была частью «монаршей работы». И стратегию международных отношений определял сам государь, используя в большей или меньшей степени знания и опыт профессионалов. Иероним Граля, автор превосходного труда об И.М. Висковатом, главе дипломатической службы России, показал последнего главным «экспертом» по проблемам внешней политики, но никак не персоной, прокладывающей маршрут этой политики{104}.
До второй половины 1540-х годов Ивана Васильевича вряд ли по-настоящему допускали к дипломатическим вопросам. Позднее государь уже мог влиять на них. Так, например, важна была его непримиримо-твердая позиция по поводу войны с Казанью[155]. И лишь со второй половины 50-х, как уже говорилось, он обрел достаточную самостоятельность от Боярской думы, чтобы оказывать определяющее воздействие на российский внешнеполитический курс. В дальнейшем, до самой кончины, Иван IV остается главным стратегом российской дипломатической деятельности.
Нельзя сказать, чтобы он был совершенно бездарен как дипломат. Некоторые историки, напротив, считали его масштабным и глубоким творцом внешней политики России. Р.Ю. Виппер, в частности, писал: «Среди московской дипломатической школы в качестве первоклассного таланта выделяется сам Иван V»{105}. Действительно, на арене больших международных игр ему удавалось добиться серьезного успеха. Так, стратегически верным был выбор приложения главных военно-политических усилий во второй половине 50-х годов XVI столетия: не против Крыма, а против Ливонии[156]; нельзя не признать остроумным ход с привлечением папы Римского к трудным переговорам со Стефаном Баторием в начале 80-х (и ведь это действительно помогло делу!); гибкая политика проводилась в отношении англичан — им давали льготы по торговым делам в зависимости от того, насколько они оказывались способны к услугам в делах политических; наконец, затея с привлечением Магнуса Ливонского на сторону Московской державы выше всяческих похвал. И, видимо, на истории Магнуса стоит остановиться подробнее. Герцог Магнус, брат датского короля Фредерика II, в 1570 году получил от Ивана Васильевича несколько прибалтийских городов и гордое звание «короля Ливонского». В 1573 году его женили на Марии Владимировне Старицкой, причем свадьба прошла с большой пышностью[157]. Таким образом, принц породнился и с российским царским домом. Магнус участвовал в войне на стороне России, а также выполнял роль союзника, которому легче было договориться с местным дворянством и городами. Его королевство представляло собой «буферную зону», получавшую поддержку и от России, и от датчан. Подданные Магнуса вновь обретали все свои старые привилегии, а заодно и новые льготы — по торговле на территории России. В свою очередь марионеточная «держава» становилась экономической зоной, связывающей европейских торговцев с Московским государством. Чем-то вроде допетровского «окна в Европу». Идея была хороша…
Но!
При всем том не в характере государя было вовремя остановиться в своих требованиях, ограничить проявление эмоций ради холодного дела дипломатии, увидеть приоритет державных интересов над личными. Увлекшись игрой страстей, политической интригой, государь в большей степени стремился предъявить иностранцам собственное остроумие и ученость, нежели добиться конкретных результатов. Тот же Роберт Юрьевич Виппер дает точную характеристику стилю Грозного-дипломата: он «…любил выступать лично в дипломатических переговорах, давать иностранным послам длинные аудиенции, засыпать их учеными ссылками, завязывать с ними споры, задавать им трудные или неожиданные вопросы; он чувствовал себя в таких случаях настоящим артистом… (курсив мой. — Д. В.) В политическом таланте Грозного замечаются, однако, те самые шероховатости и излишества и в его литературной манере, в развлечениях его повседневной жизни. Неуравновешенная натура легко увлекает его к резкостям, к заносчивости»{106}.
«Артист» — точное слово в точном месте. Государь Иван Васильевич играл великого дипломата. Пытался произвести впечатление на «публику». Театральная поза, амбиция, воспламенившаяся под действием всеобщего внимания к могущественному «Московиту», вели его ум к выходкам и балаганным трюкам, но не позволяли проявить твердость в намерениях и действиях. В любом значительном успехе он видел нечто естественное, принадлежащее ему по неведомому, но твердому праву, а потому и не заботился о его развитии. На волне побед государь бывал чрезмерен в требованиях и тем губил уже, казалось бы, полученную политическую прибыль. Зато неудачи ввергали его в избыточную уступчивость.
С тем же Магнусом Ливонским Иван Васильевич в 1577 году поступил жестоко, унизил и едва не убил его за самовольство. Но все же государь продолжал ему доверять, с необыкновенной беспечностью полагаясь то ли на страх короля перед московскими полками, то ли на чувство благодарности к русскому царю за прежние благодеяния… Но король, будучи мотом, пьяницей{107}, неудачливым воителем, ко всему еще и проявил склонность к измене. Предательство Магнуса дорого обошлось нам на Ливонском театре военных действий[158]. Весь удачный эксперимент с «буферным королевством» рухнул[159].
Дважды Иван IV вел переговоры с королевой Елизаветой I, добиваясь согласия принять его с семьей под покровительство английской короны, если злоба подданных выгонит монарха из страны. Само по себе подобное действие, исходящее от православного государя по отношению к государю инославному, нелепо и позорно. Мало того, Иван Васильевич сопроводил его попытками сватовства то к самой королеве, то к ее родственнице Мэри Гастингс, то уж совсем неопределенно — «к кому-нибудь» из родственниц Елизаветы. Его собственная жена Мария Федоровна Нагая была в то время жива и здорова, но царь не сомневался в легком решении проблемы развода…[160] Да что за срам! Даже подлая приказная братия хихикала над Иваном Васильевичем, называя его «английским царем». Но и стремясь добиться решения столь важной для себя задачи, как предоставление «политического убежища», царь не сумел сдержать ярости от уклончивых ответов англичан и опустился до оскорблений: «…видно, у тебя, помимо тебя (Елизаветы), другие люди владеют (властвуют), и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести, и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков!»{108}
Упорство польского короля Сигизмунда II Августа в военных предприятиях против Московского государства подпитывалось царской «вежливостью». Среди прочего, Иван Грозный удостоил его намека на бездетность: «Вот умрешь ты, от тебя и поминка не останется».
Особенных оплеух удостоился шведский король Юхан III. Его Иван Васильевич именовал «безбожником», сравнивал с «гадом» (змеей), род его назвал «мужичьим»[161]. Одно из посланий Иван IV завершает следующим образом: «А если ты, раскрыв собачью пасть, захочешь лаять для забавы, — так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой — бесчестие, а лай тебе писать — и того хуже, а перелаиваться с тобой — горше того не бывает на этом свете, а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты не напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем»{109}. Разумеется, Юхан III остается непримиримым врагом России вплоть до последних кампаний Ливонской войны. А окончил ее шведский монарх «мужичьего рода», отторгнув от России обширные земли.
Б.Н. Флоря показал, насколько беспомощен оказался Иван Васильевич в борьбе за опустевший в 1572 году польский престол, насколько неуместной была его политическая риторика, насколько лишен был его курс гибкости. Царя поддерживала сильная партия сторонников, но он не удосужился поддержать их даже столь тривиальной мерой, как отправка посольства с официальными предложениями! Ему показалось достаточным выступить с цветистой «предвыборной» речью перед гонцом из Польши и послать несколько писем… В результате война продолжилась, а один из преемников скончавшегося Сигизмунда II Августа, Стефан Баторий, нанес России ряд тяжелых поражений{110}.
Притом Иван IV долго не рассматривал Батория как серьезную политическую силу, и даже в ходе боевых действий, складывавшихся крайне неудачно для Московского государства, все еще продолжал оскорблять его в посланиях. В 1579 году, когда неприятности завершающего этапа Ливонской войны уже начались, царь в письме величается перед выборным королем своим происхождением и корит Батория отступничеством от христианства. Польский государь и сам не отличался особой корректностью, поэтому Иван Васильевич упрекает его: «Мы твою грамоту прочли и хорошо поняли — ты широко разверз свои высокомерные уста для оскорбления христианства. А таких укоров и хвастовства мы не слыхали ни от турецкого султана, ни от императора, ни от иных государей. А в той земле, в которой ты был[162], и в тех землях, тебе самому лучше известно, нигде не бывало, чтобы государь государю так писал, как ты к нам писал. А жил ты в вере басурманской, а вера латинская — полухристианство, а паны твои держатся иконоборческой лютеранской ереси». Со своей точки зрения, государь во всем прав, но ему необходимо решить серьезные дипломатические задачи, а он вместо этого вступает в невнятную перебранку… Летом 1581 года, когда дела на западном фронте идут из рук вон плохо, Иван Васильевич отправляет Стефану Баторию еще одно письмо, по внешней видимости смиренное, однако же наполненное колкостями и попреками. В начале послания стоит знаменитая фраза: «Мы… удостоились быть носителем крестоносной хоругви и креста Христова Российского царства и иных многих государств и царств, скипетродержатель великих государств, царь и великий князь всея Русии… по Божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению…»{111} — намек на «второсортность» королевского титула, полученного по результатам шляхетских выборов. Страна бедствует, вооруженные силы находятся в состоянии, близком к полному разложению, враг глубоко вклинился в русскую территорию, а царь желает выглядеть красиво и выйти победителем из словесных перепалок. Вот он, «первоклассный талант»! Вот она, «крупная политическая сила»!
Между тем переговоры с польским и шведским королями приводят к тяжелым территориальным потерям: Иван IV теряет Полоцк, собственно русские Велиж, Ям, Копорье, Ивангород, Корелу, а также все ливонские завоевания. По мнению ряда исследователей, уступки были чрезмерными. Особенно в условиях, когда Польша уже вышла из войны[163], а Швеция продолжала боевые действия. Это открывало возможность хотя бы частичного реванша. Как раз тогда русские войска разбили шведов у Лялиц и отбросили от Орешка. Но государь не решился… Трудно сказать, насколько верным было мнение о необходимости выйти из войны любой ценой, когда противник оставался только один. Во всяком случае, оно вызывает сомнения.
Любопытно, что Иван Васильевич испытал на себе заносчивость соседей, но она не послужила для него уроком. Девлет-Гирей после сожжения Москвы в 1571 году писал русскому царю, проявляя крайнее высокомерие: «…Ты не пришел и против нас не стал. Ты похваляешься, что, де, яз — Московский государь, и было бы в тебе срам и дородство, и ты бы пришел против нас и стоял!»[164] И где была та сила и та гордость татарская в 1572 году, когда наши воеводы на Молодях резали крымскую рать? Поила буйной кровью нашу землю. Кажется, отчего бы православному государю не увидеть в наказании гордых проявление воли Господней? Ан нет, он и сам великий гордец…
Тяжелое поражение России в Ливонской войне явилось в значительной степени результатом царского фиглярства. Отношения с воинственным Крымом не нашли приемлемого дипломатического решения на протяжении всей политической деятельности государя. Наконец, эскапады с поиском «политического убежища» на территории Англии, поспешным сватовством к Елизавете I и ее родственницам, выставили на посмешище и самого Ивана IV, и всю державу. Общий итог деятельности Ивана Васильевича в дипломатической сфере — явно отрицательный.
Глава 5. ОПРИЧНИК НОМЕР ОДИН
За двести лет, истекших со времен выхода в свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, было сделано великое множество попыток определить суть опричнины и объяснить причины ее учреждения.
Сам Николай Михайлович пишет об опричнине как о мере, предназначенной обеспечить безопасность государю и государству. Причиной ее введения была подозрительность царя, его ярость, его страх стать жертвой измены, подстегнутые действительной изменой Курбского. «Все добрые вельможи казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании; требовал доносов и жаловался, что их мало…»{112}
«История России с древнейших времен» С.М. Соловьева скудна обобщениями. Относительно опричных времен историк констатирует дальнейшее падение родовых начал, умаление прав «дружины» и подъем начал государственных, увеличение власти монарха. Все это преподносится несколько голословно. Опричнина — одно из заключительных сражений великой борьбы старинного родового быта с новым, этатизирующим, элементом. «Напуганный отъездом Курбского и протестом, который тот подал от имени всех своих собратий, — пишет С.М. Соловьев, — Иоанн заподозрил всех бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них. Положить на них… опалу без улики, без обвинения, заточить, сослать всех, лишить должностей, санов, лишить голоса в Думе и на их место набрать людей новых, незначительных, молодых… — это было невозможно… Если нельзя было прогнать от себя все старинное вельможество, то оставалось одно средство — самому уйти от него; Иоанн так и сделал»{113}.
В.О. Ключевский дал исключительно точную формулировку психологических причин, подвигнувших царя на введение опричнины: «…потеря нравственного равновесия у нервного человека». Да, это скорее всего верно. Царь в 1564 году чувствовал себя подобно актеру в ситуации, когда сцена не задалась, остальные играют из рук вон, постановка в шаге от провала, возможно увольнение… Нервный срыв суммировал гнев, страх, а также неприятное ощущение, что вся «труппа» выступает непутём, и как бы не быть освистанными. В политическом смысле Ключевский определял опричнину как «убежище», где «…царь хотел укрыться от своего крамольного боярства»{114}.[165] Иными словами, опричнина должна была обеспечить безопасность государя, являлась соединением полицейского корпуса[166] с «орденом отшельников».
Р.Ю. Виппер первым всерьез поставил вопрос о «внешнем факторе» как основной силе, определявшей социально-политическое развитие Московского государства в царствование Ивана IV и породившей опричнину. Для Роберта Юрьевича «…опричнина была не только взрывом мести против действительных и мнимых изменников, не только жестом ужаса и отчаяния у царя, перед которым открылась вдруг бездна неверности со стороны лучших, казалось, слуг; это была также военная реформа (курсив мой. — Д. В.), вызванная опытом новой труднейшей войны»{115}.
С.Ф. Платонов первым обратил внимание на аграрную опричную политику. Считая опричнину средством борьбы против «измены», ученый видел в земельных «рокировках» того времени подрыв той колоссальной мощи, которой располагала боярско-княжеская оппозиция. Знать притязала на политическую власть в стране. Основанием для подобных притязаний было «…наследственное льготное землевладение в тех уделах, где предки княжат когда-то были государями…». Аристократы мечтали о своего рода соправительстве с государем всея Руси, который был одного с ними рода, к тому же уступал некоторым в «колене», т.е. знатности. Соответственно государь Иван Васильевич «…решил свести княжат с их вотчин на новые места, разорвать их связи с местными обществами и таким образом подорвать их материальное благосостояние и, главное, разрушить тот устой, на котором опирались их политические претензии и было построено социальное первенство»{116}.
Книги Р.Ю. Виппера и С.Ф. Платонова, созданные в 1920-х годах, принадлежат совершенно разным политическим школам, исполнены в разных творческих стилях, в разных исследовательских плоскостях, но у них немало общего{117}. В частности, оба историка считают Ивана Грозного «крупной политической силой». По сути, одна теория «достраивает» другую. Виппер указал на примат внешней политики в социально-политическом развитии Московского государства «грозненской» эпохи, он сформулировал тезис о необходимости мобилизовать все военные силы страны для решения внешнеполитических задач. Платонов выявил механизм борьбы с недовольными самодержавной, активной в военном отношении политикой — путем террора и «вывода» аристократических родов с древних вотчинных гнезд. Для обоих историков опричнина — орудие, предназначенное к разгрому всяческого недовольства, всяческих попыток аристократии вмешиваться в дела правления. Только Виппера больше интересовал вопрос зачем, а Платонова — как выполняла эту свою функцию опричнина.
М.Н. Покровский, виднейший историк-марксист, указывал на чисто экономические причины воздвижения опричнины: стремление «воинства», т.е. «среднепоместных» землевладельцев-дворян, расширить свои владения за счет богатых вотчинников-аристократов. Ближайшей целью опричнины стало создание из реквизированных земель значительного фонда, предназначенного к раздаче «воинству». Покровский подчеркивает участие в «перевороте 1564 г.» московского посада, который был, в трактовке ученого, средоточием «торгового капитала»{118}.
П.А. Садиков, большой знаток документальных источников, исследователь тонкий и, к сожалению, до конца не оцененный, предвосхитил идеи некоторых более поздних исследователей. В условиях сталинской эпохи он обязан был выражать свои концепции определенным образом. Но от этого не уменьшилось ни его источниковедческое чутье, ни аналитические способности. О целях и сути опричнины он писал следующее: Иван IV готовил в начале 1560-х годов масштабные реформы государственного строя России, однако события 1564 г. «сбили» подготовку. «Реформы» приняли «спешный и бурный характер, вылившись в форму опричнины». Их суть заключалась в создании вокруг особы царя верной дружины «телохранителей» для защиты государевой семьи «от всех возможных случайностей и опасностей» и строительстве аппарата, который обеспечивал бы дружину всем необходимым (прежде всего, поместьями). Помимо этого, царь произвел казни «виднейших представителей княжья» (связанных с Избранной радой, виновных в служебных упущениях или попытках перебежать в Литву), а также произвел частичную «чистку командного состава в действующих войсках». «Опричная ломка» Старицкого удела была частью плана преобразований. Заговоры против царя, в том числе новгородскую «измену», Садиков склонен в большинстве случаев считать реальными проявлениями сопротивления Ивану Васильевичу и его политическим преобразованиям[167]. Подводя итоги, историк пишет: «Опричнина ломала решительно и смело верхушки феодального класса и поддерживала великокняжескую власть — этим, в условиях времени, она была безусловно прогрессивным историческим фактором, но в самой себе таила… острые социальные противоречия»{119}.
По мнению С.В. Бахрушина, Иван Грозный «отчетливо показал цель своей реформы»: во-первых, не допустить «повторения боярско-княжеской реакции, имевшей место в 1538—1547 годах, продолжение которой Иван усматривал… и в попытках бояр, близких к Адашеву, ограничить царскую власть»; во-вторых, укрепить оборону государства, страдавшего от отсутствия достаточной централизации в военном деле». Последнее было особенно важно в условиях Ливонской войны, самого ее «разгара»{120}.[168] Для этого Ивану IV потребовалось «разорить крупное боярское землевладение, служившее основой политической мощи феодальной знати». Ослабив экономически и «лишив политического значения крупных феодалов», царь попутно достигал иной цели: он создавал кадры мелких землевладельцев, всецело от него зависевших, преданных ему и готовых всячески поддерживать его политику{121}.
С.Б. Веселовский с одобрением отзывался о концепции Ключевского{122}. Он не видит в учреждении опричнины никаких реформаторских устремлений царя Ивана IV. В частности, историк констатирует конфликт Ивана Васильевича со всем старым Государевым двором, инициированный попытками монарха убрать оттуда неугодных ему людей. «Выход из положения он нашел в том, чтобы выйти из старого двора и устроить себе новый, “особный” двор, в котором он рассчитывал быть полным хозяином… Опричный двор получил значение базы для борьбы царя со старым двором»{123}.
А.А. Зимин в целом ряде трудов формулировал главную цель опричнины как разгром сохранившихся твердынь удельного периода. В книге, написанной им совместно с А.Л. Хорошкевич, эта концепция доведена до предельной концентрации. Задачей опричнины была, как пишут авторы, «ликвидация удельно-княжеского сепаратизма»{124}. Или, в более мягкой формулировке, «ликвидация пережитков удельной раздробленности и утверждения абсолютной власти монарха». Твердынями «феодальной децентрализации», по мнению А.А. Зимина, были Старицкое княжество, Новгород Великий и в значительной степени полунезависимая Церковь. В то же время сама опричнина «…вносила в жизнь элементы децентрализации»{125}.
В.Б. Кобрин в нашумевшей книге перестроечной поры «Иван Грозный» производит нравственный суд над государем Иваном Васильевичем. Он приходит к печальному выводу: с одной стороны, «…вне зависимости от желаний и намерений царя Ивана опричнина способствовала централизации, была объективно направлена против пережитков удельного времени», но с другой стороны, ее учреждение не преследовало никаких масштабных политических целей, помимо «укрепления личной власти» царя{126}; жертвы грозненского террора не являлись необходимой платой за поступательное развитие России. Опричнина, с точки зрения В.Б. Кобрина, была для страны гибельным и разорительным путем централизации. Зверства, совершенные в опричные годы, аморальны; не следует оправдывать их достигнутыми результатами, даже если кто-то считает эти результаты прогрессивными.
Р.Г. Скрынников высказывался о причинах и сути опричнины неоднократно, время от времени трансформируя свою точку зрения. В конечном итоге она выглядит следующим образом: основная цель опричнины — «ввести в стране самодержавные порядки, утвердить неограниченную власть царя»{127}; основной враг опричнины — «княжеские династии, происходившие из Владимиро-Суздальской земли», т.е. князья Шуйские, Ростовские, Ярославские, Стародубские, Оболенские. «Суздальская знать» имела всестороннее влияние на политическое руководство страной в середине XVI столетия. В опричные годы по ней был нанесен концентрированный удар. Но уже в 1566 и особенно 1567 годах опричнина теряет антикняжескую направленность и происходит расширение конфликта: опричнине начинают сопротивляться руководители земщины из старомосковского боярства; массовый террор обусловлен целым рядом причин, не связанных с изначальными задачами опричнины{128}. Руслан Григорьевич Скрынников, по всей видимости, должен считаться самым сведущим и самым авторитетным исследователем грозненской эпохи среди современных отечественных историков. Однако далеко не все разделяют его точку зрения.
Б.Н. Флоря пишет о потере доверия Ивана IV к собственному двору, а также о боязни измены и, следовательно, желании «отделиться» от старого двора, создав «особый» двор, способный стать орудием борьбы с изменниками. Он, в частности, пишет: «…суть нового режима, установившегося в России с начала 1565 года, состояла в создании особого, подчиненного только царю двора и особого дворянского войска, которое было наделено особыми правами и привилегиями, размещено на особых, выделенных для этого землях и с помощью самых разных мер отделено незримой, но прочной стеной от всего остального дворянства страны»{129}. Исключительно важным и совершенно справедливым представляется замечание Б.Н. Флори об опричном войске.
Покойный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн в широко известной книге «Самодержавие духа» заявил о позитивном значении опричнины. По его мнению, «…опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религиозного долга… Даже внешний вид Александровской слободы, ставшей как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетельствовал о напряженности и полноте религиозного чувства ее обитателей. В ней все было устроено по типу иноческой обители — палаты, кельи, великолепная крестовая церковь (каждый ее кирпич был запечатлен знамением Честнаго и Животворящего Креста Господня). Ревностно и неукоснительно исполнял царь со своими опричниками весь строгий устав церковный… Как некогда богатырство, опричное служение стало формой церковного послушания — борьбы за воцерковление всей русской жизни, без остатка, до конца. Ни знатности, ни богатства не требовал царь от опричников, требовал лишь верности, говоря: “Ино по грехом моим учинилось, что наши князи и бояре учали изменяти, и мы вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды”»{130}. Эта книга получила широкую известность, к тому же нравственный авторитет митрополита Иоанна чрезвычайно высок. При всем том владыка Иоанн высказывается не по богословским вопросам, а по историческим, поэтому его архиерейское слово следует воспринимать в данном случае как мнение частного лица, пусть и весьма образованного, и высокого духом. Эта позиция обозначена публицистически: критика источников по царствованию Ивана IV в книге довольно поверхностна. Гораздо важнее призыв смотреть на историю «очами веры», с которым нет причин спорить.
Автор этих строк видит в опричнине военно-административную реформу, притом реформу не слишком обоснованную и в итоге неудавшуюся[169]. Она была вызвана общей сложностью военного управления в Московском государстве и, в частности, «спазмом» неудач на Ливонском театре военных действий. Опричнина представляла собой набор чрезвычайных мер, предназначенных для того, чтобы упростить систему управления[170], сделать его полностью и безоговорочно подконтрольным государю, а также обеспечить успешное продолжение войны. В частности, важной целью было создание крепкого «офицерского корпуса», независимого от самовластной и амбициозной верхушки служилой аристократии. Борьба с «изменами», как иллюзорными, так и реальными, была изначально второстепенным ее направлением. Только с началом карательных действий по «делу» И.П. Федорова она разрослась, приобретя гипертрофированные масштабы. Произошло это лишь через три года после учреждения опричной системы! Отменили же опричнину, поскольку боеспособность вооруженных сил России она не повысила, как задумывалось, а, напротив, понизила и привела к катастрофическим последствиям, в частности сожжению Москвы в 1571 году[171]. Известный писатель Леонид Кудрявцев метко высказался по этому поводу: «Эксперты всегда ворчат. Царь решил обойтись без экспертов, и получилось то, что всегда в таких случаях получается…»
Был ли иной путь, более плодотворный и менее болезненный? Думается, да. Вернее всего, правы те, кто указывает на медленное, реформистское изменение социально-политической структуры как на оптимальную модель развития… Правда, для нее нужен был второй Иван Великий, а Господь такого гения нашим предкам не даровал.
* * *
Итак, введение опричнины датируется январем 1565 года. Предыстория указа о ее учреждении такова: в декабре 1564 года Иван Васильевич покинул Москву и отправился в поход к Троице, но на этот раз поведение государя со свитой слабо напоминало обычные царские выезды на богомолье в монашеские обители. Царь прилюдно сложил с себя монаршее облачение, венец и посох, сообщив, что уверен в ненависти духовных и светских вельмож к своей семье, а также в их желании «передать русское государство чужеземному господству»; поэтому он расстается с положением правителя. После этого Иван Васильевич долго ходил по храмам и монастырям, а затем основательно собирался в дорогу. Царский поезд нагружен был казной, драгоценностями, множеством икон и, возможно, иных святынь[172]. Расставаясь с высшим духовенством и «думными» людьми, государь благословил их всех. Вместе с Иваном Васильевичем уезжала его жена княгиня Мария Темрюковна Черкасская и два сына. Избранные самим царем приказные, дворяне, а также представители старомосковских боярских родов в полном боевом снаряжении и с заводными конями сопровождали его[173]. В их числе: Алексей Данилович Басманов, Михаил Львович Салтыков, Иван Яковлевич Чеботов, князь Афанасий Иванович Вяземский. Некоторых, в том числе Салтыкова и Чеботова, государь, обобрав, отправил назад, видимо, не вполне уверенный в их верности. С ними он отправил письмо митрополиту Афанасию и «чинам», где сообщал, что «…передает… свое царство, но может прийти время, когда он снова потребует и возьмет его». До сих пор все шло, как великолепная театральная постановка. По всей видимости, Иван Васильевич ожидал достаточно быстрой реакции публики, т.е. митрополита и «думных» людей. Играл он до сих пор великолепно, но его не остановили ни в Москве, ни по дороге к Троице. Ему требовалось навязать верхам общества достаточно жесткие условия грядущей реформы, но, вероятно, государь не предполагал, что игра затянется, и собирался решить поставленные задачи «малой кровью». А митрополит с «чинами» между тем не торопились звать царя назад. Должно быть, у них появились свои планы. Тогда государь, миновав Троицу, добирается до Александровской слободы и там затевает новый спектакль. В первых числах января 1565 года он отправляет с Константином Дмитриевичем Поливановым (в будущем видным опричным воеводой) новое письмо в Москву. Царское послание полно гневных обвинений: старый Государев двор занимался казнокрадством и разворовыванием земельных владений, а главную свою работу — военную службу — перестал должным образом исполнять. «Бояре и воеводы… от службы учали удалятися и за православных крестиян кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели». А когда государь изъявил желание «понаказати» виновных, «…архиепископы и епископы и архимандриты и игумены, сложася з бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людьми, почали по них… царю и великому князю покрывати». Не видя выхода из этой ситуации, государь «…оставил свое государьство и поехал, где веселитися, иде же его, государя, Бог наставит». Столичный посад получил от государя письмо совершенно иного содержания. На посадских людей, говорилось там, «…гневу… и опалы никоторые нет». Это была откровенная угроза Церкви и служилой аристократии взбунтовать против них посад, повторив ужасный мятеж 1547 года. Видимо, угроза оказалась действенной (к тому же посад проявил активность — «биша челом» митрополиту о возвращении Ивана Васильевича на царство). В итоге из Москвы в Александровскую слободу поехала огромная «делегация», состоящая из архиереев, «думных» людей, дворян и приказных. В ее составе были посланцы митрополита Афанасия архиепископ Новгородский и Псковский Пимен, Чудовский архимандрит Левкий, а также виднейшие аристократы князья Иван Дмитриевич Вельский и Иван Федорович Мстиславский[174]. После долгих уговоров и «молений… со слезами о все народе крестиянском» делегация добилась от государя обещания вернуться на царство. Но при этом Иван Васильевич выторговал себе право разбираться с государственными делами, «…как ему государю годно», невозбранно казнить изменников, возлагать на них опалы и конфисковывать их имущество. Иными словами, он добился того, чего и желал: получил карт-бланш на любые действия от Церкви, до сих пор отмаливавшей тех, кто должен был подвергнуться казням; ему достался также карт-бланш от служилой аристократии, до сих про сохранявшей значительную независимость по отношению к государевой воле{131}.[175] Весь этот политический театр одного актера того стоил!
До наших дней не дошло самого указа о введении опричнины. Однако летопись приводит подробный пересказ его содержания. Для верного понимания того, что именно и с какими целями вводилось по воле государя Ивана Васильевича, следует прежде всего ознакомиться с этим текстом. «Челобитье… государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, что ему своих изменников, которые измены ему государю делали и в чем ему государю были непослушны, на тех опалы свои класти, а иных казнити и животы их и статки имати[176]; а учинити ему на своем государьстве себе опришнину, а двор ему себе и на весь свои обиход учинити особной, а бояр и окольничих и дворецкого и казначеев и дьяков и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских, и стольников, и стряпчих, и жильцов учинити себе особно[177]. И на дворцех на сытном и на Кормовом и на Хлебенном учинити клюшников и подклюшников и сытников и поваров и хлебенников, да и всяких мастеров и конюхов и псарей и всяких дворовых людей и на всякой обиход, да и стрельцов приговорил учинити себе особно. А на свой обиход повелел государь царь и великий князь, да и на детей своих, царевичев Иванов и царевичев Федоров обиход, городы и волости: город Можаеск, город Вязьму, город Козелеск, город Перемышль два жеребья, город Белев, город Лихвин обе половины, город Ярославец и с Суходровью, город Медынь и с Товарковою, город Суздаль и с Шуею, город Галич со всеми пригородки с Чюхломою и с Унжею, и с Коряковым, и з Белогородьем, город Вологду, город Юрьевец Повольской, Балахну и с Узолою, Старую Русу, город Вышегород на Поротве, город Устюг со всеми волостьми, город Двину, Каргополе, Вагу; а волости: Олешню, Хотунь, Гусь, Муромское сельцо, Аргуново, Гвоздну, Опаков на Угре, Круг Клинской, Числяки, Ординские деревни и стан Пахрянской в Московском уезде, Белгород в Кашине, да волости Вселун, Ошту, Порог Ладошской, Тотьму, Прибужь. И иные волости государь поймал кормленым окупом, с которых волостей имати всякие доходы на его государьской обиход, жаловати бояр и дворян и всяких его государевых дворовых людей, которые будут у него в опришнине; а с которых городов и волостей доходу не достанет на его государьской обиход, и иные городы и волости имати. А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян, и детей боярских дворовых и городовых 1000 голов, и поместья им подавал в тех городах с одново, которые городы поймал в опришнину. А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то место в ыных городех, понеже опришнину повеле учинити себе особно. На двор же свой и своей царице великой княгине двор повеле место чистити, где были хоромы царицы и великой княгини, позади Рожества Пречистые и Лазаря Святаго, и погребы и ледники и поварни все и по Курятные ворота; такоже и княже Володимерова двора Ондреевича место принял и митрополича места. Повеле же и на посаде улицы взяти в опришнину от Москвы реки: Чертольскую улицу и з Семчинским сельцом и до всполия, да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского всполия, да до Никицкой улицы половину улицы, от города едучи левою стороною и до всполия, опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря слобод и опричь Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевского монастыря слободы. А слободам быти в опришнине: Ильинской, под Сосенками, Воронцовской, Лы-щиковской. И которые улицы и слободы поймал государь в опришнину, и в тех улицах велел быти бояром и дворяном и всяким приказным людям, которых государь поймал в опришнину. А которым в опришнине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в ыные улицы на посад. Государство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякие дела земские, приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в земских: князю Ивану Дмитреевичу Белскому, князю Ивану Федоровичу Мстисловскому и всем бояром; а конюшому и дворетцскому и казначеем и дьяком и всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу чинити по старине, а о больших делех приходити к бояром. А ратные каковы будут вести или земские великие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь приговор яз бояры, тем делом управу велит чинити. За подъем же свои приговорил царь и великий князь взяти из Земского приказа сто тысяч рублев; а которые бояры и воеводы и приказные люди дошли за государьские великие измены до смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех животы и статки взяти государю на себя»{132}.
Прежде всего: о казнях изменников тут сказано совсем немного. Ни о каких массовых репрессиях речь не идет. Да, царь получает полную волю в определении того, кто должен пойти на плаху, кто изменник, и даже Церковь теряет право «печалования». Но этим правом на протяжении первых лет опричнины монарх пользуется нечасто. Нет никаких «волн казней». Даже после введения опричнины, когда, казалось бы, для Ивана IV наступило удобное время, чтобы расправиться с политическими противниками, он отправляет на смерть лишь пятерых аристократов: князя А.Б. Горбатого с сыном его Петром, окольничего П.П. Головина, князя И.И. Сухого Кашина, князя Д.А. Шевырева{133}. Многие лишились вотчин, отправились в ссылку, некоторых насильно постригли в монахи. Но все эти действия, даже взятые в совокупности, еще никак не свидетельствуют о том, что опричнине планировалось придать характер «машины репрессий», карательного аппарата.
Что приобретает царь, помимо свободы казнить тех, кого сочтет изменниками?
Прежде всего, он отделяет то, что подчиняется непосредственно ему — во всем и без какого бы то ни было исключения, — от того, что подчиняется «Московскому государству» во главе с боярами, которые обязаны по важнейшим вопросам советоваться с государем, но в прочих случаях «ведают и делают» земские дела.
Фактически в составе России появляется государев удел, царский домен, полностью выведенный из-под контроля высших родов служилой знати. Прежде всего из-под контроля «княжат». На территории этого удела царь перестает опираться как на «живой инструмент» на высшую аристократию, которая прежде, по необходимости, присутствовала везде и во всём. Монарх получает, таким образом, самостоятельный военно-политический ресурс, коим может управлять прямо, без посредников.
Здесь у него будет собственная служилая корпорация, которую царь наберет сам, с помощью немногих доверенных лиц, никак не принимая в расчет интересы «княжат». Здесь у него будет собственная Дума, чья компетенция распространится на земли удела, а с годами расширится и захватит львиную долю важнейших «земских», т.е. общегосударственных, дел. Здесь у него будет собственная армия; основой вооруженных сил опричнины станет новый «офицерский корпус» из 1000 голов, также отобранных без учета интересов высшей аристократии. Здесь у него сконцентрируются запасы, предназначенные для расхода на опричных служилых людей. И всё это станет управляться из особой резиденции («двора») вне Кремля.
В дополнение к прочему Иван Васильевич берет из общегосударственной казны «на подъем» колоссальную сумму — 100 000 рублей. По тем временам большой каменный храм строился на 1000 рублей…
Резюмируя самое главное: царь обретает полностью подконтрольную и в материальном смысле превосходно обеспеченную воинскую силу. Он может использовать ее для перелома в военных действиях на литовско-ливонском фронте, а может просто защититься ею от «внутреннего врага».
Стоит подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство: до 1567 года в опричной армии и в опричных органах управления не появится ни единого представителя знатнейших родов «княжат». Титулованная знать была представлена в опричнине с первых месяцев ее существования. Но! Лишь второстепенными и третьестепенными семействами.
В 1567 году там оказался… один. Князь Василий Иванович Темкин-Ростовский. Но его возвышение происходило медленно и трудно. Ему пришлось крепко постараться, завоевывая доверие государя. Да и с появлением Темкина в высших ярусах опричнины социальное лицо ее ничуть не изменилось. На протяжении долгого времени он представлял собой исключение из общего правила.
А правило гласило: высокородным «княжатам» на верхи опричнины путь заказан. В опричную Думу и в воеводский корпус опричных вооруженных сил их не брали. Туда рекрутировались представители старинных московских боярских родов, небольшое количество худородных выдвиженцев и несколько семейств из среды второстепенной титулованной знати.
Этот порядок сохранялся весьма долго: от основания опричнины до первых месяцев 1570 года. Впоследствии он был нарушен. О причинах его падения речь пойдет ниже. Но до того, — целых пять лет! — опричнина в принципе обходилась без княжат «первого ранга».
Выходит, царь постарался обойтись без услуг самой богатой и самой влиятельной социальной группы в России. Подрубить ее права на занятие ключевых государственных и военных должностей, опираясь на другие социальные слои. Это как минимум давало ему союзников, готовых помочь в «перетягивании каната» со сливками «княжат». Ведь успех опричнины обеспечивал им все шансы на служебное возвышение!
Таким образом, великому множеству нетитулованных аристократов и дворян родом поплоше опричнина вовсе не кажется каким-нибудь мрачным мистическим монстром с застенками в каждом подвале. Отнюдь! Она представляется новой служилой иерархией с многообещающими «правилами игры».
Разбираясь в механизме работы опричнины, следует с полной ясностью понимать: многие смотрели на нее как на «поле чудес».
Во всяком случае, так было сначала…
И если взглянуть на опричнину как на проект масштабной военно-политической реформы, то сначала он выглядел разумной системой мер, в основу которой положена логика политической борьбы. Вот только претворение опричного проекта в жизнь вызвало мощнейший кризис. Перед лицом его все проблемы 1564 года кажутся сущей мелочью.
Важно не только что делает высшая власть, но и как она это делает.
События конца 1564-го — начала 1565 года представляют собой важнейший рубеж в биографии государя. До того он смирялся с ограничениями, которые накладывала на него тяжелая, но благодатная роль православного царя, главного столпа Традиции в державе. Эта роль тяжела для кого угодно, но большинство наших монархов времен Московского государства с честью несли ее бремя от восшествия на престол до самой смерти. А вот Иван IV этого груза не выдержал и пожелал скинуть его. Предопричное лицедейство и есть акт ритуального отказа от традиционной роли, от «правильной прописки» в рамках Русской цивилизации. Оно свидетельствует и о нетвердой нравственности Ивана Васильевича, и о странной религиозности, сильной лишь внешней своей стороной…
Таубе и Крузе, оставившие свидетельство о начале опричнины, отметили одну любопытную деталь: Иван IV прибыл в Москву из Троицы «…с таким извращенным и быстрым изменением своего прежнего облика, что многие не могли узнать его. Большое изменение, между прочим, внесло то, что у него не сохранилось совершенно волос на голове в бороде, — их сожрала и уничтожила его злоба и тиранская душа»{134}. На этот нюанс многие исследователи обращали внимание, делая далеко идущие выводы. Дескать, Иван IV не был уверен в успехе своего предприятия. Дескать, он очень волновался, был то ли на грани помешательства, то ли уже за гранью. Дескать, это был драматичный момент в биографии монарха. Правда же состоит в том, что правильно истолковать данную информацию невозможно. Если борода и волосы действительно исчезли, и это не выдумка Таубе и Крузе, то их пропажа может быть в равной степени свидетельством сильных эмоций, следом сражений со вшами и элементом «постановки», с помощью которого Иван Васильевич хотел показать «публике»: «В моей судьбе кое-что произошло, а теперь и вам следует ожидать приход новой жизни».
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения идеального функционирования Русской цивилизации, события 1565 года выглядят просто безобразно. Наша аристократия проявила необыкновенную жадность и необыкновенное неуважение к Церкви в 30-х и 40-х годах XVI столетия. В первой половине 1560-х годов она проявила также военную слабость и недостаток энергии в решении насущно важных задач. Будучи мощным столпом традиционного общественного устройства, знать принялась эгоистично раскачивать Русский Дом. Государь не нашел ничего лучшего, как только разыграть политический балаган, добиваясь всенародного разрешения казнить направо и налево, переделывать военно-административную сферу, как ему заблагорассудится, поскольку лучших способов выхода из сложившейся ситуации он найти не смог. Церковь, исполняя вечную свою роль милосердной матери для русского общества, печаловалась за тех, кому грозила смерть, но вдруг отступилась от своего исконного права, стоило лишь св. Макарию покинуть ее… Видимо, Россия слишком долго жила благополучной жизнью и пользовалась милостью Божьей, развращаясь. Духовная твердость покинула русское общество. Кажется, оно обленилось и в нравственном, и в религиозном смысле… Наша знать достойна была вразумления плетьми, царь — ведра ледяной воды, а Церковь… автор этих строк хотел бы удержаться от оценок.
* * *
Государь Иван Васильевич активно занялся устройством опричнины.
Для постройки опричного дворца (или, иначе, опричного двора) — главной политической резиденции государева «удела» — было снесено множество зданий на Неглинной, напротив Кремля. Московский опричный дворец располагался в том месте, где соединяются улицы Воздвиженка и Моховая; точно определил его положение дореволюционный историк И.Е. Забелин{135}.[178] Все пространство[179], отданное под постройку, было окружено высокой стеной с тремя воротами. На сажень она состояла из тесаного камня, и еще на две сажени — из кирпича. Рядом с дворцом располагались, по всей видимости, казармы опричной стражи («особый лагерь», по Шлихтингу, изложенному в не очень точном переводе). Видимо, общая численность московского опричного отряда, охранявшего царя, составляла 500 человек. Северные ворота играли роль «парадных». По свидетельству Генриха Штадена, они были окованы железными полосами и покрыты оловом. Сторожил их засов, закрепленный на двух мощных бревнах, глубоко врытых в землю. Украшением ворот служили два «резных разрисованных льва» (вместо глаз у них были вставлены зеркала), а также черный деревянный двуглавый орел с распростертыми крыльями, обращенный «в сторону земщины». На шпилях трех главных палат также красовались орлы, повернутые к земщине. Опричный дворец был надолго обеспечен всем необходимым, значительную часть его территории занимали хозяйственные постройки: поварни, погреба, хлебни и мыльни; «над погребами были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами из досок, прозрачно прорезанных в виде листвы…». Поскольку строительство производилось на сыром месте, двор пришлось засыпать песком «на локоть в вышину. Даже церковь поставили на сваях. Главная палата стояла напротив восточных ворот, в нее можно было войти по двум лестницам (крылечкам). Перед лестницами высился помост, «…подобный четырехугольному столу; на него всходил великий князь, чтобы сесть на коня или слезть с него. Эти лестницы поддерживались двумя столбами, на них покоилась крыша и стропила. Столбы и свод украшены были резьбой под листву. Переход шел кругом всех покоев и до стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла на восток перед двором, вне ограды…»{136}
Московский опричный дворец погиб в 1571 году, когда крымский хан Девлет-Гирей спалил Москву. Но помимо него в разное время строились иные царские резиденции: в Старице, Вологде, Новгороде. На территории Александровской слободы опричный дворец стали строить, по всей видимости, одновременно или вскоре после московского{137}. Туда Иван Васильевич переехал из Москвы не ранее второй половины 1568 года и не позднее марта 1569 года. В Московском дворце Иван IV провел относительно немного времени. Зато Александровская слобода, а позднее Старица на долгие годы становились настоящими «дублерами» русской столицы. Часть сооружений опричной поры сохранилась до наших дней.
К несколько более позднему времени относятся известия о странном мистическом ордене, основанном царем из опричной «гвардии». Немцы-опричники Таубе и Крузе, впоследствии ставшие изменниками, сообщают: «Опричники (или избранные) должны во время езды иметь известное и заметное отличие, именно следующее: собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны»{138}. Это полностью подтверждается русскими источниками, до наших дней дошло даже изображение конного опричника с метлой и собачьей головой. Опричники должны были носить грубые и бедные верхние одежды из овчины наподобие монашеских. Зато под ними скрывалось одеяние из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху…
Иван IV образовал из опричного ополчения нечто вроде религиозного братства. В него вошло около 500 человек, по словам тех же Таубе и Крузе, «…молодых людей, большей частью очень низкого происхождения, смелых, дерзких, бесчестных и бездушных парней». Опричное братство оценивали очень по-разному. Основным источником по его истории является послание Таубе и Крузе польскому гетману Яну Ходкевичу, памятник противоречивый и далеко не столь достоверный, как, например, записки Ченслора, Дженкинсона, Фоскарино и Шлихтинга. Однако ничего лучшего в распоряжении историка нет[180]: «Этот орден предназначался для совершения особенных злодеяний. Из последующего видно, каковы были причины и основание этого братства. Прежде всего монастырь или место, где это братство было основано, был ни в каком ином месте, как в Александровской слободе, где большая часть опричников, за исключением тех, которые были посланцами или несли судейскую службу в Москве, имели свое местопребывание. Сам он был игуменом, князь Афанасий Вяземский — келарем, Малюта Скуратов — пономарем; и они вместе с другими распределяли службы монастырской жизни. В колокола звонил он сам вместе со своими сыновьями и пономарем. Рано утром… должны были все братья быть в церкви; все не явившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, все равно, высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитимьи. В этом собрании поет он сам со своими братьями и подчиненными попами с четырех до семи. Когда пробивает восемь часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет десять. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят. Каждый брат должен приносить кружки, сосуды и блюда к столу, и каждому подается еда и питье, очень дорогое и состоящее из вина и меда, и что не может съесть и выпить, он должен унести в сосудах и блюдах и раздать нищим, и, как большей частью случалось, это приносилось домой. Когда трапеза закончена, идет сам игумен ко столу. После того, как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей; их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины, вид чего вызывает в нем, согласно его природе, особенную радость и веселость. И есть свидетельство, что никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до восьми часов. И после этого каждый из братьев должен явиться в столовую, или трапезную, как они называют, на вечернюю молитву… После этого идет он ко сну в спальню, где находятся три приставленных к нему слепых старика; как только он ложится в постель, они начинают рассказывать ему старинные истории, сказки и фантазии, одну за другой. Такие речи, согласно его природе или постоянному упражнению, вызывают его ко сну, длящемуся не позже, чем до 12 часов ночи. Затем появляется он тотчас же в колокольне и в церкви со всеми своими братьями, где остается до трех часов, и так поступает он ежедневно по будням и праздникам. Что касается до светских дел, смертоубийств и прочих тиранств и вообще всего его управления, то отдает он приказания в церкви. Для совершения всех этих злодейств он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями. Все, что приходило ему в голову, одного убить, другого сжечь, приказывает он в церкви; и те, кого он приказывает казнить, должны прибыть как можно скорее, и он дает письменное приказание, в котором указывается, каким образом они должны быть растерзаны и казнены; этому приказанию никто не противится, но все, наоборот, считают за счастье милость, святое и благое дело выполнить его… Все братья и он прежде всего должны носить длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками… а также длинные ножи под верхней одеждой, длиною в один локоть…»{139}. Некоторые из фактов, упомянутых Таубе и Крузе, подтверждаются иными источниками, например обширным известием об опричных годах в Пискаревском летописце. Само существование опричного братства — явление кратковременное. Оно не могло появиться ранее окончательного переезда Ивана IV в Слободу (вторая половина 1568 года)[181] и вряд ли пережило период, когда казни обрушились на само опричное руководство (первая половина — середина 1570 года), в том числе ушел из жизни «келарь» князь Афанасий Иванович Вяземский{140}. Его кончине предшествовали долгие избиения (правеж), в ходе которых князь должен был расстаться по частям со всем своим имуществом. В дальнейшем, кстати, на протяжении нескольких лет (до 1575 года) не было и массовых казней, а то, что описывают Таубе и Крузе, относится ко времени масштабного террора. Всего, таким образом, не набирается и трех лет существования опричного братства. Но 2,5—3 года — это наиболее расширительное толкование. На самом деле, быть может, вся история странного Слободского ордена (так удобнее всего называть эту организацию) насчитывает несколько месяцев, а то и недель. Ведь Иван Васильевич провел значительную часть того периода в разъездах: бывал подолгу в Москве, ездил по вотчинам И.П. Федорова, занимаясь их разгромом, несколько месяцев провел в походе на Новгород и другие северные области, принимал опричный военный смотр в Старице, выезжал на юг «по крымским вестям». Что же остается? Твердо можно говорить о нескольких месяцах в середине 1569 года (до Новгородского похода), а также о первой половине 1570-го[182]. По всей видимости, именно тогда, в 1569 или 1570 году, и существовал Слободской орден.
В разное время историки и публицисты считали Слободской орден то своего рода «сверхмонастырем», то, напротив, изощренным кощунством над православными церковными устоями, то мистической организацией самого темного, чуть ли не сатанинского характера. Я.Н. Любарский и С.В. Алексеев обратили внимание на некоторое сходство обычаев, заведенных Иваном Васильевичем в Слободе, с шутовским собором византийского императора Михаила III Пьяницы[183]. Митрополит Санкт-Петербурский и Ладожский Иоанн (Снычев) находил опричное сборище истинно православным по духу[184]. Д.М. Михайлович видел в Слободском ордене эзотерическую организацию, недружественную по отношению к православной Церкви, и связывал ее возникновение с деятельностью на территории Московского государства вестфальского лекаря, астролога, отравителя и мага Елисея (Элизиуса) Бомелия, появившегося в нашей стране как раз летом 1570 года; Д.М. Михайлович указывает на антицерковный характер опричной политики и считает возможным принятие русским государем эзотерического посвящения от Бомелия{141}.[185] Высказывались догадки о сходстве ордена с тайными инквизиционными трибуналами, т.е. наследием Торквемады. Некоторые историки сомневаются в достоверности сообщения Таубе и Крузе об опричном братстве. Автор этих строк решительно отказывает в какой бы то ни было связи между христианством и ассасинами в монашеских одеяниях. За скудостью источников трудно определить, тянется ли в Слободу какая-либо эзотерическая ветвь из Европы, насколько возможно посвящение в тех условиях и был ли Бомелий действительным инициатором Слободского ордена. Возможно, царь-актер воздвиг для себя идеальную «сцену», не имея далеко идущих мистических соображений. Он использовал для лицедейства храм — идеальную по тем временам площадку для театральных представлений, с отличной акустикой и роскошными декорациями. Ведь приказания по государственным делам отдавались им в церкви — зачем? Возможно, из-за того, что государю они виделись частью «роли».
Попытки проследить историю Слободского ордена напоминают блуждание в потемках. Историк имеет слишком мало информации о нем и должен бы положить перо, воздерживаясь от категоричных выводов. Нет ни единого достойного доверия метода, с помощью которого можно было бы определить, во-первых, где лгут, а где говорят правду Таубе и Крузе, во-вторых, с какой целью государь Иван Васильевич создал Слободской орден.
Через несколько месяцев после утверждения опричнины был произведен первый набор служилых людей в опричную армию и государев двор. А осенью 1568 года опричные боевые отряды впервые появились на поле боя — под Волховом. Их двинули вместе с земской армией против крымского хана.
Историки XX столетия, со времен Сергея Федоровича Платонова, много писали о земельной политике опричнины и даже искали в ней разгадку сути той диковинной политической конструкции, которую создал Иван IV. Но замечали в основном ее отрицательный аспект. Характерные выражения, присущие многим историческим исследованиям этого периода: «перераспределение земель в годы опричнины было направлено против…» или «опричная аграрная стратегия ориентирована на подрыв…».
Действительно, огромные земельные владения были реквизированы по велению Ивана Васильевича во второй половине 1560-х годов, а в 1570-х эта политика знала «рецидивы». И, спору нет, при этом ощутимые потери понесли крупные вотчинники, относящиеся к видным княжеским родам.
Но у опричных преобразований, связанных с земельной собственностью, основным был, думается, все-таки позитивный аспект. Иными словами, прежде всего, для какой цели реквизировались земельные владения у прежних хозяев, а не против кого направлены все эти меры. Между тем сокращенная версия указа об учреждении опричнины, помещенная в официальной летописи, дает ясное представление о том, каковы приоритеты опричной политики в этом направлении: «…а учините государю у себя в опришнине князей и дворян, и детей боярских дворовых, и городовых 1000 голов, и поместья им подавал в тех городех с одново, которые городы поймал. А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то место в ыных городех, понеже опришнину повеле учините себе особно»{142}. Иными словами, первейшая и главная цель опричной аграрной политики состоит в обеспечении служилых людей опричного корпуса поместьями. Очевидно, речь идет о том, чтобы дать опричной братии лучшие земельные владения в Московском государстве. Никакая социальная группа не выдвинута на роль «донора». Та же княжеская аристократия нигде не названа как приоритетный объект реквизиций. А монография В.Б. Кобрина «Власть и собственность в средневековой России» показала, что политика отчуждения поместий и вотчин не имела специальной антикняжеской направленности и не привела к подрыву княжеского землевладения в России{143}. Землю, таким образом, забирали там, где ее удобно было забрать. Важно было наилучшим образом обеспечить новорожденное опричное войско, а не обидеть или разорить кого-то при этом.
Р.Г. Скрынников писал о массовой Казанской ссылке тех, кто потерял в опричном секторе свои вотчины и поместья. В частности, отмечал обилие аристократов, служивших по княжеским спискам, указывал на значительное количество крупнейших и самых родовитых представителей знати, связанной с Владимиро-Суздальской землей. Но, во-первых, помимо богатейших аристократов высланы были совершенно незаметные. Зачем? К чему по ним-то «наносить удар»? И, во-вторых, казанских ссыльных довольно быстро вернули на территорию коренных русских уездов. Если бы надо было им «нанести удар» — так сгноили бы их на казанских землях. Нет, по всей видимости, государь все-таки нуждался в их военно-административных услугах и не собирался сводить под корень старинные рода. Впоследствии многие из них при жизни Ивана Васильевича получили назад свои владения и обрели новые, взамен прежних. Дело здесь, вероятно, не в каких-то особенных, требующих насильственного разрыва связях старых княжеских семейств с землями, на которых они жили, или «связях с местными обществами», как писал С.Ф. Платонов. Просто прежних землевладельцев надо было убрать с тех мест, где должны были устроиться опричники. Чтобы не мешали обустройству новых помещиков, чтобы, не дай Бог, не делали попыток оказать сопротивление. Их и убрали под Казань — от греха подальше. По большей части произошло следующее: в 1565 году людей выслали на окраину страны, а уже в 1566 году их вернули обратно в центр.
О многом говорит географическое расположение опричных владений. В соответствии с указом о введении опричнины ее территорией стали земли на Русском Севере, в том числе Беломорское побережье, Подвинье, Важская земля, а также огромная область в треугольнике, вершинами которого стали Соль Вычегодская, Каргополь и Вологда; значительные территории в самом центре Московского государства — Вязьма, Можайск, Козельск, Перемышль (частично), Белев, Лихвин, Ярославец, Медынь, Суздаль, Шуя, Галич, Юрьевец Повольский, Балахна, Старая Русса, огромные анклавы под Москвой, в районе Кашина и Клина; обширная часть самой столицы. Позднее, по сообщению немцев-опричников Таубе и Крузе, Ростов и Белоозеро были присоединены к опричному «уделу» государя. Не так давно были найдены записи летописного характера в рукописном сборнике Кирилло-Белозерского собрания. Там содержалась информация, согласно которой в январе 1569 года Ростов и Ярославль были взяты в опричнину{144}. Видимо, присоединение Белоозера произошло тогда же. Известно, что в состав опричных владений попали также Кострома, Пошехонье, Переяславль-Залесский, Старица, Бежецкий Верх, восточное Приладожье и все Прионе-жье[186]. На закате опричнины туда взяли часть Новгорода Великого.
Если нарисовать карту опричного «удела», то прежде всего придется полностью заштриховать почти все северные области страны. Затем окажется заштрихованной вся северная часть старинного Владимиро-Суздальского княжества, каким оно было в XIII столетии. Если все остальное представить себе в виде мишени, а Москву поместить в «яблочке», то набор опричных анклавов будет напоминать след от выстрела крупной дробью в самый центр мишени.
С северными землями все более или менее понятно. Естественно стремление Ивана Васильевича пользоваться доходами от таможенных пошлин, промыслов, а также контролировать важный торговый маршрут из Европы в Россию вокруг Скандинавского полуострова — он был в середине 50-х годов XVI столетия открыт для европейского мореплавания экспедицией англичан Хью Уиллоуби и Ричарда Ченслора. Север был для опричнины неиссякающей денежной бочкой. Испомещать кого-то на землях слабо освоенных, со сравнительно неразвитым землевладением, вряд ли было целью включения северных областей в состав опричной территории.
Когда-то автор этих строк допустил легкомысленное утверждение, что в опричнину были взяты «стратегически важные» земли, т.е. города, составляющие узловые пункты обороны страны и опорные базы для наступления в Ливонии. Имелись в виду Вязьма, Вышгород, Старая Русса. Это ошибка. Напротив, 99% приграничной территории, т.е. тех же «стратегически важных» земель, попало в земщину. Ивана Васильевича слабо интересовала Рязанщина, регулярно разоряемая татарами; не нужны ему были Псков с пригородами, Смоленск, Рославль, Стародуб и Чернигов, составлявшие ожерелье оборонительных твердынь нашего западного рубежа. Государь не проявил интереса к огромной области, лежащей южнее Одоева и Белева, области, в наибольшей степени подверженной угрозе крымских набегов. Ему не понадобилась северо-западная, западная и южная Новгородчина, бедная хлебом, зато максимально близкая к шведско-литовскому фронту. Парадоксально, но факт: опричнина должна была защитить государя и страну, а земщина защищала… опричнину. Фактически земские территории представляли собой «доспехи», надетые на тело опричнины.
Другое дело — центр, козельские, тверские и ростово-суздальские земли. Они отличались плодородием, издревле осваивались, были густо заселены и представляли собой золотой фонд русской пашни. Кроме того, перечисленные области расположены относительно недалеко от главных опричных резиденций Ивана Васильевича — Александровской слободы и Московского дворца. А значит, по идее у командования появилась возможность быстро собирать опричную армию в кулак.
Фактически речь идет о полномасштабном выполнении реформы, задуманной намного раньше, т.е. испомещении в центральных, наиболее близких к Москве и наиболее освоенных областях «избранной тысячи». Что касается действительных, иными словами, документально подтвержденных фактов получения опричным «офицерским корпусом» значительных поместий на реквизированных землях, то их известно немало, и ни у кого они не вызывают сомнений. Испомещались даже иностранцы-опричники, подтверждением чего служит сообщение немца-опричника Генриха Штадена о пожаловании ему поместий под Москвой и в районе Старицы. После того как опричное войско и опричную администрацию упразднили, была совершена земельная «рокировка»: те, кто еще мог претендовать на возврат земельных владений, отобранных в первые годы опричнины, частично получили их назад.
Опричнина явно не была нацелена на создание «дружины» царских «телохранителей». Для этих целей вполне хватало нескольких сотен бойцов, охранявших царскую семью в Опричном дворце. Не будь опричнины, с подобными задачами справились бы 1—2 стрелецких приказа, состоявших из служилых людей по прибору с незначительным количеством дворян на офицерских должностях. На худой конец такого рода гвардией могла бы стать команда наемников. При дворах европейских монархов нередко караул несла стража, набранная из иностранцев, например шотландцев и швейцарцев. Как минимум в последние годы жизни Иван IV сделал то же самое: в его распоряжении был отряд из 1200 иностранных солдат, в том числе тех же шотландцев с Джимми Лингетом во главе{145}. Упоминаются служилые «немцы» и в русских разрядах 1570-х годов. Таким образом, цели опричнины были шире сбережения царя от заговоров и покушений. Прежде всего речь шла о создании особой армии — наилучшим образом укомплектованной, вооруженной, легко управляемой, с командными кадрами, всецело преданными царю. А значит, обеспечение столь значительного количества служилых людей должно было потребовать масштабных перемен в землевладении. Именно это происходило в массовом порядке: вотчины и поместья стремительно меняли хозяев.
Как уже говорилось, крайне маловероятно изначальное предназначение опричнины для террора против непокорной аристократии, тех же княжат, потомков удельных владык. Во-первых, массового террора в первые годы опричного периода не было. По источникам известно несколько казней, а также ряд убийств, которые могли произойти бессудно и без объявления вины — по одному лишь велению царя. Но до Новгородского разгрома 1570 года все репрессии могли осуществляться сравнительно небольшим числом опричников, например, той же царской охраной, состоявшей из нескольких сотен человек… Лишь поход в северные земли — Клин, Вышний Волочек, Новгород Великий, Псков, Торжок, Тверь — потребовал значительных сил. Из этой картины совершенно выпадает опричное войско, целые полки которого выходили против ливонцев и татар. Полки, а не «пятьсот телохранителей»! По самым скромным подсчетам оно должно было достигать 5000—6000 бойцов. Для осуществления террористической деятельности, отдельные акты которой размазаны по семи годам опричной эпохи, как масло по хлебу, это явно слишком много. Таким образом, версию о «полицейском корпусе» приходится отклонить, заодно с версией о создании «нового двора» для борьбы со «старым двором».
Помимо богатых земель и новых возможностей для карьеры, опричники получили обширные судебные привилегии.
Английский дипломат Джильс Флетчер, побывавший на русской территории в 1588—1589 годах, сообщает: «…разделил он (Иван IV. — Д. В.) своих подданных на две части, или партии, разъединив их совершенно между собой. Одни из них были названы им опричными, или отборными людьми. К ним принадлежали те из лиц высшего сословия и мелких дворян, коих царь взял себе на часть, чтобы защитить и охранять их как верных своих подданных. Всех прочих он назвал земскими, или общими. К земским относятся простой люд и те дворяне, которых царь думал истребить как будто бы недовольных его правлением и имеющих против него замыслы. Что касается опричников, то он заботился, чтобы они своим числом, знатностью, богатством, вооружением и прочим далеко превосходили земских, коих он, напротив, как бы лишил своего покровительства, так что если бы кто из них был ограблен или убит кем-нибудь из опричников, которых он причислял к своей партии, то нельзя уже было получить никакого удовлетворения ни судом, ни жалобой царю»{146}. Допустим, Флетчер писал это через два с лишним десятилетия после того, как была учреждена опричнина, к тому же писал в виде политического памфлета, недоброжелательного по отношению России. Он мог и ошибаться, и пускаться в публицистические передергивания. Допустим, никакие источники по истории опричнины не позволяют предположить, что она когда-либо предназначалась для полного истребления земских дворян. Но свидетельство Флетчера о судебной «неуязвимости» опричников перед земскими людьми находит подтверждение у другого автора.
Уже упоминавшийся Генрих Штаден оставил «мемуары» о своей службе в опричнине. Это источник совершенно не зависимый от Флетчера. От первых лет опричного режима Штаден сохранил знаменитую фразу Ивана IV, отправленную в органы судопроизводства: «Судите праведно, наши виноваты не были бы»!{147} Это отражает обстановку, действительно сложившуюся во второй половине 1560-х годов. По сравнению с земскими опричники имели огромное преимущество во всякого рода расследованиях и тяжбах.
* * *
Но если, как полагает автор этих строк, основной задачей опричной реформы было укрепление вооруженных сил, по каким причинам все-таки был развязан масштабный террор?
По всей видимости, он стал инструментом борьбы с недовольством опричными порядками, постепенно усиливавшимся в русском социуме.
Летом 1566 года государь Иван Васильевич созвал земский собор, решавший судьбу Ливонской войны. Царь желал продолжить ее и довести до победного конца. Собор не стал ему перечить, собор вообще прошел как идеально отрепетированный спектакль…
Война длилась уже много лет, стоила дорого и в финансовом, и в человеческом смысле, высшей служилой аристократии она не была нужна. Но дворянство рассчитывало получить поместья на богатых, хорошо освоенных землях Прибалтики, да и государь ждал приращения новых территорий. В сущности, несмотря на поражение 1564 года, враг не сумел добиться решающего перевеса. Полоцк, Нарва, Юрьев Ливонский, многие другие города и крепости оставались под контролем наших войск. Дальнейшая борьба могла обернуться как угодно.
Из наших дней события 1566 года видятся через призму страшного поражения, постигшего Московское государство в конце 1570-х — начале 1580-х годов. Разгром за разгромом, падение Полоцка, Великих Лук… и чудесная стойкость Пскова, чудом спасшая Россию от полного военного краха. Кажется: остановись государь раньше, когда в его распоряжении еще была несокрушимая вооруженная мощь, когда держава еще не успела истощить экономический ресурс, когда великие твердыни еще оставались в наших руках, — какое благо принес бы он своему народу! Но всё это — из области альтернативной истории. Если бы да кабы, росли бы во рту бобы, так был бы это не рот, а был бы огород. Увидеть из 1566-го страшный закат войны за Ливонию не мог никто из русских политиков, и царь в том числе…
Итак, собор пошел навстречу воле государевой: будем сражаться!
Вот только ход собора омрачили два неудобных обстоятельства. Во-первых, отсутствовал митрополит, который оставил кафедру, сославшись на немощь. Пустующее митрополичье место немо свидетельствовало: нет мира между царем и Церковью. Во-вторых, при завершении собора три сотни дворян приступили к монарху с просьбой отменить опричнину. Их коллективная челобитная гласила: «Не достоит сему быти».
Как чувствовал себя тогда Иван Васильевич? Он добился всего, чего хотел внутри страны. Русский мир подтвердил согласие с волей царя. Оставалось нанести удар внешнему неприятелю, да и разгрызть крепкий ливонский орех. А тут — такая неожиданность! Массовое выступление — нет, не посадских людей, которые буйством своим привели его в ужас два десятилетия назад, в 1547-м, — а самих дворян, кои составляли основу военной силы нашей. Это всё профессионалы войны. Всё вооруженные воины. И если они не пошли на заговор и мятеж, так это большое везение… Надо полагать, земля дрогнула перед глазами Ивана Васильевича. Царь-актер наилучшим образом «отыграл» земский собор, добился вроде бы успеха… Публика рукоплещет? Всё шло превосходно, как вдруг… самая сильная и опасная часть этой самой публики заявила, что ей не по нраву суть игры.
О событиях тех дней известно крайне мало. Зачинщиков тогда арестовали.
Царь пришел в ярость, велел схватить зачинщиков и казнить их. Голов лишились трое лидеров антиопричной оппозиции: князь В.Ф. Рыбин-Пронский, И.М. Карамышев и К.С. Бундов. Возможно, вместе с ними предали смерти и других «активистов» из числа челобитчиков, но тут свидетельства источников менее надежны. Неоспорима казнь всего нескольких лидеров оппозиции. Кое-кто из ближайших сторонников казненной троицы отведал палок, остальных держали под замком несколько дней, а потом отпустили.
Возможно, последствия для них были бы гораздо более тяжкими, но надо полагать, от горших бед челобитчиков спасло появление в Москве митрополичьего преемника. Им стал Филипп[187], игумен Соловецкой обители. Считанные недели отделяют его восхождение на митрополичью степень от выступления противников опричнины на соборе. Филипп, один из величайших русских святых, прошел долгую монашескую школу в краях суровых и скудных всем, кроме разве только иноческого благочестия. Он никогда не жаловал опричнину и при восшествии на митрополичью кафедру резко высказался против нее. Игумен соловецкий потребовал от царя, «…чтоб царь и великий князь отставил опришнину. А не отставит царь и великий князь опришнины, и ему в митрополитех быти невозможно. А хоши его и поставят в митрополиты, и ему за тем митрополья оставити; и соединил бы воедино, как преже того было. И царю и великому князю со архиепископы и епископы в том было слово, и архиепископы и епископы царю и великому князю били челом о его царьском гневу. И царь и великий князь гнев свой отложил, а игумену Филиппу велел молвити свое слово архиепископом и епископом, чтобы игумен Филипп то отложил, а в опришнину и в царьской домовой обиход не вступался, а на митрополью бы ставился. А по поставленье бы, что царь и великий князь опришнины не отставил и в домовой ему царьской обиход вступатися не велел, и за то бы игумен Филипп митропольи не отставиливал, а советовал бы с царем и великим князем, как прежние митрополиты советовали с отцем его великим князем Васильем и с дедом его великим князем Иваном»{148}.
Это значит: царь гневался, но вынужден был пойти на уступки. Филипп, став митрополитом, обещал не заниматься опричными делами и монаршим домашним обиходом. Но взамен он получил от государя обещание «советовать… как прежние митрополиты советовали». Иначе говоря, глава Русской Церкви опять мог входить к монарху с «печалованием» об опальных, с советом простить их и помиловать. И на первый раз, думается, он посоветовал отнестись к челобитчикам с мягкостью. Тем не менее их вожди все-таки лишились жизни. Остальные же, всего вероятнее, обязаны ее сохранением отважному митрополиту.
Итак, над опричниною грянул первый гром.
Какое уж тут наступление в Ливонии, когда Москва превратилась в зыбкую почву…
Ежегодно в русской столице составлялись списки воевод, отправляемых для службы в полки, гарнизоны и на строительство крепостей. Осенью 1565 года возник первый подобный список военачальников из опричнины. А после того на протяжении двух лет — никаких известий о боевой работе опричных командиров. Ни звука, ни знака. Очевидно, все они требовались в столице — во избежание, так сказать. Особенно после тревожного лета 1566-го.
Однако большой террор все еще не начинался.
Он вообще длился недолго, весь уместившись в период с рубежа 1567—1568 годов до весны 1571 года. Около трех лет. Но размах его превысил всякое вероятие. Очевидно, меры, предпринятые государем в области земельной политики, военного дела, а также казни 1565—1566 годов, хотя и немногочисленные, по всей видимости, но крепко насторожившие весь военно-служилый класс, вызвали как минимум глухое недовольство. Позднее современник, очевидец главных событий грозненской эпохи, напишет: «…всю державу своея, яко секирою, наполы некако разсече. Сим смяте люди вся…»{149} Выступление на земском соборе 1566 года было чем-то вроде верхушки айсберга: громада недовольства скрывалась под темной водой.
Осенью 1567 года большая русская армия сконцентрировалась, чтобы окончательно разгромить польско-литовские силы на Ливонском театре военных действий. Возглавил ее сам государь Иван Васильевич. Цвет опричнины участвовал в кампании наряду с полками земцев. Войска собрались в районе Ршанского яма и должны были повести наступление на Ригу.
Государь Иван Васильевич полон был добрых надежд. Ему казалось, быть может, что в великой войне осталось сделать последнее усилие. Что благое предприятие, связанное с усмирением еретиков и присоединением новых земель к православному царству, вот-вот принесет плоды. Но… слишком зыбкой сделалась почва под ногами царя. Там, где он чаял получить от опричнины твердость и силу, пришли вместо них шатание и разброд.
В среде служилой знати возобновились разговоры о возможности «сменить» монарха, благо князь Владимир Андреевич Старицкий, потомок старинных московских государей по прямой линии, жив и здоров. Иностранные источники сообщают о том, что русская знать заключила соглашение («contract») с поляками против своего государя. Трудно судить, сложился ли на самом деле аристократический заговор. Однако дипломатические документы того времени донесли до наших дней сведения, позволяющие утвердительно говорить о каких-то переговорах с неприятелем. Поляки предлагали князьям И.Д. Вельскому, И.Ф. Мстиславскому, М.И. Воротынскому и боярину И.П. Федорову перейти на их сторону, причем в некоторых случаях речь шла об отторжении русских земель и совместных боевых действиях. Что это было? Масштабный военно-политический проект? Или характерная для того времени игра с фальшивыми письмами? Поляки поставили на беспроигрышный вариант: либо удастся «подставить» лучших воевод Ивана IV (а все четверо по странному «совпадению» имели талант тактического или организационного характера), либо кто-то из них (хотя бы один!) согласится с предложенными условиями и сыграет роль суперагента в стане московского государя. Царь, в распоряжение которого эти послания попали[188], игру противника раскусил. От имени адресатов он отправляет ответные письма, осыпая врага колкими насмешками. Например, послание псевдо-Федорова королю Сигизмунду II Августу содержало следующие слова: «…Я уже человек немолодой, и недолго проживу, предав государя своего и учинив лихо над собственной душой. Ходить вместе с твоими войсками в походы я не смогу, а в спальню твою с курвами ходить — ноги не служат, да и скоморошеством потешать не учен. Так что мне в твоем государском хотении?»{150} Для Ивана Грозного совокупность этих «кусательных» посланий составляет прежде всего выигрышную «сцену»: монолог центрального персонажа о гнусности злодеев, ему противостоящих…
Царь вновь вышел на сцену, произносил монологи, издевался над вражеским тупоумием. Красивая роль. Пусть не из тех, какие положено играть на котурнах, однако… едкий пафос ее пришелся русскому монарху по душе.
Но все ли письма были перехвачены? Все ли русские адресаты возжелали проявить лояльность к своему государю? Ведь отношения между ним и служилой аристократией оставляли желать лучшего! Несколько княжеских и боярских родов «обязаны» были Ивану Васильевичу казнью своих представителей (Шуйские, Пронские, Горенские, Кубенские, Трубецкие, Кашины, Воронцовы, возможно, Хилковы и Палецкие). Да и те же четыре военачальника, которым были направлены послания поляков, — не возникло ли у них желания, явно «сдав» переписку, в тайне подготовить переворот?[189] Осенью 1567 года польско-литовская армия во главе с королем сосредоточилась в Южной Белоруссии для нанесения контрудара наступающим русским полкам, но бездействовала. Откуда у поляков появились сведения о готовящемся наступлении в Ливонию? Не было ли у них надежды использовать замешательство в нашем лагере, возникшее в результате чаемого переворота, и разбить русскую ударную группировку? Или отбить Полоцк, в котором как раз сидел первым воеводой Иван Петрович Федоров?{151}
Князь Владимир Андреевич предоставил царю список из 30 знатных людей, склонявшихся к заговору[190], и, возможно, другие бумаги, способные их скомпрометировать как изменников. Это произошло непосредственно во время военного похода осенью 1567 года.
В середине ноября царь отменяет поход и распускает армию решающего удара. Он знает о сосредоточении вражеских войск намного южнее — при желании поляки могли устремиться в тыл наступающей армии Ивана IV и даже отрезать ее от Москвы. Он видит перед собой список людей, если и не вступивших в заговор, то находящихся на полпути к этому. Он извещен о выжидательной тактике противника, так и не предпринявшего никаких наступательных действий. А отменив поход он узнает, что армия Сигизмунда II Августа тоже отступает. Это подтверждает худшие опасения государя: поляки отказались от военного столкновения, как только выгодная ситуация «рассосалась». Поведение поляков ясно показало — некое лицо или лица в среде военного руководства дали им повод для подобного рода действий и снабдили сведениями о планах русского командования. Заговор это был, или просто среди наших появился иуда, сказать невозможно. Но только никто никогда не собирал армий ради бездействия…[191]
В результате разразилась настоящая буря. Расследование заговора поставило в центр его одного из крупнейших землевладельцев того времени, видного политического деятеля, боярина Ивана Петровича Федорова. Его разорили, продержали в опале много месяцев, а потом пригласили к Ивану IV. Там по велению государя боярин должен был облачиться в царские одежды и сесть в тронное кресло. Иван Васильевич, глумясь, встал перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место, получив все, о чем мечтал? А затем воскликнул: «Наслаждайся владычеством, которого жаждал!» Иван IV собственноручно зарезал боярина, а тело его велел протащить с позором по Москве и бросить в навозную яму.
Был ли Иван Петрович Федоров изменником? Царь имел основания не доверять ему, однако до наших дней не дошло свидетельств, неопровержимо доказывающих вину воеводы. Нельзя дать ни твердый отрицательный, ни твердый положительный ответ относительно его истинных намерений. Гораздо важнее другое.
Царь, еще недавно чувствовавший себя на пороге величайшей победы, пребывавший в покое относительно верности своих подданных, вдруг увидел: нет ничего твердого под ногами! Земля опять колеблется! Ему самому и его семье грозят неведомые опасности. Обладая нервной, артистической натурой, Иван Васильевич подвержен был скорым перепадам чувств. Он сам признавался в том, что несколько раз в жизни испытывал сильнейший страх за свою жизнь: например, во время московского бунта 1547 года или, скажем, пять лет спустя под Казанью. Иной раз он проявлял и недюжинную храбрость, бывал под неприятельским обстрелом, совершал поход в глубь вражеской территории… Но всякий раз его поведение оказывалось результатом эмоций — взрывных, мощных, слабо сдерживаемых. Что могло случиться на исходе 1567-го? Очередной эмоциональный взрыв, достаточно сильный, чтобы до основания потрясти душу государя и помрачить ее, вызвал наплыв страстей. Неотвязный страх вызвал не менее ужасный гнев. А гнев явился причиной неистовой жестокости.
«Дело Федорова» имело страшные последствия. Кровавый вихрь закружился над Россией и не стихал в течение нескольких месяцев. Жизни человеческие переламывались, словно спелые колосья под ударом косы. Доселе опричнина цвела, теперь вызрел плод; по вкусу его узнавалось многое.
Сам царь со свитой и отдельные команды опричников разъезжали по многочисленным владениям Ивана Петровича едва ли не год, и всюду устраивали казни, пожары, разорение. Погибли сотни людей, виновных лишь в том, что они состояли на службе у Федорова. Только по документированным данным, число жертв составило 400— 500 человек. В связи с «делом Федорова» в Москве и «по городом» опричники уничтожили немало высокородных аристократов, в том числе опытного воеводу князя Федора Ивановича Троекурова и боярина князя Андрея Ивановича Катырева-Ростовского, нескольких представителей боярского рода Шейных, Колычевых и Лыковых. Пострадала верхушка приказного аппарата земщины: полетели головы дьяков и казначеев… Тогда же погиб выдающийся военный инженер Иван Григорьевич Выродков.
Репрессии, которыми завершилось расследование «дела Федорова», превратили опричнину в аппарат грандиозной террористической деятельности. Об этом повороте в политике Ивана Васильевича впоследствии писал Джильс Флетчер: «И тех, и других по порядку записывали в книгу, почему всякий знал, кто был земским и кто принадлежал к разряду опричников. И эта свобода, данная одним грабить и убивать других без всякой защиты судом или законом, продолжавшаяся семь лет, послужила к обогащению первой партии и царской казны и, кроме того, способствовала достижению его цели, то есть истреблению дворян, ему ненавистных, коих в одну неделю только в Москве было убито до 300 человек[192]. Такие тиранские его поступки, направленные на всеобщий раздор и повсеместное разделение между подданными, произошли, как должно думать, от чрезвычайной мнительности и безнадежного страха, возникших в нем ко многим из местного дворянства во время войны с поляками и крымскими татарами, когда он, вследствие худого положения дел, впал в подозрение, что они состоят в заговоре с поляками и крымцами. На основании этого некоторых из них он казнил и означенное средство избрал для того, чтоб отделаться от остальных»{152}.
Флетчер, конечно же, рисует «русские ужасы», намекая англичанам на то, что и в их отечестве существует угроза тиранического правления. Поэтому он нередко использует сплошь черную краску. Как уже говорилось, первые годы опричнины не знали массовых репрессий. Однако теперь, в ходе расследования по «делу Федорова» или, если угодно, по делу о «земском заговоре», опричнина стала трансформироваться. В 1568 году ее административные прерогативы оказались значительно расширены, а карательные функции возросли многократно. Здесь англичанин не отступает от истины.
Существовал ли на самом деле «земский заговор», сказать трудно. Действия польско-литовского командования показывают: какими-то сторонниками в русском лагере неприятель мог располагать. Однако «расследование» обернулось кровавой расправой, когда заодно с подозреваемыми предавали унижению и смертной муке невинных, в том числе женщин, слуг, детей.
Вот характерный отрывок из синодика репрессированных при Иване IV: «Григорий Кафтырев, Алексей Левашев, Севрин Баскаков, Федор Казаринов, инок Никита Казаринов, Андрей Баскаков муромец, Смирной Тетерин, Василий Тетерин, Иван Селиванов, Григорий, Иев, Василий, Михаил Тетерины, да детей их 5 человек, Осиф Тетерин, Князь Данила Сицкой, Андрей Батанов, Иван Поярков-Квашнин, Никита и Семен Сабуровы, Семен Бочин. Хозяин Тютин з женою, да 5 детей, да брат Хозяина, Иван Колычов, Иван, сын его, Иван Трусов… В ивановском Меньшом отделано 13 человек с Исаковскою женою Заборовского и с человеком, да у семи человек по руке отделано… Дмитрий и Юрий Дементьевы, Василий Захаров з женою, да 3 сына…»{153}
Святитель Филипп, видя такое кровопролитие, возвысил голос против опричнины и по воле царя лишился за это митрополичьей кафедры. Казнено было несколько митрополичьих старцев[193].
В 1569 году подвергся аресту и был отравлен князь Владимир Андреевич Старицкий. Слишком уж часто недовольные связывали перспективу смены государя с его именем… Вместе с ним погибли от яда жена и дочь. Умертвили также слуг князя Владимира Андреевича. Историки не находят убедительных свидетельств реального заговора Старицких.
В том же 1569 году действительный изменник Тимофей Тетерин, связанный с главным врагом и публицистическим оппонентом Ивана IV, князем A.M. Курбским, помог литовцам взять Изборск. Крепость быстро отбили, но на гарнизонных приказных людей пало подозрение в измене. В результате их обезглавили. Та же участь ожидала их коллег в соседних городах и крепостях. Царь заподозрил новгородцев и особенно псковичей в сношениях с неприятелем, стремлении передать свои города Речи Посполитой. В качестве превентивной меры он выслал несколько сотен семей из Пскова и Новгорода Великого. Но этого, как видно, ему показалось недостаточно. В течение нескольких месяцев готовился грандиозный карательный поход, целью которого было очистить от «измены» колоссальную область, лежащую к северу — северо-западу от Москвы. Реализация этого замысла принесла России самый тяжкий и самый кровавый шрам изо всех, нанесенных опричниной. «Северная экспедиция» стала апогеем террора и породила у соседей патологическую боязнь «Московита», ярко отразившуюся в брошюрах и летучих информационных «листках» того времени.
В промежутке от декабря 1569-го до марта 1570 года опричная армия совершила экспедицию по «петле» от Москвы через Клин, Торжок, Тверь, Новгород Великий и Псков — к Старице. Всюду опричные отряды сеяли разорение и убийства. Города подверглись страшному грабежу. Бесстыдного разграбления не избежали и храмы. Государь велел забрать даже колокола по церквям и монастырям. Пленников, размещенных в населенных пунктах по ходу опричной экспедиции, — литовцев, полочан и татар — истребляли. В Новгороде Великом государь остановился надолго, занявшись расправой над богатым посадским населением и распустив команды опричников по новгородским землям. Р.Г. Скрынников следующим образом комментирует серию террористических акций против торгово-ремесленного населения города: «Опричные санкции против посадского населения Новгорода преследовали две основные цели. Первая из них состояла в том, чтобы пополнить пустующую опричную казну за счет ограбления богатой торгово-промышленной верхушки Новгорода. Другая цель состояла в том, чтобы терроризировать посад, в особенности низшие слои городского населения. Грабежи и бесчинства опричников вызывали страх и возмущение в народе, и царь, помнивший о московском восстании 1547 года, желал предупредить самую возможность возмущения черни. Помимо того, опричная дума не могла не знать об антимосковских настроениях коренного новгородского населения»{154}. Летописи и рассказы иностранцев полны кровавыми подробностями новгородского разгрома. В Москву отправились длинные обозы с награбленным имуществом…
Масштабы псковского разорения не столь велики. По сообщениям ряда источников, как иностранных, так и русских, царя напугали укоризны местного юродивого Николы или Микулы; устрашенный монарх пощадил город.
В связи с новгородским «изменным делом» казнили также крупного военного администратора боярина Василия Дмитриевича Данилова и несколько человек из его окружения.
Количество жертв «северного похода» исчисляется тысячами. Источники сообщают о десятках тысяч, но строго документированные потери составляют около 2500— 3000 человек. Все, что было сверх этого, — а сомнений в том, что погибло больше людей, не испытывает никто из историков, — величина гадательная. Но даже 2000 для одного Новгорода — страшная цифра! Если бы всех жителей города построили в одну шеренгу перед стенами и зарубили каждого десятого, результат был бы именно таким. Царь подверг город децимации, подобно тому, как в языческом Риме наказывали побежавший с поля боя легион…
Причина нанесения удара именно по Новгороду вызвала у исследователей дискуссию. Не вполне понятны причины выбора северных областей для разгрома и еще менее понятны резоны, заставившие Ивана Васильевича придать этому разгрому столь чудовищные формы.
Р.Ю. Виппер видел в новгородской карательной экспедиции превышение «меры исправительных наказаний», допуская возможность возникновения литовской партии в Новгороде Великом{155}. Он считал, что не стоит повсюду видеть одно лишь воспаленное воображение Ивана Грозного. Впрочем, Виппер честно признавался: установить степени действительной вины или же полноту невиновности новгородцев он не может. П.А. Садиков был гораздо жестче в своих оценках. Он сообщает читателям: «…Грозный… во главе опричнины выступил в карательную экспедицию против уличенных к тому времени в “измене” новгородцев и псковичей»{156}. А.А. Зимин писал об объективной необходимости сокрушить один из последних оплотов удельной раздробленности. Р.Г. Скрынников подчеркивает: причиной новгородского разгрома послужило опасение Ивана Васильевича, что новгородцы окажут поддержку заговорам против него. Это было бы крайне опасно, если учесть финансовую и военную мощь Новгородчины, особенно при жизни Владимира Андреевича Старицкого. «Царь и его окружение жили в напряженном ожидании мятежа и смуты. В таких условиях достаточно было толчка, чтобы последовал взрыв. Таким толчком послужили, во-первых, известие о перевороте в Швеции и свержении союзника царя Эрика XIV и, во-вторых, начавшееся расследование об измене Новгорода и Пскова»{157}. Б.Н. Флоря считал новгородский заговор «вымыслом», которому Иван Васильевич поверил: «…в иной ситуации царь и его советники не придали бы слуху о подобном заговоре никакого значения. Но в той обстановке психологического напряжения, которая сложилась в условиях постоянной борьбы с “изменой”, к этим сообщениям относились со всей серьезностью»{158}. Последнее звучит несколько неправдоподобно — царь еще с 40-х годов знал, какова цена политической интриги, да и вообще имел достаточный опыт в делах правления, чтобы не основывать на слухах столь масштабную акцию. Государь был не слабонервным интеллигентом, а политиком высокого ранга. Стоит вглядеться в сегодняшний олимп власти и попытаться назвать хотя бы одного деятеля, способного из-за веры в сплетни ввязаться в кампанию подобного размаха. Не вспоминается? Иначе и быть не может. Это не подковерная борьба академического сообщества, тут за ошибки платят властью, богатством и жизнью, так что мнительные болваны надолго не задерживаются.
Итак, в разное время относительно причин Новгородского разорения историки привели немало версий. Неоднократно дискутировался вопрос о том, было ли на самом деле хоть что-то, напоминавшее мятеж, и если не было, зачем тогда Иван IV раздул невнятные слухи о заговоре до размеров, позволивших ему совершить страшный опричный разгром северных русских земель[194].
По мнению автора этих строк, причина лежит на поверхности. Русский народ того времени, молодой, агрессивный, полный энергии, отличался от будущих поколений, живших в XIX и XX веках. Он был прежде всего намного «моложе» в цивилизационном отношении. И, следовательно, для русских того времени было естественным сопротивляться притеснению; в первую очередь это относилось к любому нарушению церковных устоев и любой репрессии против добродетельного архиерея. Печальная судьба митрополита Филиппа уже была достаточным основанием для бунташных настроений. Омерзительное отношение опричников к храмам и их безнравственное поведение могли сыграть роль мощных дестабилизирующих факторов. Некоторые свидетельства источников позволяют предположить, что активное вооруженное сопротивление опричному войску оказывалось. В частности, Генрих Штаден пишет: «[Челяднин-Федоров] был вызван на Москву; [здесь], в Москве он был убит и брошен у речки Неглинной в навозную яму. А великий князь вместе со своими опричниками поехал и пожег по всей стране все вотчины, принадлежавшие упомянутому Ивану Петровичу [Челяднину-Федорову]. Села вместе с церквами и всем, что в них было, с иконами и церковными украшениями — были спалены. Женщин и девушек раздевали донага и в таком виде заставляли ловить по полю кур… Великое горе сотворили они по всей земле! И многие из них были тайно убиты»{159}. Более того, по его словам, переезд государя в Александровскую слободу произошел под влиянием «мятежа». Позднее, во время царского похода в северные земли, в частности, против Новгорода и Пскова, бои с опричными отрядами, по свидетельству того же Штадена, явно имели место. В.И. Корецкий полагал, что летом 1568 года произошло выступление московского посада, напугавшее Ивана Васильевича{160}.[195] Пискаревский летописец сообщает: «И бысть ненависть на царя от всех людей»{161}.[196]
Страна отстаивала себя, она не желала молча сносить унижения. Новгородчина, весьма вероятно, могла быть очагом наиболее активного сопротивления. Царь нанес ответный удар, стремясь подавить любые искры смуты, которую пришлось облечь понятным и привычным именем «измены».
Если проанализировать маршрут «северного похода», то станет видно, что опричная армия прошла добрую половину земской территории. Видимо, Иван Васильевич задался целью не только подавить волнения, но и провести масштабную акцию устрашения.
Новгородский разгром стал самым ужасным деянием опричнины, но далеко не последним. Массовые казни продолжались. Царский топор прошелся по рядам самих опричников. Их обвиняли (не без основания) в казнокрадстве, административных и судебных нарушениях. Кроме того, царь подозревал некоторых начальствующих лиц опричнины в том, что они пытались известить новгородцев о готовящемся карательном походе. Если они знали, какой удар обрушится на северные русские города и земли, на Новгородчину в том числе, если они понимали, какой кровушкой отольется на этот раз монаршее желание карать непослушных земцев… то их можно понять. Как знать, не шевельнулось ли что-то человеческое в сердце: матерые опричники дали кому-то шанс уйти от опричной секиры, от грабежа, от душегубства, от насилия. Как знать… В любом случае, несколько великих людей старой опричнины, ее «отцов-основателей», кончили карьеру худо. Не все лишились жизни, но даже те, кто избег смертной казни, вынуждены были навсегда удалиться от власти. Разуверившись в «старой гвардии» опричнины, Иван Васильевич стал брать туда тех, кого прежде не допускал ни в опричную армию, ни в опричную думу — «княжат» из высших родов служилой знати. Таким образом, социальная база опричнины оказалась размытой. Без «княжат» обойтись не удалось…
Летом 1570 года страшный удар был нанесен по высшему слою приказных людей[197]. Казни проходили публично, в Москве на Поганой луже, и сопровождались пытками. В них участвовал сам царь, собственноручно пытая и убивая. В один из дней, по согласному свидетельству нескольких не зависящих друг от друга источников, палачи умертвили более 100 человек… Именно тогда ушел из жизни известнейший российский дипломат того времени — дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он пытался отговорить Ивана Васильевича от продолжения террора, озвучив простой, но верный аргумент: кто же останется у царя для ведения войны и для дел правления? Московский посад сохранил воспоминания о публичных казнях 1570 года в сказаниях, содержание которых не делает чести государю.
* * *
После гибели русской столицы в пожаре 1571 года массовый террор сошел на нет. Царь не стал милостивее, он лишь начал считать потери. Очередной «эксперимент» наподобие новгородского грозил оставить его без населения, способного нести тягло и содержать двор. Аргумент Висковатого встал в полный рост… Нет, казни не прекратились. Например, уже в 1571 году подверглось казни немало высокопоставленных опричников, а в 1573 году простились с жизнью трое знаменитых воевод: Воротынский, Морозов и Одоевский. Да и позднее на плахе пролилось немало крови. Просто 1571 год поставил точку в репрессиях, объединявших под топором палача правых и виноватых, действительных злоумышленников и лиц, «привлеченных по делу» из-за служебных или родственных связей с ключевыми фигурами расследования. Больше удары не обрушивались и на посад.
Чем был «большой террор» для страны? Временем, когда упала ценность человеческой жизни и население получило действенную прививку от уважения к законам. В самом деле: к чему быть нравственным человеком, когда кругом грабеж, насилие и убийство, а во главе всей вакханалии — сам государь? К чему «играть по правилам» и соблюдать установления судебников, если самая суровая кара может ни за что ни про что обрушиться на случайного человека, а злодей восторжествует в суде? Исследователи русского права утверждают: авторитет юстиции пал тогда очень низко[198].
Чем были годы массовых репрессий для самого царя? Видимо, апогеем его «актерства» в худшем значении этого слова. Он с упоением играл роль сурового, но мудрого и справедливого правителя, им же самим придуманную. В обстоятельствах 60—70-х годов XVI столетия Россия очень нуждалась в расчетливом дельце на троне, человеке прагматичном до мозга костей и притом искренне и глубоко верующем. Стране необходимо было выбраться из гибельной ситуации, которую создавала война против нескольких сильных неприятелей одновременно. А Церковь очень нуждалась в поддержке государя, поскольку должна была заняться христианизацией обширных пространств, замиренных не до конца. Что вместо этого получили Россия и Церковь от Ивана Васильевича? Трагифарс необдуманного реформаторства и кровавую кашу массовых репрессий. Главный защитник православия принимается обдирать колокола со звонниц. Главный защитник страны грабит собственные города… Автору этих строк представляется следующая картина: в столичном театре посреди спектакля один из ведущих актеров неожиданно решает сыграть на сцене не ту роль, которую предназначил ему Небесный Режиссер, а иную, избранную по собственному произволу. Спектакль разваливается, поскольку текст и сам ход действия в исполнении этого эксцентричного человека и всей остальной труппы резко отличаются. Прочие артисты сначала пытаются подыграть коллеге, а потом начинают сердиться: для чего же он делает такие глупости? Прямо на сцене начинаются трения, споры. Эксцентрик пробует навязать свое видение постановки всем прочим. Некоторые второстепенные лица соглашаются с ним, остальные отпихиваются. Тогда «новатор» вынимает из кармана револьвер и разряжает весь барабан в недовольных. Дощатые подмостки окрашиваются алым. Центральный персонаж хладнокровно вставляет новые патроны и продолжает страшную работу…
Но вот опричнина, любимое детище царя, оказывается бессильной и небоеспособной как на полях сражений в Ливонии, так и в генеральном столкновении с крымцами. Столько расходов, столько крови, столько социального напряжения, а система, созданная в результате всех этих усилий, в решающий час не сработала. С мая 1571 года опричная армия больше не выходит в поле как самостоятельная сила, т.е. как воинство, отдельное от земского. Опричные воеводы всё еще служат по спискам, отдельным от земских. Но на должности в крепостных гарнизонах и действующей армии они ставятся вместе с земскими военачальниками. Раздельное командование исчезает. Фактически начинается демонтаж опричнины, и прежде всего «разбирают» ее военную организацию. Армия, жестко разделенная на опричные и земские полки, в 1571 году потерпела страшное поражение. Армия, собранная воедино, без различия служебной принадлежности, одержала спасительную для России победу у Молодей. Большинство специалистов считает, что триумф объединенных сил нашей страны у Молодей сыграл роль главного повода к ликвидации опричнины.
Отмена опричной системы, по мнению большинства дореволюционных, советских и современных российских историков, произошла в августе—сентябре 1572 года. Мало кто оспаривает эту дату, хотя указ об отмене опричнины науке не известен. Его наличие, можно сказать, «вычислили».
Особняком стоит мнение Д.Н. Алыпица. С его точки зрения, суть опричнины — создание «верхнего этажа» власти. В результате «…прежние, исторически сложившиеся ее институты, сохранявшиеся в земщине, включая Боярскую думу, были тем самым все разом подчинены власти самодержца». И, далее: «В опричнине царь освободился наконец от традиционной опеки со стороны Боярской думы и князей церкви». Можно сказать, «…Грозный внес в “государственные начала” управления русским государством такое “структурное изменение”, как фактическое установление самодержавия. Номинально оно существовало и раньше, но стало самодержавием реально только после учреждения опричнины»{162}. Д.Н. Альшиц считает, что в 1572 году произошло формальное упразднение опричнины, но основные механизмы, введенные ею в государственный быт, сохранялись и развивались, постепенно создавая картину все более мощного самодержавного устройства власти.
Однако эти выводы скорее тяготеют к публицистике, нежели к строгой науке. Опричнина исчезла, судя по многочисленным сведениям источников: она ушла из летописей (в том числе и частных), о ее официальном упразднении свидетельствуют известия Г. Штадена, Дж. Флетчера[199], конфиденциальное донесение старосты Ф. Кмиты гетману Радзивиллу, исчезновение записей о походах опричного корпуса в разрядных книгах, воспоминания об опричных годах в историко-публицистических памятниках, созданных намного позднее…
Можно — чисто теоретически — допустить, что имя опричнины было запрещено, но суть ее осталась неприкосновенной. Так ли это? Нет, не так. Об обратном свидетельствует возврат земельных владений прежним владельцам из земщины[200], исчезновение всяческих упоминаний «опричного братства», казнь многочисленных лидеров опричнины, расформирование опричной администрации и, главное, растворение опричного корпуса в вооруженных силах Московского государства[201]. Вероятно, дух опричнины сохранился? Но это очень уж неуловимая, невидимая материя. Власть государя несколько усилилась по сравнению с серединой века, да… но те же Иван III и Василий III безо всякой опричнины умели концентрировать колоссальную власть в своих руках. Идеология самодержавия не была разрушена? Во-первых, если что-то от нее и осталось после тишайшего правления Федора Ивановича и чудовищного призрака Смуты, то оно и к лучшему. Во-вторых, прямо ассоциировать идеологические концепты и их практическое выражение в политике значит ставить знак равенства между молотком и словесным описанием молотка.
Можно согласиться с тем, что увеличились возможности государя вытаскивать из гущи худородных дворян дельного человека и продвигать его по службе. Сохранился до поры до времени и «особый» двор государя, помимо двора земского. И это самый серьезный осколок и самое серьезное последствие опричнины[202]. Но и служилая аристократия подтвердила свое право быть преобладающим источником для рекрутирования высших управленцев и воевод. Ведь не обошелся без нее государь… А во второй половине 80-х годов XVI века она вытеснила выдвиженцев Ивана IV из верхних административных эшелонов. «Двоение» государева двора прекратилось, поскольку «особый» двор, искусственно поддерживаемый Иваном Васильевичем, прекратил свое существование. Нет, положительно, расширительное толкование Альшица неосновательно. 1572 год затворил врата опричнины навсегда.
В 1575 году произошло странное событие, которое многими исследователями трактовалось как рецидив опричнины. Иван Васильевич вновь выкроил себе особый удел в тверских землях и возвел на русский престол крещеного татарского царевича Семиона Бекбулатовича, даровав ему титул великого князя московского. Номинально правил Семион Бекбулатович, от его имени составлялись жалованные грамоты и указы, а истинный государь отправлял на имя «великого князя московского» челобитные, написанные в юродском стиле и содержащие пожелания-инструкции. Соловецкий летописец дает краткое описание того странного времени: «Государь царь на Московское великое княженство на государьство посадил великого князя Семиона Бекбулатовича, а сам государь пошел “на берег” на службу и стоял все лето в Колуги. А был на великом княжении год неполон. И после того пожаловал его царь и государь великий князь Иван Васильевич всея Русии на великое княжение на Тверь, а сам государь опять сел на царство на Московское»{163}. Реальной власти у Семиона Бекбулатовича было совсем немного, монеты с его именем не выпускались, иностранные дипломаты не вели с ним переговоров, в разряды его имя не вошло, сокровищница и царские инсигнии оставались под контролем Ивана IV. Историки выдвинули множество версий, чтобы объяснить столь странный шаг московского государя. В настоящее время наиболее вероятной считается (и вполне справедливо) та, которая опирается на фразу Пискаревского летописца о неких «волхвах» (астрологах), предсказавших на тот год кончину «московскому царю». Страх государя перед изменой подстегивался действительным заговором «сорока дворян», о котором сообщает имперский дипломат Даниил Принс из Бухау[203]. Во времена правления Семиона Бекбулатовича (1575—1576) очень хорошо виден «особый» двор Ивана Васильевича, территориально и административно удаленный от земских служб[204]. Любопытно, что, в отличие от времен опричнины, государь позаботился о включении в состав «дворовой» территории тверских, псковских и новгородских «прифронтовых» земель. Иван Васильевич готовился к решающей битве за Ливонию. Очевидно, с этим надо связывать сбор денежных средств, а также обширные земельные раздачи тех лет детям боярским, низшему слою военно-служилого класса. Государю хотелось, вероятно, перед масштабным наступлением 1577 года пополнить вооруженные силы хорошо обеспеченными (а значит, хорошо вооруженными) бойцами. При этом командный состав полевой армии ничуть не демократизируется, и особых «дворовых» корпусов на театре военных действий не появляется. А «дворовые воеводы» присутствуют как командные лица «государева полка» в составе крупных общеармейских соединений, например во время того же похода 1577 года[205].
* * *
Привела ли опричнина к серьезным изменениям в социально-политической жизни Московского государства? Нет. Система чрезвычайных мер, вызванных противоборством царя и высших родов титулованной аристократии, разожженная нуждами войны, она проводилась в жизнь непродуманно, драконовскими способами. Большой кровью приправленная, на ходу перекраиваемая, опричная реформа была попыткой переделать многое; отступив от первоначальных своих замыслов сначала в 1570-м, затем в 1571-м, а окончательно в 1572 году, Иван Васильевич кое-что сохранил за собой; это «кое-что» продержалось не далее середины 80-х. И даже укрепление единодержавия и самовластия царского, достигнутое в результате опричнины, не столь уж очевидно. Личная власть Ивана Грозного — да, укрепилась несомненно, если сравнивать с 40—50-ми годами. Но увеличилось ли поле власти для его преемников на русском престоле? Прямых доказательств этому не видно.
Глава 6. ГОСУДАРЬ ПО РОЖДЕНИЮ, ПИСАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Современники и потомки считали Ивана IV образованным, или, как тогда говорили, «книжным» человеком: «Муж чудного разсуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело…» И, действительно, государь оставил после себя колоссальный корпус посланий, адресованных частным лицам, коронованным особам, монашеским обителям[206]. Большинство писем Ивана Васильевича имеет вполне прозаическое назначение. Многие из них относятся к дипломатической переписке или имеют официальный характер иного рода. Однако чаще всего исходившие от Ивана IV «эпистолии» в большей степени являлись литературными произведениями, нежели документами в строгом смысле этого слова. Нередко литературная основа текста никак не согласовывалась с его деловым предназначением и могла вызвать недоумение у современников; однако она всегда привлекала внимание потомков — пламенным слогом, яркостью образов, буйством идей. Некоторые же послания изначально были задуманы как публицистические эссе, и они более прочих отличаются ураганным стилем письма. Царь славился как изрядный полемист и пламенный ритор. Бросаясь в очередную дискуссию, он не жалел красок.
В авторстве некоторых текстов, приписываемых Ивану IV, исследователи сомневались. Жемчужиной литературного наследия царя всегда считались его письма к Андрею Курбскому. В 1971 году американский ученый Эдвард Кинан объявил переписку государя Ивана Васильевича и князя A.M. Курбского, а также ряд иных сочинений этих двух знаменитейших полемистов XVI столетия подложными. Иначе говоря, изготовленными не ранее 20—30-х годов XVII века. Точка зрения Кинана получила популярность, однако впоследствии его «открытия» убедительно «закрыл» Р.Г. Скрынников{164}. В настоящее время подавляющее большинство ученых считает произведения, истинная атрибуция которых была поставлена под сомнение, действительно принадлежащими перу Ивана IV и беглого аристократа Курбского.
В молодости Иван IV не проявлял особенных литературных талантов. Документы и письма, исходившие от него, до начала 1560-х годов ничем не выделяются из общего объема делопроизводства. И лишь в 50—70-х годах XVI столетия его дарование расцвело.
Фактически это произошло одновременно с освобождением царя от традиционной роли и обретением новой, сформулированной самостоятельно, вопреки сценарию цивилизационного «действа», декорациям и желанию большей части «труппы». В значительной степени роль «спускового крючка» сыграло первое послание Курбского (1564), содержащее обвинение в предательстве «амплуа». Любопытно: сам Курбский покинул Россию, сбежав от собственной традиционной роли, поскольку продолжение игры, как полагал князь, грозило ему смертью. По отношению к Великому Спектаклю Русской цивилизации беглый князь был таким же антигероем, как и государь. Он изменил своему царю, навел войска иноплеменников на земли Московского государства, бросил одну семью и насмерть рассорился со второй, заведенной им в эмиграции… И вот князь Андрей Михайлович, соединяя церковнославянскую традицию Православного Востока и светскую философию католического Запада, строит себе новую идентификацию, отличную от старой, утраченной. Он рисует себя «сенатором», «эпархом», «мужем брани и совета», одним из «сильных во Израиле». Ему для самооправдания нужна особенная этика — этика вольности благородных аристократов, якобы располагающих правом покинуть государя, ежели государь окажется тираном. В XIII—XIV столетиях это право действительно существовало, но строилось оно на незамысловатом обычае дружинных людей перебегать от одного вождя к другому. В XV столетии оно встречает серьезные ограничения, а в XVI и вовсе падает. Но Курбский пытается на основе этой архаики выстроить совершенно новую философскую схему: якобы не желание поискать добычи и удачи под водительством иного князя, но врожденная рыцарственность и христианские добродетели толкают господ «сенаторов» на переезд от одного монарха к другому… Соответственно монарх, от которого бегут, должен был задеть и рыцарское достоинство, и христианскую нравственность. Курбский вынужден воздвигать против царя стройную систему аргументов, вынужден набивать свою полемическую обойму патронами истинных и мнимых преступлений государя. Если бы он не сумел насыпать под собственными ногами подобного рода островок самооправдания и самоидентификации, кем бы он был? Голью перекатной, наемником на службе у чужого правителя. А в рамках собственной трактовки он выглядит едва ли не странствующим рыцарем, покинувшим край, который подчинился деспотичному кровопийце, мало не бесу… Красиво. Но для Русской цивилизации вся эта красивость — чужая. Курбский прежде всего сбежал, а уж потом все остальное. А раз он сбежал, то превратился в чужака. Актера другой «труппы». И чужачество свое он, по всей видимости, чувствует…[207]
Государь Иван Васильевич никуда не сбежал, он попытался переделать сам спектакль, по ходу перекроив сценарий, «перебрав» актерский состав и сбросив трупы недовольных в оркестровую яму. Он точно так же выломился из Русской цивилизации, точно так же стал для нее чужим и ему точно так же требуется самоидентификация. Но царь строит ее не на обличении беглеца-Курбского и ему подобных в отдельных преступлениях, а на фантастическом и кошмарном обвинении «эпархов» в глобальном покушении на его монаршее право делать с ними, да и со страной все, что ему угодно, без ограничения[208]. Подобное право в Русской цивилизации имело религиозно-нравственный, а не политический ограничитель, но пережив «Шуйское царство», казанские неприятности 1552-го, кризис 1553-го и общегосударственную аварию 1564 года, царь этот ограничитель видеть не желает. Он помнит только ограничитель № 2 — бунт, беснование толп, тело родственника, разорванного злой чернью. Гневается на возможность очередного бунта, опасается ее, и в то же время провоцирует простонародье на расправу со своими врагами зимой 1564—1565 годов. Игра очень опасная. Обосновать ее государь может только одним способом: даровав себе право нарушать любой запрет и любую традицию… Он неоднократно пишет о себе как о Божьем слуге, наделяет монаршую особу статусом наивысшей близости к Господу, т.е. статусом полной вседозволенности, обретаемой ради решения высших, самим Богом поставленных задач. Эти задачи касаются защиты и утверждения православия. Окончательную их формулировку царь оставляет за собой. Что же касается подданных, то им, как рабам государя, следует «рабская содержати повеления»…[209] Монарх у Ивана Васильевича выступает как хозяин «грозы» в державе, но государь сторонится обычных христианских добродетелей — смирения, любви, соблюдения Заповедей, которые едины для всех без исключения. Ему всё хочется быть в русской христианской общине на особицу, отдельно ото всех.
Оба — нарушители, оба для Русской цивилизации антигерои. И оба соответственно в литературной реальности также носители «новин». Вот что пишет о них один из лучших современных знатоков русской литературы XVI века: «По своему складу ума и темпераменту Курбский принадлежал к просвещенным ортодоксам… Князь Андрей изображал себя книжником принципиально иного уровня и других творческих установок, чем Грозный. Он требовал соблюдать законы грамматики, риторики, диалектики, умно и зло критиковал монарха за невежество, просторечие, напыщенное многословие, отсутствие чувства меры. Его обвинения составляют хорошо продуманную систему, призванную опорочить оппонента и вместе с тем показать ученость критика… Уязвленное авторское самолюбие заставляло Грозного отражать нападки не теоретическими аргументами, а неожиданными выходками и выпадами. Царь-лицедей допускал, что в его сочинениях не все гладко, но причину видел в «злобесной собацкой измене» придворных или «бестолковости оппонента»{165}. В.В. Калугин видит в Курбском писателя-интеллектуала, но вместе с тем считает, что князь порой совершает общие с Иваном IV нарушения литературного этикета. Таким образом, этот средневековый публицист лишь формально может считаться «ортодоксом». Такова его маска. На пике полемики он по смыслу своих высказываний и по материалу, на который они опираются, далек от ортодоксии. Но по форме — далеко не новатор.
Совсем другое дело Иван IV. Государь «…совершенно иначе, чем Курбский, ощущал себя писателем… Он взялся за перо не из просто любви к искусству. Иван IV стал писать по праву и долгу монарха учить вверенный ему Богом народ… В роли “отца Отечества” и защитника правой веры царь сочинял послания, давал наказные памяти, произносил пылкие речи, участвовал в ученых диспутах, обличал чуждые православию догматы, переписывал историю»{166}.
Это тоже маска. Русский литературный этикет XVI века очень строг. Жанры канонически чисты, риторика требует изощренного искусства, «плетение словес» — необыкновенного терпения и филигранной точности. Тут все должно быть на своем месте, там, где ему назначено быть. Один тип лексики не должен соприкасаться с другим. Словоупотребление ритуализировано, впрочем, как и выражение эмоций. Определенные цитаты из Священного Писания и святоотеческой литературы предназначены для определенных тем. Литература сродни государству: вся проникается духом державной величественности. И вот в роли «отца Отечества» царь-писатель разносит всю эту монументальную систему в щепы. Нарушает все табу. Говорит так, как никто не говорит. Вчистую выламывается из системы жанров…
Он соединяет «высокую» церковную лексику и низкую, вплоть до простонародных словечек и площадной брани. Из него хлещут потоки эмоций; эти потоки уничтожают композицию текста, превращая его в хаотичное месиво из цитат, жалоб на нерадивых подданных — изменников и корыстолюбцев, манифестацию безграничности монаршей власти, гневных нападок, меланхоличных зарисовок прежней жизни, попыток истинного покаяния и ядовитых стрел покаяния ложного, саркастического. Царь легко использует элементы одних жанров для нарочитого, символического разрушения других, занимается пародированием, мешает высокое и низкое, равняет государственную измену и худые подарки своей родне. В его текстах клокочет гнев, исходит обжигающим холодом презрение, полыхает жгучая ирония.
Язык его посланий проще, демократичнее монументального стиля того времени, он тяготеет к более поздним временам, т.е. прежде всего литературе, родившейся в результате Смуты, и отчасти предвосхищает ее. Манера письма — афористическая и в какой-то степени импрессионистская. Сила отдельного выражения, впечатления, яркой зарисовки абсолютно преобладает над логикой всего текста. Особенно хорошо это видно во 2-м послании Курбскому (1577): начав с покаянных словес, Иван Васильевич быстро переходит к обвинениям и выдает пассаж, совершенно не связанный с первыми строками письма, смиренными и спокойными: «Вспомни и рассуди, как оскорбительно для меня вы разбирали дело Сицкого с Прозоровским и допрашивали, словно злодея!.. И что такое сами Прозоровские рядом с нами?.. Божиим милосердием, милостью Пречистой Богородицы и молитвой великих чудотворцев, и милостью святого Сергия у моего батюшки и с батюшкиного благословения у меня была не одна сотня таких, как Прозоровский!»{167} Сам текст обычно представляет собой подобие театральной постановки, в которой предусмотрено место для импровизации. Так, послание в Кирилло-Белозерский монастырь (1573) Иван Васильевич начинает в жанре челобитья, примешивая сюда покаянные мольбы: «Увы мне, грешному! Горе мне, окаянному! Ох мне, скверному!., подобает вам, нашим государям, нас, заблудихшихся во тьме гордости и находящихся в смертной обители обманчивого тщеславия, чревоугодия и невоздержания, просвещать. А я, пес смердящий, кого могу учить и чему наставлять и чем просветить? Сам вечно в пьянстве, блуде, прелюбодеянии, скверне, убийствах, грабежах, воровстве и ненависти, во всяком злодействе… Ради Бога, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня, грешного и скверного, плакаться вам о своих грехах среди лютых треволнений этого обманчивого и преходящего мира»{168}. Чуть погодя царь принимается жестоко бичевать братию за отступления от устава и послабления в иноческой жизни, предоставленные монахам из числа бывших аристократов: «…бояре, придя к вам, ввели свои распутные уставы: выходит, что не они у вас постриглись, а вы у них постриглись, не вы им учители и законодатели, а они вам учители и законодатели!»{169} Далее следует уже крепкая брань и угрозы, даже намеки на измену. Деятелей, вызвавших особый гнев, царь честит званиями «бесова сына», «дурака и упыря», «злобесного пса». А заканчивает мило и благостно: «Да пребудут с вами и с нами милость Бога мира и Богородицы, и молитвы чудотворца Кирилла. Аминь. А мы вам, мои господа и отцы, челом бьем до земли»{170}.
В сущности, Ивана IV как литератора следовало было бы назвать первым русским постмодернистом. Он был невежей среди книжников того времени и позволял себе непозволительное в рамках литературного этикета XVI столетия. Но в то же время Иван Васильевич может считаться великим писателем в современном значении этого слова. Мутный поток его сознания свободно выливался на бумагу, в полной мере передавая мощь внутренних штормов этого человека{171}.
Гневная стихия его посланий захватывает, волнует, порой пробуждает ответный гнев. Вот образец ярости царской, оформленной тонко и цветисто в 1-м послании Курбскому (1564): «Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть напоследок все равно похитит тебя! Зачем ради тела душой пожертвовал, если устрашился смерти, поверив лживым словам своих бесами наученных друзей и советчиков? И повсюду, как бесы во всем мире, так и изволившие стать вашими друзьями и слугами, отрекшись от нас, нарушив крестное целование, подражая бесам, раскинули против нас различные сети и, по обычаю бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, принимая нас за бесплотных, и посему возводят на нас многочисленные поклепы и оскорбления, приносят их к вам и позорят нас на весь мир. Вы же за эти злодеяния раздаете им многие награды нашей же землей и казной, заблуждаясь, считаете их слугами, и, наполнившись этих бесовских слухов, вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение. Не полагай, что это справедливо — разъярившись на человека, выступить против Бога… Или мнишь, окаянный, что убережешься? Нет уж!»{172} Ткань грозненских текстов — сплошной соблазн, то изысканный, то грубый. Эмоции первого нашего царя, отгремевшие четыреста двадцать лет назад, способны и сейчас взять в плен иную слабую волю…
Это был по-настоящему талантливый литератор. В иных обстоятельствах уместно было бы благодарить Господа за явление в нашей земле столь блистательного пера. Беда в одном: стране требовался по-настоящему талантливый государь. А это разные профессии…
Глава 7. СЫН ЦЕРКВИ
На протяжении всей жизни государь Иван Васильевич выказывал преданное отношение к православию. И в речах, и в посланиях он стремился показать себя верным слугой Господа.
Действительно, многое свидетельствует о том, что Иван IV был истинно верующим христианином.
Он с детских лет любил совершать богомолья по монастырям, вплоть до самых отдаленных обителей. Много молился, строго соблюдал посты, превосходно знал Священное Писание, лично составлял стихиры, тропари и кондаки. От Церкви Иван Васильевич требовал ревностного отношения к богослужению, чистоты, честности, просветительской работы и твердого стояния за «истинный и православный христианский закон», даже если придется пострадать за него[210].
Он яростно отстаивал чистоту веры от разного рода еретических искажений и немало усилий приложил к тому, чтобы не допустить в Россию протестантизм. В 1553—1555 годах государь способствовал разгрому ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Последний бежал в Литву и там присоединился к антитринитариям (социнианам). На территории нашего западного соседа, Великого княжества Литовского, в середине XVI столетия пылали конфессиональные конфликты, получили распространение многие разновидности протестантского учения, в том числе анти-тринитарные секты лютейшего образца. Иван Васильевич позаботился о том, чтобы московский рубеж надолго стал восточной границей распространения протестантизма[211]. Его походы на запад неоднократно принимали в ходе Ливонской войны вид военных экспедиций, направленных к религиозному очищению, борьбе с засильем «прескверных лютор». Особенную роль сыграли походы 1562—1563 годов на Полоцк и 1577 года в Южную Ливонию. Кстати, в первом случае подверглись каре ученики и соратники Феодосия Косого, обосновавшиеся в Полоцке.
Порой началу большой военной кампании предшествовал крестный ход в Москве с участием столичных архиереев и монастырского начальства. И боевое предприятие превращалось в своего рода крестовый поход.
Царь лично принимал участие в религиозных диспутах с иностранными проповедниками, неизменно занимая позицию ревнителя православия. Так, в 1570 году он вступил в публичную полемику с «министром» богемских (моравских) братьев Яном Рокитой, а в 1582 году вел споры о вере с ученым папским посланником Антонио Поссевино. Конфессия, которую представлял Ян Рокита, относится к числу не то что радикальных, а, можно сказать, боевых ответвлений Реформации. Соответственно царь уподобил ее адептов нечистой силе, «развратникам христианства», а само учение — «яду»[212].
Записки Поссевино в деталях и с большой подробностью донесли до наших дней содержание споров папского миссионера с Иваном Васильевичем. Государь не проявил ни малейшего желания делать какие-либо уступки католичеству, а к реформационным учениям вновь высказал совершенную непримиримость{173}.
Одной из самых значительных заслуг царя перед Церковью и страной является введение в России государственного книгопечатания. От 50-х — начала 60-х годов XVI столетия до нас дошло несколько «анонимных»[213] изданий; некоторые из них могут быть с большим на то основанием приписаны неизвестной московской типографии. По всей вероятности, на этом издательском предприятии использовался труд итальянских инженеров, поскольку терминология раннего русского книгопечатания взята из итальянского языка[214]. Некоторые исследователи связывают работу этой типографии с просветительской деятельностью Сильвестра, участника Избранной рады. Реже пишут о связи между учреждением книгопечатания и той же просветительской устремленностью некоторых статей «Стоглава», хотя это феномены явно одного плана. Первые годы книгопечатания в России крайне слабо освещены в источниках. В распоряжении историка имеются лишь жалкие клочки информации. Доподлинно не известно, кто содержал изначальную типографию и где она располагалась.
В первой половине 60-х[215] государь Иван Васильевич и св. Макарий, митрополит Московский, основали Печатный двор в Китай-городе — первое отечественное издательство, деятельность которого документирована. Печатный двор поддерживался государством и Церковью, иными словами, он обеспечивался финансами и кадрами на регулярной основе. В 1564 году мастера-печатники Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили «Апостол» — первую российскую книгу, выходные данные которой известны ученым. Затем вышел «Часослов». По словам самого Ивана Федорова, царь благосклонно относился к его деятельности. Через несколько лет оба печатника переехали на территорию Великого княжества Литовского, чтобы заняться просветительской деятельностью среди православного населения Литовской Руси[216]. Книгопечатание в России продолжалось: некоторое время типография работала в Александровской слободе, но впоследствии она вернулась в Москву, на Никольский крестец (Китай-город). Тематика изданий Печатного двора в первые десятилетия его существования была почти исключительно церковной. Появление типографии в Москве оказалось великим благом для православия, поскольку избавило литературу, бытовавшую в церковном обиходе, от ошибок переписчиков. Перед тиражированием каждое издание подвергали «справе» (многосторонней редактуре) и очищали от накопившихся искажений. Поскольку богослужебные книги того времени изобиловали разночтениями, приведение их к единому виду, а также правка сомнительных с богословской точки зрения моментов затянулись и в XVII столетии вызвали бурю споров[217]. Однако уже то, что можно было хотя бы приступить к этой работе, стало большим подарком для нашей Церкви. Издания Печатного двора расходились по всей России: их продавали, бесплатно отправляли в новые храмы и монастыри, везли в отдаленные города для последующего распространения.
Таким образом, государь Иван IV сделал немало полезного для Церкви и долгое время старался быть ее верным сыном.
Проблема состоит в том, что при всей твердости вероисповедной позиции в личной жизни и в политике Иван Васильевич с первой половины 60-х годов XVI века стремится как можно меньше стеснять себя. Заповеди Христовы и христианская нравственность слабо связывали его страстную натуру, играя в «постановках» государя-лицедея роль декораций, но никак не стержня всего действия.
Уже в 1564 году, вскоре после смерти митрополита Макария[218], государь пишет Курбскому о новой своей позиции по отношению к Церкви: «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего захотелось — того, что случилось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам?»{174} До начала опричнины св. Макарий неоднократно печаловался о судьбе опальных вельмож, осужденных на казнь. Ему удавалось отмолить их жизни. Так, например, произошло в 1554 году. В Литву попытался перебежать князь Никита Семенович Лобанов-Ростовский, да с ним же собирались перейти рубеж еще несколько князей Ростовского дома; однако в Торопце князя Н.С. Лобанова-Ростовского поймали, и он дал обширные показания о своем участии в аристократическом «мятеже» 1553 года, а также об иных его участниках. Царь осудил его «казнити смертию и на позор», но тут вмешалась Церковь. Летопись сообщает: «…митрополит Макарий и со владыками и архимандриты… отпросили его от смертные казни»{175}. Вместо этого князь-беглец отправился в тюрьму на Белоозеро. Пользовался правом «печалования», по всей видимости, и митрополит Афанасий, преемник св. Макария на Московской митрополичьей кафедре[219]. Достоверно известен случай из раннеопричного периода: митрополиту Афанасию своим ходатайством удалось спасти от опалы боярина И.П. Яковлева (март 1565 года). Однако с установлением опричнины царь все реже прислушивается к голосу Церкви. Теперь он крайне отрицательно относится к попыткам архиереев избавить «изменников» от смерти. Именно в этом состояла главная причина его конфликта со св. Филиппом, пришедшим на место митрополита Афанасия.
Житие митрополита Филиппа рассказывает о том, как он пытался уговорить царя отказаться от опричнины: «… нача молити, дабы государь престал от такого неугодного начинания Богу и всему православному християнству. И воспомяну ему Евангельское слово: “Аще царство на ся разделится — запустеет”. И ина многа глагола со многими слезами…»{176} Не добившись своего, св. Филипп позднее обличил воинство опричников публично: «Мы убо, царю, приносим жертву Господеви чисту и бескровну в мирское спасение, а за олтарем неповинно кровь лиется християнская и напрасно умирают!»{177} Он публично отказал царю в благословении, призывая Ивана Васильевича прежде простить «согрешающих» ему. Открытое антиопричное выступление св. Филиппа относится к периоду, когда массовый террор уже был инициирован «расследованием» по «делу» И.П. Федорова. Митрополита возмущало, помимо всего прочего, одеяние опричников: «черные ризы», высокие «халдейские» шлыки на головах, «тафии»[220], не снятые во время крестного хода. Его замечания по этому поводу вызывали царский гнев. Царь настоял на свершении суда над митрополитом. Суд этот производился со значительными нарушениями относительно церковных традиций, канонов и доброй нравственности. Особая «следственная комиссия» работала на Соловках, где Филипп до восшествия на митрополичью кафедру был игуменом; следователи всеми доступными способами — то посулами, то открытым насилием, — добывали показания против него. В результате доказательная база обвинения, выдвинутого против митрополита, оказалась основанной на клевете и лжесвидетельствах… Филиппа осудили. Архиерейские одежды были насильно сорваны с него прямо в храме, во время богослужения, и заменены на рваную рясу. Некоторые мужественные иерархи противились суду, а когда, под давлением Ивана Васильевича, бывшего митрополита все-таки признали виновным в «порочной жизни», царю не позволили сжечь его[221]. Смертная казнь была заменена ссылкой в тверской Отроч монастырь. Это произошло в ноябре 1568 года. По словам Р.Г. Скрынникова, «…суд над митрополитом нанес сильнейший удар по престижу и влиянию Церкви»{178}. Действительно, срамное действие православного государя опозорило Церковь и показало, сколь мало теперь стоит ее честь в глазах Ивана Васильевича. Опричная политика несла в себе мощный антицерковный элемент. Трагическая смерть св. Филиппа дает еще одно подтверждение этому: в декабре 1569 года его умертвил опричник Малюта Скуратов-Вельский[222].
В следующем году по царскому приказу лишились жизни св. Корнилий, архимандрит Псково-Печерский, Митрофан, архимандрит Печерского Вознесенского монастыря в Нижнем Новгороде, а также Исаак Сумин, архимандрит Солотчинского монастыря на Рязанщине. Они упомянуты в официальных синодиках опальных{179}.[223] Синодики содержат также немало имен «старцев», «иноков»,архиерейских приближенных и служилых людей. Некоторые персоны духовного звания, вплоть до архиереев, умученные по велению царя, не вошли в синодики, но их гибель подтверждается иными источниками. Во время опричного разгрома Новгорода и Пскова в 1570 году подверглись нещадному разграблению храмы и монастыри.
К сожалению, русский православный царь отличался несовместимой с его званием любовью к астрологам и «чародеям», порой надолго подпадая под их влияние и даже поступая по их советам в государственных делах. Так, по всей видимости, поставление Семиона Бекбулатовича на российский трон было связано с предсказаниями астрологов[224]. Елисей Бомелий, астролог с репутацией злейшего колдуна, долгое время ходил у Ивана Васильевича в доверенных лицах. Курбский упрекает царя в нелепом пристрастии к астрологии: «чаровников и волхвов от далечайших стран собираешь, пытающе их о счасливых днях». Джером Горсей сообщает, что незадолго до смерти государь «…приказал доставить немедленно с Севера множество кудесников и колдуний… шестьдесят из них были доставлены в Москву, размещены под стражей»{180}. Иван Васильевич пользовался их ворожбой и даже получил от них предсказание о дне собственной кончины, сбывшееся, по свидетельству Горсея.
Наконец, Иван Васильевич женился шесть раз[225]. Это намного больше, чем предусмотрено православными канонами. Четвертый брак — прямое нарушение твердых церковных правил на этот счет. Церковь вынуждена была разрешить его: память о недавно закончившемся массовом терроре была свежа, и ни один русский архиерей не мог быть спокоен за свою жизнь. Правда, на царя была наложена епитимья… Для всех прочих, дабы никто не соблазнился примером государя, последовало церковное разъяснение: «да не дерзнет [никто] таковая створити, четвертому браку сочетатися…» под страхом проклятия. По свидетельству Антонио Поссевино, после заключения четвертого брака Иван Васильевич до конца жизни был лишен права принимать причастие{181}.
Дважды он вынуждал сына, царевича Ивана, постригать жен в монахини. А в 1581 году, не умея сдержать ярость из-за слишком вольного, по его мнению, поведения очередной невестки, поссорился с ним и нанес ему смертельную рану[226].
Иван IV прекрасно понимал собственную порочность и время от времени начинал каяться — всерьез, тяжко, скорбно. Нет смысла сомневаться в искренности его покаяния. В1551 году, обращаясь к церковному собору, государь признается в том, что «заблудился», уйдя от заповедей Господа «душевнеителесне»по причине «юности»и «неведения»{182}. В 1572 году слова глубокой скорби о своей греховности звучат в его духовной грамоте (завещании). В последние годы жизни Иван Васильевич, стоя одной ногой в гробу, велит писать синодики «опальных» убиенных и рассылать их с богатыми пожертвованиями по монашеским обителям для поминания «на литиях и на литоргиях, и на понахидах по вся дни…»{183}
Другое дело, что покаянные слова и действия государя всякий раз бывали результатом настроения. Кажется, определенную стойкость царь проявил лишь в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века, да еще, может быть, в конце жизни, когда здравый смысл подсказывал ему: пора бы всерьез задуматься о встрече с Высшим Судией… Все мы слабы и грешны. Сбрасывая на исповеди груз грехов, так веришь: всё это совершено тобой в последний раз! И какое-то время стараешься держаться, а с Божьей помощью порой действительно избавляешься от порочных пристрастий. Но чаще все-таки бывает иначе: прегрешения вновь нанизываются на твою душу, как шашлычины на шампур. Грешим и каемся, каемся и грешим, и опять каемся… Жизнь христианина состоит из падений и восстаний от греха. Необходимо лишь находить в себе силы для того, чтобы подниматься из пропасти собственных слабостей, сластолюбия и гордыни. Автор этих строк не может назвать себя добрым и нравственным христианином, а потому окончательный суд о грехах государя Ивана Васильевича хотел бы оставить Церкви и Господу.
Но одно сказать все-таки необходимо. Вне зависимости от глубины раскаяния царя, Церкви он нанес огромный ущерб. Гибель и страдания архиереев, священников, близких им людей, унижение церковного авторитета, нарушение канонов, покровительство оккультной деятельности — вот далеко не полный результат государева своевольства.
18 марта 1584 года государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси ушел из жизни[227].
* * *
В 1997 году автор этих строк приобрел в букинистическом магазине рукописный сборник середины XVIII столетия с космографией и кратким летописцем. Книга принадлежала когда-то Леонтию Кириллову, следовательно, летописец можно условно называть Кирилловским. Он был составлен не ранее 1652 года, и его лапидарные погодные записи не несут, кажется, никаких уникальных известий. Правление Ивана IV оформлено в Кирилловском летописце поразительно: начинается оно знамением, не предвещавшим ничего доброго, да и заканчивается еще одним пугающим знамением. Вот эти записи: «…сему же князю Василию Ивановичу родися сынъ великий князь Иванъ от великия княгини Елены. В часъ же рождения его в лето 7038 в Великом Новеграде бысть громъ страшен зело и блистания молнии, что из давныхъ летъ никто не помнить». А незадолго до кончины государя, под летом 7090-м (1581/1582 г.) сказано: «Явися на небеси звезда хвостата, а была 33 дни и ходила по полунощной стране и по полуденной, и по заподной». Как будто Господь поставил «красные флажки» в начале правления этого монарха и при завершении его.
Царствование Ивана Васильевича было для страны несчастливым…
ЭПИЛОГ
…Боже, Боже,
Ужели я когда-нибудь войду
В сей храм достроенный и на коленях,
Раб нерадивый, дам Тебе отчет
Во всём, что сделал и чего не сделал?
Миропомазанья великой тайной
Ты приказал мне царский труд, желая,
Чтоб мир стал храмом и над ним повисла,
Как купол, императорская власть,
Твоим крестом увенчанная, Боже,
И я ль Тебя в великий час предам?
Н.С. Гумилев. Отравленная туника«Он правую веру в Христа, именно Троице в единстве и единству в Троице, после своих предков до самой смерти, как пастырь, сохранил непоколебимой и незыблемой. И что удивительно!
Он так был всем страшен, что если бы захотел показать слабость веры в других, устрашая их, как мать детей, мог бы страхом своей власти обличить нестойкость бежащих, хотя бы на время кое в чем отступая, употребив для этого изменение или убавление истины. Известно, что и между духовными нашлись бы такие, которые не смогли бы не побояться застращиваний и запретить это нездоровое (лукавое) искушение веры, если бы нашлись хоть немногие из других людей, которые первыми показали бы ему двоедушие. Это я говорю не затем, чтобы показать, что царь как бы играл с церковью, но затем, чтобы сделать известною его собственную твердость в вере, а еще больше затем, чтобы показать бегство нестойких и слабость их веры.
Его, царя нашего, такого верного слугу (церкви), державшего людей в совершенном страхе и, что удивительно, в противоположность этому изменившего крепость своей природы на слабость, за непоколебимое, подобное столпу стояние за веру и утверждение (в ней) прочих, (следует) увенчать, ибо он хорошо знаком был с книжным учением философов об истине и кроме того отличался внешнею скромностью. Ради этого не следует низшим людям много говорить о царствующих и (без) стыда сообщать, если в них что было и порочно; ибо лучше неблагообразие царского поведения покрывать молчанием, как одеждою; — известно о Ное, праотце нашем, что его срамота была покрыта его благоразумными детьми, а как тот, упившийся вином, так и этот осрамил себя грехом, которому все причастны»{184}.
Из «Временника» Ивана ТимофееваРусское Средневековье — это мир, принципиально отличающийся от нашего. Люди тех времен иначе думали, иначе веровали, иначе воспринимали время и пространство, имели иные нравственные идеалы, иное отношение к человеческой личности. Это был мир Традиции, раз и навсегда заведенного порядка вещей. Худшим обвинением служило слово «новина», т.е. разрушение устоявшегося социального института, обычая, изменение древнего бытового уклада. А самая смелая реформа производилась под флагом «возвращения к старине», искаженной людьми недобрыми и неумными. Самое бурное общественное и культурное развитие, стремительная «смена картинок» воспринимались как плавание по огромному и неизменяемому океану от порта «Сотворение мира» до порта «Страшный суд», на корабле, где поколения команды сменяются другими поколениями… Шторм ли стоит на море, или затишье, а вокруг лишь вода и небо, чайки и ангелы, рыбы и водяные бесы. Любая перемена — часть более глобального постоянства. Время поглощается вечностью… Время — палуба, вечность — океан.
Позднее этот мир постарел, европеизировался и стал постепенно разрушаться, покуда не грянул последний залп 1917 года. Сейчас от него мало что осталось, и в прежнем виде ему уже не быть восстановленным никогда[228].
Но когда он был в цвету, каждому его жителю предназначалась роль и место в строго распланированной общественной системе. Личность человека была важна постольку, поскольку ему предназначалось принять участие в мистерии жизни, уйти за кулисы и там получить оценку Высшего судии. А значит, главное предназначение христианского общества и государства состояло в том, чтобы обеспечить наилучшие, наиболее комфортные условия всех «актеров». Отказ от игры и от полученных вместе с ролью в спектакле прав и обязанностей, от места в жизни, от предназначения, оценивался прямо противоположно современным этическим образцам. «Бунт против системы», «обретение себя», личная независимость, выход за общепринятые нормы, попытка сломать их воспринимались не только и даже не столько как преступление, сколько как мерзость или дурость. Человек-вне-общества, он же, по терминологии того времени, гультяй-меж-двор приобретал для современников дурной запах[229]. Он становился ходячей тухлятиной. Общественные тяготы переносились с терпением и смирением — это одна из важнейших черт Русской цивилизации[230]. Люди видели в трудностях земных отблеск легкости небесной, спасение души стояло на порядок выше любых других личных приоритетов.
Общественный механизм XIV—XV вв. напоминал большую деревню, где каждое княжество и каждая аристократическая республика представляли собой теплый, ухоженный домик, посреди них высился храм общей для всех митрополии, а над крышами простирала Покров сама Богородица. Создание единого Московского государства превратило деревню в один очень большой дом, храм митрополии — в домовую часовню патриархии, и лишь Покров остался прежним. Однако это были изменения, поглощенные цивилизационным постоянством Руси. Их глобальный характер почувствовали только высшие слои общества, поэтому социальные конфликты XVI столетия в основном имеют верховой характер и не затрагивают толщу русской жизни.
В этом громадном доме общий порядок ни для кого не предусматривал исключений. Государь и митрополит[231] были включены в действо. Им так же не полагалось выламываться из общей системы, как и последнему бедняку-крестьянину. От них требовалось даже более неуклонное следование роли, поскольку оба «играли» на виду у всего государства. И земная, т.е. общественная, оценка их жизни производилась традиционным обществом именно по критерию соответствия предназначению. Если всем прочим социальная мобильность, сохранявшаяся в старомосковском обществе XVI века, давала возможность по собственному желанию или по непредвиденным обстоятельствам переменить роль, судьбу и предназначение[232], то монарху и высшему архиерею страны можно было «уйти на пенсию» только в монахи или на тот свет.
За всю историю Московского государства только два монарха[233] совершали попытки «сыграть не по правилам», противопоставить себя старомосковскому общественному укладу и культурной традиции, утвердившейся под влиянием православия. Это Иван IV и Лжедмитрий I. Последний стал признанным антигероем русской истории, и даже либеральные попытки представить его «неудавшимся реформатором»[234], ничуть не улучшили массовое восприятие этого исторического деятеля. Что же касается Ивана IV, то здесь все намного сложнее.
Иногда создается впечатление, что этого государя сам Господь послал России. Попущение всем его неудачам и злодеяниям, возможно, было уроком всей стране: насколько славен и удачлив был православный царь, пока он был настоящим православным царем и не пытался уклониться от своего предназначения, и насколько мерзок, жалок и несчастлив стал он, изменив собственной роли…
Иван IV возжелал не только править страной и народом, но и отделиться от них, встать над ними, преобразиться в независимую силу, ничем не сдерживаемую и ничем не ограниченную в своих планах и действиях по отношению к подданным. Законодательного, правового ограничения ему и впрямь не существовало. Ни византийское, ни русское право его просто не предусматривало. А современные политологические представления о природе власти, социальная философия, навеянная духом эпохи Просвещения, в принципе непригодны для того, чтобы устраивать суд над государями старомосковскими и их временем[235]. Невозможно и бессмысленно применять Уголовный кодекс Российской Федерации, скажем, к местническому делу. Так же невозможно и бессмысленно требовать от грозненской эпохи соответствия каким-то невнятным «общечеловеческим ценностям», за которыми кроется рублефицированный либерализм. Для всех этических максим нашей интеллигенции, гуманистичной и вестернизированной, у XVI столетия один ответ: пороть, пока дурь не вылетит из головы. И этот ответ на «критику слева» адекватен. Никогда нравственные вкусы потомков не были милосердны к духовному укладу предков, но лучше ли стали потомки? Наше время, мутное от интеллектуальной эквилибристики униженных поколений, слабое и неплодоносное, должно бы склонить голову перед героической, кровавой и блистательной эпохой последних Рюриковичей. Бурное социальное творчество того времени, самоотверженная борьба с опасными врагами, невероятная витальность и в то же время духовная эпичность дадут сто очков вперед нашей невразумительной помойке… Совать в русское Средневековье какой-нибудь, прости Господи, розовый социализм, либеральную хельсинковщину или, скажем, тупо-бесчеловечную науку экономике — проявление пошлости и недоумия одновременно. Но это не значит, что Московское государство в зените существования своего не знало высшего смысла и высшей правды, подчиняться которым должны были в равной степени и царь Иван Васильевич, и какой-нибудь гарнизонный пушкарь из Шацка. А смысл этот и эта правда таковы: государь — всего лишь первый из христиан, равных перед Богом. Истинный царь — Царь Небесный, и все жители православной державы ходят под рукой Его, смиренно подчиняясь Его воле, чтят Его заповеди, и хлеб насущный принимают из Его невидимых рук. Над царем, таким образом, стоит суд Бога, точно так же, как и над каждым из его подданных[236]. И подданные вправе заниматься «критикой справа», т.е. ставить вопросы: относится ли к ним государь, как к членам огромной христианской общины, иными словами, как к членам колоссальной семьи? Он имеет право на строгость точно так же, как и всякий отец семейства, но и заботиться о семействе точно так же обязан — как о родне. Чтит ли он заповеди? Добрый он христианин или же отступник? Еще византийская традиция позволяла отказать государю в повиновении, если он покушается на основы веры… Если государь отступничает, если он — «ложный государь», стоит ли ему подчиняться и как тогда упромыслить свою жизнь? Жизнь своей семьи? Жизнь города? Жизнь страны? Порой ответы на эти вопросы инициировали ужасающий бунт. А в Смутное время ответом на них стала титаническая борьба и социальная катастрофа.
* * *
Каким же христианином был царь Иван Васильевич? И каким он был православным государем? Пришло время подвести итоги.
Иван III, гениальный политик, оставил своему сыну Василию страну, находящуюся на пике цивилизационного развития, мощную, богатую, получившую наследие утонченного византийского интеллектуалитета, бурно развивающуюся, защищенную как энергичной дипломатией, так и свирепым войском выносливых воинов-помещиков. Василий III был достаточно хорош, чтобы не потерять основных приобретений отца и не ставить перед несущимся на полной скорости эшелоном Русской цивилизации искусственных препятствий. Даже наша служилая аристократия, своевольная и самолюбивая, отдала не столь уж много в период правления Елены Глинской, а затем в юные годы Ивана Васильевича. И вот молодой царь взял вожжи в руки. Система управления пестрым военно-служилым классом, огромной территорией, полусложившимися сословиями, да еще в условиях постоянной готовности драться насмерть, отражая нашествия с юга и востока, оказалась безумно сложной. Церковь занята была важными реформами, иосифлянство и нестяжательство сцепились в клинче. Правильно выстроенные отношения с Церковью стоили дорогого, но добиться симфонической гармонии тоже оказалось непростым делом. Россия тех лет имела невероятно запутанное, да еще не до конца сформированное, устройство, все оставалось в движении, ничто еще не успело застыть. Чтобы адекватно править страной, требовалась колоссальная воля, твердость, холодный изощренный ум и, одновременно, чувство равновесия. Система адекватно действовала, покуда правитель видел, влияние каких групп требуется уравновесить, кого поддержать, а кому дать укорот, на каких условиях включить бывших властительных князей в московские правительственные круги, когда стоит им прощать фронду, а когда прощать нельзя и требуется применить силу. Иван III идеально подходил для этой задачи. Иван IV унаследовал от деда один только масштаб мышления. Будучи наделенным нервной, артистической натурой, он больше умел выглядеть великим правителем, нежели быть им. Он слишком многого ожидал от благоприятных обстоятельств и слишком быстро впадал в уныние, когда ситуация осложнялась. Государь не обладал должной твердостью и должной волей. Поэтому, испугавшись сложности и динамизма административной системы Московского государства, Иван Васильевич попытался заменить постоянную, нешумную деятельность хладнокровного манипулятора мерами экстренного характера, эффективную практическую деятельность эффектной идеологией, упорство в достижении целей простой жестокостью, а христианскую нравственность лицедейством. Это отчасти напоминает конец двадцатых — начало тридцатых годов в СССР: «сплошная коллективизация» в значительной степени была инициирована страхом «не справиться» с деревней и нежеланием всерьез, изо дня в день, из года в год вести кропотливую работу с сельским населением…
Иван Васильевич не имел права поддаваться истерике, холить и лелеять нервную хлипкость. Он государь, с него и спрос другой.
Иван IV умыл Россию кровью.
Один книжник, свидетель грозненской эпохи, через несколько десятилетий после смерти Ивана Васильевича напишет о нем: «Больше к единоверцам, которые находились в его руках, под его властью, к близким ему людям — великим и малым, нежели к врагам, он оказывался суровым и неприступным, а к которым ему таким быть следовало, к тем он был не таким от поднимающегося в нем на своих людей пламенного гнева»{185}.
Несколько тысяч раз государь Иван Васильевич нарушал заповедь «не убий». Лично он был исключительно богомолен, совершал то и дело паломничества в монастыри, даже пищу крестил за обедом. Он заказывал молебны по душам собственноручно им или по его приказу убиенных людей, приказав составить огромные синодики. И, насколько можно судить, покаяние государя было искренним и глубоким.
Он непоколебимо стоял против ересей, не допустил в страну протестантизм, а в годы, когда Московской митрополией правил св. Макарий, установил с Церковью добрые отношения.
Но.
Он несколько тысяч раз нарушил заповедь «не убий».
Такого не водилось за Иваном III, правителем суровым, а порой и жестоким. Длительное правление его скудно пытками и плахами.
Такого не водилось за Василием III. Этот не обладал и третью талантов отца, но страну от крупных неприятностей сберег и острых социальных конфликтов не вызвал.
Такого не водилось за Федором Ивановичем, а итог его царствования скорее положителен для России.
Такого не водилось даже за Борисом Годуновым, хотя он и сидел на престоле крайне непрочно.
Василий Шуйский казнил немало народу, но это происходило в условиях открытого вооруженного противостояния с мятежниками.
За Михаилом Федоровичем.
За Алексеем Михайловичем. При нем казнили много, но в подавляющем большинстве случаев — за открытый бунт, злой и разрушительный.
За Федором Алексеевичем…
И лишь деятельность Петра Великого по степени пролитой крови может сравниться с грозненской эпохой. Но это уже и время другое, старому Московскому царству приходит конец.
Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин так зверствовал!
Владимир Святой, крестившись, спрашивал у Церкви, может ли он казнить, и Церковь на себя приняла его грехи. Царица Елизавета Петровна отказалась от смертной казни. И даже скорый на расправу Петр I спрашивал у патриарха: достойно ли казнить мятежных стрельцов? Если добрый христианин убил, даже защищая собственную жизнь, даже на войне, в бою, ему пристало скорбеть и сокрушаться сердцем о содеянном грехе.
Отчего же Иван IV губил людей так легко?
Нет, не за день и не за месяц до составления синодиков, о которых говорилось выше. Был период, когда государь жил на огромной дистанции от покаянных слов и мыслей. Тогда он убивал скоро, без особых рассуждений. А с возрастом, видимо, мысли о последнем суде и спасении души растревожили его…
Первый воевода страны, он добился к концу царствования очень сомнительных успехов. Где-то территория его державы расширилась, а где-то страна понесла утраты. Результат, таким образом, можно толковать по-разному. Нет ни очевидного успеха, ни очевидного провала. Но цена, заплаченная за этот зыбкий баланс приобретений и утрат, непомерно высока. Россия, страна редко заселенная, располагавшая сравнительно небольшой армией, которая должна была проявлять крайнюю мобильность, чтобы успевать повсюду и везде, потеряла слишком много представителей военно-служилого класса, притом самый цвет его, т.е. людей, относящихся к верхушке. Боясь собственных служилых аристократов, гневаясь на них за изменные замыслы и уничтожая их под влиянием страха и гнева, Иван IV нанес огромный урон обороноспособности страны.
Царь отвечал перед Богом за сохранность отданных ему под руку единоверцев. Отчего же он допустил московский разгром 1571 года? Отчего он не смог защитить столицу православной державы от басурманского нападения?
Первый дипломат страны, Иван Васильевич упустил несколько удобных возможностей выйти с малыми потерями и большим прибытком из тяжелой Ливонской войны; не сумел подружиться с Крымом, хотя у деда его получилось сделать агрессивных крымских ханов своими помощниками; не смог найти для истекающей кровью России надежных и сильных союзников; бывал заносчив с иностранными государями, когда Бог попускал его державе успех, но в положении просителя впадал в униженное состояние. Между тем не одна честь государева поставлена была на кон, когда принимались важнейшие военные и внешнеполитические решения, но еще и тысячи жизней. Думал ли Иван Васильевич, сколькими жизнями придется расплатиться стране за его горделивое любование собой?
Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно доброму христианину столь мало заботиться о ближних, тем более о тех, чья судьба прямо зависит от слов его и действий.
Свою особую роль самодержца в христианском мире, особые пути спасения его души, особые его права Иван IV объявлял публично, не стесняясь несовпадения всего этого с учением Церкви. Государь произвольно толковал Священное Писание. На протяжении многих лет он не подходил к причастию, предпочтя ему плотские утехи и подведя под свой выбор нелепое идеологическое оправдание. Опричное сборище и, в частности, «Слободской орден» с религиозной точки зрения толкуют по-разному — то как подобие монашеского ордена, то как подобие эзотерического камлания или прямо бесопоклоннической секты, устроители которой сделали посмешище из богослужения. Среди всех мнений об опричных порядках особенно важно свидетельство архиерея и очевидца происходившего — св. митрополита Московского Филиппа. А он в опричных обычаях, опричной одежде, повадке опричников и склонности их к пролитию крови не увидел ничего христианского.
Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин выдумывал еретические измышления и устанавливал безбожные обычаи, пытаясь придать себе особое положение в христианской общине.
Первый русский царь заключил больше браков, чем позволяли ему каноны православной Церкви. Любил ли он своих жен — знает один Господь. С некоторыми из них Иван Васильевич поступал сурово, с иными — заботливо. Будучи в браке с одной из них, беззастенчиво женихался к иностранной государыне, а потом к ее родственнице, не видев между тем ни той, ни другой… Он, по всей видимости, стал причиной гибели собственного сына Ивана. По свидетельствам иностранцев[237], царь допускал прелюбодеяние и даже не скрывал этого. Летописец подтверждает это: после смерти первой супруги, царь «…нача… яр быти и прелюбодействен зело».
Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин так распутствовал!
Наконец, отношения первого русского царя и Церкви были далеко не безоблачными. До несчастного дня 31 декабря 1563 года, когда скончался св. митрополит Московский Макарий, государь находился под его благодетельным влиянием, и это было доброе время для страны, для Церкви и для высшей власти. Наследовавшим от него Московскую кафедру архиереям приходилось хуже и солонее. Митрополит Афанасий самовольно оставил митрополичью кафедру, видимо, не выдержав зрелища казней. Митрополит Филипп восстал против опричнины и погиб. В разное время помимо святителя Филиппа от царя и его приближенных пострадали и погибли крупные деятели Церкви, в том числе настоятель Псково-Печерский св. Корнилий, Новгородский архиепископ Леонид, архимандриты московских Симонова и Чудова монастырей Иосиф и Евфимий, архимандрит Солотчинский Исаак, архимандрит Троицкий Памва, архимандрит Антониево-Сийской обители Геласий, нижегородский Печерский архимандрит Митрофан, причем на долю Леонида выпала страшная, мученическая смерть[238]. По приказу царя были убиты многие священники, монахи, церковные слуги и служилые архиерейские дворяне. Архиепископа Новгородского Пимена, лишив сана, заточили в веневский Никольский монастырь[239]. Что же это за верующий, который, как пес, грызет собственную Церковь?! Впоследствии о грозненском времени с изумлением и печалью напишут: «…[царь] не устрашися же и святительского чина, оных убивая, оных заточению предавая…» Помимо казней, опал и ссылок в отношении людей духовного звания, государь беззастенчиво вмешивался в церковную жизнь, вертя ею по своему произволу. Фактически он низвел митрополичью власть до уровня какого-то простого приказного администрирования. Современники и ближайшие потомки разное писали о состоянии общества в грозненское время. Но никто ничего доброго не сказал об отношении царя к Церкви. А митрополита Филиппа канонизировали во времена Алексея Михайловича, и это о многом говорит.
Бог судья Ивану Васильевичу, но никак невозможно, чтобы добрый христианин терзал и унижал свою Церковь, ставя в полушку слова символа веры «…во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».
Русский интеллектуалитет поколение за поколением устраивает вокруг фигуры Ивана Грозного словесные баталии. В 2009 году, в связи с выходом на экраны фильма «Царь», созданного Павлом Лунгиным по сценарию Алексея Иванова, эта вечная дискуссия вспыхнула с новой силой.
На следующий день после того, как фильмом Павла Лунгина «Царь» открыли Международный московский кинофестиваль, режиссеру поставили диагноз: «Да он полный невежда! Ничего не знает и ничего не понимает в русской истории!» Ну а дальше посыпалось: «Как можно было так изображать одного из самых эффективных правителей России!» (Речь идет об Иване Грозном.) Или: «Как можно было сляпать пошлую православную агитку!» Или: «Как можно было опуститься до тупой либеральной агитки!» И так далее, и тому подобное.
Полагаю, ММКФ-2009 сделал ставку на Лунгина абсолютно правильно. Лунгин сделал сильную вещь. А его критики большей частью расписались в неумении внимательно смотреть фильм. Большей частью — потому что остальные расписались в каком-то изощренном лукавстве.
В картине Лунгина нет ничего от агитки и тем более от невежества. Это весьма сложная лента, сценарий которой писал Алексей Иванов — чуть ли не лучшее перо русского мэйнстрима, человек, несомненно, прилично разбирающийся в нашей истории. Что же касается «эффективного правителя» Ивана Грозного, то как быть с тем, что он проиграл главную войну своей жизни — Ливонскую? Как быть с сожженной Москвой, куда царь допустил татар? Как быть с двумя православными святыми, убитыми в его правление?
Режиссер и сценарист пошли по очень рискованному пути. Они превратили историческую основу фильма в набор символов. Поэтому фильм «Царь» нельзя назвать историческим ни в малой мере. В деталях там неточно буквально всё, и всё сдвинуто со своих мест в пространстве и времени. Не тогда, не с тем королем во главе и не при тех обстоятельствах поляки взяли Полоцк. Не такого возраста был царь Иван Васильевич. Не зимой приехал Филипп с Соловков в Москву ставиться в митрополиты. Не беседовал царь с Филиппом перед тем, как Малюта убил Филиппа. И еще очень много «не…».
Но фильм и не претендует на то, чтобы его называли историческим. Некоторые хронологические и пространственные сдвиги поданы, без сомнений, нарочито. Иными словами, трансформация исторического факта в символ не оставляет камня на камне от правды конкретного события, но из этого сделан художественный прием, на котором фокусируется внимание зрителя. И умный зритель понимает: реализм на экране полностью заменен символизмом. Искать в фильме фактическую точность бесполезно, ее просто нет. Искать точность в сочетаниях символов — необходимо, поскольку без этого фильм просто нельзя понять.
«Царь» — христианская драма. И если в деталях неточно всё, то в главном там всё сказано очень точно.
Почему Полоцк открывает ворота врагу в 1568 году, когда это на самом деле произошло десятилетием позже? Да потому, что падение этого города подано как символ поражения России в Ливонской войне. Взятие Полоцка — самая большая победа Речи Посполитой. Она пришла под занавес войны и многое изменила к худшему. В фильме падение Полоцка ассоциируется с весьма сложной ситуацией: храбрые воеводы, честно дравшиеся с поляками на подступах к Полоцку, казнены. Город, однако, сдали не они — Полоцк сам открыл ворота безо всякого сопротивления (что, кстати, никак не соответствует исторической действительности: на самом деле гарнизон упорно сопротивлялся). Всё это — выдумка сценариста и одновременно правда более высокого уровня: под занавес войны у нас почти не осталось толковых воевод, армии разбегались, города и впрямь время от времени открывали ворота врагу. Таким образом, режиссер сжал более десяти лет в несколько месяцев, позволив зрителю увидеть результат правления Ивана IV. Результат, мягко говоря, не свидетельствующий об «эффективности».
Отчего царь, которому в 1568 году было всего лишь 38 лет, выглядит намного старше? Помилуйте, если время спрессовано, то естественно увидеть человека в том возрасте, которого он достиг к концу хронологической дистанции, а не в самом ее начале. Что ж, к концу сжатого отрезка Ивану Васильевичу было уже 49, а не 38. Примерно на столько и выглядит Петр Мамонов, играющий государя.
Почему Филипп явился в Москву зимой, а не летом 1566 года, как было в действительности? Да потому, что времена года в фильме связаны с определенными состояниями общества. Филипп летом въезжал в зиму опричнины. Стоял мороз, и люди зябко кутались в худые одежки.
В одном эпизоде опричники сжигают храм, где укрылись монахи, не желающие отдать карателям останки убитого Филиппа. Откуда взялась эта сцена? Ничего подобного в истории не было. Пытаться найти ей фактическое соответствие в источниках XVI века значит производить напрасный труд.
Но в фильме этот эпизод — часть художественной правды. Он символизирует разрушение православных устоев, производимое черным воинством опричнины. Не напрасно в финальных кадрах с горящей церкви падает в снег луковка с крестом. Христианство поругано, духовный авторитет Церкви обращен в ничтожество — вот смысл эпизода. И он соответствует действительному отношению первого русского царя к Церкви.
В первой половине фильма Лунгин играет со зрителем в странную игру. Он как будто подсовывает ему стереотипы, давно знакомые по самой незамысловатой публицистике. Вот царь — восточный деспот, полусумасшедший мистик, которому христианство ударило в голову, вызвав к жизни дикую смесь веры с варварством. Да и народ подстать монарху — сплошь холопы и палачи, какие-то мерзкие немытые рыла, полуосмысленные вопли вместо речи.
И вот митрополит — настоящий европейский гуманист, ценитель идей Леонардо. Кто он здесь? Чужак, странным образом прибитый к берегу родной страны. Зачем он здесь? Да просто вляпался ненароком: ведет себя Филипп как внешний наблюдатель, отстраненно взирающий на зверства и скоморошества тирана. Олег Янковский в одном из последних интервью так и сказал о своем герое — европейский человек, гуманист… Слава Богу, сама логика роли всю эту невнятную и натужную европейскость смыла начисто.
Либеральные стереотипы, лукаво подброшенные Ивановым и Лунгиным зрителю в начале картины, к финалу сменяются настоящей русской историей, пахнущей кровью, верой и правдой.
Что же вышло в итоге, когда фильм переломился? А переломился он тогда, когда большая кровь опричнины коснулась самого Филиппа, когда наблюдение его, сопровождающееся редкими советами государю — мол, подобает тебе, царе, миловать, — оказалось недостаточной реакцией на события. Режиссер и сценарист заставили Филиппа окунуться в русскую опричную действительность с головой. Он попытался кого-то спасти, что-то исправить, да тщетно. И осталось одно-единственное средство, способное вылечить окружающую реальность, заболевшую бесчеловечностью и безлюбием. Это средство — самопожертвование. Лунгин направил митрополита по пути Христа. И даже заставил Ивана Грозного, обрекая Филиппа на смерть, поцеловать его Иудиным обычаем.
Вот тогда-то и сошлись концы с концами в этом фильме. Куда только девалась вся детская игра с чертежами Леонардо, занимавшими воображение Филиппа! Всё исчезло, всё оказалось не столько даже наносным, сколько просто не важным по сравнению с тем подвигом, который предстояло совершить святителю. Филипп из гуманиста-наблюдателя превратился в настоящего русского православного человека, взявшего на себя тяжелое бремя: пострадать за Христову веру, принять муки за истину.
Как только пастырь всего народа стал делать то, что ему и следовало сделать, выяснилось: и народ-то хорош, здоров. Народ, оказывается, крепко верует, любит Бога и не любит ложь. Филипп стоит на своем, отказывая царю в благословении на опричные зверства. Тогда и воевода, которого под пыткой вынуждают обвинить митрополита в измене, терпит боль, не сдается. Тогда и монахи добровольно отдают жизни, не желая выдать тайно погребенное тело Филиппа опричникам. И рыла из первого получаса картины чудесным образом преображаются в иконописные лики. Не безобразен, оказывается, русский народ, а красив, благороден, силен…
Получается так, что народ оказался взрослее собственного монарха. Русские стали настоящими христианами и готовы жертвовать собой ради торжества истины. Когда государь отходит от этой истины — а она состоит в соединении веры во Христа с любовью, — народ покидает его. Последняя реплика фильма исходит от Ивана Васильевича, пожелавшего собрать людей на царское увеселение, но никого не увидевшего вокруг себя и горестно вопрошающего: «Где мой народ?»
Народ вырос, а царь за этим ростом не поспел. Он остался душою в тех временах, когда первые князья русские только-только крещались и едва успели попробовать на зуб, что за вера пришла на смену их бесхитростному идолопоклонничеству. Иван Васильевич весь — в полуязыческой дружинной стихии, для него еще культ силы превыше всех иных культов. Искренне молясь Богу, желая знаков Его любви, царь обращается к… еще большей силе, чем он сам. Точно так же, как главный каратель Малюта обращается к нему, своему государю, видя в монархе силу, абсолютно господствующую над его собственной.
Для понимания фильма очень важны символы язычества, намертво привязанные к образу царя. Молния, «хрястнувшая» вроде бы по приказу Ивана Васильевича, затравливание медведями опальных воевод (Филипп прямо называет это языческой расправой), опричный дворец — точь-в-точь мавзолеи восточных языческих владык, да еще, пожалуй, мавзолей Ленина… Новоиспеченная царица Мария Темрюковна, лишь недавно узнавшая крещение, наполнена горской дикостью, жестокостью, жаждой унижать подвластных ей людей. То же самое творится в душе самого государя. Только Мария Темрюковна проста, как прокисшее молоко, а государь — личность гораздо более сложная. Ту играющую злую силу, которая то и дело проявляется в поведении царицы, Иван Васильевич скрывает за юродством, за велеречием, за показным раскаянием. А всё же именно она руководит его действиями. И она же помрачает его душу. Мария Темрюковна — своего рода двойник царя. Что у него, книжного человека, на уме, то у нее, свирепой дуры, на языке.
Таким образом, личная вера Ивана Грозного — не вполне христианство. Это гремучая смесь торжествующего язычества с некоторыми частицами Христовой веры, поставленными в подчиненное положение. Любовь к грозе, к грому, к власти над жизнью и смертью подданных, к пролитию крови — из Святославовых времен, а не из Владимировых и позднее.
В итоге народ идет за Филиппом, поскольку он — личность, созревшая внутри христианства, которое прочно вошло в народную душу. А царь остается покинутым, поскольку он… выломился из общего лада. Иван Васильевич оказался в роли одинокого революционера, стремящегося вернуть в православную страну порядки седой древности, реабилитировать язычество под маской какого-то особенного, истинно царского христианства. Это сторонник «консервативной революции» в XVI столетии, пытающийся оживить мертвую традицию варварских времен. Вот за такую-то неудавшуюся, слава Богу, революцию русским пришлось нескудно заплатить своей кровушкой.
Это очень похоже на правду. Настоящую большую историческую правду, стоящую выше событий и обстоятельств, вольно сдвинутых режиссером со своих мест. Лунгин придал этой правде форму мифа и создал фильм-миф. Картину будут ругать на чем свет стоит, но примут и не забудут.
После выхода фильма появился роман Алексея Иванова «Летоисчисление от Иоанна». Он жестко связан со сценарием картины, но далеко не тождествен ему. Каких-то сцен нет в фильме, каких-то — в тексте, разница большая. Иванова все кому не лень принялись обвинять в невежестве, лжи и передергивании исторических фактов. Нарыли океан «фактических ошибок». Но в фильме исторический материал уходит в символ, строки источника трансформируются в сложный знак, который понятен человеку с определенным уровнем интеллектуальной культуры, а без нее рассыпается в простые неточности. Фильм ни в коей мере не исторический, нет там никакого исторического реализма. Зато исторический символизм есть, и он пребывает на высоком уровне философского освоения материала. Фильм скорее историософский. Это размышление на общественные, религиозные и философские темы, в котором фактический материал служит даже не иллюстративным материалом, а своего рода декором, привязывающим высказывание к культурному контексту Русской цивилизации. А вот роман — несколько другое. Допустим, где-то у Иванова есть прямые и очевидные ошибки вроде медной монеты, которую рассыпают народу, устраивая давку. Рассыпать в середине XVI века могли только серебряную монету… По части быта у Иванова неточностей хватает. Но в бытовых мелочах люди, работающие с историческим материалом, вообще ошибаются чаще частого. С теми же монетами, кстати, ошибался и такой титан, как А.Н. Толстой, и весьма грамотный исторический романист современности Далия Трускиновская. Нехорошо, но простительно — писатели ведь, а не историки. Ровно так же историка, взявшегося писать художественное произведение, литератор обвинит в том, что ученый не умеет пользоваться литературным русским, не имеет представления о композиции, системе образов и т.д. Любопытнее в данном случае другое: Иванов сознательно отрывается от исторической фактуры значительно дальше, чем в фильме. Например, в книге есть сцена, где юный Филипп спасает от мятежников юного Ивана (чего в реальности не было и быть не могло, так как один старше другого на 23 года). Или, скажем, общий мотив текста Иванова, что царь заменяет в христианстве веру в Бога верой в монарха (такого тоже не было, хотя некоторые мотивы в посланиях царя могут навести на подобную мысль). Зачем? Разве писатель не знал, что этого нет, этого быть не могло? Да, знал, он читал источники, где это прямо сказано, и знание данных источников следует из других сцен романа. Так почему же он «исказил»? А он вовсе не «исказил», он… нечто другое. Там, где у Лунгина — историософский трактат, у Иванова — трактат мистико-богословский. И у него просто нет исторической реальности России, а есть мистическая реальность, вобравшая в себя некоторые приметы нашего XVI века в качестве фона. Иванов не ошибается, Иванов тянет читателя на иной уровень понимания, уровень, оторванный от действительной истории совершенно. И юные Филипп с Иваном не два реальных человека, а воплощенное столкновение праведности и неправедности. И царь, допуская, конечно, очень вольные толкования христианской догматики, не доходил до самообожествления, но Алексей Иванов концентрирует в Иване Васильевиче стремление приспособить христианство к нуждам великой личности, перемолоть его жерновами власть и выдать кашицу, годную лишь для покраски плакатов «Верьте в меня!». Иными словами, развивает мотив неправедности, появившейся в предыдущих главах и постепенно затягивающей душу государя в омут.
Алексей Иванов концентрирует важнейшее, концентрирует высшие смыслы, даже не философские, не политические, а именно мистические, небесные, нарочито пренебрегая ради столь мощного градуса концентрации правдой факта. Так делали в древности наши иконописцы, не придававшие фону особого значения…
Приемлем ли подобный художественный метод?
Трудно сказать. С одной стороны, слишком жутко ломается через колено Его Величество исторический факт. С другой, возможно, Иванов вытаскивает нашу литературу к какому-то совершенно новому способу художественного освоения русской жизни. Это может быть и интересно, и плодотворно. Допустим, Иванов сделал рискованный и сильный шаг вперед в художественном поиске. Но тогда… ему стоило уйти от реальной истории еще дальше. Чтобы сказочно-мистический элемент стал ощутимее, чтобы не лезло в самые очи то, что великому православному святому в жизнеописание втащили какую-то отсебятину.
Фильм войдет в историю нашего кино. Роман войдет в историю нашей литературы.
Поэтому здесь и отдано столько места обсуждению картины П. Лунгина и романа А. Иванова.
* * *
Не так давно в околоцерковной среде появилось движение за канонизацию Ивана Грозного, Григория Распутина и некоторых других спорных деятелей нашей истории[240]. Интенция его понятна. Естественно быть русским государственником и при этом крепко верующим православным. Многим хотелось бы слить воедино эти два пристрастия. Но любовь к Христу и любовь к национальной державности — разные вещи, далеко не всегда их можно соединить. Христова искупительная жертва выше любых этатических ценностей; любить свою землю, своих соотечественников, болеть душой за свое государство — желание понятное и правильное, но все эти душевные порывы и практические действия должны стоять в иерархически подчиненном отношении к заповедям Господа и вере в Него. Хорошо, когда никакое противоречие не раздирает единство державы и Бога, заключенное в душе и мыслях верующего. Полагаю, в большинстве случаев это возможно. Но если нет, тогда истину Св. Троицы следует предпочесть истине национально-государственных интересов. Не всех наших монархов, даже если это крупные политики, радетели за отечество и люди добронравные, стоит объявлять святыми. Любимые народом святые равноапостольные Ольга и Владимир, святые благоверные князья Александр Ярославич и Даниил Александрович, святой милосердный и богомольный царь Федор Иванович (совсем не политик) легко и естественно вошли в сонм святых. Другие князья и цари — не столь просто и, в ряде случаев, после горячей полемики[241]. Но в отношении Ивана IV церковная иерархия стоит прочно и непримиримо: этот человек не должен быть канонизирован. Между тем глас Божий в таких случаях может быть донесен до общества лишь посредством соборного решения архиереев.
Что же говорят архиереи?
Вот отрывок из речи патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру и приходским советам храмов города Москвы: «Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского, и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?» Вот слово архимандрита Макария (Веретенникова): «Напомню, что за время правления Ивана Грозного единственным митрополитом, который скончался своей смертью, оставаясь главой Церкви, был святитель Макарий. Все остальные митрополиты либо сами покидали престол, либо их низводили. О какой же святости после этого можно говорить?»{186},[242] Епископ РИПЦ Дионисий (Алферов) говорит сходные вещи: «…если для кукловодов кампании по канонизации Грозного характерны циничный расчет и выполнение политического заказа, то для “кукол”, заблуждающихся искренно, характерно глубокое духовное повреждение. Поразительно, что вроде бы православных людей вдохновляет и привлекает пример не мучеников, не страстотерпцев, не подвижников, а их палачей…» И далее: «Православные патриоты! Не поклоняйтесь же никогда собачьей морде и всему, что она олицетворяет!»{187} Столь значительные и уважаемые архиереи наши, как митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн, а также митрополит Волоколамский Питирим, бывало, высказывались положительно о государе Иване Васильевиче, но никогда не призывали они к канонизации Ивана IV[243].
Вот и весь сказ.
Георгий Петрович Федотов прославил духовный подвиг св. митрополита Московского Филиппа, возвысившего голос против Ивана Грозного. Правда, Федотов пишет о какой-то абстрактной «Христовой правде», т.е. скорее социальной справедливости, чем преданности заповедям Его, но общий смысл его слов верен: «Подвиг митрополита Филиппа дает настоящий смысл и служению его сопастырей на московской кафедре Успения Богородицы: св. Алексия и св. Гермогена. Один святитель отдал труд всей жизни на укрепление государства московского, другой самую жизнь, обороняя его от внешних врагов. Св. Филипп отдал жизнь в борьбе с этим самым государством, в лице царя, показав, что и оно должно подчиниться высшему началу жизни. В свете подвига Филиппова мы понимаем, что не московскому великодержавию служили русские святые, а тому Христову свету, который светился в царстве, — и лишь до тех пор, пока этот свет светился»{188}.
Московское великодержавие было для страны благом, а для Русской цивилизации — одной из главных составляющих. Просто царь Иван Васильевич оказался дурным птенцом в гнезде наших самодержцев…
Во дворе Михайловского замка стоит памятник Павлу I: огромный трон, огромные ботфорты, огромное всё… кроме государя. Государь — сущий плюгавец. Государь оказался на два размера мельче и страны, и рыцарских идеалов, которые он пытался проповедовать. Так вот, Иван Васильевич тоже принял под державную руку страну и культуру себе не по размеру. Он оказался мельче Русской цивилизации и мельче идеалов христианства, составлявших ее основу.
Вспоминается образ императора Юстиниана в пьесе «Отравленная туника», принадлежащей перу Николая Степановича Гумилева. Император хотел быть мудрым и справедливым, хотел сыграть свою роль чисто, не сфальшивить. Но его терзали страсти: политическое стяжательство и пошлая ревность сгубили веру государя, нравственность, мудрость… Вот и царь Иван IV — если и был великим в чем-то, так это в эмоциях, наполнивших историю страны звуками угрозы: бурный поток гнева, мутный ручей ужаса, гремящая река похоти, оглушительный водопад гордыни. Как устроитель земли Русской он хорош тем, что в истории его жизни звучит глас Божий, призывающий поглядеть на царевы страсти, ужаснуться и укротить свои. Для человеческих ушей тяжки слова Бога, но это дар Его любви к нам. Государь Иван Васильевич, вероятно, послан был нашим предкам в качестве подсказки или же испытания во исправление. Это был настоящий бич русского народа, отучавший нашего человека от привычки к своевольству и в личном, и в общественном смысле…
Но будь же ты и к нему милостив, Господи! Все мы грешные люди. Прости нас. Прости и его.
ХРОНИКА ЖИЗНИ ИВАНА ГРОЗНОГО
1530 год — рождение Ивана Грозного (25 августа).
1533 год — смерть Василия III, отца Ивана Грозного.
1538 год — смерть Елены Глинской, матери Ивана Грозного.
Конец 1530-х — середина 1540-х годов — период «боярского правления».
1543 год — казнь князя Андрея Шуйского по воле Ивана Грозного.
1547 год — венчание Ивана Грозного на царство (16 января). Большое восстание в Москве, напугавшее Ивана Грозного своим размахом и ожесточением.
Конец 1540-х — конец 1550-х — период масштабных военных, политических и церковных преобразований.
Осень 1552 года — взятие Казани русской армией, с которой отправился в поход Иван Грозный.
1558 год — начало Ливонской войны, крупные успехи русской армии.
1563 год — русской армии под командованием Ивана Грозного сдался Полоцк (15 февраля).
1564 год — тяжелое поражение русской армии на Уле. Бегство к неприятелю князя Андрея Курбского. Начало переписки князя Андрея Курбского и Ивана Грозного. Отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу.
Январь 1565 года — учреждение опричнины.
Лето 1566 года — антиопричное выступление участников земского собора в Москве.
Конец 1567 года — спешный возврат русской армии во главе с Иваном Грозным из похода на Литовско-ливонский фронт из-за угрозы «земского заговора». Начало «расследования» по «делу» И.П. Федорова-Челяднина.
1568 год — «расследование» по «делу» И.П. Федорова-Челяднина. Начало массовых репрессий. Обличения опричнины митрополитом Филиппом. Смещение Филиппа с митрополичьей кафедры.
Конец 1569 — первые месяцы 1570 года — карательный поход опричников во главе с Иваном Грозным по землям Северной Руси. Разгром Новгорода. Убийство бывшего митрополита Филиппа в Тверском Отроче монастыре.
Лето 1570 года — массовые казни в Москве с личным участием Ивана Грозного.
Май 1571 года — вторжение крымского хана Девлет-Гирея, разгром Москвы.
Осень 1572 года — отмена опричнины после того, как совместными усилиями земских и опричных войск у Молодей был разбит Девлет-Гирей.
Январь 1573 года — русская армия под командованием Ивана Грозного взяла Пайду.
1575—1576 годы — возведение на московский престол Семиона Бекбулатовича и его смещение.
Лето—осень 1577 года — успешный поход русской армии во главе с Иваном Грозным в Ливонию, взятие ряда вражеских крепостей и городов.
1578 год — поражение русской армии под Венденом, начало периода неудач в борьбе с польско-литовскими и шведскими войсками.
1581 год — смерть царевича Ивана — сына Ивана Грозного — от раны, нанесенной отцом.
1581—1582 годы — успешная оборона Пскова от польско-литовских интервентов.
1582 год — Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой.
1583 год — Плюсское перемирие со Швецией. Окончание Ливонской войны с территориальными потерями для России.
1584 года — кончина Ивана Грозного (18 марта).
ПРАВДА О ГРОЗНОМ. Глеб Елисеев
Существуют эпохи и личности, ставшие настолько знаковыми для нашей истории, что писать о них «без гнева и пристрастия» практически невозможно. И как бы автор ни написал, все равно его труд вызовет массу нареканий и недовольства. Среди таких исторических фигур, чей список любой читатель составит с легкостью, несомненно, выделяется Иван Грозный. Иностранцы давно сделали «Ивана the Terrible» символом русской души и русского человека, что лишний раз свидетельствует о привычном для Запада глубоком непонимании нашего народа. Однако и на Руси образ первого царя, его судьба и его дела вызывают непрекращающиеся публицистические дрязги, жестокую критику или безудержную апологию. Причем началось все еще при живом Иване Васильевиче благодаря письмам беглого воеводы Андрея Курбского и его же «Истории о великом князе Московском». С тех пор и бьются сторонники и противники первого царя Великой Руси, швыряя друг в друга исторические аргументы или пытаясь сокрушить полемическим напором.
И вот еще один голос слышен в этом вечнорусском споре — голос историка Д.М. Володихина, воплотившийся в книгу «Иван IV Грозный».
Честность всегда была главной проблемой российских историков. Честность да объективность. Ну не умеют наши историографы заливисто врать, расхваливая великие достоинства народа русского и его пречудесных правителей. Всегда мрачно вершат они «суд истории» и честно принимают любые попреки, стараясь понять, что же их вызвало да что под ними кроется. Даже постсоветская эпоха не смогла вытравить в наших историках этой тяги к правдивому написанию «истории государства Российского», тяги, восходящей аж к самому Николаю Михайловичу Карамзину. Это особенно хорошо заметно на фоне «трудов» их коллег из сопредельных стран, в которых то рассказывается о «тысячелетней истории Великой Украины», то прославляется держава «благого и прогрессивного Тамерлана»… И еще лежит на трудах этих срочно перековавшихся самостийных летописцев неизгладимая печать жгучей русофобии, ненависти к России и русскому народу. Причем иногда эта ненависть брызжет из таких углов, что только диву даешься. Казалось бы, ничего, кроме благодеяний, не видели белорусы от великорусских собратьев. Так нет же, и у них выходят книги, рассказывающие, как «кляты москали» веками стремились поработить вольный белорусский народ. И не стесняются авторы в выражениях, и обвиняют русских в чем только могут, в том, что в голову их взбредет. Как поступает, например, А. Тарас в книге, косвенно относящейся к той же тематике, что и «Иван Грозный» Д.М. Володихина, — «Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII веках».
Текст книги не представляет собой последовательную, летописную биографию Ивана Грозного. Нет, Д.М. Володихин предпочитает сконцентрироваться на отдельных аспектах деятельности Ивана Четвертого как правителя, тех аспектах, за которые его превозносят или, наоборот, хулят. Однако в итоге все равно возникает целостная картина жизни и деятельности первого царя из рода Рюриковичей. И картина, увы, достаточно мрачная. Почти каждая из глав в книге Д.М. Володихина заканчивается подведением неутешительного результата правления первого русского царя: «Общий итог деятельности Ивана IV в военной сфере с рядом оговорок следует признать отрицательным». Или вот еще: «Общий итог деятельности Ивана Васильевича в дипломатической сфере — явно отрицательный».
Автор виртуозно вплетает в общий текст собственные теории о роли служилой аристократии в Московской Руси или происхождении опричнины. При этом подобные теоретические вставки не выглядят неорганичными заплатками, они вполне точно и разумно входят в единый поток повествования.
Некоторые моменты в книге Д.М. Володихин писал явно в расчете на историков, занимающихся эпохой Ивана Грозного. Например, вряд ли кто-нибудь, кроме въедливого историографа, станет разбираться в кадровой политике Ивана IV, столь подробно рассмотренной Д.М. Володихиным при описании смены воевод, игравших хоть какую-то роль в Ливонской войне. Или сомнительно, что рядовой читатель захочет вдумчиво анализировать списки видных служилых аристократов, умерщвленных в годы опричнины. Он скорее перелистнет их, вздохнув да посетовав: «Да, многих погубил Грозный царь…» А вот профессионал может и покопаться в этих списках, корыстно надеясь уличить автора книги в ошибках и ошибочках… На историков-профессионалов рассчитаны и подробные примечания, в которых автор часто дает волю своему полемическому задору, критикуя предшественников или, наоборот, поддерживая их выводы.
Удивительный баланс книги, замечательное равновесие, делающее монографию «Иван Грозный» равно интересной как любителю, так и профессионалу, несомненно, являются достижением автора.
В первых главах Д.М. Володихин почти не ввязывается в историографические дискуссии, да и вообще не слишком подробно говорит об историографии. Зато когда читатель попадается в ловушку текста, то в самой обширной, после посвященной военным делам, главе «Опричник номер один» он получает историографических сведений вволю. Здесь и взгляды на опричнину Н.М. Карамзина, и С.М. Соловьева, и Р.Ю. Виппера, и прочая, и прочая, и прочая… Д.М. Володихин как бы пытается доказать, что ни в коей мере не давит на читателя, не пытается навязать ему свое единственно правильное мнение — что опричнина была неадекватным ответом на военные вызовы грозненского времени.
Автор честно говорит обо всех недостатках правления Ивана Грозного и о настоящих преступлениях, которые творились лично государем или же по его приказу. В результате общий итог царствования первого царя из рода Рюриковичей оказывается отрицательным практически по всем пунктам. В отношении государственных реформ — неудача, во внешней политике — крах, в церковных делах, после смерти митрополита Макария, — полнейший минус. Даже в области писательства, там, где Д.М. Володихин готов признать за царем Иваном явный и заметный талант, общий итог остается неутешительным. Ох, не на своем месте оказался в шестнадцатом веке писатель Грозный, не на своем… И верно отмечает Д.М. Володихин: «Это был по-настоящему талантливый литератор. В иных обстоятельствах уместно было бы благодарить Господа за явление в нашей земле столь блистательного пера. Беда в одном: стране требовался по-настоящему талантливый государь. А это разные профессии».
Хорошо, что Д.М. Володихин не стал стряпать из Ивана Грозного патриотического идола, подобного тому, перед которым камлают, чего уж греха таить, и некоторые представители патриотической общественности.
Уж слишком поваден им оказался своей жестокостью да бесчеловечностью Иван Грозный. Так и видишь, как бывшие комсомольские функционеры да обкомовские работнички, неожиданно быстро ставшие патриотами Святой Руси, готовы пририсовать сталинские усы первенцу Елены Глинской. И становится ясно — ох, не за военные успехи (коих почти не было) и не за «стояние в вере» (коего было еще меньше), а за жестокость да опричный террор обожает такая публика Грозного Царя.
И тем более обидно, что внесли свою лепту в рекламу Ивана Васильевича и церковные иерархи. Д.М. Володихин — осторожный автор и верный сын Церкви, поэтому крайне деликатно выражается о книге покойного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна «Самодержавие духа», посвященной помимо прочего и царствованию Ивана Грозного: «Эта книга получила широкую известность, к тому же нравственный авторитет митрополита Иоанна чрезвычайно высок. При всем том владыка Иоанн высказывается не по богословским вопросам, а по историческим, поэтому его архиерейское слово следует воспринимать в данном случае как мнение частного лица, пусть и весьма образованного, и высокого духом». А ведь если расставлять все точки над «ё», то написал покойный владыка книгу соблазнительную, во многом спровоцировавшую кривляния нынешних церковных раскольников, додумавшихся до икон «святому благоверному царю Иоанну Грозному». Нет уж, даже духовным лицам больше пристала честность по отношению к собственной истории, нежели ее приукрашивание.
И неужели нельзя было найти другой объект для выражения собственной приязни, другой образ русского православного царя, помимо этого палача, «собаки бешаной», не случайно выбравшего похожий символ для своих опричников? Неужели стоит так превозносить человека, доведшего крепкую Русь до национальной катастрофы и поставившего ее на край гибели? Ведь Смута вся целиком вытекла из последствий политической деятельности Ивана Грозного. Вместо ослабления наших врагов они их усилили да позволили на протяжении ближайшего столетия лезть в наши внутренние дела. Хорошо, что другим, не облеченным священным саном защитничкам святости царя Ивана, Д.М. Володихин дает четкую и нелицеприятную характеристику: «Естественно быть русским государственником и при этом крепко верующим православным. Многим хотелось бы слить воедино эти два пристрастия. Но любовь к Христу и любовь к национальной державности — разные вещи, далеко не всегда их можно соединить… Хорошо, когда никакое противоречие не раздирает единство державы и Бога, заключенное в душе и мыслях верующего. Полагаю, в большинстве случаев это возможно. Но если нет, тогда истину Св. Троицы следует предпочесть истине национально-государственных интересов».
Особо пристрастному и жесткому разбору подвергает автор таланты Грозного-полководца. И прежде всего в том, что касается событий Ливонской войны. Любопытно, что автор вновь и вновь подчеркивает свою приверженность искренней честности русской историографии, всегда нелицеприятно оценивавшей итоги данного конфликта. В советских же учебниках пренеприятный Ливонский казус предпочитали обходить лихим кавалерийским маневром, предпочитая рассуждать о падении Казани и Астрахани. Поэтому для многих читателей рассказ Д.М. Володихина об этой, чуть ли не самой неудачной, войне России окажется откровением. Причем в очередной раз автор сумел сохранить и верность правде, и честность по отношению к своему персонажу и другим героям нашего прошлого. Описание Ливонской войны у Володихина выгодно контрастирует со злорадными и откровенно русофобскими рассказами об этом же событии в книгах историков бывших союзных республик.
В книге автор склонен к ярким и хлестким метафорам, не только историческому, но и художественному осмыслению прошлого. Все-таки не надо забывать — перед нами труд не только профессионального историка, многие годы занимающегося эпохой Ивана Грозного, но и книга заметного писателя-фантаста. Перед нами рождается не просто компендиум дел Ивана Грозного, а из анализа свершений царя встает его живой, иногда пугающий, иногда жалкий образ.
Д.М. Володихин, может быть, невольно создал развернутый обвинительный акт против Ивана Грозного. Неумная, неумелая и просто преступная политика первого царя Руси прервала мощный подъем страны, начавшийся в середине предыдущего, пятнадцатого, века и шедший, пусть и неровно, но все же неудержимо. В результате правления Грозного рухнуло все. И в первую очередь развалился русский военный аппарат, что в итоге привело не только к дорого стоившим Руси ливонским потерям, но и к национальной катастрофе в годы Смуты.
А как учесть многочисленные человеческие жертвы, ставшие чуть ли не единственным результатом бесплодной опричнины? А как отозвалось потом неслыханное доселе унижение Русской Православной Церкви, «увенчанное» убийством ее предстоятеля Филиппа? До сих пор бесстрастно говорить о событиях шестнадцатого века может только совершенно бездушный человек.
Автор монографии «Иван Грозный» к таким явно не относится. Д.М. Володихин написал книгу, без сомнения, интересную, умную и научно достоверную. И в то же время ее текст полон напора и внутренней энергии, направляемой искренней верой и нравственным чутьем. В старый спор о первом русском царе современному историку удалось внести весомую лепту. И сказать запоминающиеся слова.
Глеб ЕлисеевИЛЛЮСТРАЦИИ
Церковь Вознесения в Коломенском, выстроенная Василием III в честь рождения Ивана Грозного. 1532 г.
Елена Глинская. Реконструкция С.А. Никитина. 1999 г.
Венчание Ивана Грозного на царство в 1547 г. Миниатюра XVI в.
Трон Ивана Грозного
Царское место Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля
Карта Московии 1549 г. Вена
Алексей Адашев и священник Сильвестр. Гравюра XIX в.
Иван Грозный. Прижизненный портрет
Иван Грозный. Реконструкция М.М. Герасимова. 1963 г.
Царь Иван Грозный с Судебником. Картина XVIII в.
Лист из Стоглава. 1551 г.
Апостол. Москва, 1564 г. Печатники Иван Федоров и Петр Мстиславец
Осада Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. Миниатюра XVI в.
Строительство крепости Свияжск. Миниатюра XVI в.
Выход царя Ивана Грозного в поход на Казань. Миниатюра XVI в.
Перевоз осадных орудий под Казань. Миниатюра XVI в.
Покорение Казани Иваном Грозным. Художник А.Д. Кившенко. 1880 г.
Строительство храма Покрова на Рву (Василия Блаженного). Миниатюра XVI в.
Освящение храма Покрова на Рву (Василия Блаженного). Миниатюра XVI в.
Свадьба Ивана Грозного с Анастасией Романовой. Миниатюра XVI в.
Выезд семьи Ивана Грозного. Миниатюра XVI в.
Перстень-печать второй жены Ивана Грозного царицы Марии Темрюковны Черкасской
Погребение царицы Анастасии. Миниатюра XVI в.
Александровская слобода. Гравюра XVI в.
Александровская слобода. Трапезная палата Ивана Грозного
Казнь бояр при Иване Грозном. Миниатюра XVI в.
Опричник. Изображение на поддоне подсвечника из Александровской слободы. XVII в.
Опричники. Художник Н.В. Неврев
Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного. Клеймо житийной иконы
Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. Художник Н.В. Неврев. 1898 г.
Королева Англии Елизавета I Тюдор. Портрет XVI в.
Польский король Стефан Баторий. Художник Я. Матейко. 1891 г.
Польский король Сигизмунд (Зигмунт) II Август. Художник Я. Матейко. 1891 г.
Карта Ливонии XVI в.
Осада войсками Ивана Грозного города во время Ливонской войны. Художник Ф.А. Модоров. 1914 г.
Вооружение русской дворянской конницы. Гравюра из книги С. Герберштейна «Записки о Московии». 1556 г.
Крепость Копорье. Современный вид
Иван Грозный у тела убитого им сына. Художник В.Г. Шварц. 1864 г.
Царь Иван Грозный просит игумена Кирилло-Белозерского монастыря благословить его в монахи. Художник К.В. Лебедев. 1898 г.
Пелена. Вклад царя Ивана Грозного и царицы Анастасии в Троице-Сергиеву обитель
Крест напрестольный, вложенный царем Иваном Грозным в Соловецкую обитель. Мастерские Московского Кремля. 1561-1562 гг.
«Апостол» Ивана Грозного
Смерть Ивана Грозного после игры в шахматы. Гравюра XIX в.
Саркофаги Ивана Грозного и его сыновей Ивана и Федора в Архангельском соборе Московского Кремля
Примечания
1
Речь идет о Василии III.
(обратно)2
Речь идет о Василии III.
(обратно)3
«Промежуточная» точка зрения высказывалась А.Л. Юргановым и М.М. Кромом: совет существовал, но довольно быстро утратил свое значение. М.М. Кром также подчеркивает возрастание роли Боярской думы в 1530-х — 1540-х годах. По его мнению, Дума превратилась в «коллективный орган руководства страной». См.: Кром М.М. «Мне сиротствующу, а Царству вдовствующу»: Кризис власти и механизм принятия решений в период «боярского правления» (30—40-е годы XVI в.)// Российская монархия: вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 47—48.
(обратно)4
Что, правда, современной медициной не отвергается.
(обратно)5
Факт «рассечения» не подтверждается русскими источниками.
(обратно)6
Впрочем, свидетельство Герберштейна сумбурно, неточно и недостаточно достоверно: в годы правления Глинской он не посещал Московское государство и вынужден был довольствоваться слухами и сплетнями. Русская летопись противоречит этой версии. В соответствии с известием Никоновской летописи князь И.Ф. Телепнев-Оболенский был уморен голодом и тяжелыми кандалами по желанию придворной партии Шуйских вопреки воле государя-мальчика. См.: Никоновская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. XIII. С. 123.
Вряд ли официальная летопись могла содержать искаженную информацию об этой истории, поскольку ее редактированием активно занимался сам царь. См.: Шмидт С.О. Царские летописи// Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия (Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного). М., 1984. С. 211—213; Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI—XVIII веков. М., 1980; Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М., 1998; целый ряд трудов Д.Н. Альшица, В.В. Морозова, Р.Г. Скрынникова.
(обратно)7
Хотя высказывались мнения о существовании в XVI веке тайного наследника Василия III и, следовательно, претендента на престол. См., напр.: Григорьев Г.Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998; последовал критический отзыв: Зимин А.А. Существовал ли «невидимка» XVI века?// Знание — сила, 1971, вып. 8.
(обратно)8
См. подробнее главу III.
(обратно)9
К тому же, как отмечает А.А. Зимин, Шуйские обрели прямые права на престол в случае смерти Ивана и Юрия Васильевичей, устроив брак князя В.В. Шуйского на двоюродной сестре Ивана IV, дочери казанского царевича Петра Обреимовича. См.: Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 249.
(обратно)10
В суждении князя A.M. Курбского содержится намек на жен Ивана III — Елену Волошанку и Софью Палеолог, а также на супругу Василия III Елену Глинскую.
(обратно)11
В союзе с князем И.Ф. Вельским, по всей видимости, выступали князь Ю.М. Голицын-Булгаков, князь П.М. Щенятев, И.И. Хабаров, М.В. Тучков.
(обратно)12
Семья Старицких с момента мятежа князя Владимира Андреевича до конца 1540 года просидела «в нятстве», и лишь после освобождения вновь стала набирать политический вес.
(обратно)13
Символом особого положения Шуйских стало принятие князем Василием Васильевичем Шуйским древнего, ставшего к середине XVI столетия архаичным титула наместника Московского.
(обратно)14
Результатом мятежа стало пожалование боярским чином трех сторонников Шуйских: князя Андрея Дмитриевича Ростовского, Ивана Семеновича Воронцова и князя Федора Ивановича Скопина-Шуйского. См.: Зимин А.А. Состав Боярской думы в XV—XVI веках // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 57.
(обратно)15
Иван Васильевич называет людей, переметнувшихся на сторону врагов Московского государства, — князя Семена Федоровича Вельского, Ивана Васильевича Ляцкого и большого дьяка псковского Радиона.
(обратно)16
Подробнее о службе знати после смерти Василия III см. главу III.
(обратно)17
Между прочим, наследник св. Иосифа Волоцкого в его обители, блистательный книжник, богослов, неутомимый борец с ересями, человек, способствовавший появлению фундаментального исторического памятника — Никоновской летописи. Иными словами, личность неординарная.
(обратно)18
Со святительскими одеждами также вышла отвратительная история: когда св. Макарий, митрополит Московский по просьбе Ивана IV выступал ходатаем за Ф.С. Воронцова (1543 г.), на нем «подрали» мантию…
(обратно)19
При этом нельзя отрицать тот факт, что семейство Шуйских породило немало талантливых воевод и администраторов.
(обратно)20
Разумеется, если эти силы не покушаются на главенствующее положение монарха.
(обратно)21
Впрочем, А.А. Зимин предлагает иную трактовку: падение Воронцовых было результатом интриг партии Глинских. См.: Зимин А.А. Состав Боярской думы в XV— XVI веках// Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 58.
Остается необъяснимая загадка: по какой причине двум кланам, совсем недавно союзничавшим против Шуйских, потребовалось враждовать столь жестоко? Таким образом, гипотеза А.А. Зимина должна быть поставлена под сомнение.
(обратно)22
По словам князя A.M. Курбского, были также «зарезаны в самом младенчества» еще два представителя аристократических родов: «…князь Иван Дорогобужский, из рода великих князей тверских, и Федор, единственный сын князя Ивана, по прозванию Овчина, из рода князей тарусских и оболенских». См.: Курбский A.M. История о великом князе Московском// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 225.
(обратно)23
Страсть великого князя к скоморохам дискуссионна. Другой источник утверждает, что Иван Васильевич не любил «…ни гусельного звяканья, ни прегудниц скрипения», ни бесовских плясок скоморохов. Тогда зачем же Максим Грек поучает великого князя не забавляться скоморошьими представлениями? На всякий случай?
(обратно)24
Ситуация с коллективным челобитьем в неурочное время повторилась до странности сходно в 1547 году, когда в роли жалобщиков выступили уже псковичи. Их Иван Васильевич разогнал со срамом и бесчестьем.
(обратно)25
Царский статус европейские страны признали не сразу. Да и от Константинопольского патриарха Иоасафа подтверждение пришло только в 1561 году.
(обратно)26
Молодые бесчинства продолжались еще какое-то время.
(обратно)27
См. подробнее в главе VII.
(обратно)28
Сам он впоследствии напишет о своем аристократическом окружении тех времен (конец 1540-х — 1550-е гг.): «…всю власть вершили по своей воле, не спрашивая нас ни о чем, словно нас не существовало, — все решения принимали по своей воле и желаниям своих советников. Если мы предлагали даже что-либо хорошее, им это было неугодно, а их даже негодные, даже плохие и скверные советы считались хорошими». См.: Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 53.
Впрочем, источники показывают, что влиять на дела в то время (особенно ближе к середине 1550-х) государь все-таки мог.
(обратно)29
Большинство академических историков встретило появление концепции А.И. Филюшкина критически. Однако во всем и окончательно опровергнуть его выводы не представляется возможным, поскольку для этого просто нет достаточной источниковой базы.
(обратно)30
А.Ф. Адашев происходил из богатого и влиятельного костромского рода (служил по I статье списка «тысячников»). В Боярской думе заседал еще его отец — Федор Григорьевич Адашев, дослужившийся до боярского чина. Однако представителям знатнейших княжеских семейств России, попавших в Думу, Адашевы значительно проигрывали и в родовитости, и в богатстве. Вероятно, это позволяло А.Ф. Адашеву играть роль доверенного советника царя, не вызывая острого недовольства аристократов: он был слишком незначительной фигурой, чтобы дать перевес одной из партий. В роли «ничьего» человека, нейтрального вельможи, своего рода пред-Сперанского он оказался идеален. Но при всем том окольнический чин А.Ф. Адашев получил только в конце 1553-го или в 1554 году. Видеть в нем главу группировки, «отражавшей интересы дворянства», как полагал А.А. Зимин, нет достаточных оснований. См.: Шмидт С.О. Правительственная деятельность А.Ф. Адашева// Ученые записки МГУ. М., 1954. Вып. 167. С. 25—54; Зимин А.А. Состав Боярской думы в XV—XVI веках// Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 61, 66; Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в./ Подг. к печати А.А. Зимин. С. 54, 57,112,113.
(обратно)31
Так, например, в нем повышена норма выплат за право крестьян покинуть земельный участок, прежде ими обрабатывавшийся.
(обратно)32
Некоторые земли России имели уставные грамоты и прежде, так что их выдача была не столько нововведением реформаторов, сколько последовательной политикой.
(обратно)33
Тогда же было ограничено право богатейших князей-вотчинников распоряжаться своими владениями.
(обратно)34
Некоторое время именовался Троицким собором.
(обратно)35
Или, иначе, Фуников-Курцев.
(обратно)36
Подробнее см. в главе III.
(обратно)37
Глинских и Захарьиных-Юрьевых даже при благожелательной позиции митрополита для этого явно не хватало. Возможно, дальнейший анализ дипломатических действий того времени, состава переговорщиков с западными соседями во второй половине 1550-х годов и состава воевод в первых ливонских походах сможет дать ответ на вопрос о круге сторонников Ливонской войны в среде знати. Сейчас эта проблема недостаточно изучена. Можно твердо назвать лишь одного крупного сановника Ивана IV, активно, сознательно и тщательно выполнявшего предначертания царя в переговорах с ливонцами: это посольский дьяк Иван Михайлович Висковатый. См.: Траля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. С. 235.
(обратно)38
Царь подозревал подданных, в том числе и прежних членов Избранной рады, в том, что они злонамеренно погубили Анастасию. У подобных подозрений были самые серьезные основания.
(обратно)39
Причиной первого служат инъекции французской социологии и марксистской исторической философии, надолго определившие магистральные пути русской исторической науки; причиной второго — оглупляющее воздействие либерального радикализма. Что может историка- профессионала заставить заниматься непрофильной для него деятельностью психиатра, уподобляясь какому-нибудь Фоменко, но только от истории, а не от математики? Политический экстремизм, в данном случае — либерально- демократического толка. В последние два десятилетия грешили этим А.Л. Хорошкевич и, в меньшей степени, покойный В.Б. Кобрин. Между тем еще С.Ф. Платонов писал: «Нет основания верить медикам, когда они через триста лет по смерти пациента, по непроверенным слухам и мнениям, определяют у него “паранойю”… “дегенеративную психопатию”, “неистовое умопомешательство”… “бредовые идеи” и в общем ведут нас к тому, чтобы признать Грозного больным и совершенно невменяемым человеком… Медики сочли Грозного помешанным выродком, тогда как современные ему политики считали его крупной политической силой…» Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584)// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 24—25.
(обратно)40
Служба на южных и восточных окраинах была опасной и бесприбыльной. Там дрались без пощады, не на жизнь, а на смерть. Боевые действия на западных направлениях до походов Стефана Батория были в большинстве случаев делом значительно менее обременительным и опасным. На запад ходили за новыми землями, за добычей, за пленниками, а на юг — рисковать головой.
(обратно)41
Польский жолнер Войтех, бежавший из русского плена, сообщил полоцкому воеводе Я.Ю. Глебовичу, что московская знать перегрызлась между собой, и дело близко к резне; поэтому воевать бояре не торопятся. См.: Архив гетмана Радзивилла времен Стародубской войны: входящие документы 1534—1536 гг.// Памятники истории Восточной Европы. Источники XV—XVII вв. М.; Варшава, 2002. Т. VI. № 39.
(обратно)42
Государь московский обычно отправлялся в поход тогда, когда требовалось возглавить собранные в кулак вооруженные силы всей страны. Выходить с армиями меньшей численности и меньшего значения ему просто не было смысла.
(обратно)43
Впрочем, несовершеннолетнего царя могли не допустить на театр военных действий его опекуны.
(обратно)44
Замерзшие реки в ту пору использовались как наилучшие дороги для наступающих войск.
(обратно)45
Дворяне («служилые люди по отечеству») в ту пору начинали служить с 15 лет, и это считалось вполне нормальным, в порядке вещей. Совершеннолетие Ивана IV, как уже говорилось, наступило в 1547 году.
(обратно)46
Впрочем, беглый князь пишет об этом в полемическом сочинении «История о великом князе Московском», резко и азартно отстаивая свою точку зрения. Беспристрастным свидетелем считать его невозможно.
(обратно)47
Некоторое исключение составляют три похода. Во-первых, выход к Туле против крымцев в 1555 году и к Серпухову в 1556 году (об этом речь пойдет ниже). Во-вторых, осенний 1570 года поход на юг, «по крымским вестям». Разряд сообщает: «…царь и великий князь с сыном своим с царевичем Иваном Ивановичем пошол… против недруга своего крымского царя и царевичев со многими людьми искать прямого дела». Впрочем, поход этот закончился мирным трехдневным стоянием в Серпухове. См.: Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 66—68.
Это очень похоже на обстоятельства неудачного похода 1547/1548 годов. Есть сведения, которые заставляют предположить, что Иван Грозный выходил к южным границам «для славы», т.е. зная, что в этом году масштабного крымского набега не будет.
(обратно)48
Нашествие крымцев или казанцев, а особенно их совместное наступление, могло привести к катастрофическим результатам. По всей видимости, верхушка военно-служилого класса России понимала это и проявляла больше энергии и самоотверженности, сражаясь с главным врагом, нежели в столкновениях с западными соседями. Кроме того, молодой царь уже вышел из детского возраста и успел «показать зубы». Поэтому московские воеводы действовали более дисциплинированно, решительно и энергично, чем в годы злосчастной Стародубской войны.
(обратно)49
Воевода Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана IV.
(обратно)50
Не хватает здесь Шуйских да Оболенских-Телепневых. Первые пребывали в царской опале после своевольства времен «боярского правления», а Василий Васильевич Шуйский, ходивший в Стародубскую войну под Мстиславль и не сумевший взять этот город, к тому времени давно был мертв; что же касается Оболенских-Телепневых (на Федора Оболенского-Телепнева падает позор Стародубского разгрома), то их род после смерти Елены Глинской претерпел настоящую катастрофу.
(обратно)51
По всей вероятности, имеются в виду дворовые воеводы князь Владимир Иванович Воротынский и боярин Иван Васильевич Шереметев-Большой, возглавлявшие государев полк. Впоследствии оба эти рода — и Воротынские, и Шереметевы — тяжко пострадали от царской опалы, а И.В. Шереметев подвергся пыткам.
(обратно)52
Край не был по-настоящему замирен. Потребовались долгие десятилетия военных, политических и церковных усилий, чтобы Казанская земля стала полноценной частью Московского государства. Бунты местного населения, поражения и победы русских полков, освоение целинных земель и строительство храмов стали продолжением триумфа 1552 года…
(обратно)53
При осаде Казани были использованы способности как иностранных, так и отечественных военных инженеров. Из числа последних известен дьяк Иван Григорьевич Выродков.
(обратно)54
«Посоха» или «посошная рать» — вспомогательные войска, занимавшиеся в больших походах главным образом инженерно-строительными и подсобными работами.
(обратно)55
К тому же, по некоторым сведениям, дистанция между отступающими крымцами и полками Ивана IV была слишком велика для организации эффективного преследования.
(обратно)56
При том что российская система обороны от татарских набегов была заметно действеннее, чем литовская, и, возможно, даже превосходила польскую. Источники сообщают, что крымцам удавалось в результате «урожайного» похода увести до 100 000 пленников из Литовской Руси. Рабские рынки Черного и Средиземного морей были переполнены русскими невольниками. Потери русского народа в этой исторической трагедии сравнимы с результатами работорговли в Северной Америке и холокостом. См. подробнее: Михайлович Д. М. Русские как предмет работорговли в XVI—XVIII вв.// Михайлович Д.М. Высшие законы в истории Московского государства. М., 1996.
(обратно)57
Нередко в качестве подтверждения тому особому значению, которое царь придавал Нарве как портовому центру, т.е. каналу прямой связи с Европой, называют упорную борьбу русских воевод и русских дипломатов за этот город в последние годы Ливонской войны. Но это аргумент спорный: богатая Нарва и сама по себе стоила напряженных военных усилий. Даже если не принимать во внимание ее ценность в торговом аспекте.
(обратно)58
Городов и крепостей в XVI столетии, в том числе и при Иване Грозном, русские основали немало. Средств на это не жалели, и ничего необычного в этом не видели.
(обратно)59
Есть документальные свидетельства того, что русские дворяне впоследствии получали поместья в завоеванных землях на территории Ливонии. Грамот по русскому землевладению в завоеванной части Прибалтики известно довольно много.
(обратно)60
Участок земли, полученный на условиях службы.
(обратно)61
А.Л. Хорошкевич считает, что Иван Васильевич, покорив Казанское и Астраханское ханства, а также Ногайскую орду, вынужден был обеспечивать верхушку тамошней знати средствами к существованию, а для этого в наибольшей степени была пригодна война (понятно, не против их крымских сородичей). Иначе как же ее обеспечить, эту самую верхушку, ведь на указанных территориях «большая часть населения… привыкла добывать пропитание и одежду путем грабежа и захвата». См.: Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 204. Аргумент этот имеет нулевую ценность, поскольку для того, чтобы подтвердить подобный вывод, нужно фундаментальное исследование культуры средне- и нижневолжских народов первой половины XVI столетия. Без него подобные слова звучат как необоснованная ксенофобия.
(обратно)62
Впоследствии некоторые кампании в рамках Ливонской войны велись Московским государством под лозунгами своего рода «крестовых походов на запад», против «прескверных лютор»…
(обратно)63
Подробнее см. главу IV.
(обратно)64
На главные воеводские должности зимнего похода 1562/63 года были поставлены главным образом представители все той же служилой аристократии: князь Иван Дмитриевич Вельский, князь Петр Иванович Шуйский, князь Василий Семенович Серебряный, князь Иван Федорович Мстиславский, князь Андрей Иванович Ногтев-Суздальский, князь Петр Семенович Серебряный, князь Василий Михайлович Глинский, Иван Васильевич Большой Шереметев, князь Юрий Иванович Шемякин, Алексей Данилович Басманов, князь Петр Михайлович Щенятев, князь Андрей Михайлович Курбский, Иван Михайлович Воронцов, князь Иван Иванович Турунтай-Пронский, князь Дмитрий Иванович Немой, Иван Васильевич Шереметев-Меньшой, князь Андрей Петрович Телятевский, Иван Андреевич Бутурлин, князь Михаил Петрович Репнин, Михаил Иванович Вороной-Волынский, Борис Иванович Сукин, князь Петр Данилович Щепин, князь Дмитрий Федорович Овчинин, князь Дмитрий Иванович Хворостинин, князь Юрий Иванович Кашин, князь Юрий Федорович Борятинский, Никита Васильевич Шереметев, Михаил Петрович Головин, Елизар Ржевский, Роман Плещеев, Федор Нагой. Отдельным корпусом, действовавшим самостоятельно, командовали князь Юрий Петрович Репнин (то ли погиб, то ли умер от болезни в походе), князь Александр Иванович Ярославов, князь Семен Дмитриевич Палецкий, Григорий Иванович Нагой, князь Глеб Васильевич Оболенский и Иван Федорович Карамышев. См.: Баранов К.В. Записная книга полоцкого похода 1562/1563 года// Русский дипломатарий. М., 2004. Вып. 10. С. 119—154. Для важнейшего похода из «старой гвардии», людей действительно опытных, воевод-ветеранов, отобран командный костяк армии. Это Шереметев, Басманов, Вороной-Волынский, князья Шуйские, оба Серебряных, Мстиславский, Турунтай-Пронский, Щенятев, Ногтев-Суздальский, Курбский да Репнины (после смерти Юрия Петровича отдельный корпус вернулся: то ли остальные воеводы не очень понимали, как им действовать, то ли сами литовцы убоялись проявлять серьезную боевую активность и отступили). Настоящий парад блестящих военачальников! Остальные по сравнению с ветеранской группой почти новички! Некоторые из них впоследствии сами станут «зубрами», например одаренный полководец князь Дмитрий Хворостинин, но большинство ничем особенно не выделится, либо же сгинет в опричные годы… Запомним этот факт.
(обратно)65
Это произошло в ходе гражданской войны 30-х годов XV столетия в Великом княжестве Литовском.
(обратно)66
Эту цифру дают самые осторожные подсчеты. Не исключено, что на самом деле в Великих Луках собралось 200 000 человек и даже более того.
(обратно)67
После сдачи Полоцка, очевидно в ходе разграбления его войсками победителя, пострадало католическое духовенство. Было также казнено несколько представителей иудейской общины, не пожелавших креститься.
(обратно)68
В.И. Буганов предполагал, что этим очевидцем и участником был Иван Черемисинов. Но скорее роль летописца «Полоцкого взятия» сыграл Михаил Безнин, впоследствии видный опричник, дипломат и воевода. См.: Володихин Д.М. Лебедевская летопись о взятии Полоцка в 1563 г. (вопросы атрибуции)// Вестник МГУ, сер. История, 1995, № 1.
(обратно)69
А.Л. Хорошкевич видит в сворачивании русского наступления «грубейшую ошибку — не только тактическую, но и стратегическую», и строит на этом гипотезу, согласно которой бояре заставили царя согласиться на перемирие, пойдя на поводу у литовцев. А бедняга-царь не сопротивлялся, поскольку «не чувствовал в себе силы для реализации собственной внешнеполитической линии». См.: Хорошкевич А. А. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 340.
Ужасно любят интеллигенты поучать генералов и царей, указывать им на ошибки и т.п. Много бы Иван Васильевич навоевал по мартовской-то грязи!
(обратно)70
Источники не позволяют уверенно определить, было ли на самом деле у стародубских воевод изменное намерение.
(обратно)71
Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М. —Л., 1950. С. 18.
Резкость и некоторая произвольность формулировок П.А. Садикова вполне простительны, учитывая время, когда создавалась его книга.
(обратно)72
Перечисленные в нем репрессированные служилые аристократы подверглись опалам, пыткам и казням в разное время. Многие — до введения опричнины или даже после ее отмены. От этого общий смысл процесса не меняется: Иван Васильевич губит аристократические семейства, потенциальное командование армии. Поэтому список составлен не по хронологии репрессий, а так, как они представлены в тексте у Курбского. В список не вошли те, кто был казнен в дни молодости Ивана Васильевича.
(обратно)73
Трудно понять, кого здесь имеет в виду Курбский: это может быть и князь Дмитрий Федорович Палецкий, и князь Дмитрий Иванович Хилков — оба происходят из Стародубского княжеского дома, притом Хилков — из ветви князей Ряполовских. См.: Володихин Д.М. Трудноопределимые персоны служилых аристократов из реестра репрессированных в «Истории…» князя Андрея Михайловича Курбского// Вестник МГУ. Серия 8. М., 2006. Вып. 1. С. 93-94.
(обратно)74
Подвергся пыткам, от которых впоследствии умер.
(обратно)75
По данным СБ. Веселовского это мог быть и князь Федор-Большой Матвеевич Булгаков-Денисьев. См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 362-363.
(обратно)76
СБ. Веселовский считает, что это князь Андрей Васильевич Тулупов-Стародубский (убит в 1570 или в начале 1571 года). См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 458.
(обратно)77
Крупный военный организатор.
(обратно)78
Д.Г. Чулков не занимал высоких должностей, но воевал удачно.
(обратно)79
Высоких должностей не занимал, но в качестве головы часто встречается на страницах разрядных книг.
(обратно)80
Из летописей, разрядов, источников иностранного происхождения и работ Р.Г. Скрынникова, в частности из «Царства террора», взяты следующие видные воеводы, гибель которых никак не отмечена у Курбского: Басманов А.Д., Борисов-Бороздин Н.В., Бухарин И.Н. (?), Данилов В.Д., Федоров-Челяднин И.П., Карповы Ф.А. и М.А., князь Куракин Д.А., князь Оболенский-Лыков М.Ю., князь Ростовский Василий-Волк Васильевич, князь Сисеев Ф.В., князь Засекин-Баташев С.И., князь Оболенский Н.В., князь Катырев-Ростовский А.И., князь Гвоздев-Приимков И.Ф., Яковля (Яковлев) С.В.
(обратно)81
Здесь перечислены только те, кто был казнен. Некоторые отделались насильственным постригом в монахи, опалой, ссылкой.
(обратно)82
Он неполон; здесь лишь главные, наиболее заметные персоны.
(обратно)83
Сведения о его смерти противоречивы. Был под арестом и в опале, но казни не подвергся.
(обратно)84
Большой карьеры он не сделал, но в конце жизни занимал воеводские должности в полках.
(обратно)85
Во всяком случае, та его часть, которая принадлежала командному костяку армии.
(обратно)86
Подробнее см. в главе V.
(обратно)87
Судя по данным разных источников, царь лукавит: несколько воевод уже погибли от его руки или по его приказанию. С другой стороны, ответ на первое послание кн. A.M. Курбскому он написал летом 1564 года, когда абсолютное большинство казней было еще впереди.
(обратно)88
То есть от воздвижения опричнины до кончины Ивана IV 18 марта 1584 года.
(обратно)89
Учитывались и те походы, которые не состоялись, если в разрядных книгах есть список назначенных воевод. Учитывались также посылки на строительство крепостей и в полки «на берег», некоторые другие службы. «Годование» в крепостях при составлении списка не учтено. В список попали только старшие воеводы, например те, кто занимал должность 1-го воеводы в большом полку или же первым указан в списке воевод, задействованных при посылке на какую-либо службу. О воеводе говорится «опричный» в том случае, если это отмечено в разрядных книгах. В круглых скобках поставлены годы, когда воевода получал назначение на должность командующего в той или иной операции, старшего ответственного лица в той или иной службе.
(обратно)90
Под 1579/1580 годом в разрядной книге ошибочно назван Дмитриевичем.
(обратно)91
Помимо перечисленных, на службе у государя оставалось несколько выдающихся военачальников, не занимавших, однако, первенствующего положения в полевых армиях. Среди них прежде всего стоит упомянуть следующих: князь Дмитрий Иванович Хворостинин, Иван Васильевич Шереметев-Меньшой, князь Иван Петрович Шуйский.
(обратно)92
Если не считать отправки князя Ивана Михайловича Елецкого, не очень заметного на общем фоне аристократических семейств, в 1582 году «на луговую черемису» с тремя полками; но, по мнению А.П. Павлова, Елецкие — «довольно родословная» фамилия. См.: Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 110.
Следовательно, и здесь не было исключения из общего правила…
(обратно)93
Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 190. По другим сведениям, возвышению Чепчугова-Клементьева способствовала весьма удачная матримониальная комбинация: он обрел покровителей в среде высшей знати и высокопоставленных дьяков России.
(обратно)94
Роман Васильевич Алферьев-Нащекин (или Нащокин) принадлежит роду московских дворян, не очень заметных, но и не совсем уж ничтожных. Со знатью он тягаться без государевой поддержки не мог: у него просто не было шансов выйти победителем из местнического спора. Но при Иване IV поднялся высоко: воеводствовал, занимал пост печатника… и много местничал, пользуясь милостивым отношением царя. Поднялся намного выше, чем мог рассчитывать по роду своему. Подробнее о нем см.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 200.
(обратно)95
Григорий Осипович Полев принадлежал к потомкам смоленских князей, потерявшим княжеское звание. Среди прочих «молодых волков» он, пожалуй, самый «родословный» человек. Его отец занимал воеводские должности. Но Г.О. Полев сделал слишком стремительную карьеру и получил больше, чем мог ожидать. Подробнее о нем см.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 228.
(обратно)96
См. подробнее главу об опричнине (V).
(обратно)97
Для тех худородных опричников, кто вошел в политическую элиту, Иван Васильевич учредил чин «думного дворянина» — предел мечтаний для публики подобного рода. Это позволило дворянам, оставшимся в составе государева двора после опричнины и уступавшим служилой аристократии в знатности, сохранить положение не просто царевых фаворитов, но и политиков, администраторов высшего звена на вполне законных, приемлемых основаниях.
(обратно)98
Опричные выдвиженцы Ивана Грозного вынуждены были местничать, чтобы сохранить выгоды нового своего положения для себя, своих семей и родов. И они местничали много, упорно и непримиримо. В их среде обнаруживаются настоящие «рекордсмены» по части местничества в грозненскую эпоху. Те же М.А. Безнин, Р.В. Алферьев, князь Д.И. Хворостинин, князь А.И. Хворостинин и И.Д. Колодка Плещеев — все! — входят в число самых энергичных «местников». См.: Эскин М.Ю. Местничество в России XVI—XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. С. 211, 213,242,254.
Только Безнину, Алферьеву и им подобным людям из средне-нижних слоев военно-служилого класса без поддержки государя отваживаться на подобные эскапады было просто бессмысленно, и при Федоре Ивановиче им продемонстрировали всю иллюзорность высоты их служебного положения, а те, кто занимал положение на уровне Хворостининых, имели шанс небезуспешно побороться за достигнутое.
(обратно)99
В том числе и на возвышение худородных дворян, правда, производившееся не столь резко, как в опричные годы. Так поднялись Баим Воейков, Деменша Черемисинов, Роман Пивов, Богдан Вельский, попавшие в государеву «дворовую» Думу.
(обратно)100
Местничество в полуоформленном виде функционировало при уже при Иване III. Некоторые исследователи считают, что основа этой системы была заложена в более древние времена, однако ранние памятники, вроде бы содержащие информацию о местнических делах или о чем-то похожем, требуют дополнительного осмысления. См.: Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 296-305.
(обратно)101
Под литерами I и II идут разные редакции этого документа — разрядная и летописная.
(обратно)102
По тому же пути шли и западноевропейские государи. Например, французские короли формировали так называемые ордонансовые роты. В большую моду вошел найм профессиональных солдат; Швейцария даже прославилась, превратившись в страну — поставщика наемников.
(обратно)103
Однако в числе первых «тысячников» — весь цвет служилой аристократии 1550-х годов. Всех этих людей просто планировалось обеспечить земельными владениями недалеко от Москвы, — это облегчило бы им службу и, кроме того, действительно повысило бы управляемость армией. В опричные годы поместья от царя получали только те, кто вошел в тщательно отобранный опричный корпус. В этом принципиальная разница «тысячной реформы» от опричной земельной политики.
(обратно)104
Внук Ивана III никогда не пытался действовать в духе великого деда; сама метода балансирования и тонких манипуляций противна была его характеру.
(обратно)105
Подробнее см. главу V.
(обратно)106
То есть не укрепленный стенами.
(обратно)107
Между тем английский торговый агент Джером Горсей сообщает, что вместе с царем из-под Москвы ушел и огромный стрелецкий корпус… Почему? Нет ответа. См.: Горсей Дж. Записки о России. XVI—XVII вв./ Пер. и сост. А.А.Севастьяновой. М., 1990. С. 56.
(обратно)108
Неясно, что послужило главной причиной отступления Девлет-Гирея. То ли потери его были достаточно велики, то ли прошел слух о приближении царской армии, то ли, скорее, сам грандиозный пожар вызвал у крымцев суеверный ужас.
(обратно)109
По общему мнению специалистов, эта цифра завышена.
(обратно)110
На самом деле это произошло в 1571 году.
(обратно)111
С.Б. Веселовский считал, что Зайцева можно назвать «безродным» лишь по незнанию генеалогии, поскольку он принадлежал к «старшей линии боярского рода Добрынских». См.: Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории. М., 1990. С. 104.
Безродным он действительно не был. Но его семейство «захудало». Ближайшие родственники — отец и дядя — имели ничтожные должности. В России к середине XVI столетия было полно уездных Рюриковичей, людей крайне низкого социального статуса, если судить с высоты Шуйских или, скажем, Курбских… Что же говорить о расплодившихся потомках старинных боярских родов?!
(обратно)112
В.Б. Кобрин с полным на то основанием писал, что страшного пожара могло и не быть, если бы Москву окружили каменной стеной. Царь потратил колоссальные средства на строительство укреплений в опричных резиденциях, в то время как столичные посады оставались беззащитными. См.: Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 93.
(обратно)113
Последний сыграл в событиях 1572 года выдающуюся роль. См.: Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 21—24.
(обратно)114
Тогда же в Поволжье полыхнуло восстание против русских властей.
(обратно)115
О численности русской армии во время Молодинской оборонительной операции 1572 года можно судить по дошедшим до наших дней документам. См.: Документы о сражении при Молодях/ Подготовил В.И. Буганов// Исторический архив. М., 1959. Вып. 4.
(обратно)116
О том же и примерно в тех же выражениях сказано в Пискаревском летописце. См.: Пискаревский летописец// Полное собрание русских летописей. М., Т. 34. С. 192.
(обратно)117
При отступлении Девлет-Гирей выставил два арьергардных заслона общей численностью 5000 бойцов. Эти отряды были разгромлены русскими полками, преследующими крымцев. См.: Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в.// Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 237. С. 238.
(обратно)118
«Отписка» — делопроизводственный термин в Московском государстве: так называли отчет. Негативный смысл тогда в это слово не вкладывался.
(обратно)119
Загадочными и страшными обстоятельствами первого постопричного года являются пытки и казнь героев битвы на Молодях: князей Михаила Ивановича Воротынского, Никиты Романовича Одоевского, а также видного воеводы Михаила Яковлевича Морозова. СБ. Веселовский считал, что они пострадали за какую-то «служебную провинность». См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 370, 422.
Р.Г. Скрынников полагал, что царь хотел показать тремя казнями «самых авторитетных вождей думы», что возврата к доопричным временам не будет, т.е. неограниченная личная власть, полученная им в опричные годы, впредь сохранится. См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 340-342.
Высказывались также иные версии: например, Ивана IV подозревали в желании заполучить в свое распоряжение крупные земельные владения трех пострадавших воевод… Но для чего тогда потребовалось их пытать, казнить? Неужто нельзя было отобрать землю, наложив опалу? Кто бы посмел воспротивиться? Прежде Иван Васильевич легко проделывал такие вещи. Например, с тем же Воротынским. Или: царь опасался растущего авторитета Воротынского… Тогда при чем здесь Одоевский и Морозов? Возможно, опалы не связаны друг с другом, и воеводы были наказаны за разные провинности и даже, быть может, совершенные в разных походах (против восставших казанцев — «луговой черемисы» — ходил первым воеводой Одоевский, Морозов был под Пайдой, а Воротынский — на юге); просто в указе о наложении опалы эти три человека были поставлены рядом. А может быть, Иван Васильевич хотел самым жестоким образом показать, что крымцев ему нет оснований опасаться, и с ними он справится без прежних героев? Источники, к сожалению, не позволяют в данном случае дать однозначный и твердый ответ.
(обратно)120
Многие ее представители к тому же отличались «книжностью», иными словами, были неплохо образованы.
(обратно)121
Дворянство, стоявшее ступенькой ниже аристократии в иерархии военно-служилого класса России, оказалось неспособным дать достаточное количество искусных, талантливых, энергичных воевод и администраторов. В связи с этим емко и точно высказался Р.Г. Скрынников: «Опричнина обнаружила тот факт, что в XVI в. среднее и мелкое дворянство еще не обладало ни моральными и политическими потенциями, ни достаточным образованием и влиянием, чтобы оттеснить боярскую аристократию от кормила управления и занять ее место. Свое выступление на исторической арене “худородные” дворяне-преторианцы ознаменовали лишь кровавыми бесчинствами, бессовестным грабежом и всякого рода злоупотреблениями». См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 336.
(обратно)122
Об этом свидетельствует, например, сохранение чина думных дворян и дворовой думы.
(обратно)123
Это высказывание Флетчера не вызывает особого доверия: при том постоянном напряжении военных сил, которое было обязательным для Московского государства, при регулярном возникновении гибельной угрозы с юга назначать высшими военачальниками ослов было бы игрой в русскую рулетку, не иначе. Трудно предположить в московском правительстве того времени столь выдающуюся дурость.
(обратно)124
Вероятнее всего, имеются в виду князья Борис Камбулатович (Камбулович) Черкасский и Тимофей Романович Трубецкой.
(обратно)125
По всей видимости, имеется в виду передовой полк или ертоул.
(обратно)126
Ведь прежде, в 50-х и 60-х годах XVI столетия, на посты «больших» воевод достаточно часто назначались первоклассные полководцы…
(обратно)127
Князь Ю.И. Токмаков умер своей смертью.
(обратно)128
Относительно Волынского есть смутные известия о том, что он склонял гарнизон к сдаче. После падения города Петр Иванович пресмыкался перед Стефаном Баторием, жалуясь на князя Василия Микулинского (речь, скорее, шла о князе Телятевском, возглавлявшем гарнизон), но король не стал разбирать его жалобу.
(обратно)129
Известны также другие начальствующие лица полоцкого гарнизона, очевидно, попавшие в плен после взятия города армией Речи Посполитой: воеводы «у наряда» (иными словами, командовали артиллерией) князь Иван Семенович Лобанов-Ростовский, Астафий Михайлович Пушкин, князь Захарий Иванович Сугорский-Белозерский, а также 4 стрелецких головы, дьяк Матвей Иванович Ржевский, городничие Замятия Опалев и Федор Петрович Кафтырев. См.: Володихин Д.М. О В.В. Новодворском и его исследованиях по истории Ливонской войны// Новодворский В.В. О взятии Полоцка войсками Стефана Батория в 1579 году. Полоцк, 1997. С. 4.
(обратно)130
Старая Русса до того была сожжена литовцами (февраль 1581 года). Неясна судьба ее тогдашних воевод — князя Владимира Ивановича Бахтеярова-Ростовского, Ивана Федоровича Крюка Колычева, князя Федора Ивановича Кривоборского. Вероятнее всего, они также оказались пленниками литовцев.
(обратно)131
Джером Горсей упоминает также некоего князя Ивана Куракина, казненного за потерю Вендена. См.: Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. / Пер. и сост. А.А. Севастьяновой. М., 1990. С. 62.
Кроме того, трудно установить судьбу воевод, командовавших русскими гарнизонами в целом ряде небольших крепостей, взятых войсками короля Стефана Батория. Значительные потери командирский корпус понес после взятия шведами в 1581 году Нарвы, Ивангорода, Яма и Копорья.
(обратно)132
И, заметим, Р.Г. Скрынников вместе с ним.
(обратно)133
Конечно, ни Салтыков, ни Тюфякины, ни другие воеводы, разбитые под Венденом, не относились к самым сливкам русской аристократии. Но Сицкий, Воронцов и Татев по роду своему стояли достаточно высоко, да и остальные были не ровней «молодым волкам» первого призыва опричнины. Видимо, Андрей Михайлович просто не захотел увидеть, что знать вновь стала в середине 1570-х годов важнейшей опорой трона.
(обратно)134
В несчастливом для русских полков сражении под Торопцом корпус был разбит, и бумаги достались полякам. Таким образом, сохранились они в одном из польских архивов.
(обратно)135
Подробнее о Магнусе и создании буферного государства в Ливонии см. главу IV.
(обратно)136
В одном из них — Вольмаре — берут в плен Александра Полубенского, командующего силами Речи Посполитой в регионе. Его принуждают отдать подчиненным приказ о сдаче укрепленных пунктов. Этот приказ немало способствует успехам русского оружия.
(обратно)137
Мы знаем об этом из хроники Бальтазара Рюссова, источника не совсем надежного, поэтому весьма возможно, что страдания Магнуса несколько преувеличены. Но другие иностранные авторы — Петр Петрей и Генрих Штаден — как будто подтверждают эти сведения: первый пишет о том, что Магнуса избивали и даже заставляли ползать у палатки Ивана IV, вымаливая прощение; второй объявляет, что с Магнусом поступили «не по-христиански».
(обратно)138
Вряд ли небольшое территориальное расширение Ливонского королевства серьезно повредило бы русским интересам в Прибалтике; возможно, часть городов, перешедших под руку Магнуса по доброй воле, могла быть ему оставлена.
(обратно)139
То есть царская власть.
(обратно)140
Добавление произведено по смыслу.
(обратно)141
Польский король упрекал его за нерыцарственное поведение: дескать, отчего война не объявлена, а русские полки берут подвластные ему города? Но Иван IV точно знал, кому эти города должны быть подвластны.
(обратно)142
Вероятно, надо читать «взя».
(обратно)143
Незадолго до того город был потерян нами, пришлось его отбивать.
(обратно)144
Неприятель отбил Венден крайне быстро. См.: Столбцы дел московских приказов (Городового, Поместного, Разрядного) по управлению Ливонскими городами 1577— 1579 гг.// Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 1998. Т. III. Документы Ливонской войны (подлинное делопроизводство приказов и воевод). 1571—1580 гг. С. 96-97.
(обратно)145
Первая попытка вернуть Венден была предпринята русским командованием за несколько месяцев до взятия Полчева, но она закончилась неудачей.
(обратно)146
Б.Н. Флоря заметил по этому поводу: «У войска появилось много начальников, которые могли отдавать распоряжения независимо друг от друга, и это стало одной из причин неудачи похода». См.: Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 351.
(обратно)147
Судя по иностранным источникам, они составляли до трети армии — порядка 6000 человек одними убитыми.
(обратно)148
Впрочем, Стефан Баторий тоже не церемонился с местным населением. Его солдаты ограбили город, а потом король отдал православные храмы иезуитам, хотя большинство полочан исповедовало православие.
(обратно)149
Речь идет о тщетных попытках Ивана Васильевича добиться помощи от германского императора.
(обратно)150
См. подробнее главу о дипломатической деятельности Ивана Грозного (IV).
(обратно)151
За исключением, быть может, сибирской экспедиции Ермака.
(обратно)152
Быть может, энергичные попытки царя окончательно решить казанскую проблему повлияли на то, что войска раз за разом шли на Казань, несмотря на прежние неудачи. Но, видимо, тактические решения затруднительно отнести на его счет.
(обратно)153
С той оговоркой, что до сих не ясно, какой процент «тысячников» удалось обеспечить поместьями.
(обратно)154
В отличие от автора этих строк, знакомого с отечественной дипломатией XVI столетия постольку-поскольку (потому и главка о ней невелика).
(обратно)155
Подробнее см. в главе III.
(обратно)156
Подробнее см. главу III.
(обратно)157
Магнусу даже позволили остаться при своей католической вере и не стали «перекрещивать» его в православие.
(обратно)158
Подробнее см. в главе III.
(обратно)159
Впрочем, и судьба предателя оказалась незавидной: умер он в бесславии и нищете. См.: Цветаев Д.В. Мария Владимировна и Магнус Датский// Журнал Министерства народного просвещения. 1878. Вып. 3.
(обратно)160
По иронии судьбы Мария Нагая пережила своего венценосного супруга на четверть века… Впрочем, Иван IV проявлял крайнюю неразборчивость в матримониальных вопросах. Так, незадолго до введения опричнины он сватался к Екатерине Ягеллонке, замужней даме, в то время как собственная супруга Ивана Васильевича, царица Мария Темрюковна, была жива и здорова.
(обратно)161
Род шведских королей действительно знатностью не отличался. Еще и века не прошло, как Шведская провинция в результате восстания ушла из-под власти датских королей. Шведские государи, таким образом, в глазах Ивана Грозного — не выше «волостных старост» во владениях природных монархов-датчан.
(обратно)162
Баторий, воевода Семиградский, жил в Трансильвании, являвшейся тогда вассальной территорией турецкого султана.
(обратно)163
Ям-Запольский мир с Речью Посполитой заключен в 1582 году, а Плюсское перемирие со Швецией — лишь в 1583 году.
(обратно)164
Намек на то, что Иван Васильевич избежал сражения с Девлет-Гиреем и отступил в Ростов.
(обратно)165
Концепция Ключевского, если присмотреться, является своего рода «римэйком» карамзинской.
(обратно)166
«Полицейский корпус» — меткое, хотя и не совсем верное выражение Е.М. Ельянова. См.: Ельянов Е.М. Иван Грозный — созидатель или разрушитель? Исследование проблем субъективности интерпретаций в истории. М., 2004. С. 100.
(обратно)167
Если не считать оговоркой то, что слова «измена», «изменное» дело он в большинстве случаев пишет в кавычках, делая из них цитату самого грозненского времени. Но вот слово «заговор» чаще идет без кавычек.
(обратно)168
С утверждением о недостатке централизации трудно согласиться: Иван III отлично справлялся с задачами обороны страны и вел к тому же масштабные наступательные войны в условиях еще меньшей централизации во всем. Другое дело, что сам Иван Васильевич страстно желал большей централизации вооруженных сил — лично ему так было удобнее…
(обратно)169
Эта концепция ближе всего к взглядам Виппера. С тем исключением, что Роберт Юрьевич относился к личности государя и воздвижению опричнины на порядок позитивнее, нежели автор этих строк.
(обратно)170
В первую очередь управления вооруженными силами России.
(обратно)171
Это мнение обосновывается в главе III.
(обратно)172
В летописи сказано, что Иван Васильевич забрал с собой «святость». Видимо, имеются в виду частицы мощей и риз святых из московских церквей.
(обратно)173
Государь велел служилым людям забрать с собой и их семьи!
(обратно)174
Приятно осознавать, что митрополит Афанасий сохранил лицо, не пожелав лично участвовать в этом балагане.
(обратно)175
Отчасти подтверждается и другими источниками. Впрочем, Шлихтинг сообщает, что перед отъездом из Москвы Иван IV не поднимал в беседах с церковными иерархами и аристократией вопроса о ненависти и измене, но, напротив, высказал желание удалиться от власти из-за пресыщения ею и ради монашеской жизни.
(обратно)176
Животы и статки — имущество.
(обратно)177
Бояре, окольничие, стольники, жильцы, стряпчие — служебные и думные чины.
(обратно)178
В Костровском летописце, опубликованном М.Н. Тихомировым, сообщается также, что Опричный дворец строился на месте двора князя М.Т. Черкасского. См.: Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в. // Исторические записки. М., 1940. Т. 10. С. 89.
(обратно)179
Квадратное в плане.
(обратно)180
Таубе и Крузе сначала добились от царя больших почестей, затем, как говорили в советское время, «не оправдали доверия» и, опасаясь за свою участь, подняли мятеж, окончившийся неудачей. Им оставалось перебежать к полякам. Там дуэту пришлось «отрабатывать» художества (в том числе авантюрный проект подчинения царю всей Ливонии), совершенные на территории России. У Таубе и Крузе были все основания быть крайне недоброжелательными и к государю, и к стране. Тщательный источниковедческий анализ обнаруживает в «Послании…» фактические нестыковки и очевидную тенденциозность.
(обратно)181
Р.Г. Скрынников сделал остроумное и, по всей видимости, справедливое наблюдение о времени начала опричного ордена: «Пока [митрополит] Филипп сохранял пост главы Церкви, он не потерпел бы, чтобы опричные палачи разыгрывали кощунственный спектакль. Когда Филипп покинул митрополию, руки у Грозного оказались развязанными». См.: Скрынников Р.Г'. Иван Грозный. М., 2002. С. 301.
А св. Филипп, митрополит Московский, был свергнут с кафедры осенью 1568 года.
(обратно)182
Со значительными перерывами.
(обратно)183
Деятельность последнего освещается в широко распространенных церковно-исторических сочинениях, с которыми Иван IV, один из образованнейших людей России, непременно был знаком.
(обратно)184
«Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религиозного долга… Даже внешний вид Александровской слободы, ставшей как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетельствовал о напряженности и полноте религиозного чувства ее обитателей. В ней все было устроено по типу иноческой обители — палаты, кельи, великолепная крестовая церковь (каждый ее кирпич был запечатлен знамением Честнаго и Животворящего Креста Господня). Ревностно и неукоснительно исполнял царь со своими опричниками весь строгий устав церковный. Проворный народный ум изобрел и достойный символ ревностного служения опричников…» (имеются в виду метлы и собачьи головы) — из книги владыки Иоанна «Самодержавие духа».
(обратно)185
Любопытно, что колдуном Бомелия считали как англичане (он был вывезен русскими дипломатами из Лондона, где сидел в тюрьме), так и русские. В частности, Псковская летопись отмечает, что «лютый волхв» Бомелий «отвел царя от веры». Джером Горсей именует его «лживым колдуном», «искусным математиком и магом». См.: Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. М., 1990. С. 63.
Вообще, судя по английским источникам, Бомелий был «придворным физиком» Елизаветы I, патентованным оккультистом и выдающимся астрологом. По всей видимости, знаком с Джоном Ди.
(обратно)186
Реквизиции земель, а также выселение старых помещиков и вотчинников происходили в опричных областях не сплошным «ковром», а частично, чересполосно.
(обратно)187
В миру — Федор Степанович Колычев, отпрыск старинного боярского рода.
(обратно)188
Впрочем, возможно, не все. И с этой точки зрения не столь уж странно выглядит изменническая сдача Изборска в 1569 году.
(обратно)189
В отношении князей Мстиславского, Вельского и Воротынского подобного рода подозрения скорее всего беспочвенны: эти люди всю жизнь честно дрались за Россию, а Вельский и голову за нее сложил. Но у Федорова основания пойти на сотрудничество с поляками были. Его держали голым в заточении в связи с расследованием событий 1546 года, и он во всем тогда винился… Потом И.П. Федорову пришлось отправиться в ссылку. Трудно забыть такие унижения.
(обратно)190
Иностранные источники сообщают также, что заговорщиков выдали, помимо князя Владимира Андреевича, также главные столпы земщины — князья И.Ф. Мстиславский и И.Д. Вельский. Но Б.Н. Флоря, тщательно изучив, где и когда находились эти лица, отверг основательность данного сообщения. См.: Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 217-218.
(обратно)191
А силы, собранные поляками, были очень значительны, и с их действиями на русском фронте связывались большие надежды. См.: Piwarski К. Niedoszła wyprawa t. zw. Radoszkowicka za Zygmunta Augusta na Moskwe (rok 1567— 68)// Ateneum Wilenskie, rok IV, zeszyt 13,1927.
(обратно)192
Впервые террористические акции подобного масштаба производились именно в связи с «делом Федорова» в 1568 году, затем — в 1570-м. Курсив мой. — Д.В.
(обратно)193
Подробнее этот сюжет изложен в главе VII.
(обратно)194
А заодно, как подчеркивают некоторые историки, «реквизициями» и открытым грабежом добыть средства для продолжения войны, пополнить казну. Впрочем, состояние страны в 1570 году было еще не столь тяжелым, чтобы для продолжения военных действий требовались столь радикальные средства. Кроме того, царь мог просто взять все, чего бы ни пожелал. Безо всяких военизированных экспедиций… Ограбление северных русских областей — следствие бесчинств, естественная добавка к ним, но не изначальная цель похода.
(обратно)195
Это мнение В.И. Корецкого, основанное главным образом на кратких летописных заметках, подверглось впоследствии критике, однако полностью опровергнуто не было. См., напр.: Солодкин Я.Г. История позднего русского летописания. М., 1997. С. 23—24.
(обратно)196
Это известие в разное время датировали то 1566 годом, то 1568-м (первый вариант более распространен). Слова о «ненависти» относятся к периоду до начала массового террора.
(обратно)197
Основные обвинения — измена и служебные злоупотребления.
(обратно)198
В.А. Рогов убедительно доказал этот тезис в монографии «История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV—XVII вв. М., 1995.
(обратно)199
Джильс Флетчер побывал в России по прошествии полутора десятилетий после отмены опричных порядков, при царе Федоре Ивановиче. Но он, во-первых, мог составить себе представление об опричнине по материалам архива Московской компании (См.: Володихин Д.М. Источники трактата Джильса Флетчера «О государстве русском» // Россия и Запад: диалог культур. М., 1994. С. 31—36); и, во-вторых, почувствовал ее дыхание в речах тех, кто ее пережил. Флетчер был уверен, что опричнине пришел конец, правда, он не пишет, когда именно. Из сообщения английского дипломата можно сделать вывод, что он говорит о начале 1570-х, но в равной степени его слова могут относиться и к окончанию царствования Ивана IV: «Столь низкая политика и варварские поступки, хотя и прекратившиеся теперь, так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно окончиться не иначе как всеобщим восстанием». См.: Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII веков глазами дипломатов) / Отв. ред. Н.М. Рогожин. М., 1991. С. 49. Курсив мой. — Д. В.
(обратно)200
У Генриха Штадена есть прямое и однозначное сообщение об этом, однако Д.Н. Альшиц считает сочинения Штадена источником, не заслуживающим ни малейшего доверия. В аргументах Альшица по поводу неосновательности сообщений Штадена содержится больше полемического задора, чем здравого смысла.
(обратно)201
Время существования опричного корпуса четко отслеживается по разрядным книгам. С 1572 года там опричные воеводы не упоминаются. Альшиц пишет: опричные пропали, но остались воеводы из состава «особого» двора Ивана IV. Так что, скорее, двор, т.е. опричнина нового издания, поглотил земщину, чем наоборот. Но это мнение не представляется доказанным. В конце 1560-х — начале 1570-х годов разряды сообщают о походах опричных армий, целиком (считая командиров) укомплектованных опричниками. Около 500 человек непосредственно охраняли государя, и, по разным подсчетам, в 8—12 раз большее количество бойцов входило в опричное ополчение. После 1572 года о таких армейских соединениях сообщений нет. Особый двор, по подсчетам самого Альшица, не собирал и тысячи семисот человек. См.: Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. М., 1988. С. 201.
Дворовые люди получали назначения в общеармейских формированиях и могли служить эмиссарами государя в действующей армии, т.е. «офицерами для особых поручений». Сам «особый» двор мог составить особый полк в составе большой армии, отправленной в поход. Но дворовых соединений, сопоставимых с теми, которые действовали во второй половине 1560-х годов самостоятельно, в разрядах не обнаруживается.
(обратно)202
П.А. Садиков первым ясно высказался на этот счет: «В течение своего многолетнего существования, и в первый период (1565—1572 гг.) под именем собственно “опричнины”, и во второй — в виде “двора” (1572—1584 гг.) “опричнина- двор” в своем внутреннем строе пережила ряд модификаций». См.: Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 44.
(обратно)203
Незадолго до начала правления Симеона Бекбулатовича заговорщики были схвачены и казнены.
(обратно)204
Дворян, входивших в «особый» двор, тщательно «перебрали», как и в первый год опричнины, определяя, насколько они достойны царского доверия.
(обратно)205
Боярин князь Федор Михайлович Трубецкой и Афанасий Федорович Нагой (из знатного рода тверских бояр). Оба относятся к числу аристократов.
(обратно)206
Не менее того известно личное участие царя Ивана IV в составлении и редактуре московских летописей.
(обратно)207
Любопытно, что преданность православию он сохранил и на исходе жизни яростно полемизировал и с католиками, и с протестантами. См.: Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный (теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 90—91.
(обратно)208
Государь неоднократно показывает, что он понимает свою ответственность перед Господом за все содеянное, но никак не связывает эту ответственность с Заповедями, будто для него писаны иные заповеди. Р.Г. Скрынников назвал 1-е послание Грозного Курбскому (1564) «подлинным манифестом самодержавия». К этому мнению близки многие другие исследователи. В самодержавии как форме организации государственной власти автор этих строк видит больше благ, нежели недостатков, но только в том случае, если его естественный религиозно-нравственный ограничитель в полной мере сознается самодержцем. Б.Н. Флоря подчеркивал, что в 1-м послании Иван IV усиленно разъясняет полную независимость своей власти от воли подданных. Бог ему вручил эту власть, а предки «благословили» ею. Б.Н. Флоря показывает также: подобные представления могли быть получены царем от Сильвестра, по словам которого Бог «нарекает» монарха «начальником, судьей и пророком», желая, «дабы вся вселенная наполнилася православия».
(обратно)209
И прежнего своего любимца, Василия Грязного, попавшего в плен к татарам, Иван IV в письме (1574) играючи называет «страдником», т.е. холопом. См.: Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 170.
(обратно)210
Все это отражено в вопросах, заданных царем церковному собору 1551 года и попавших в текст «Стоглава».
(обратно)211
В то же время государь делал послабления по вере протестантам и католикам, выезжавшим в Россию для службы, позволил немцам — насельникам Москвы завести кирху. Неоднократно царь отступал от непримиримо твердой позиции по вопросам веры ради политических успехов.
(обратно)212
Содержание диспута между русским царем и Яном Рокитой через 12 лет было опубликовано в Европе.
(обратно)213
То есть в силу разных обстоятельств лишенных выходных данных.
(обратно)214
В этом нет ничего фантастического: итальянские инженеры и техники нередко нанимались на русскую службу в XV—XVI веках. В 1550-х годах Россию посетил датский мастер-печатник Богбиндер, однако неизвестно, работал ли он по специальности.
(обратно)215
Видимо, в 1563 году.
(обратно)216
Существует немало версий, отвечающих на вопрос, в связи с чем первопечатники Ивана IV оказались в Литовской Руси, но наиболее здравое объяснение — особая миссия, совершавшаяся по соглашению Ивана IV, православных магнатов Великого княжества Литовского и при благословении, полученном на Московской митрополичьей кафедре. Вероятнее всего, московские мастера выехали вместе с техническими приспособлениями в 1566 году, с посольством литовско-русского магната Григория Ходкевича. Автор этих строк, благодаря любезному позволению реставраторов Спасского собора Спасоевфросиньевского монастыря в Полоцке, имел возможность ознакомиться с граффито 1566 года: «Иван Федорович власною (т.е. собственной) рукою написа». Вероятно, это своеобразный автограф первопечатника.
(обратно)217
Фактически книжная справа была одним из поводов к великому церковному расколу при патриархе Никоне и рождению старообрядчества.
(обратно)218
Судя по всему, митрополит Макарий пользовался у царя значительным авторитетом и оказывал на Ивана Васильевича благотворное нравственное влияние. Многие историки считают, что подобного рода духовными наставниками царя были также священники Сильвестр и А.Ф. Адашев, но это вызывает определенные возражения. Сильвестр мог быть учителем Ивана Васильевича, но наставником — вряд ли. В большей степени он мог играть роль посредника между молодым государем и высшей аристократией; Иван IV, выросший среди заговоров, мятежей, интриг, знал цену учительству, исходящему от человека, который занял столь важную политическую позицию, уважал его и во многом должен был подчиняться ему; но любил ли он Сильвестра? видел ли в нем нравственный пример? Вряд ли. Ничто не свидетельствует о сколько-нибудь теплых чувствах между ними. Еще менее вероятно, что наставническую роль мог принять на себя Адашев.
(обратно)219
Ведь не зря же царь, удалясь в Александровскую слободу в декабре 1564 года, писал, что Церковь не дает ему расправляться по всей воле с «изменниками», отстаивает их: «…архиепископы и епископы и архимандриты и игумены, сложася з бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людьми, почали по них… царю и великому князю покрывати». См.: Продолжение Александро-Невской летописи// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 342.
(обратно)220
Тафья — головной убор, заимствованный у татар. Церковь осудила его ношение задолго до митрополичьего служения св. Филиппа.
(обратно)221
Но и помощников Ивану IV в среде духовенства отыскалось немало…
(обратно)222
Факт насильственной смерти св. Филиппа известен по его житию, сообщению князя A.M. Курбского, запискам бывших опричников И. Таубе и Э. Крузе и др. источникам. Палач Филиппа, Малюта Скуратов, не был как-либо наказан государем. См.: Володихин Д.М. Митрополит Филипп. М., 2009. Глава VII «Смерть пастыря».
(обратно)223
Тогда же лишились сана Филофей, архиепископ Рязанский, и Пимен, архиепископ Новгородский.
(обратно)224
Подробнее см. главу V.
(обратно)225
Его жены: Анастасия Захарьина-Юрьева, Мария Черкасская, Марфа Собакина, Анна Колтовская, Анна Васильчикова, Мария Нагая. Помимо них, царь надолго сошелся с дьячьей вдовушкой Василисой Мелентьевой, почти женой… Почитатели Ивана IV отрицают некоторые браки царя, например, с Марфой Собакиной, Анной Колтовской и Анной Васильчиковой, но источники подтверждают факт свадеб. Так, например, до наших дней дошел свадебный разряд бракосочетания с Марфой Собакиной. См.: Разрядная книга 1475—1605 гг. М., 1982. Т. II. Ч. 2. С. 285—291.
(обратно)226
Как иностранные, так и отечественные источники, в том числе неофициальные летописцы, подтверждают факт убийства царем сына. Однако есть версия и о ненасильственной кончине царевича: «…предположения о естественной смерти царевича Ивана имеют под собой документальную основу. Еще в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад — тысячу рублей. Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы “ино похочет постричися, царевича князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати”… Косвенно свидетельствует о смерти Ивана от болезни и то, что в “доработанной” версии о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после “рокового удара”, а через четыре дня, в Александровской слободе. Эти четыре дня — скорее всего время предсмертной болезни царевича… В последние годы жизни он все дальше и дальше отходил от многомятежного бурления мирской суеты… душа его стремилась к Небу… В борниках библиотеки Общества истории и древностей помещены: служба преподобному Антонию Сийскому, писанная царевичем в 1578 году, “житие и подвиги аввы Антония чудотворца… переписано бысть многогрешным Иваном” и похвальное слово тому же святому, вышедшее из-под пера царевича за год до его смерти, в 1580 году. Православный человек поймет, о чем это говорит… Высота духовной жизни Ивана была столь очевидна, что после церковного собора духовенство обратилось к нему с просьбой написать канон преподобному Антонию, которого царевич знал лично. “После канона, — пишет Иван в послесловии к своему труду, — написал я и житие; архиепископ Александр убедил написать и похвальное слово”… В свете этих фактов недобросовестность версии о “сыноубийстве”». Версия взята из книги Иоанна (Снычева), митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского «Самодержавие духа. Основы русского самосознания» (СПб., 1997). Однако аргументы академических историков оставляют немного места для доверительного отношения к этой гипотезе; см.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 337—340; Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 439—444.
Сразу несколько независимых друг от друга источников сообщают о смерти царевича в результате удара, нанесенного царем, и это выглядит более убедительно.
(обратно)227
Между историками высказывались мнения об умертвлении Ивана IV приближенными, однако в настоящее время большинство серьезных академических исследователей причиной смерти царя считают болезнь и преклонный по тем временам возраст. См., например: Корецкий В.И. Фрагменты митрополичьего летописания второй половины XVI в. в Московском летописце// История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986. С. 70; Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 453.
(обратно)228
Хотя иное традиционное общество, надо надеяться, когда-нибудь будет построено в России.
(обратно)229
Но роль юродивого Христа ради, например, или нищего на паперти, или даже безбожного скомороха были частью спектакля. Гораздо хуже, когда человек «терял знак», т.е. расставался с твердой принадлежностью к какой-либо общественной группе. Бродяга — человек подозрительный и неприятный, а разбойник плох не только разбоем, но и оторванностью своей от общества. В этом смысле и тот и другой рассматривались как люди второго сорта.
(обратно)230
Разумеется, за исключением тех случаев, когда тягло расширялось до пределов непереносимых, нездравых, бессмысленных, или же, когда за требованием государства, Церкви, общины виделся чей-то личный корыстный интерес. В этом случае бунт получал некоторое оправдание — как инструмент возвращения к доброй старине, восстановления прежнего, правильного порядка вещей. Его «бессмысленность и беспощадность» подпитывались тем, что бунтовщики чувствовали за собой высшую правду, чуть ли не санкцию Бога.
(обратно)231
С 1589 года — патриарх.
(обратно)232
Поворот в биографии нежелательный, но возможный. Так, например, старомосковские служилые аристократы нередко делали церковную карьеру — как, например, св. Филипп митрополит Московский из боярского рода Колычевых или патриарх Филарет из боярского же рода Захарьиных-Юрьевых. Крестьянин, при удаче, мог сделаться «торговым человеком» и даже войти в число «служилых людей по отечеству». Бывали случаи, когда богатый купец по власти и богатству намного превосходил столичных бояр и служилых князей. Так, например, при Иване IV невероятно возвысилась семья Строгановых, а при Михаиле Федоровиче — семья Светешниковых. Эти владели землями, промыслами и целыми городами… но ровно так же, как и высокородные дворяне, могли по государеву указу попасть на правеж.
(обратно)233
Не считая королевича Владислава, оказавшегося на российском престоле случайно, благодаря несчастьям Великой Смуты начала XVII века.
(обратно)234
Об этом писал, например, В.Б. Кобрин.
(обратно)235
Обычно либерально-демократические историки и публицисты пишут о варварском тиранстве Ивана IV, о крови, обильно пролитой по его приказу, о страшных массовых казнях. Государь Иван Васильевич казнил не больше и не меньше, чем европейцы того времени. Во Франции и в Речи Посполитой религиозные войны привели к чудовищному кровопролитию. Среди европейских правителей XVI столетия были такие, по сравнению с которыми наш кровопийца должен бы считаться сущим младенцем. Не особенное «азиатское варварство» наше и не «самодержавный деспотизм» привели к огромным жертвам. Государственный строй соседей Московского государства, да и вообще политическое устройство европейских стран того времени не дают примеров более позитивных, более «мягких» по сравнению с нашей страной. Дело в личных качествах государя. Худо не то, что он множество людей казнил, пребывая в своем праве самодержца, а в том, что он множество людей казнил… Стоит ли оправдывать родное, отечественное душегубство кровавым варварством западных соседей? Стоит ли апеллировать к примерам худшего в человеческих душах и в человеческой истории? На это ли место — среди злодеев — следует претендовать нашей цивилизации, нашему народу?
(обратно)236
И сам Иван Васильевич это понимал. В частности, во втором послании, адресованном князю Курбскому, он писал: «Со смирением напоминаю тебе, о князь, — посмотри, как к нашим согрешениям и особенно к моему беззаконию, превзошедшему беззакония Манассии, хотя я не отступал от веры, терпеливо Божье величество, веря в мое покаяние. И не сомневаюсь в милосердии Создателя, которое принесет мне спасение, ибо говорит Бог в святом Евангелии, что больше радуется об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяносто девяти праведниках… Ибо если и многочисленнее песка морского беззакония мои, все же надеюсь на милость благоутробия Божьего — может Господь в море своей милости потопить беззакония мои…» Здесь же царь подчеркивает, что Господь «…милостью своей позволил нам, смиренным и недостойным рабам своим, удержать скипетр Российского Царства от его вседержительной десницы христоносной хоругви…» См.: Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 79.
Таким образом, власть Высшего Судии государь знает и склоняется перед нею.
(обратно)237
Впрочем, не всем сведениям подобного рода стоит доверять. Например, известия Дж. Горсея о беспутном поведении царя сомнительны.
(обратно)238
Есть несколько версий гибели архиепископа Леонида. Наиболее вероятно то, что он был уморен голодом в заточении.
(обратно)239
Где тот подозрительно быстро скончался (осень 1571 года). Возможно, прав Курбский, который писал, что Пимена утопили — только не в Новгороде, как полагал Курбский, и не во время опричного разгрома 1570 года.
(обратно)240
Это выразилось не только в публицистических выступлениях, но также в составлении «Молитвы царю Иоанну Грозному» и создании иконы «благоверному царю Иоанну Грозному».
(обратно)241
Например, св. Димитрий, прозванный Донским.
(обратно)242
Правда, в суждение архимандрита Макария вкралась неточность: во всяком случае, не известно ничего скверного о кончине Кирилла, преемника св. Филиппа на митрополичьей кафедре; умер же он, пребывая в сане митрополита в 1572 году.
(обратно)243
Немудрено: государь не был фигурой абсолютно черной, инфернальной. Были в его биографии положительные преобразования, были и моменты, когда он искренне служил стране и Церкви. Тот же владыка Питирим высоко оценивает участие Иван Васильевича в борьбе с разрушительными ересями.
(обратно)Ссылки
1
Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. XIII. С. 49.
(обратно)2
Летописец начала царства// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 9.
(обратно)3
Никоновская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. XIII. С. 76-77.
(обратно)4
Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого (история русской денежной системы с 1533 по 1682 год). М., 1989. С. 14—28.
(обратно)5
Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л.,1991. С. 77.
(обратно)6
Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. С. 34-35.
(обратно)7
Корецкий В.И., Морозов Б.Н. Летописец с новыми известиями XVI — начала XVII в. // Летописи и хроники. 1984 год. М., 1984. С. 212.
(обратно)8
Летописец начала царства// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 31.
(обратно)9
Курбский A.M. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 219, 323.
(обратно)10
Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV—XVI веках/ Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 55.
(обратно)11
Никоновская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13. С. 126.
(обратно)12
Никоновская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13. С. 141—142.
(обратно)13
Александро-Невская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 144.
(обратно)14
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 43, 45.
(обратно)15
Акты исторические. СПб., 1841. Т. I. С. 203.
(обратно)16
Курбский A.M. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 227.
(обратно)17
Летописец начала царства// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 42.
(обратно)18
Никоновская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13. С. 141.
(обратно)19
Александро-Невская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 144—145.
(обратно)20
Александро-Невская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 144.
(обратно)21
Псковские летописи. М., 1955. Т. II. С. 230—231.
(обратно)22
Александро-Невская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 147.
(обратно)23
Царственная книга// Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. XIII. С. 451—453.
(обратно)24
Царственная книга// Полное собрание русских летописей. М., 2000. С. 455—456.
(обратно)25
Стоглав. СПб., 1863. С. 31.
(обратно)26
Курбский A.M. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 229.
(обратно)27
Филюшкин А.И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная рада». М., 1998.
(обратно)28
Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. М., 1969. С. 367—526.
Важнейшим источником по этому аспекту реформ является так называемая «Боярскаякнига» 1556/1557г. См.: Антонов А.В. «Боярская книга» 1556/1557 года// Русский дипломатарий. М., 2004. Вып. 10. С. 80—118.
(обратно)29
Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. М., 1969. С. 82.
(обратно)30
Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. М., 1969. С. 527—528; см. также: Приложение II (Крестоцеловальная запись губных старост 50-х г. XVI века) и Приговор о разбойных делах от 18 января 1555 г. — Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. С. 33—34, 36—37, 39-42.
(обратно)31
Стоглав. СПб., 1863. С. 93—94.
(обратно)32
Стоглав. СПб., 1863. С. 231—232, 302—303; Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986, № 5.
(обратно)33
Царственная книга // Полное собрание русских летописей. М., 2000. С. 524.
(обратно)34
Курбский A.M. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 265-271.
(обратно)35
«Выписка из посольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487—1572 гг.// Памятники истории Восточной Европы. Источники XV— XVII вв. М., 1997. Т. II. С. 165; Сборник Русского императорского общества. Т. LIX. С. 126—129.
(обратно)36
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 43.
(обратно)37
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 53-55.
(обратно)38
Древнейшая разрядная книга. М., 1901. С. 156; Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 83.
(обратно)39
Курбский A.M. История о великом князе Московском// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 229—261.
(обратно)40
Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М. —Л., 1950. С. 13.
(обратно)41
Хорошкевич А.А. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 569.
(обратно)42
Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584)// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 71
(обратно)43
См. подробнее: Дмитриев М.В. Православие и реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. М., 1990.
(обратно)44
Хорошкевич А.А. Опричнина и характер Русского государства в советской историографии 20-х — середины 50-х годов// История СССР, 1991, № 6. С. 85.
(обратно)45
Иванова Л. С. Из истории реформационной церкви в Полоцке// Гiсторыя i архелогiя Полацка i Полацкай зямлi. Полоцк, 1992. С. 25; Wegierski A. Libri quattor Slavoniae Reformatae. Warszawa, 1973. С 263, 446; «Истины показание», РГБ, Троицк., № 673. Л. 371 об.
(обратно)46
Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII—XVI веках. М., 1994. С. 90—91.
(обратно)47
Виппер Р.Ю. Иван Грозный// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 148.
(обратно)48
Лебедевская летопись// Полное собрание русских летописей. Т. 29. С. 311.
(обратно)49
Продолжение Александро-Невской летописи// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 329.
(обратно)50
Виппер Р.Ю. Иван Грозный// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 158.
(обратно)51
Курбский A.M. Указ. соч.// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 17, 99, 353.
(обратно)52
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 435—435; Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 243, 463.
(обратно)53
Володихин Д.М. Трудноопределимые персоны служилых аристократов из реестра репрессированных в «Истории…» князя Андрея Михайловича Курбского// Вестник МГУ. Серия 8. М., 2006. Вып. 1. С. 95—96.
(обратно)54
Володихин Д.М. Трудноопределимые персоны служилых аристократов из реестра репрессированных в «Истории…» князя Андрея Михайловича Курбского// Вестник МГУ. Серия 8. М., 2006. Вып. 1. С. 96.
(обратно)55
С наибольшей полнотой идентифицирован С.Б. Веселовским. См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 432.
(обратно)56
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 383—384.
(обратно)57
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 393—394.
(обратно)58
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 453, 455.
(обратно)59
Идентифицирован СБ. Веселовским. См.: Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С 467—468.
(обратно)60
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 366.
(обратно)61
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 368.
(обратно)62
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 41.
(обратно)63
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 37—39.
(обратно)64
Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. С. 29-30.
(обратно)65
Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. С. 455.
(обратно)66
Продолжение Александро-Невской летописи// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 344.
(обратно)67
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 108 (курсив мой. — Д. В.).
(обратно)68
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 89. Кромешник — опричник.
(обратно)69
Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в.// Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 237.
(обратно)70
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 285.
(обратно)71
Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 78—79.
(обратно)72
Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 78.
(обратно)73
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 65—66.
(обратно)74
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в./ Пер. и сост. А.А. Севастьяновой. М., 1990. С. 57.
(обратно)75
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в./ Пер. Л.Н. Годовиковой. М., 1983. С. 43.
(обратно)76
Флетчер Дж. О государстве русском// Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII веков глазами дипломатов)/ Отв. ред. Н.М. Рогожин. М., 1991. С. 86.
(обратно)77
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 289.
(обратно)78
Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 105-109.
(обратно)79
Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 86.
(обратно)80
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 319; Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 184.
(обратно)81
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 71.
(обратно)82
Князю Д.М. Хворостинину посвящена глава в книге: Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009.
(обратно)83
Карамзин Н.М. История государства Российского: в XII томах. М., 2004. Кн. 3 (тома IX-XII). С. 116.
(обратно)84
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 72.
(обратно)85
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С.116.
(обратно)86
Флетчер Дж. О государстве Русском// Проезжая по Московии. М., 1991. С. 79—80.
(обратно)87
См.: Барсов Е.В. Путешествие в Россию датского посланника Якоба Ульфельда. М., 1889.
(обратно)88
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в./ Пер. Л.Н. Годовиковой. М., 1983. С. 42.
(обратно)89
Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 104—105, 127—129; Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 380; Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 377-382.
(обратно)90
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 356.
(обратно)91
Документы походного архива воеводы кн. Василия Дмитриевича Хилкова 1580 г.// Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 1998. Т. III. Документы Ливонской войны (подлинное делопроизводство приказов и воевод). 1571—1580 гг. С. 220—221.
(обратно)92
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 341—342.
(обратно)93
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 83.
(обратно)94
ОИК ГПИБ. Конволют XVIII в. № 615, Л. 4. По библиотечной ссылке: 442441 ОИК 25085-25093.
(обратно)95
Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 158.
(обратно)96
Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 159.
(обратно)97
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 93.
(обратно)98
Гейденшшейн Р. Записки о Московской войне (1578-1582). СПб., 1889. С. 96-97.
(обратно)99
Документы походного архива воеводы кн. Василия Дмитриевича Хилкова 1580 г. // Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 1998. Т. III. Документы Ливонской войны (подлинное делопроизводство приказов и воевод). 1571—1580 гг. С. 210.
(обратно)100
Карамзин Н.М. История государства Российского: в XII томах. М., 2004. Кн. 3 (тома IX—XII). С. 169,174,192.
(обратно)101
Володихин Д.М. Воеводы Ивана Грозного. М., 2009. С. 50-66.
(обратно)102
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 378.
(обратно)103
Володихин Д.М. Внешняя политика Московского государства при Иване IV// Энциклопедия для детей. М., 1995. Т. 5. Ч. 1. История России и ее ближайших соседей.
(обратно)104
Траля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994.
(обратно)105
Виппер Р.Ю. Иван Грозный// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 173.
(обратно)106
Виппер Р.Ю. Иван Грозный// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 173-174.
(обратно)107
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в. М., 1990. С. 78.
(обратно)108
Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 115.
(обратно)109
Послания Ивана Грозного // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 141-143.
(обратно)110
См. материалы по очередному бескоролевью в Речи Посполитой, в конце которого на троне оказался Стефан Баторий: Посольская книга по связям России с Польшей (1575—1576 гг.)// Памятники истории Восточной Европы. Источники XV—XVII вв. М.; Варшава, 2004. Т. VII. С. 7-136.
(обратно)111
Послания Ивана Грозного // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 175,180.
(обратно)112
Карамзин Н.М. История государства Российского: в XII томах. М., 2004. Кн. 3 (тома IX-XII). С. 45.
(обратно)113
Соловьев С.М. История России с древнейших времен// Сочинения в восемнадцати книгах. М., 1989. Кн. III. С. 535-536.
(обратно)114
Ключевский В.О. Курс русской истории// Сочинения в 9 томах. М., 1987. Т. 2. С. 163,168.
(обратно)115
Виппер Р.Ю. Иван Грозный// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С.151.
(обратно)116
Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584)// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 84.
(обратно)117
Володихин Д.М. Эпоха Ивана Грозного в сочинениях С.Ф. Платонова и Р.Ю. Виппера// Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 10-13.
(обратно)118
Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен // Избранные произведения. М., 1966. Т. I. С. 304-313.
(обратно)119
Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М. — Л.,1950. С. 62.
(обратно)120
Бахрушин С.В. Иван Грозный // Научные труды. М., 1954. С. 300.
(обратно)121
Бахрушин С.В. Иван Грозный // Научные труды. М., 1954. С. 300-301.
(обратно)122
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 26.
(обратно)123
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 143-144.
(обратно)124
Зимин А.А., Хорошкевич А.А. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 132.
(обратно)125
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1960.
(обратно)126
Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 113—115.
(обратно)127
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 201
(обратно)128
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 196— 204.
(обратно)129
Флоря Б.Л. Иван Грозный. М., 2003. С. 184. Курсив мой — Д. В.
(обратно)130
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. Основы русского самосознания. СПб., 1997.
Вся глава «Иоанн Васильевич Грозный» посвящена этому предмету.
(обратно)131
Продолжение Александро-Невской летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1965. С. 341—344; Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 391-393.
(обратно)132
Продолжение Александро-Невской летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1965. С. 344— 345.
(обратно)133
Продолжение Александро-Невской летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1965. С. 345.
(обратно)134
Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 393.
(обратно)135
Забелин И.Е. Опричный дворец царя Ивана Васильевича// История города Москвы. Неизданные труды. М., 2004. С. 345-354.
(обратно)136
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 66—69.
(обратно)137
Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в.// Исторические записки. М., 1940. Т. 10. С. 89; Корецкий В.И. К истории неофициального летописания времени опричнины// История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986. С. 14—21.
(обратно)138
Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 396.
(обратно)139
Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 396-398.
(обратно)140
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 306.
(обратно)141
Михайлович Д.М. Высшие законы в истории Московского государства. М., 1996. С. 5—10.
(обратно)142
Продолжение Александро-Невской летописи// Полное собрание русских летописей. М., 1965. С. 344.
(обратно)143
Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 142-160.
(обратно)144
Апхимюк Ю.В. Записки летописного характера в рукописном сборнике Кирилло-Белозерского собрания — новый источник по истории опричнины // Архив русской истории. М., 1992. Вып. 2. С. 128.
(обратно)145
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в./ Пер. и сост. А.А. Севастьяновой. М., 1990. С. 70.
(обратно)146
Флетчер Дж. О государстве русском// Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII веков глазами дипломатов) / Отв. ред. Н.М. Рогожин. М., 1991. С. 48. Курсив мой. — Д. В.
(обратно)147
Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 44.
(обратно)148
Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813.4.1. № 193.
(обратно)149
Временник Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С. 12.
(обратно)150
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-литовским государством // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1892. Т. III. С. 519.
(обратно)151
Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 48.
(обратно)152
Флетчер Дж. О государстве русском// Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII веков глазами дипломатов)/ Отв. ред. Н.М. Рогожин. М., 1991. С. 48—49.
(обратно)153
Синодик взят по изданию Р.Г. Скрынникова: Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 530—531.
(обратно)154
Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 95.
(обратно)155
Виппер Р.Ю. Иван Грозный // Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530—1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 168.
(обратно)156
Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М. —Л., 1950. С. 35.
(обратно)157
Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 77—78.
(обратно)158
Флоря Б.Л. Иван Грозный. М., 2003. С. 236.
(обратно)159
Страна и правление московитов// Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 45. Курсив мой. — Д.В.
(обратно)160
Корецкий В.И. К истории неофициального летописания времени опричнины// Корецкий В.И. История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986. С. 14—33.
(обратно)161
Пискаревский летописец // Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 34. С. 190. Курсив мой. — Д. В.
(обратно)162
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 231, 232.
(обратно)163
Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в.// Летописи и хроники. 1980 год. М., 1981. С. 239.
(обратно)164
Скрынников Р.Г'. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. С. 126—129.
(обратно)165
Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный (теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 145—146.
(обратно)166
Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный (теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 146.
(обратно)167
Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 81.
(обратно)168
Послания Ивана Грозного // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 145-147.
(обратно)169
Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 151.
(обратно)170
Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 169.
(обратно)171
Пользуясь термином, излюбленным современными критиками, первый русский царь в литературе был выдающимся «самовыраженцем».
(обратно)172
Послания Ивана Грозного// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 25.
(обратно)173
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в./ Пер. Л.Н. Годовиковой. М., 1983. С. 76—87.
(обратно)174
Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 35.
(обратно)175
Лебедевская летопись// Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. С. 227.
(обратно)176
«Житие св. Филиппа» Колычевской редакции// Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 610.
(обратно)177
«Житие св. Филиппа» Тулуповской редакции// Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 579.
(обратно)178
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 377.
(обратно)179
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 539, 540.
(обратно)180
Горсей Дж. Записки о России. XVI — начало XVII в./ Пер. и сост. А.А. Севастьяновой. М., 1990. С. 84—85.
(обратно)181
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в./ Пер. Л.Н. Годовиковой. М., 1983. С. 24.
(обратно)182
Стоглав. СПб., 1863. С. 28.
(обратно)183
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 529.
(обратно)184
«Временник» Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С.179.
(обратно)185
«Временник» Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С. 173— 174.
(обратно)186
Царь Иван Васильевич: Грозный или Святой? Аргументы Церкви против канонизации Ивана Грозного и Григория Распутина. М., 2004. С. 3—4, 20.
(обратно)187
En. Дионисий (Алферов). Монархия и христианское сознание. Александровская слобода. 2003. С. 164,166.
(обратно)188
Федотов Г.П. Святой Филипп Митрополит Московский. М., 1991. С. 5.
(обратно)
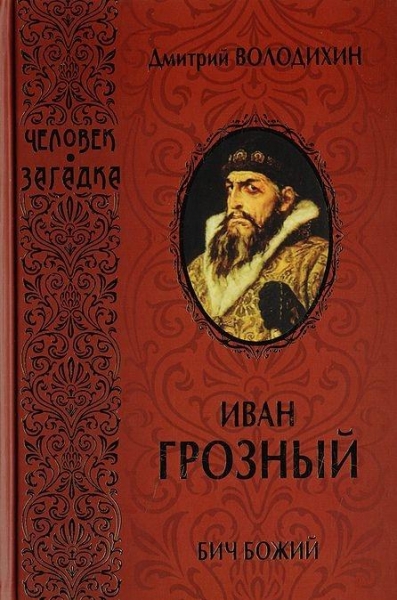


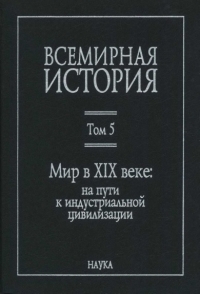
Комментарии к книге «Иван Грозный. Бич Божий», Дмитрий Михайлович Володихин
Всего 0 комментариев