Бенедикт Кайзер
Еврофашизм и буржуазный декаданс
Концепция Европы и критика общества у Пьера Дриё ла Рошеля
Издательство «Регин-Ферлаг», Киль, Германия, 2011 г.
Пятый том Академической серии Кильских идейно-исторических исследований (KIGS), вышедший в издательстве «Регин-Ферлаг».
Сокращенный перевод с немецкого. (Опущены сноски, указания источников, список сокращений, библиография и алфавитный указатель).
О книге: ПЬЕР ДРИЁ ЛА РОШЕЛЬ (1893-1945) в марте 1945 года окончил жизнь самоубийством. Французский интеллектуал, сотрудничавший во время Второй мировой войны с немецкими оккупационными властями, категорически отказался бежать в какое-либо из дружественных иностранных государств. «Нужно брать ответственность на себя», так написал он незадолго до суицида в своем «Тайном рассказе».
Дриё ла Рошель был не только знаменитым романистом мирового значения, современники также высоко ценили его как исключительного интеллектуала. В своих романах, особенно в «Жиле», Дриё критиковал декаданс так презираемой им буржуазии. Параллельно с процессом созревания главных героев его романа и сам Дриё развивался в человека «действия», «прямой акции»... в фашиста.
Коллаборационизм Дриё с немецкими оккупационными властями во Франции был не капитуляцией перед врагом, а скорее попыткой выковать единый идеологический фронт. Настоящий враг – это не «бош», не немчура, а буржуа. Против декаданса, так считал Дриё, бороться можно только совместными усилиями: только объединенная в фашизме Европа может получить силу, достаточную для того, чтобы защититься от внутреннего упадка и от внешних врагов и остаться по-настоящему европейской.
Данное исследование показывает нам в фигуре Дриё ла Рошеля современного европейца, который отверг узкий национализм. Ученый Бенедикт Кайзер помещает французского интеллектуала и его труд в исторический контекст различных европейских фашизмов. В приложении приводится отрывок из «Тайного рассказа» Дриё ла Рошеля, представляющего собой его политическое завещание, где автор хочет не просить извинений за свои действия, а подтвердить их своим последним актом.
Об авторе: Бенедикт Кайзер (родился в 1987 году) изучал политические науки, прежде всего, в европейском направлении, в Хемницком университете. Основной темой его работ является исследование фашизма и тоталитаризма, в частности, панъевропейских идей, европейских разновидностей фашизма и интеллектуалов в окружении авторитарных движений и партий. В издательстве «Регин-Ферлаг» в 2011 году он опубликовал монографию Еврофашизм и буржуазный декаданс о Пьере Дриё ла Рошеле в уважаемой научной серии Кильских идейно-исторических исследований. Кроме того, Кайзер в соавторстве с Эрихом Фрёлихом в 2013 году выпустил фундаментальное исследование Феномен островного фашизма: чернорубашечники и синерубашечнки, а также другие авторитарные движения в Великобритании и Ирландии 1918-1945.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ПРЕДИСЛОВИЕ (Гюнтер Машке)
1. ВСТУПЛЕНИЕ
1.1 Предмет исследования
1.2 Постановка вопроса и структура работы
1.3. Состояние исследований и критика источников
2. ПЬЕР ДРИЁ ЛА РОШЕЛЬ И ЕГО ПОЛИТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Политическая биография
2.2. Ранний поводырь: «учитель Фридрих Ницше»
2.3. Генератор идей Жорж Сорель: декаданс, миф, насилие
2.4. Шарль Моррас и интегральный национализм
3. КРИТИКА ОБЩЕСТВА В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРИЁ ЛА РОШЕЛЯ
3.1. «Мужчина, увешанный женщинами»
3.2. «Мечтательная буржуазия»
3.3. «Жиль»
4. ПОЗИЦИЯ ДРИЁ ЛА РОШЕЛЯ В ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ФРАНЦИИ
4.1 Дриё ла Рошель и Action Française
4.2 Отношения с партийным фашизмом: PPF и Жак Дорио
5. МЕЖДУ АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ И ОТКАЗОМ ОТ НЕГО: ДРИЁ И ФРАНЦУЗСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
5.1. «Враждебные братья»? – писатели-антифашисты
5.2. Искушение фашизмом: от Поля Мариона до Люсьена Ребате
5.3. Самовосприятие Дриё ла Рошеля
6. ФАШИСТСКАЯ МЕЧТА О ЕВРОПЕ
6.1. Еврофашизм? Разъяснение понятия феномена
6.2. Еврофашизм под ружьем: путь Леона Дегреля
6.3. «Europe a Nation!» – сущность и желания сэра Освальда Мосли
6.4. Европейская концепция у Пьера Дриё ла Рошеля
7. РЕЗЮМЕ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ (Пьер Дриё ла Рошель)
8.1. Вступление
8.2. Речь
8.3. Я, интеллектуал
Дополнение (Георгий Косиков)
Может ли интеллигент быть фашистом?
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дриё – это болезнь, которая разгадывает саму себя.
Андре Мальро
Фашистский интеллектуал – это радикальный декадент. Он может вынести доставляющий ему муки нигилизм ценностей только потому, что верит, что настоящая жизнь раскрывается только в чрезвычайных обстоятельствах; на войне или в момент опасности. Эта зависимость от крайностей выдает его слабость к будням, в которых тоже есть свой героизм. Субстанцию жизненных сил воспевают, ибо она отсутствует. Не в ней коренится жажда сильных ощущений, но она произрастает из опьянения и мечты, из мимолетного материала; после напряжения, которое полностью живет красивыми жестами, наступает истощение, отчаяние, цинизм. Эстетик силы и политики может тогда найти свое самое важное убеждение: то, что единственная реальность в жизни – это иллюзия. Это убеждение может привести к нарциссическому обнажению, к игре со страшными правдами. Но тщеславие того, кто элегантными формулировками и кокетствующим бесстыдством указывает на свои язвы, на свою аморальность и ужасающую низость, может обмануть. Тщеславие, познание и большая эстетическая форма пронизывают друг друга и возрастают друг в друге.
Французский романист и эссеист Пьер Дриё ла Рошель, один из самых знаменитых коллаборационистов, который в марте 1945 года избрал самоубийство, воплощал этот фашистский стиль в наиболее чистом виде. В последнее время во Франции переиздали почти все его произведения и заново открыли его, как одного из великих рассказчиков национальной литературы. Новый интерес к дендизму и начавшаяся, наконец, во Франции дискуссия о периоде между 1940 и 1945 годами, вероятно, могли поспособствовать этому. В конце концов, эксгибиционистская честность тоже привлекает.
В июле 1943 года, когда поражение Германии становится предсказуемым, Дриё отмечает в своем дневнике:
«Но я был фашистом и остаюсь им. Я не мог бы существовать без этой мечты о возвращении мужского и аскетического; этой мечте я остаюсь верен. Осуществленная только наполовину, эта мечта означает последнюю попытку подняться в Европе со стороны всего того, что я люблю; она означает определенный физический жест, определенную аристократическую позицию в духовном. На эту мечту бросила тень бюрократия, пропаганда... Но эта мечта, которая уже на протяжении десяти лет заставляет меня вздрагивать, позволяет мне добиться уверенности о моей истинной природе...»
Дриё считал причиной заката национал-социализма то, что Адольф Гитлер был не европейским, а только национальным революционером. Из Вермахта и войск СС (Waffen-SS) не сформировались структуры, в которых европейская молодежь могла бы объединиться в борьбе против западного декаданса и коммунистической азиатчины; оккупированные страны не стали равноправными партнерами Германии. Мечта об объединенной, освобожденной от декаданса и либерализма Европе потерпела неудачу, и вместе с тем радикальному мечтателю, который всю свою жизнь поклонялся энергии, молодости и силе, стало понятно, какая безнадежная и тусклая старость его ждала. Незадолго до своего самоубийства он записал: «Я удивительно готов к смерти! Какой шанс не стать стариком!»
Дриё, родившийся в 1893 году в Париже в семье адвоката, быстро научится презирать своих родителей. Необузданная жизнь отца, пустившего по ветру имущество матери – изображенная им затем в романе «Мечтательная буржуазия» – создает невыносимую атмосферу, из которой Дриё убегает в счастливое царство маниакального чтения. Фридрих Ницше и авторы радикальных французских правых, от контрреволюционеров Луи Габриэля Амбруаза де Бональда и Жозефа де Местра до Шарля Морраса, Жака Бенвиля и Жоржа Сореля, – это путеводные звезды молодого Дриё.
Когда Дриё в 1914 году, после безуспешной учебы в «École des Sciences Politiques» («Школе политических наук»), попадает на фронт, его система мира уже сформирована. Неоднократно раненый в боях в составе штурмовых групп, он с 1914 по 1918 годы часто пребывал в военных госпиталях, в отпусках для лечения, в тылу. Тупое, машинное убийство едва ли относилось к полученному им на войне опыту; это Дриё понял только в своих более поздних статьях и в своем дневнике. Теперь это внезапное, разрывающая мир будней насильственное действие, момент, который Дриё назвал «мистическим», становится для него определяющим жизнь. В 1914 году, во время битвы у Шарлеруа, Дриё попадает в пьянящее состояние «восторга, который я хотел бы сравнить с восторгом святой Терезы». Во время атаки под градом пуль, чувствуя, что собственное действие, мышление и ощущение сливается с действием товарищей в коллективном порыве, в то время как трепещущая жизнь спешит навстречу смерти, в момент, которому только ощущение жизни придает свою сладость; в этот момент, когда страх и мужество, боль и радость, жажда жизни и жажда смерти сливаются в единство, которое Дриё называет «la vie», жизнью; в этот момент он верит, что нашел доступ к собственному бытию и раскрыл себя как вождь других людей, как командир, за которым следует масса.
Когда Дриё в марте 1919 года уходит из армии, он знает, что ему никогда больше не избавится от тоски по исключительным ситуациям в жизни. Но гражданская жизнь не предлагает ему подобных ситуаций. Она предлагает молодому денди только бесконечную цепь развлечений в стиле «roaring twenties», посещений борделей, дальних путешествий, сексуальных приключений.
Дриё с самовлюбленной беспощадностью отобразил это время пресной жизни, в которой он лихорадочно искал все более сильные возбуждения, в своем раннем творчестве, особенно в романе «L'homme couvert de femmes» (буквально «Мужчина, увешанный женщинами», немецкое издание называлось «Der Frauenmann» – «Любимец женщин»). Это купание в роскоши, но также и изматывающая все силы ярмарка тщеславия в салонах сюрреалистов вокруг Андре Бретона и Луи Арагона, к которым Дриё присоединяется на короткое время, и которых он описывает в своем самом значительном романе «Gilles» («Жиль», немецкое название «Die Unzulänglichen» – «Непригодные», «Простофили») как орду псевдорадикальных обывателей и болтунов; эта жизнь очень далека от настоящей «la vie». Главный герой романа, в образе которого Дриё отображает свой путь от солдата к денди, и от плейбоя к фашистскому борцу, едва попав в отпуск с фронта, за шампанским с одним товарищем и двумя возбуждающими желание проститутками, тут же уже хочет снова вернуться на фронт. Наркоман Ален, живущий за счет богатых женщин герой романа «Болотные огни», непрерывно задающий себе вопрос «Как можно жить подлинной жизнью в мире, который больше не является таковым?», перед самоубийством, почти со счастьем, рассматривает свой револьвер: «Предмет! Наконец-то! Предмет!»
Роскошную жизнь, в которой растворяются опасность и реальность вещей, Дриё может себе позволить, так как он уже в 1917 году, во время фронтового отпуска, женился на Колетт Жерамек, дочери банкира-еврея.
(Даже став сторонником фашизма, Дриё поддерживал дружеские отношения со своей бывшей женой-еврейкой, они переписывались до конца его жизни. – прим. автора.)
Уже в 1921 году он развелся, но до 1927 года живет преимущественно за счет присужденной ему доли имущества. В 1927 года Дриё женится на не менее богатой дочери банкира Александре Сенкевич. Этот брак продлится до 1933 года, и снова Дриё после развода получит значительную сумму.
Брак с Колетт Жерамек, выведенной в романе «Жиль» под именем Мириам Фалькенберг, был результатом расчета. В этом романе Дриё описывает свои размышления:
«Дверь раскрылась. В один момент свет жизни изменился. Его охватило желание. Это светящееся существо было духом и деньгами. Тут же появилась уверенность, что все это принадлежало бы ему... Еще два дня назад он лежал в блиндаже на влажной соломе, свободный от всех забот и всех усилий; теперь он был прикован к другому миру. После ураганного артобстрела он снова видел мир богачей: женщины, дети, собаки, лошади, деревья и народ, который зависит от мира богачей: подметальщики, полицейские... Многие вещи загадочным способом связывались с богатством: прежде всего, превосходящая и мягкая мудрость, которая отражалась на золотых буквах дорогих переплетов книг Фалькенберга. Золото заголовков беспрерывно появлялось перед его глазами. Это была та же самая субстанция, что и великолепный меховой воротник той молодой дамы. Элегантные молодые дамы и ухоженные роскошные деревья. Какой контраст с деревьями Вердена».
Годы роскоши – это также годы работы. Между 1920 и 1940 годами Дриё представляет свой обширный труд – почти дюжину романов, сборники новелл, драмы, лирику – в которых отображены декаданс и война, деньги и смерть, обе эти навязчивые идеи Дриё. Параллельно к этому он развивается в проницательного диагноста своего времени, который лишь в 1934 году примет решение в пользу фашизма.
Дриё видит, как Версальский договор разрушает шанс на примирение. Европейские страны, на его взгляд, стали жертвой трудно поддающейся лечению болезни декаданса; болезни, симптомы которой он все время снова и снова исследует в своих сборниках эссе, таких как «Mesure de la France», «Genève ou Moscou», «L'Europe contre les patries». Уродство мегаполисов, возрастающие духовные и физические разрушения, упадок семьи, потеря чести и верности, неспособность правых к социальной политике, смешная иллюзия левых, что именно пролетариат, самый далекий от культуры класс, якобы может освободить человечество; отсутствие европейского великодержавного инстинкта перед лицом подъема Америки, распад колониальной империи, бесперспективность капитализма, который можно сковать в тесных границах – всеобъемлющая болезнь эпохи, как кажется Дриё, дальше всего зашла во Франции. Разве не пришлось Франции объединиться почти со всем миром, чтобы победить Германию?
Дриё осознает, что в Европе любые планы гегемонии обречены на провал. Европа может объединиться только на основе полного равноправия всех наций и учета региональных особенностей, и таким образом восстановить свое былое положение. Элиты должны пропагандировать европейскую идею, так как массы влачат жалкое существование в шовинизме. В его поздней пьесе «Le Chef» 1944 года говорится: «... перед лицом этого блока, нашей Европы, Азия, Америка и Африка превратятся в пыль...» Это объединение для Дриё возможно только с помощью решительной политики модернизации динамичного реформаторского капитализма.
Этот капитализм является для Дриё работой «шефов», менеджеров и технократов, которые могут происходить из высших классов, средних слоев, даже из пролетариата – но все они стоят по ту сторону старой имущественной буржуазии. Эту элиту все еще можно сковать устаревшими идеологиями: либерализмом, реформизмом, правоконсервативным национализмом. Она пока не способна построить промышленную цивилизацию с принадлежащей к ней уравнивающей социальной политикой и тем самым оттеснить коммунизм, в котором Дриё видит варварского наследника капитализма. На это способны только эти кадры промышленной революции: по ту сторону таможенных барьеров, демократизма, большевизма – эксплуатированного интеллектуалами восстания черни – и реформизма, который разлагает этику производства и волю рабочего класса к борьбе. Здесь уже собраны многие элементы возникших на двадцать, на сорок лет позже теорий промышленного общества; в этих текстах представляется крайне идеализируемое Европейское экономическое сообщество, и предвосхищается «Режим менеджеров» («Революция управляющих») американского ученого Джеймса Бёрнхема (1941), когда Дриё понимает большевизм, фашизм и «фордизм» как разные ответы на вызов индустриальной эпохи.
В то же время, однако, в этих работах уже заявляет о себе и фашизм. Сегодня забывают, что фашизм – не национал-социализм! – был построен людьми с технократическо-плановыми амбициями, часто ренегатами, отступниками левых: Освальд Мосли, кейнсианец, был членом Лейбористской партии; Марсель Деа и Жак Дорио – бывшие французские социалисты и коммунисты; Бенито Муссолини – выходец из довоенного марксизма; бельгийский коллаборационист Хендрик де Ман – из реформизма. Неспособность капитализма здесь всегда является исходным пунктом, а лекарством всегда представляется Великий план.
Однако идеи Дриё связаны с типичной для левого фашизма позицией «фронта против всех»: против консервативных элит, против представителей имущих слоев, против среднего класса, против реформизма, против коммунизма. Поэтому реалистическое разложение этой неопределенной концепции неизбежно; она может перейти только в культ вождя, действия, динамики самой по себе.
В январе 1934 года Дриё посещает Германию, энергия которой его пугает и привлекает. Может ли Франция сопротивляться готовой к моральному возрождению Германии? В начале февраля 1934 года он попадает в Париже в развязанные правыми уличные стычки против республики, в которых принимают участие также коммунисты. «Правая молодежь» и «Левая молодежь» объединяются, возвращается мистический момент Шарлеруа, Франция, состоящая из «дряхлости, корыстолюбия и ханжества», шатается.
Во время продолжающихся целыми днями беспорядков Дриё безуспешно пытается подстрекать приверженцев своего друга Гастона Бержери, радикально-социалистического депутата, который в 1933 году покинул свою партию и основал антифашистский «Front commun» («Единый фронт»). Как и Жак Дорио, который вскоре после этого покидает коммунистическую партию, Бержери в будущем тоже станет фашистом. У французского фашизма были также другие вожди, которые в начале своей деятельности выступали за решительные антифашистские действия и поэтому вошли в конфликт со своей партией. Несколько месяцев спустя Дриё присоединяется к кругу вокруг Бертрана де Жувенеля, в будущем Нестора французской политологии, а в то время фашистского теоретика. Еще в конце 1934 года Дриё пишет свою книгу эссе «Socialisme fasciste» («Фашистский социализм») и повторяет технократические организационно-политические идеи, не ставя при этом вопрос, как они совмещаются с требуемой динамикой действия:
«Мы не боремся ни за диктатуру пролетариата, ни за правых. Мы не боремся за патриотических капиталистов, которые не заботятся о нас. Мы не боремся за коммунистов, которые живут как паписты – с секретными приказами, поступающими сюда издалека... Мы не боремся за то или за это. Мы деремся против всех: это смысл фашизма!»
Группа вокруг де Жувенеля, журнал которой примечательным образом называется «La lutte des jeunes» («Борьба молодежи»), вскоре распадается. Но Дриё убежден: Фашизм – это единственно возможная форма общеевропейского социализма. Тоталитарная государственная партия, с помощью управления экономикой и социальной политики покончившая с классовой борьбой, скорее создаст новую форму сосуществования, чем изможденный рабочий класс. Дриё предвидит, что промышленная всемирная цивилизация, появление которой подтолкнет его фашистский социализм, могла бы стать царством скуки и бюрократии: инстинкты борьбы могли бы исчезнуть окончательно. Но вначале он очарован. Не только планом, но и варварством, «человеческим типом переломного времени», «hitlérien» («гитлеровцем»). В сентябре 1935 года он посещает Имперский съезд национал-социалистической партии:
«Увиденное мною превосходит все, что я ожидал. Это было одурманивающим и ужасным. Будущее не принесет спокойствия. Невозможно, чтобы Франция продолжала бездеятельно влачить свое существование. Прохождение торжественным маршем одетых во все черное элитных войск было высокомерно великолепным. Я не видел ничего сравнимого по артистической эмоциональности со времени русских балетов. Этот народ опьянен музыкой и танцем».
Должна ли Германия возглавить фашистскую Европу? Также и из-за этой опасности Франция должна стать сильным фашистским государством. Дриё надеется на Жака Дорио, мэра Сен-Дени, который со своей основанной в 1936 году Parti Populaire Français (PPF, Французской народной партией) добивается первых больших успехов и собирает вокруг себя недовольных и правых и левых, так же как ряд видных интеллектуалов и деятелей искусства: лауреата Нобелевской премии по медицине Алексиса Карреля, де Жувенеля, Альфреда Фабр-Люса, Марселя Жуандо, Робера Бразильяка, Люсьена Ребате, Луи-Фердинанда Селина, историка Пьера Гаксота. Радикальная социально-политическая программа этого движения, его приверженность к активным действиям и шанс с помощью его энергии отвести энергию Гитлера от Франции и направить ее против Советского Союза, делают Дриё его пропагандистом. Фашизм как освобождение к «новому человеку»: Дриё требует «реформы нравов», обновления француза, который, под влиянием рационализма и реформаторского социализма, стал жадным до наслаждений, физически слабым, односторонне интеллектуальным, потерявшим свое единство тела и души и свою первоначальную актуальность. С дифирамбическим размахом, заставляющим предположить отчаяние Дриё, он приветствует учредительное собрание PPF в Сен-Дени в июне 1936 года.
Но уже в 1938 году Дриё с разочарованием покидает распадающееся движение, в 1939 году он спешит в армию, но его не берут из-за состояния здоровья. Проигранная уже в июне 1940 года кампания делает Дриё страстным коллаборационистом. Ставшая анахронизмом, ненавистная Дриё буржуазная культура Франции сокрушена. Франция упустила революцию двадцатого столетия. И разве немецкие армии не сносили повсюду границы?
Уже осенью 1940 года Дриё пытается побудить немецкого посла Отто Абеца к созданию единой фашистской партии: напрасная надежда, которую Дриё питал до середины 1942 года. До тех пор он воспевает, в журнале «Nouvelle Revue Française», силу национал-социализма и высмеивает слабость Франции, ее стратегическую глупость, ее отсталую технику и ее буржуазию, которая настолько глупа, что страстно жаждет победы Сталина. У Франции есть только один лишь шанс: последовать за немцами по пути стимулирования жизненных сил и модернизации.
Дриё стал жертвой своего мышления в историко-философских конструкциях и своего культурно-критического резонерства. Его интересует только разрядка физически-военной силы и политической дерзости. Национал-социализм – это волна, которая разрушает дамбы обывательского, жадного до наслаждений, феминизированного мира, мира, жертвой которого сам Дриё стал с одержимо болезненной страстью. Что значит смерть миллионов, если среди фронтовиков войск СС, в которых служат все больше европейцев, возникнет новый человек – новый человек, который также заложит фундамент для все еще далекого европейского гуманизма, для мечты по ту сторону мечты?
Снова и снова Дриё настаивает на основании автономной фашистской партии социально-революционного духа, в которую можно будет включить даже коммунистов. Когда партия Дорио ставит себе эту задачу в ноябре 1942 года, Дриё, который снова примыкает к ней, знает, что это уже слишком запоздало. Полномочия Дорио невелики. После поражения Эрвина Роммеля от англичан при Эль-Аламейне исход войны для Дриё решен. Вину за это, по его мнению, несет национал-социализм, который не осознал своей миссии. Национал-социалисты вошли в союз со старыми элитами. Они проводили стерильную оккупационную политику, они забыли, что «фашизм» это только другое слово для «социализма двадцатого века». Их единственная заслуга, состоит, вероятно, в том, чтобы проложить путь коммунизму, на котором тот окончательно прикончит буржуазию. Необходимая немецкая политика должна была бы выражаться в «предотвращении любой позиции, которая хотя бы отдаленно напоминала бы политику военных завоеваний, дипломатических побед и спекуляций». Она должна была бы всюду уважать национальную автономию в политической и административной сферах.
Она не имела бы права осуществлять аннексии обычного вида. Она должна была бы освободить военнопленных и использовать оружие плебисцита, чтобы заключить прямые мирные договоры с народами. Немецкую армию следовало бы провозгласить европейской армией, а войска СС должны были стать ядром и местом встречи воинственной европейской молодежи.
«Эти армии не оккупировали бы европейские территории без мандата европейского сообщества».
Иллюзия, что это было бы возможно, показывает разницу между фашизмом интеллектуалов романских стран и немецким национал-социализмом.
Однако поражение Гитлера означало бы окончательное превращение Европы во второразрядный континент и возвращение декаданса. Но фашизм, вероятно, тоже вернется – как стиль, стимул и позиция? И воплотится ли он в Сопротивлении? Однако экстаз Шарлеруа Дриё уже больше так и не довелось испытать.
В своем убежище Дриё до новогоднего вечера 1944 года работает над абсолютно неполитическим романом, материалом для которого послужила жизнь художника Винсента ван Гога («Дирк Распе»), после этого еще пишет заметки, в которых критикует коммунистическую трактовку фашизма и поясняет его социально-революционные истоки. Мечтатель и диагност, игриво-декадентский гурман и фронтовик, романист и циник власти: Дриё ушел в смерть с полной ясностью взгляда, как он с такой же ясностью уже писал свой портрет в «Жиле», где провозгласил: «Нужно ввести в действие свои страсти и ничего иного. Применительно к разуму результат всегда опустошительный».
Гюнтер Машке
Франкфурт-на-Майне, сентябрь 2010 года
1. ВСТУПЛЕНИЕ
1.1. Предмет исследования
Когда 16 марта 1945 года экономка Пьера Дриё ла Рошеля нашла его труп в его парижской квартире в 17-м округе, совершился последний акт «радикального декадента» (Гюнтер Машке). Наряду с посланием своей первой жене Колетт Жерамек, национал-социалистический коллаборационист оставил своим служащих рукописный листок с пометкой «на этот раз позволить ему заснуть». Без сомнения, эта циничная просьба была намеком на две предыдущие и, в конце концов, неудачные попытки самоубийства в августе 1944 года, т.е. в тот момент Второй мировой войны, когда Libération («освобождение») – оттеснение немецких войск армиями союзников и частями местного движения сопротивления – достигло Парижа.
В первые недели 1945 года для Дриё ла Рошеля вместо приема смертельной дозы снотворных таблеток и отравления газом оставалась еще реальная возможность вместе с другими французскими коллаборационистами и фашистами отправиться в изгнание в Зигмаринген (Баден-Вюртемберг). Тем не менее, он отказывается от предложения к бегству в погибающую национал-социалистическую Германскую империю; в отличие, например, от вульгарного антисемита и высоко ценимого Дриё ла Рошелем писателя Луи-Фердинанда Селина (1894-1961), который затем описал это время в изгнании в Германии и в тюрьмах после окончания войны в своем романе. Другую альтернативу самоубийству, поддельный испанский паспорт, который предложил ему его друг и более поздний переводчик Герхард Хеллер (1909-1982), Дриё ла Рошель отверг еще в августе 1944 года. Даже коммунистический писатель и друг Дриё ла Рошеля Андре Мальро (1901-1976) предлагает ему что-то вроде «спасительного якоря» на послевоенное время: принятие в «Бригаду Эльзас-Лотарингия», подгруппу движения Сопротивления. Все же, в конечном счете, он отклоняет и этот выход.
Дриё уже подвел черту под своей жизнью, когда утром 15 марта из сообщения в парижской газете он узнал, что подписан приказ об его аресте. Огорченный и разочарованный он ставит точку в своей жизни, не забыв прежде подвести ее итог в «Заключительном слове»:
«Да, я – предатель. Да, я был заодно с врагом. Я принес врагу французский разум. Это не моя вина, если этот враг не был разумен.
Да, я – не обычный патриот, не ограниченный националист: я – интернационалист.
Я не только француз, я европеец.
И вы тоже таковы, неосознанно или осознанно. Но мы играли, и я проиграл.
Я ходатайствую о смерти».
Когда Дриё ла Рошель пишет эти строки, ему уже 52 года. Самыми роковыми из них были пять последних лет, когда он сотрудничает с немецкой оккупационной властью и как коллаборационист выступает против большинства его французских земляков.
Причины сотрудничества Дриё с немцами обсуждались еще при его жизни – но в особенности уже после его самоубийства. Жан-Поль Сартр (1905-1980), например, в апреле 1943 года пишет, что у Дриё ла Рошеля есть родство души с национал-социалистами, которое основывается на паре близнецов: любви к самому себе и ненависти к самому себе, и на возникающей из этого мизантропии. Историк Альфред Пфайль видит причину коллаборационизма Дриё в его вере в «разумную, указывающую путь в будущее европейскую политику немецкого диктатора». Романистка Маргарете Циммерман, впрочем, видит в том, что Дриё встал на сторону национал-социалистов, логическое воплощение его идейно-исторического сближения с фашизмом и национал-социализмом.
Если рассмотреть все три эти фактора в их связи, то получится, пожалуй, самая реалистичная картина его мотивации к коллаборационизму. Но тогда возникает вопрос о постепенном развитии мировоззрения Дриё ла Рошеля, которое нельзя ясно понять на основе его собственных высказываний, так как он всегда пытался свести вместе противоположности. Его политические идеи колебались между «нацией и Европой, социализмом и аристократией, свободой слова и авторитарностью, мистикой и антиклерикализмом», как он 3 ноября 1944 года записывает в своем дневнике.
Основой его мировоззрения, и таким образом исходным пунктом для приближения к предмету исследования, является неприятие им Французской Третьей Республики (существовала с 1871 по 1940 год), фундамент которой – буржуазное общество – вызывает антипатию у Дриё еще в бытность его подростком.
Поэтому данная работа исследует критику буржуазного общества Дриё ла Рошелем и находит место этой критики в контексте французских вариантов фашизма.
1.2. Постановка вопроса и структура работы
Основным вопросом данной работы является то, какую конкретно критику общества выражает Дриё в своих произведениях, и в какой степени эта его критика способствовала его обращению к фашизму. Из этого вытекает постановка проблемы, как – а также где – следует определить место личности Пьера Дриё ла Рошеля в рамках весьма неоднородных французских правых.
После изложения нынешнего состояния исследований вопроса (1.3.) следует более детальное ознакомление с политико-теоретическим образованием Дриё ла Рошеля через важные события его биографии (2.1.), так как мелкобуржуазное происхождение Дриё, также по его самооценке, оказало значительное влияние на его отношение к другим политически радикальным движениям, таким как коммунизм.
Также большое впечатление на молодого Дриё произвело чтение работ Фридриха Ницше (1844-1900), французское издание «Так говорил Заратустра» которого он изучал на фронте во время Первой мировой войны (1914-18). Очевидные влияния Ницше на литературное творчество Дриё ла Рошеля исследуются в этом контексте (2.2.). Очевидным является и влияние, которое оказал на Дриё ла Рошеля первопроходец французского революционного синдикализма Жорж Сорель (1844-1922). Это его центральные понятия «миф», «насилие» и, в особенности, «декаданс» мы находим у Дриё ла Рошеля (2.3.). Исследование о каком-либо французском авторе, принадлежащим к политическим правым, не может пройти мимо «интегрального националиста» Шарля Морраса (1868-1952) и романиста Мориса Барреса (1862-1923), ибо любой французский националист обязательно изучает их произведения, причем их восприятие Дриё ла Рошелем могло происходить как в отрицательном, так и в положительном смысле (2.4.).
Сорель вдохновляет, среди прочего, также конфликт Дриё с буржуазным обществом, которое он порой очень резко ругает еще в молодости, будучи попутчиком сюрреалистов вокруг Жака Риго (1898-1929), с которым он познакомился через Луи Арагона, и Андре Бретона (1896-1966), и программу эмансипации женщины, которую он осуждает как «неестественную» (3.1.). Жизнь и мышление буржуазного слоя является важным объектом критики в обоих «больших», вдохновленных биографией самого автора, романах Дриё ла Рошеля «Мечтательная буржуазия» («Revêuse bourgeoisie») и «Жиль» («Gilles») (3.2. и 3.3.).
Затем, со знаниями, полученными в ходе предшествовавшего анализа, нужно в общих чертах описать отношение Дриё к фашистской идеологии Франции. В значительной степени запутанное поле многочисленных ультраправых лиг межвоенного времени рассматривается на примере роялистско-правонационалистической организации Action Française (AF, «Аксьон франсез», буквально «Французское действие»), с которой Дриё, по меньшей мере, некоторое время поддерживал контакты (4.1.). Значительную роль в том, что Дриё встал на сторону фашизма, сыграла основанная в 1936 году Parti Populaire Français (PPF, Французская народная партия) во главе с бывшим коммунистом Жаком Дорио (1898-1945). В этой партии, в идеологии которой большую роль играли рабочие, соединились друг с другом многочисленные интеллектуалы из числа французских правых, а также ренегаты из числа крайних левых и становятся на службу «шефу» (вождю). Дриё ла Рошель работает для этой фашистской партии в качестве автора в различных журналах и в посвященном партийному вождю сборнике текстов «Avec Doriot» («С Дорио»). Таким образом, он поддерживает тесные связи личного и идеологического характера с этой партией, которую поэтому следует исследовать подробнее (4.2.).
(Эта партия никогда не называла себя фашистской, чтобы не возникали упреки, мол, она только французская копия итальянского оригинала. – прим. автора.)
Духовная позиция французских интеллектуалов 1920-х – 1940-х годов колеблется между активными действиями и отказом от них. Для задач данной работы интересны как личные и политические пересечения, так и разграничительные линии, которые можно показать по отношению к его бывшим друзьям Луи Арагону (1897-1982), Андре Мальро и Жану Полану (1884-1968) (5.1.). За взглядом на антифашистских интеллектуалов следует исследование противоположного лагеря: Кем были единомышленники Дриё ла Рошеля (5.2.)? Критическое рассмотрение французской политически активной интеллигенции приобретает законченный вид с самооценкой Дриё, которая тоже требует критического исследования (5.3.).
Чтобы избежать опасности соскальзывания в сферу чисто романистской (лингвистической) науки, анализировать мы будем исключительно политическое и общественно-критическое содержание «антибуржуа» (Михаэль Бём) Дриё ла Рошеля, не касаясь при этом весьма интересных особенностей языка его романов и эссе.
1.3 Состояние исследований и критика источников
Во Франции 1960-х годов независимо друг от друга развиваются две версии «ренессанса» Дриё. С одной стороны, он происходит в издательском плане в виде нескольких новых изданий произведений Дриё в уважаемом парижском издательстве «Gallimard», с другой стороны, следует «ренессанс» в плане политического содержания в ново-националистических спектрах радикальных послевоенных активистов, а также в изучении автора и человека Дриё ла Рошеля, которым занимается преимущественно в одобряющем ключе более молодое, послевоенное поколение правых. В 1963 году появляется апология Дриё за авторством правого регионалиста из Нормандии Жана Мабира (1927-2006), который в особенности хотел бы перенести в новые времена евронационалистические компоненты творчества Дриё и поднял Дриё ла Рошеля до уровня «культовой фигуры». До этой попытки реабилитации Дриё прошли долгие годы дистанции по отношению к писателям-коллаборационистам, так как подозрения в измене и виновности мешали объективному рассмотрению жизни и творчества Дриё ла Рошеля.
В 1966 году издательство «Ullstein» приступает к публикации немецких переводов Дриё. Сначала выходит «Жиль» («Простофили»), потом «Болотные огни» (1968), «Мемуары Дирка Распе» (1970), «Мужчина, увешанный женщинами» (1972), «Мечтательная буржуазия» (1969), «Всадник» («Боливийская мечта») (1981) и, наконец, «Тайный рассказ» (1986). В результате этого самые значительные тексты Дриё существуют на немецком языке; новых изданий нет до сегодняшнего дня.
Научное рассмотрение тематики в Германии начинается в 1968 году с ученика Эрнста Нольте Альфреда Пфайля, с его диссертацией «Французское военное поколение и фашизм: Пьер Дриё ла Рошель как политический писатель», представляющей собой богатое материалом исследование о политическом содержании трудов Дриё, с важными и по сей день сведениями о личности Дриё ла Рошеля. Также достойно внимания появившееся в 1979 году исследование Маргарете Циммерман «Литература французского фашизма: Исследование творчества Пьера Дриё ла Рошеля 1917-1942». Однако эта работа, во-первых, характеризуется ограниченным временем рассмотрения и, во-вторых, явно уделяет основное внимание лингвистическим особенностям и структурному анализу его творчества. Исследование личности Дриё ла Рошеля Мартина Эбеля занимается, в первую очередь, проблемами идентичности в его мышлении и может потому помочь более ясно понять личность Дриё.
Компактной немецкоязычной биографии его нет до сих пор. Альтернативой можно назвать работу о Дриё американского политолога Роберта Сауси, которая представляет собой вместе с тем и его наглядную политическую биографию. Сауси также в своем двухтомном исследовании о французском фашизме дает важную информацию о его идеологических принципах и кадровых структурах.
Для политических и философских основ, которыми пользовался Дриё ла Рошель, показательны, в частности, исследование декаданса Анетт Хорн и монография о Сореле Армина Мёлера. Специфические сведения о духовно-историческом мире Франции начала и середины двадцатого века тоже содержатся в исследовании. Ценный «вклад в историю французского фашизма» – так звучит подзаголовок – сделал Дитер Вольф в своем подробном исследовании о PPF «Движение Дорио», тогда как примером исследования среды французских интеллектуалов является непревзойденное – хотя и с отчетливыми оценками – произведение Бернара-Анри Леви «Авантюрные пути свободы».
Исследования личности и творчества Дриё живо продолжается во Франции до сегодняшнего дня. Фундаментальными можно назвать исследования Фредерика Гровера, логически дополненные переводчиком Эрнста Юнгера Жюльеном Эрвье. Последний также в 2009 году издал объемное и репрезентативное собрание статей Дриё ла Рошеля.
Для более глубокого рассмотрения интеллектуальных представителей еврофашизма подходят замечательные работы Ганса Вернера Нойлена, которые до сегодняшнего дня представляют собой основу для исследований панъевропейского фашизма.
Манера и способ использования спорного и многозначного термина «фашизм» ориентируется в дальнейшем на просветительские работы Зеева Штернхелля, который определяет место фашизма как «ni droite ni gauche» («ни левый, ни правый»). Штернхелль, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, понимает при этом фашизм не как чисто антибольшевистское проявление мелкой буржуазии или как «инструмент борьбы крупной буржуазии против пролетариата», а подчеркивает его идейно-историческое начало как синтез органически-националистических и антиматериалистически-социалистических идей в эпоху fin de siècle во Франции, который затем приобрел большую динамику в результате поляризующего воздействия «Дела Дрейфуса» и Первой мировой войны. Следовательно, фашизм – это уникальный, sui generis, конгломерат идеологий. Кроме того, Штернхелль отделяет национал-социализм от фашизма, так как значение расово-биологического детерминизма для идеологии национал-социалистов не позволяет, по его мнению, классифицировать национал-социализм как «радикально-фашистскую» организацию.
Работы Зеева Штернхелля полезны также в отношении конкретных исследований критики буржуазного общества у Дриё ла Рошеля. Согласно Штернхеллю, политическое видение Дриё начинается с поиска альтернативы буржуазной цивилизации и ее ценностям.
2. ПЬЕР ДРИЁ ЛА РОШЕЛЬ И ЕГО ПОЛИТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Политическая биография
Пьер-Эжен Дриё ла Рошель родился 3 января 1893 года в Париже в семье католиков из среднего класса. Его отец, юрист из Нормандии, не имеет большого успеха, но зато ведет расточительный образ жизни. Потому бюджет семьи часто страдает от больших денежных затруднений. Когда Дриё было десять лет, родился его брат Жан, с которым он всю жизнь был тесно связан, и которого он в 1945 году назначит попечителем над своим наследством. В 1910 году Дриё получает аттестат зрелости, записавшись в университет политических наук и права в Париже. Дополнительно англофил Дриё посещает курсы английского языка в Сорбонне. Молодой студент своими знаниями и усердием в работе производит впечатление на его друзей, в том числе на будущего коммунистического функционера Поля Вайан-Кутюрье (1892-1937). Потому его круг друзей поражает то, что Дриё в 1913 году не сдает экзамен по политическим наукам. После этого он просит лишить его отсрочки от призыва в армию, и в ноябре 1913 года его призывают в Парижский пехотный полк. На войне он принимает активное участие в боях на нескольких фронтах, его неоднократно ранят. В 1918 году, когда он был переводчиком при американской армии, Дриё награждают «Croix de Guerre» («Военным крестом»). Еще раньше, в октябре 1917 года, Дриё женится на дочке богатого банкира Колетт Жерамек и публикует военные стихотворения «Interrogation» («Вопрос»), которые выходят в издательстве уважаемого культурного и литературного журнала «Nouvelle Revue Française» (NRF, «Новое французское обозрение»). Этой публикации предшествуют личные контакты с авангардистами вокруг журнала Пьера Альбер-Биро (1876-1967) «Sons-Idées-Couleurs» (SIC), из рядов которых несколько лет спустя сформируются сюрреалисты. Уже здесь Дриё знакомится со своим некоторое время близким другом Луи Арагоном, который, однако, в партийно-политическом смысле, движется в противоположном направлении. Первоначальная дружба длится только до 1926 года и вскоре после этого резко превращается в настоящую ненависть. В конце концов, Арагон в 1944 году в «Aurélien» («Орельен») изобразит Дриё как предателя, доносчика и пособника палачей.
В марте 1919 года, после шести лет военной службы, Дриё ла Рошеля демобилизуют в гражданскую жизнь. Его принимают на работу в редакцию NRF, и он ведет также активную писательскую и журналистскую деятельность для других авангардистских журналов. Благодаря этому сотрудничеству Дриё знакомится также с Андре Бретоном, «отцом сюрреалистов».
Молодой Пьер Дриё ла Рошель в форме Первой мировой войны
В 1920 году Дриё при обоюдном согласии разводится с женой и получает из ее имущества 400 000 франков. После того, как в 1920 году публикуется его следующий сборник стихов, в 1922 году выходит его первое политическое эссе «Mesure de la France» («Мера Франции»), в котором он подвергает критическому рассмотрению последствия французской победы в Первой мировой войне и указывает на существующие острые общественные и национальные проблемы.
На протяжении последующих лет Дриё – постоянный гость различных кафе и борделей. Его странная слабость быстро и часто менять женщин станет в 1925 году темой его романа «Мужчина, увешанный женщинами», в котором Дриё с примечательной открытостью разоблачает бессмысленную пустоту такой жизни, хотя это является важнейшей частью и его собственной жизни.
После нескольких поездок в Северную Африку, Италию и Австрию Дриё в 1927 году женится на Александре Сенкевич, тоже дочери богатого банкира. Уже через четыре года пара снова расстается по личным, отнюдь не по политическим причинам. И этот развод тоже происходит с обоюдного согласия.
В 1930 Дриё ла Рошель отказывается от предложенного его другом Морисом Мартеном дю Гаром (1896-1970) членства во французском Ордене Почетного легиона, Légion d'honneur. Причиной этого Дриё называет непреодолимые противоречия с буржуазной Францией. Год спустя, когда Дриё был близок к социалистической партии Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO, Французская секция рабочего интернационала), он публикует эссе «L'Europe contre les patries» («Европа против отечеств»), в которой он предвещает конец эпохи суверенных национальных государств Европы в пользу единого континентального государства. В следующем 1932 году Дриё ла Рошель по приглашению его партнера по переписке Виктории Окампо отправляется в путешествие по Латинской Америке и выступает перед местными учеными и преподавателями с докладами о «кризисе демократии в Европе». Эта поездка, похоже, еще больше политизировала Дриё. После возвращения он в поисках «третьего пути» по ту сторону большевизма и капитализма заигрывает сначала с радикально-социалистическим «Front commun» (Единым фронтом) Гастона Бержери (1892-1974), пока несколько месяцев спустя не порывает с ним и с его союзом. Февральские события 1934 года оказывают большое влияние на его биографию. Во время Аферы Ставиского (финансово-политическая махинация с фальшивыми чеками на 200 миллионов франков, устроенная евреем Александром Стависким вызвала политический кризис во Франции зимой 1933-1934 годов) в Париже вспыхивают беспорядки, переходящие в уличные бои, инициированные первоначально ультраправыми лигами. Дриё видит шанс морального обновления «слабой Франции» путем синтеза агрессивной правой и коммунистической молодежи, которые действительно вместе – правда, только кратковременно – буйно борются против республики. Это соединение противоположных элементов Дриё, пребывающий в те дни в настоящем восторге, называет фашизмом.
Начиная с марта 1934 года, Дриё ла Рошель представляется на публике как «фашист» и пишет несколько статей для основанного Бертраном де Жувенелем (1903-1987) нового журнала «La Lutte des Jeunes» («Борьба молодежи»), который выходит, впрочем, на протяжении всего лишь нескольких месяцев.
Жак Дорио (1898-1945) в машине и его приверженцы на Елисейских полях
Опубликованные в этом журнале статьи Дриё в 1934 году издает в сборнике под характерным заголовком «Socialisme fasciste» («Фашистский социализм»).
С 1934 по 1936 годы свежеиспеченный фашист путешествует по национал-социалистическому Рейху – Дриё в полном восторге, даже руководство посещенного им концентрационного лагеря Дахау представляется ему образцовым. Также он посещает Италию, Венгрию, Чехословакию и Советский Союз. Эти поездки укрепляют его чувство, что фашизм является самым многообещающим и перспективным движением Европы.
В июне 1936 года Дриё ла Рошель принадлежит к членам-учредителям Parti Populaire Français под руководством Жака Дорио. Но уже через два года он в разочаровании выходит из партии, так как ему не нравятся безоговорочные демонстрации симпатии к Гитлеру со стороны Дорио в ходе Судетского кризиса. В последующие годы Дриё больше посвящает себя своим романам и публикует, сначала сокращенное цензурой, свое самое выдающееся произведение «Gilles» («Жиль»).
В 1940 году, после быстрого поражения Франции, Дриё безуспешно ходатайствует перед своим другом Отто Абецем (1903-1958), немецким послом в Париже, об образовании единой фашистской партии. Между 1940 и 1943 годами Дриё ла Рошель возглавляет редакцию NRF, осенью 1941 года с Робером Бразильяком (1909-1945), Жаком Шардоном (1884-1968) и другими французскими писателями снова посещает национал-социалистическую Германию («Встреча поэтов в Веймаре»). Сначала Дриё воздерживался от любой партийно-политической агитации, прежде чем во второй раз стал членом PPF в октябре 1942 года, чем и дал своим землякам оправданную причину для ненависти к себе, как он сам подчеркнуто говорит своему другу Пьеру Андрё (1909-1987).
Внутренне Дриё все больше дистанцируется от национал-социалистического немецкого правительства, сущность и «стерильный шовинизм» (Ганс Вернер Нойлен) которого он многие годы не мог правильно понять. Дриё ла Рошель напишет в июле 1944 года – опубликованный только посмертно – «Bilan fasciste», («Фашистский баланс»), в котором он подвергает немецкую оккупационную политику острой критике.
С 1944 года Дриё ла Рошель работает над совершенно неполитическим романом, содержанием которого является жизнь нидерландского художника Винсента ван Гога (1853-1890). Начиная с января 1945 года, он находится в кризисе смысла и временно прекращает писать.
Затем 13 марта 1945 года Дриё пишет в своем дневнике: «Я, вероятно, снова возьмусь за последние страницы «Дирка Распе»! Из-за мании заканчивать что-то уже начатое».
Два дня спустя он умер. Оставшиеся незаконченными «Mémoires de Dirk Raspe» («Мемуары Дирка Распе») выходят как итог только спустя годы после его смерти.
Жизнь Дриё колебалась между коллаборационизмом и патриотизмом, между теорией и практикой, а также между промискуитетом и культом мужественности.
2.2. Ранний поводырь: «учитель Фридрих Ницше»
Чрезмерный культ мужественности (virilité) у Дриё ла Рошеля был вдохновлен, без сомнения, Фридрихом Ницше. Основывающийся на идее «сверхчеловека» эпос «Так говорил Заратустра» восторженный Дриё прочитал уже в четырнадцать лет, в возрасте, когда человек еще слишком легко поддается влиянию. Семь лет спустя, в 1914 году, он снова штудирует это произведение Ницше.
Учение Ницше о «сверхчеловеке» сопровождает Дриё всю его жизнь. В 1907 году это произведение придает первые характерные черты ему и его юношескому бунту против буржуазной среды, воспринимающейся им как «неподвижная, закостеневшая», т.е. против той части общества, выходцем из которой был он сам. Вследствие этого, несмотря на воспитание в католическом интернате, для ранней социализации Дриё основные мысли Ницше оказались куда важнее, чем те ценности, которые представляли христианско-буржуазные учителя. Дриё сам констатирует это в 1922 году в своей статье в правой парижской еженедельной газете «La Revue Hebdomadaire» («Еженедельное обозрение»), когда он так говорит о своих духовных отцах: «Tous venant multiplier le coup formidable que j'avais reçu à seize ans à Oxford: Nietzsche. J'admire en réfléchissant aujourd'hui, comme tout a conspiré à me donner un enseignement réactionnaire». ) («Все усилил тот огромный толчок, который я получил в 16 лет в Оксфорде: Ницше. (Дриё изучал в Оксфорде английский язык как студент по обмену.) Размышляя об этом сегодня, я восхищаюсь, как произошло все это, что дало мне реакционное образование».)
Влияние Ницше на принципиальную картину политики и человека у Дриё нужно расценивать как решающее.
Фридрих Ницше (1844-1900) в 1882 году
В своих первых литературных попытках Дриё, военных стихотворениях, таких как «Interrogation», мы уже встречаем осколки ницшеанского взгляда на мир как принципиального одобрения войны и насилия, упрощения социальных принципов до принципа приказывающих и повинующихся, эстетизации политики, а также основных черт антирационалистической жизненной философии. Этот антирационализм очаровывает Дриё ла Рошеля. В его широко задуманном эссе «Notes pour comprendre le siècle» («Заметки для понимания века») он ссылается на важность разрыва Ницше с абстрактной манерой рационалистического мышления. Вместо него дальнозоркий Ницше, по словам Дриё, восстановил единство мышления и действия, которые были утрачены в философии двух предыдущих столетий. Для Дриё больше нет никакого сомнения, что Ницше является «prophète du XXe siècle» («пророком двадцатого века»).
В последующих произведениях Дриё ла Рошеля мы снова и снова как на лейтмотив наталкиваемся на героев романа, которым свойственны «force» (сила), «puissance» (власть) и «domination» (властвование). На другой стороне стоят люди, которые либо добровольным подчинением, либо индивидуальной неспособностью, недостатками и слабостями укрепляют и подтверждают иерархию «chef-peuple» (вождь-народ). Позже главному герою в романе «Жиль» Дриё дает понять, что прагматичный скептицизм представляет собой прекрасную школу бдительности, значительно превосходящую марксистскую философию становления.
Тезис Ницше, что именно комбинация массы и идеализма в сочетании с ощущением справедливости и идентичности стала краеугольным камнем для посредственности буржуазного общества модерна, тоже вошел в мир идей Дриё.
Огромное значение имела также теорема декаданса, которая издавна была вездесущим предметом в романах и эссе Дриё ла Рошеля.
(Научное определение декаданса проблематично ввиду расплывчатости этого понятия. Но так как у Дриё представление о декадансе проходит красной нитью по всей его жизни и творчеству, то без упоминания этой темы здесь обойтись нельзя. – прим. автора.)
И тут снова Ницше, который подробно посвятил себя этому феномену в рамках своей критики культуры, и подразделяет его на три стадии. Как первую он определяет ослабление биологической жизненной силы в соответствии с идущей к упадку жизни, вторая стадия это моральное падение из-за либеральных переоценок ценностей, а третья – «дегенерация» культуры до «голой цивилизации».
Жорж Сорель, «ключ ко всему политическому мышлению современности» (Уиндем Льюис), заходит в своей теории декаданса дальше Ницше. В биологически-психологически обоснованной модели Ницше он уделяет большее значение культурно-пессимистичным компонентам.
2.3. Генератор идей Жорж Сорель: декаданс, миф, насилие
По мнению Жоржа Сореля, буржуазия прошла через трансформацию. Эта лишенная связности совокупность граждан покидает уровень производительной предпринимательской касты и занимается пассивным «потреблением», вместе с чем и происходит потеря ее моральной ценности.
Сорель, который, по словам самого Дриё, наряду с Ницше и Моррасом принадлежал к его непосредственным духовным отцам, к его духовной семье, чувствует отвращение к либеральному буржуазному миру и к его структурным рамкам. Разумеется, из-за этого Сорель отнюдь не марксист; наоборот, Сорель пытается освободить социализм от марксистской интерпретации и создает революционный, ревизионистский социализм, в котором классовая борьба разжигается не партией, а в форме всеобщей забастовки рабочих против ведущих капиталистов «плутократии», которая, по мнению Сореля, представляет собой «самую ненавистную фазу декаданса». В акте революционного насилия, напротив, появится миф, который заставит ставшую декадентской буржуазию осознать аморальность своего существования.
Характерным для мировоззрения Сореля является резюмирующая цитата его «самого верного ученика» Пьера Андрё: «Из марксизма Сорель сохраняет только классовую борьбу. [...] Сорель гораздо больше атакует буржуазию, чем капиталистический способ производства. Он резко критикует все социалистические системы, но не капитализм».
Жорж Сорель (1847-1922)
Здесь легко можно обнаружить параллели с Дриё ла Рошель, который, впрочем, защищает своеобразное определение капитализма. Для него капитализм неразрешимо связан с современной промышленной цивилизацией, включая свойственный ей социальный порядок. По мнению Дриё погибнет только европейско-либеральная версия капитализма, ибо она неразделимо связана с буржуазным обществом. (Дриё подразделяет капитализм межвоенного времени на четыре формах проявления: европейский либерализм, американский сверхкапитализм, советский государственный капитализм и итальянский фашизм.)
Как и у Сореля радикально-оппозиционное отношение к существующим политическим и экономическим отношениям в существенной мере подпитывается неприятием либеральной буржуазии и всех ценностей и манер поведения этой среды, а не отрицанием капиталистического способа производства как такового. Для Дриё ла Рошеля капиталистический способ производства представляет собой даже адекватный социо-экономический порядок двадцатого столетия, причем под «capitalisme», он, конечно, понимает корпоративную модель, подобную модели итальянского фашизма.
В изменчивой жизни Сореля, в этом поле напряжения между революционным синдикализмом и революционным консерватизмом, была трехлетняя фаза сближения с французскими правыми, которая началась в 1910 году с занятия Сорелем двумя группировками этого спектра: литературным движением Renouveau Catholique («Католическое обновление») во главе с Шарлем Пеги (1873-1914), которым в рамках данного исследования можно пренебречь, так как его направление было христианско-консервативным и не было связано с Дриё, а также «интегральными националистами» Action Française (AF, «Французское действие»), самыми известными деятелями которого были Леон Доде (1867-1942) и главным образом Шарль Моррас. Открыл двери Сорелю в АF националист-синдикалист Жорж Валуа (1878-1945), стремившийся к тому же синтезу идей Сореля и Морраса, т.е. синдикализма и националистического роялизма.
В основанном в 1911 году, и уже тремя годами позже развалившемся Cercle Proudhon («Кружке Прудона») – согласно Зееву Штернхеллю, эмбриональной клетке французского фашизма – встречаются, наконец, те интеллектуалы, которые поддерживают этот идейный синтез. Сорель в это время даже пишет статью для одноименной газеты AF, но уже в 1913 году он все больше дистанцируется от Шарля Морраса, к которому Сорель ввиду его основных тезисов в рассуждениях о насилии всегда относился с сомнениями.
2.4. Шарль Моррас и интегральный национализм
Представитель интегрального национализма и страстный германофоб Шарль Моррас – одна из ключевых фигур французских крайних правых, буквально «spiritus rector французского правого национализма» (Штефан Бройер). Он обобщил духовно-исторические корни французских консерваторов, контрреволюционеров и националистов с Французской революции 1789 года и разработал свою доктрину, представляющую собой основную программу Action Française. Шарль Моррас черпает свой национализм из своих замечательных знаний истории Франции и убеждения, что его страна представляет собой наилучшее воплощение на практике идеи национального государства. Тем не менее, горизонт Морраса совпадает с французскими границами страны, так как традиционализм осознанно игнорирует современное развитие индустриализируемого массового общества двадцатого века.
Армин Мёлер, эксперт по французским правым, видит в своеобразной идеологии Морраса, этом «здании, построенным вдали от действительности», последний большой апогей французской правой идеологии. Кроме него Мёлер считает определяющим для французских правых 1930-х годов влияние еще трех видных деятелей. По его мнению, ими были Морис Баррес, Жорж Сорель и... Пьер Дриё ла Рошель.
Сам Дриё встречается с Моррасом лишь дважды и только на несколько минут, но на протяжении всей своей жизни выражает уважение к его трудам, хотя и считает государственно-философские и контрреволюционные компоненты идей Морраса устаревшими и деструктивными политическими концепциями. Но если Дриё заботит современное положение страны, то Моррас ностальгирует по дореволюционной эпохе восемнадцатого века, по «старому режиму» (Ancien régime), что Дрие, хоть и вполне может понять, но ввиду развития современного общества, тем не менее, считает возвращение «старого режима» невозможным.
Шарль Моррас (1868-1952) за своим письменным столом в 1930-х годах
Организация «Аксьон франсез» (AF, «Французское действие») была основана в 1899 году как реакция правых кругов на «Дело Дрейфуса». Ее структуры быстро растут, потому уже через несколько лет AF располагает собственным университетом, издательством и развивает разнообразные действия с помощью нескольких газет. Во время режима Виши AF предоставляет себя в распоряжение старому маршалу Петэну, который является поклонником Морраса. Распущенная в 1944 году как опозоренная коллаборационистская партия, повторно основанная «Аксьон франсез» представляет собой сегодня маргинальную группу на краю крайних правых.
(Об AF, к примеру, можно прочитать у профессора Эрнста Нольте в его книге «Фашистские движения». 7-е издание, Мюнхен, 1979 год. – прим. автора.)
Шарль Моррас, а также «буланжист» (сторонник генерала Жоржа Буланже (1837-1891), выступавшего за войну реванша против Германии, потерпев ряд поражений на выборах и попав в финансовые затруднения, Буланже в 1891 году застрелился) и позднее руководитель Ligue Patriotes («Лиги патриотов») Морис Баррес, придерживаются, кроме того, мнения, что Франция представляет собой нечто совершенное, законченное, которое нужно сохранить и защитить от «чужих» влияний. Поэтому нужно согласиться с Альфредом Пфайлем, когда он классифицирует патриотизм Дриё как «простое чувство тесной связи с людьми его поколения и его языка», тогда как национально-народническое направление Морраса или Барреса скорее напоминает национал-социалистическую доктрину «крови и почвы», которая приводила Дриё в большое смятение.
Кроме того Дриё, который с 1922 года выступает за идею объединения Европы, видит в мелкой буржуазии, которая в большинстве своем распределяется между AF и социалистами, носителя тех самых шовинистических идей и милитаризма, которые в своем европейском измерении в 1914 году и привели к мировой войне. Здесь интересы Морраса и Дриё неизбежно сталкиваются. Последовательность этого фундаментального расхождения во мнениях достигает апогея, в конечном счете, после поражения французов в 1940 году в активной агитации Морраса в пользу правительства Виши на юге, в то время как Дриё предпочитает Париж и, таким образом, немецкую оккупационную зону на севере Франции, так как ему чужда роялистско-националистическая фиксация Морраса на прошлом.
Результат интенсивного изучения Дриё позиций Шарля Морраса неоднороден. В 1939 году в фашистской еженедельной газете «Je suis partout» он, во всяком случае, подчеркивает, что на его теоретическое политическое образование в молодежи существенно повлиял также и Моррас:
«Avant 1914, j'étais farouchement antidémocrate: l'influence de Maurras se fait sentir à chaque page et dans maint petit feuillet intercalé. Après la guerre, j'essayai de réagir contre mes premiers jugements, en partie sans doute parce qu'ils me paraissaient trop scolairement inspirés par les lectures de l'Action française. Vain effort, puisque aujourd'hui, ce sont les premières gloses qui reprennent toute mon attention émue». («До 1914 года я был рьяным антидемократом: влияние Морраса было видно на каждой странице и даже на маленьком, засунутом между страниц листке. После войны я попытался реагировать против моих первых оценок; конечно, частично и потому, что они казались мне вдохновленными чтением Action française. Ненужные усилия, так как сегодня есть первые интерпретации, которые снова поддерживают мое взволнованное внимание».)
Следовательно, Дриё ла Рошель перенимает от него, прежде всего антидемократическую позицию и убеждение, что успешно управлять судьбой страны может только элита. Но если для аристократа Морраса во главе этой элиты стоит король, то аристократу Дриё это представление кажется устаревшим, и с 1934 года он все больше испытывает симпатию к фашистскому культу вождя. Также Дриё ла Рошель критикует отсутствие у мэтра критики общества – Моррас уклоняется от нее, так как, по его мнению, фундаментальная ревизия последствий 1789 года уже сама по себе восстановила бы желанный иерархический порядок. Но для Дриё современное массовое общество – уже необратимый факт; его различные формы проявления и его фатальные воздействия на сохраненные по традиции общественные отношения станут лейтмотивом романов Дриё.
3. КРИТИКА ОБЩЕСТВА В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРИЁ ЛА РОШЕЛЯ
Критика общества у Дриё ла Рошеля в наиболее существенной степени проявляется в трех его романах: в «Мужчине, увешанном женщинами», в «Мечтательной буржуазии» и в «Жиле». Особую роль играют «Болотные огни». Потому что если названные три романа представляют собой в значительной мере литературную интерпретацию автором положения в семье его родителей и, таким образом, также и его собственной ситуации, где Дриё, прежде всего, с помощью своего главного героя подвергает фундаментальной критике буржуазное общество, то роман «Болотные огни» описывает последние недели жизни и самоубийство поэта-сюрреалиста Жака Риго, выведенного в романе под именем тридцатилетнего Алена Леруа, который как наркоман погибает в психиатрической клинике. Но уже в последнем абзаце романа, этого «действительно редкого эстетического достижения» (Фредерик Гровер), звучит некоторое презрение к легкости безделья и ограничению смысла жизни рамками лишь материального успеха, когда отравленный и ожесточенный пустотой и бессмысленностью жизни в большом городе Ален готовится к самоубийству:
«Хорошо упершись, затылок на подушке, ноги твердо прижаты к спинке кровати. Грудь изогнута вперед, голый. Известно, где находится сердце.
Револьвер, он твердый, он из стали. Это предмет. Наконец-то, наткнуться на какой-то предмет».
Одна из найденных после смерти Дриё рукописей содержит слова прощания к Риго – поэтому в новом издании и в немецком переводе они были добавлены к первоначальному тексту «Болотных огней» в качестве эпилога. Дриё направляет эти слова непосредственно к прежнему другу и редактору журнала «Littérature»:
«Деньги. Успех. Ты должен был выбирать только между грязью и смертью.
Смерть, это было то, что ты действительно мог бы сделать лучше всего, убедительнее всего».
3.1 «Мужчина, увешанный женщинами»
Образ женщин в произведениях Дриё ла Рошеля характеризуется двойственностью: с одной стороны jeune fille (девушка), или же femme honnête (достойная уважения, порядочная дама) и с другой стороны, их аморальный антипод, putain (шлюха, проститутка). Если девушка воспитана аккуратно и как будто «бестелесна», асексуальна, то проститутка символизирует для Дриё и его героев чисто телесное понятие, чистую похоть, и хоть и существует в разных образах, однако, без какого-либо человеческого компонента помимо вожделения. Отношению Дриё к женщине как таковой с учетом психоаналитических методов Мартин Эбель посвятил обширную главу своей диссертации. Очевидно, что в романах Дриё женщина существует только в ее отношении с мужчиной; как мать, жена, возлюбленная, проститутка – но никогда как автономное существо.
Ниже мы исследуем на примере романа «Мужчина, увешанный женщинами» компонент женщины, прежде всего, как общественного существа и ее роль в буржуазном обществе, которое Дриё воспринимал как декадентское.
Роман «L'Homme couvert de femmes», вышедший в 1925 году в издательстве Гастона Галлимара и посвященный Луи Арагону, рассказывает историю молодого человека Жиля, который с одним своим другом едет в путешествие из Парижа в провинцию и поселяется там на даче; у него происходят различные сексуальные приключения с часто меняющимися партнершами, которые сами являются молодыми посетительницами или соседками дома.
В этом романе нет четкого политического измерения; вместо этого Дриё ла Рошель пытается описать доходящую до абсурда жажду наслаждений у героев романа, как Жиля, так и женщин, особо заостряя тему женской эмансипации в современном буржуазном обществе; эмансипации как «отделения от природы» путем «обобществления» женщины.
Временные жители роскошной дачи живут в роскоши и потреблении, они «ели и пили, как будто бы они хотели жить, как будто они не хотели умирать». У Жиля есть связи с несколькими женщинами, но он, все же, чувствует себя уже «через несколько дней в одиночестве». Между актами плотской похоти Дриё заставляет героев своего романа – всегда лишенных стимулов и инициативы помимо половых сношений – становиться самокритичными и отчужденно анализирующими, например, когда Жиль ощущает сочувствие и одновременно презрение к образу жизни его попутчиков, пока он размышляет о том, что он как ненасытный любовник, несмотря на это, и сам тоже является частью всей этой мерзости.
Через несколько дней после этих размышлений кутила Жиль раскрывает душу в беседе с одной из дам: «Я не для приличных женщин, буржуазных, не для дам из общества. Я люблю проституток». Позднее Жиль говорит самому себе: «Нет сомнения, я чувствую отвращение к буржуазным дамам и к женщинам из общества [...]». Двойственность сущности женщины, а также ее двойная общественная роль проявляются здесь снова: как ангел и дьявол или как буржуазная женщина и как проститутка. С критическим взглядом на привычки проституток неспособный любить Жиль видит исключительно их присущее путанам стремление к буржуазной добродетели и признанию. Сам Жиль отказался от классической, «высокой» любви, и понимает удовлетворение своей похоти в борделях и в недолговечных интрижках с женщинами как капитуляцию перед изменившимися общественными отношениями, в которых женщина утратила свое «естественное предназначение» как существа, преданного мужу и семье.
В последующем эпизоде в провинции для Жиля все больше становится понятной его настоящая проблема. Он не способен к привязанности, а также к постоянным отношениям, и он не находит в акте любви истинного осуществления, каждая женщина для него является фальшивой. С другой стороны, в момент отъезда он замечает быстро приближающийся страх остаться в одиночестве. Жиль описан как жертва, в какой-то мере как пленник отчужденности буржуазным обществом «классической» женщины и любви.
Дриё ла Рошель подчеркивает в 1942 году в своем послесловии к роману «Жиль» моралистическое значение своих книг «Drôle de Voyage» («Странная поездка») и «Мужчина, увешанный женщинами», в которых он «хотел разоблачать и клеймить».
Если центральная тема в «Мужчине, увешанном женщинами» это декаданс буржуазной сексуальности во время после Первой мировой войны, то «Мечтательная буржуазия» в своей субстанции дает больше материала для анализа политически мотивированной общественной критики у Дриё ла Рошеля.
3.2. «Мечтательная буржуазия»
Первый роман Дриё ла Рошеля, который, по его мнению, «считался» таковым, т.е. удался в писательском плане, это «Мечтательная буржуазия». Эта книга вышла в Париже в 1937 году, через три года после смерти отца автора (мать умерла еще в 1925 году) и через год после вступления Дриё в основанную Жаком Дорио в июне 1936 года Parti Populaire Français.
В целом «Мечтательная буржуазия» – это атака на декаданс буржуазного общества, которым Дриё был по-настоящему одержим. В то же время это обвинительный акт против его собственных родителей, в особенности, против отца Эммануэля, который для Дриё олицетворяет типичного буржуа. Эта книга – описание в форме романа ситуаций, в которых рос Дриё как ребенок и юноша; его брат, Жан Дриё ла Рошель, тоже это подтверждал.
У отца, который встречает нас в романе в образе Камиля ле Пенеля, есть только единственная сила: его мужественность, которую он проявляет в эротических любовных связях со своей женой и другими дамами. В остальном он – как и отец Дриё – не особо успешный адвокат, который может лишь как можно скорее растрачивать небольшое имущество семьи. Камиль ле Пенель целиком и полностью поддался гедонизму. В поведении «типичного» декадентского буржуа Камиля Дриё ла Рошель хочет критиковать буржуазию как таковую, которая, будучи эвдемонической и никчемной, ведет страну к упадку. Таким образом, этот роман – роман упадка, неисправимого упадка всего буржуазного общества Франции, которое по своему соизволению растрачивает деньги на удовольствия, и где стремление к индивидуальному счастью сменило некогда нравственные ценности среднего класса – для Дриё, к примеру, это трудолюбие и вера. Буржуазный класс больше не стремится к достижениям и добродетели, так звучит критика автора, он лишь наслаждается и потребляет.
Дриё описывает распад ставшей «мечтательной» буржуазии с перспективы стороннего наблюдателя. Рассказчицей является дочь Камиля Женевьева, которая, впрочем, в начале действия даже еще не родилась, и которая появляется в качестве рассказчицы только в четвертой из пяти глав. Друг Андре Мальро и бывший директор уважаемого и богатого традициями литературного журнала «Mercure de France» Гаэтан Пикон (1915-1976), обосновывает выбор такой перспективы рассказа в своем эссе, включенном в немецкий перевод романа, близостью Дриё к его героине Женевьеве и дополняет, что Дриё не способен позволить в своих книгах говорить кому-то другому, кроме самого себя.
Сюжет романа начинается во времена после 1890 года, когда во Франции противоположность деревни и крупного города еще приносит в повседневную жизнь резкие различия. Камиль ле Пенель чисто по расчету женится на милой и доброй Агнес Линель, дочери состоятельной и консервативной семьи из Нормандии. Таким путем он приобретает значительное имущество. Но порядок в семье быстро распадается. Эта пара вместе переезжает в порочный мегаполис, «этот злой рок» сельской среды, означающий атомизацию и обособление, в Париж. Там известный своими изменами бабник Камиль поддерживает любовную связь с одной неимущей женщиной, которой он оплачивает маленькую квартиру и дает деньги на жизнь. Камиль думает, что получит у своей любовницы необходимое чувство защищенности от озлобленности мира, которое он не может найти у Агнес. Агнес из стыда и чувства долга по отношению к их общим детям, сыну Иву и дочери Женевьеве, неспособна подать на развод. Только ее отец, состоятельный архитектор, своими финансовыми пожертвованиями спасает семью от материального разорения.
Оба ребенка подрастают и на своем опыте узнают образ жизни их отца, и стоическое страдание их матери, которое прерывается только приступами отчаяния.
Ив, который, несмотря на значительные достижения в университете – как и Дриё – проваливается на выпускном экзамене по юридическим и политическим наукам, впадает в маниакальную депрессию из-за поведения своего отца и становится по отношению к нему чужим. Неспособность Камиля навести порядок в его профессии и финансах, становится для него роковым. Отец спутницы жизни Ива Эмми исследует семейные связи своего будущего зятя и разоблачает образ жизни Камиля ле Пенеля, который за прошедшее время влез в огромные долги. После этого Эмми отворачивается от Ива. В 1913 году Ив поступает в армию в африканский полк; год спустя он, сам ищущий смерть, стремится на Первую мировую войну и уже в том же году умирает после ранения в бою.
Только Женевьева сохраняет еще в себе надежду на лучшую жизнь по ту сторону ханжеского поведения ее родителей и порывает с буржуазной обстановкой: она становится театральной актрисой.
«Rêveuse Bourgeoisie» – это трагический роман о семейном горе и «социальном декадансе» в основной общественной опоре Третьей республики, буржуазной среде. Эта среда вращается вокруг себя самой, только лишь потребляя и не понимая своей проблемы, и приходит к краху. В образе дочери Дриё ла Рошель показал свое видение возможного спасения: Выход состоит в бескомпромиссном неприятии и преодолении буржуазных условий и моральных представлений.
3.3. «Жиль»
За «Мечтательной буржуазией» последовал опубликованный в 1939 году после обработки цензурой и вышедший в 1942 году в полном виде роман «Gilles» («Жиль») – «самое захватывающее признание, которое сделал писатель о себе самом». «Жиль» – это, без сомнения, наиболее часто читаемая и в политическом плане самая значительная книга Пьера Дриё ла Рошеля, произведения которого при жизни пользовались лишь посредственным успехом. Природа романа двусторонняя; с одной стороны, он политический: путь раненого на войне солдата, возвратившегося на родину, который, будучи сначала денди в нелюбимой им Третьей республике, через свои эротические и литературно-политические опыты развивается в человека «действия», «прямой акции», и вместе с тем, как это было неизбежно для Дриё, в фашиста. С другой стороны, этот роман, это «свидетельство бессильной ненависти» (Гюнтер Блёкер), обладает и психологическими контурами. Потому что заглавная фигура почти пятисотстраничного тома, Жиль Гамбье, пребывает в состоянии отчаянных душевных конфликтов, которые существенно влияют на жизнь Жиля, и о которых читателю сообщается без обиняков.
(Сходство имени главного героя «Gilles» с именем героя «Gille» из «Мужчины, увешанного женщинами» не является случайностью. Дриё сам пишет в послесловии к «Gilles», что воспользовался основными чертами «первого» Gille при его концепции второго Gilles. Gille – это таким образом, что-то вроде первой ступени или шаблона Gilles. Само же слово «Gilles» как таковое на французском языке означает также «простофиля», «недотепа», «балаганный шут» или даже просто «дурак».)
Если американский историк Джордж Л. Мосс определяет центральной темой романа культ мужественности и «философию молодости и силы», то Пьер Андрё верно замечает, что на «Жиль» очень сильно повлияла одержимость автора просто сказать все в этом «главном романе» его творчества.
Разнообразие тем простирается от военного опыта возвращающегося на родину солдата (1918) через эротику, литературу, сюрреалистов и жизнь в кругах интеллектуалов, до парижских событий февраля (1934) и Гражданской войны в Испании (1936-38). В 1942 году Дриё ла Рошель дополнительно подчеркивает значимость декаданса также и в этом произведении, когда в послесловии к «Жилю» особенно отмечает «уничтожающий факт» декаданса, которому он хочет противостоять.
В этом декадансе герой Дриё Жиль Гамбье видит, следовательно, также и своего главного врага, хотя, по меньшей мере, в первых трех из четырех частей романа он сам воплощает часть того, что он, по его утверждениям, презирает.
Жиля Гамбье в биографической интерпретации частично понимают как близкое к оригиналу отображение самого Дриё ла Рошеля. Также и другие центральные фигуры романа, сюрреалисты Сириль Галан (его прототипом был Луи Арагон) и Каэль (Андре Бретон), радикальный социалист Жильбер де Клеранс (Гастон Бержери), Прёсс (Эммануэль Берль, 1892-1976), Мириам Фалькенберг (Колетт Жерамек) и марксист Грегуар Лорен (Жан Бернье, 1894-1975) идентифицируются с людьми из реальной жизни. Верно, что реальные личности в полной мере послужили образцами для героев романа, хотя те и не во всем соответствуют своим прототипом. Следовательно, в целом роман можно охарактеризовать как автобиографический; например, в нем в литературной форме показан личный опыт Дриё, в частности, его отношения с Арагоном и Бернье. Одновременно были предприняты литературно мотивированные дополнения или изменения биографий. Даже главного героя Жиля, в котором можно узнать скрытые стороны Дриё ла Рошеля, Дриё структурно отделяет от самого себя, делая своего героя сиротой, воспитанного своенравным и уже довольно пожилым нормандским отшельником Карентаном. Именно Карентан также снова и снова вступает в романе в контакт с Жилем. В следующих из этого диалогах между обоими северными французами Карентан характеризуется как ожесточившийся сторонник радикальных правых, который усиленно посвящает себя религиозным вопросам и, кажется, уже отрекся от Франции. Очевидно под его влиянием, у Жиля Гамбье проявляются явно антисемитские черты, так же как критика современного буржуазного общества в «Жиле» тоже несет антиеврейский подтекст. Влияние Карентана становится ощутимым, когда ставший парижанином Жиль еще в первой части книги («Отпуск») едет к Карентану, чтобы тот одобрил его брак по расчету с богатой молодой еврейкой. После откровенного описания ситуации Жиль раскрывает истинную «проблему»: еврейские корни крещеной в католичество Мириам. После подробного объяснения своей позиции по отношению к евреям, включая основанную на религии критику рационализма и идеологии, Карентан произносит примечательную фразу: «Лично я не могу переносить евреев, так как для меня они воплощают современный мир, к которому я чувствую отвращение».
(Дриё ла Рошель вообще тяготел к обобщениям и к абсолютизации. Потому любой еврей у него «еврей вообще», любой капиталист – «капиталист вообще», любой марксист – «марксист вообще». – прим. автора.)
Наконец, Жиль, который вначале приводит противоположные примеры, считает себя убежденным и признает правоту Карентана: «К сожалению, это ужасная правда, что ты говоришь о евреях и о модерне. Мириам слишком «испорчена наукой»«.
Бракосочетание, тем не менее, состоялось, но Жиль своими любовными похождениями больно ранит уважающую его Мириам. Ее отец через несколько недель после свадьбы совершает самоубийство. Брак распадается спустя несколько лет.
Сплетение антиеврейских чувств с критикой общества модерна становится неоднократным и нескрываемым. Например, когда Дриё заставляет своего героя Жиля Гамбье рассуждать о том, «что в слюне декаданса всегда можно найти их [евреев, Б. K.] слова». Или когда Жиль дополняет, что творческая артерия европейцев засохла и поэтому уступила место для «еврейского багажа».
Во второй части («Елисейский дворец») Жиль Гамбье вращается в сюрреалистической группе «Бунт». В этой части Дриё изображает циничную и порой сатирическую картину сюрреалистов, с лидерами которых он дружит несколько лет. Интриги и сенсационные акции характеризуют эту часть, в которой Жиль Гамбье благодаря своим связям получает штатную должность на Кэ д'Орсе (МИД Франции). Жиль обосновывает свое участие в поступках деструктивных сюрреалистов вокруг Каэля и Галана отчаянием, так как он в далеком, деградирующем окружении видит силу в одном лишь разрушении.
Первоначально неспособный к любви Жиль влюбляется в это время в замужнюю американку Дору Ридинг, и когда она отвергает Жиля, то глубоко ранит его душу.
(Интересно, что и сам Дриё в середине 1920-х годов влюбляется в американку Констанс Уолш, которая не испытывает к нему взаимности и оставляет его. – прим. автора)
Параллельно с неудачей в любовных отношениях в контексте аферы вокруг президента и его сына отчужденность от сюрреалистов приобретает все более отчетливые черты, когда во время одного собрания «Бунта» Жиля обвиняют в предательстве их дела. Этот опыт и поворот группы, этих «одичавших обывателей» (Жиль), к марксизму, заставляет Жиля порвать с ними.
После волнений с «Бунтом» Жиль на время уезжает в Алжир, чтобы отдалиться от Парижа. Все же и здесь неизбежно: история с женщиной. Жиль знакомится в местной чайной с проституткой испанкой Полиной, которая бросает свое дело ради Жиля и едет вместе с ним в Париж.
Жиль, чувствующий себя опустошенным после экстаза войны, после бездарной жизни в наслаждениях и флирта с сюрреалистическими мечтателями, обращается к новому «сильному блоку»: к политике. Так как он, кроме того, должен материально обеспечивать жизнь Полины и себя самого – деньги Мириам Фалькенберг давно израсходованы – Жиль решает издавать журнал. Названием журнала он выбирает «Apocalypse», и именно так Дриё ла Рошель называет также третью часть романа. С помощью своих контактов, которые он приобрел как парижский бонвиван, Жиль с самого начала привлекает группу постоянных абонентов, позволяющих журналу регулярно выходить. Тексты, в большинстве случаев написанные в форме памфлета, атакуют капитализм и демократию, науку и современную технику, так как Жиль принял решение «разрушить это общество».
Жиль с успехом пытается привлечь к сотрудничеству своего старого друга марксиста Лорена, которого из-за близости к анархизму исключили из коммунистической партии. Из этого развивается политический спор, в котором Дриё позволяет своему герою Жилю представить, несомненно, позицию самого автора:
«Я хочу сказать, что я хочу разрушить современное общество так же, как марксисты, хотя я и не верю в марксизм, даже полностью его отвергаю. Против этого общества нужно создать боевую силу, добровольческий корпус, свободный от любых доктрин».
Здесь в романе впервые звучит основная цель Жиля, идентичная с целью Дриё ла Рошеля: создание «нового» типа мировоззрения, которое освободится от «старых» идеологий и сможет представить что-то новое, чтобы победить существующее – воздействующее как нерациональный «социальный радикализм» (Гельмут Плесснер). Жиль в соответствии с этим продолжает и подчеркивает на марксистском, по сути, жаргоне свое намерение устранить буржуазно-капиталистическое общество, чтобы восстановить, теперь уже решительно антимарксистски, «понятие аристократии».
При этом средством для достижения цели на пути к созданию нового политического движения должен стать Клеранс, влиятельный депутат парламента от радикальных социалистов, легко поддающийся влиянию со стороны его друзей-интеллектуалов. К тому же, Клеранс является для Жиля ключом для вхождения в более высокие круги общества. Жиль, который, как и Лорен, хотел бы использовать колеблющегося радикального социалиста в своих целях, надеется, что сможет убедить Клеранса в необходимости новой партии и придает своей антидоктринерской точке зрения отчетливые контуры:
«Я вижу перед собой твою партию, это должно стать нашей партией. Партия, которая национальна, но не националистическая, которая покончит со всеми предубеждениями и шаблонами правых, и которая социальна, но при этом не социалистическая, которая проводит реформы, не попадая в колею какой-либо доктрины. Я всегда думал, что этот век – век теорий, а не доктрин».
Жиль, который тем временем женился на беременной от него Полине, с немногочисленными сотрудниками его «Apocalypse» отправляется на конгресс радикальных социалистов, которых он считает высшим проявлением декадентской мелкой буржуазии. Тем не менее, он надеется на еще не испорченную часть партии, которую Клеранс должен убедить выйти из партии. Надежды расцветают на короткое время, когда «бурные аплодисменты» вознаграждают Клеранса за его критику внутреннего положения в партии, прежде чем партийный руководитель Шанто в своем основном докладе переубеждает партийцев и внезапно разочаровывает ожидания Жиля. Затем Клеранс покидает партию без программы на будущее. Спустя несколько недель на созванной Клерансом встрече разочарованных социалистов, коммунистов и Жиля Гамбье, хозяин преследует новую стратегию; он пробует себя в антифашизме, который в будущем должен объединить левых. Как ни парадоксально, как раз в тот момент, когда Клеранс бурно атакует проявления фашизма в Германии и Италии, Жиль замечает, что он все время был в поисках собственного фашизма и спрашивает себя, почему он еще раньше и интенсивнее не интересовался фашизмом.
В этом месте повествования – после четырех пятых частей книги – в романе «Жиль» впервые появляется еще расплывчатое слово «фашизм». После собрания Жиль безуспешно пытается убедить своего радикально-социалистического друга в необходимости основать французский фашизм. Только на второй встрече в изысканном доме Клеранса Жиль во время одной дискуссии между различными флангами участников собрания понимает, что с ними нельзя создать никакой фашизм, так как они, по его мнению, стерильны, и жизненная сила во Франции постепенно пропадает.
Жиль прекращает выпуск «Apocalypse», чтобы под заказ писать статьи для других журналов. Между тем его жена Полина, потерявшая еще не родившегося ребенка при операции, ведет бесперспективную борьбу со смертью. Рак в животе – это позднее последствие ее прежней жизни. Здесь проявляется неуступчивая позиция Дриё по отношению к «грехам» «обобществленной» и «отчужденной от природы» женщины, и раскрывается его убеждение, что жизнь не прощает таких ошибок.
Жиль Гамбье убегает в другой мир. Он, как и Дриё в это время – в начале 1934 года – путешествует по Центральной и Восточной Европе. Когда наступает февраль, Дриё в Польше получает телеграмму от его жены, что она очень скоро умрет. Он спешит домой. В Париже в это время начинают проявляться последствия аферы Ставиского. 6 февраля Жиль Гамбье неторопливо и без особенных ожиданий прогуливается по центральным улицам города, он еще думает, что так или иначе не может случиться ничего важного, хотя массы разгневанных парижан уже собираются перед правительственными зданиями.
Журналисту, который спрашивает у Жиля его мнение о происходящем, он холодно отвечает:
«Единственный вопрос: как поведут себя коммунисты? Если бы националистам удалось побудить их к временному союзу против радикалов, тогда во Франции могло бы кое-что случиться».
Когда происходят стычки и объединение на Площади Согласия, восхищенный Жиль Гамбье чувствует, что он снова вернулся в чрезвычайные обстоятельства Первой мировой войны, и спешит к Клерансу, которому воодушевленно сообщает, что коммунисты вместе с националистами атакуют Республиканскую гвардию. Жиль требует от Клеранса, чтобы он проявил, наконец, инициативу и принял участие в акциях протеста, чтобы обеспечить таким образом симпатии в обоих радикальных лагерях, как среди агрессивных борцов Action Française («Французского действия») и Jeunesses Patriotes («Молодых патриотов», так называлась организация с фашистскими симпатиями, основанная в 1924 году Пьером Тэттинже (1887-1965), по всей Франции она насчитывала более 90 000 членов) со стороны радикальных правых, так и у молодых коммунистов противоположной стороны. Клеранс должен немедленно создавать «боевые группы», которые должны будут приступить к активным действиям без политической программы и догмы, и затем любой ценой осуществлять насильственные акции. Жиль Гамбье в ярости говорит самому себе:
«Атакуй Даладье или защищай его, но с совершенно конкретными мероприятиями. Захватывай по очереди одну правую газету, а потом одну из левых. Прикажи избить того или другого в его доме. Но, прежде всего, откажись от рутины старых партий, призывов, собраний, газетных статей и речей. И ты сразу создашь могущественное объединяющее движение. Барьеры между правыми и левыми будут разрушены навсегда, и потоки жизни разольются во всех направлениях. Разве ты не чувствуешь, как наполняется, прибывает поток? Он уже здесь, перед нами, его можно направить в желаемом направлении, но им нужно сразу же управлять, любой ценой».
Клеранса мало воодушевляют путаные идеи Жиля, и, тем не менее, не он противопоставляет Жилю некий факт, но другой, кто с твердой уверенностью заявляет Жилю: – Вы фашист, господин Гамбье, на что тот с почти своенравным упрямством отвечает: – Еще бы!
Развитие Жиля Гамбье закончено, по меньшей мере, в политическом отношении. Если характер, а также внутренние конфликты Гамбье сначала описываются на нескольких сотнях страницах, то теперь они идеологически цементируются и инструментализируются.
Последняя беседа Жиля с Клерансом 7 февраля тоже заканчивается ничем, как и усилия по образованию общего фронта из коммунистов и фашистов остаются чистой утопией. Для Жиля это конец. Символически это обозначено смертью Полины на следующий день: «Франция умерла в то же время, когда умерла Полина», констатирует рассказчик. И Жиль с огорчением отмечает, что националистические демонстранты 6 февраля были в той же мере обмануты своими косными, негибкими в духовном плане руководителями, что и молодые коммунисты и социалисты своими вождями во время последующих левых революционных демонстрациях 9 и 12 февраля.
Рассказчик перескакивает через последующие три года в жизни Жиля. Только в разгар Гражданской войны в Испании, в которой французский фашист Жиль Гамбье участвует под именем бельгийского фашистского добровольца Пауля Вальтера, роман находит свое продолжение как четвертая часть, эпилог.
Жиль, к тому времени разведчик на стороне испанских фалангистов, сначала переживает приключение, которое приводит его из Барселоны на остров Ибица. Там он сталкивается с ирландцем Оливером О'Коннором и поляком Станиславом Забуловским, оба они добровольцы в рядах Франко, как и он сам. Три фашиста ведут жаркие дебаты о фашизме и о его отношении к католицизму, о концепциях Европы и о возможности преодоления мелкобуржуазного национализма. Буржуазное общество вместе с его декадансом и нивелированием теперь больше не интересует Жиля, он чувствует себя участником героического крестового похода против мезальянса из демократов, анархистов-синдикалистов и коммунистов. Он – часть прямого действия, и так книга заканчивается тем, как Жиль берет в крепости оружие и идет к амбразуре, после чего следует трезвое, заключительное замечание рассказчика: «Он целился хорошо».
На переднем плане этого «самого значительного произведения фашистской литературы», которое заканчивается вымышленным фашистским упоением, нет никакой французской националистической пропаганды в духе Шарля Морраса, но зато есть тезис о том, что буржуазное общество безвозвратно пало жертвой декаданса и посему обречено на неизбежную смерть.
(Вымышленным, фиктивным это фашистское упоение можно назвать потому, что сам Дриё так и не предпринял последнего, логического шага в своем идеологическом формировании. Он, правда, был военным корреспондентом от PPF в Испании, но в боях личного участия не принимал. Потому если первые три части «Жиля» вполне можно назвать основанными на автобиографии автора, то заключительная часть романа остается чистым вымыслом. – прим. автора.)
Только фундаментальное моральное и политическое обновление могло бы спасти чахнущую Францию. Следовательно, нужно согласиться с биографом Дриё и знатоком его творчества Фредериком Гровером, когда он утверждает, что роман «Жиль» представляет собой «обвинение против буржуазного общества и одновременно осуждение современного мира» с точки зрения Пьера Дриё ла Рошеля.
4. ПОЗИЦИЯ ДРИЁ ЛА РОШЕЛЯ В ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ФРАНЦИИ
Из-за нетипичного для однозначно националистических и ультраправых групп и партий неприятия Дриё ла Рошелем национального шовинизма (он еще в 1922 году (в «Mesure de la France») заявил, что эпоха суверенных национальных государств в Европе закончилась), трудно идеологически классифицировать этого фашиста-индивидуалиста, включив его в одну из многочисленных фракций французских правых межвоенного времени. Это оказывается еще тяжелее и по той причине, что основной опорой правых в период между войнами была, в первую очередь, французская буржуазия, которую Дриё, сам выходец из этой среды, беспощадно критиковал.
Из-за большого разнообразия проявлений крайних правых во Франции между 1918 и 1940 годами не имеет большого смысла искать и доказывать возможные идеологические пересечения или противоречия к любой региональной или надрегиональной активной группе. Тем не менее, представляется полезным разобрать вопрос о личной и идеологической позиции Дриё по отношению к Action Française и Parti Populaire Français, так как эти организации по сравнению с другими достигли самого большого уровня известности и воздействия, и часто упоминаются в политических декларациях Дриё. Кроме того, в PPF он даже дважды вступал.
4.1 Дриё ла Рошель и Action Française
Основанное в 1899 году движение Action Française (AF, «Французское действие») занимает промежуточную позицию во французском правом радикализме. «Между» двумя лагерями эта организация находится потому, что она, происходящая от старых правых, уже имела «ранние фашистские» черты, и в лице «Camelots du Roi» (буквально: «Королевские зазывалы», обычно переводится как «Королевские молодчики») как первая французская партия правых радикалов располагала – пусть и небольшим по численности – готовым к насилию отрядом уличных боевиков. Следовательно, AF показывает несколько характерных черт фашистского движения – партийная армия, антисемитизм, антилиберализм, национализм, антипарламентаризм, но отличается от обычного фашизма своей элитарной, неороялистской авторитарной и контрреволюционной традиционалистской идеологией, целью которой была скорее ревизия «1789» и гегемония над Германией и Центральной Европой, нежели создание «нового человека» в тоталитарном государстве, опирающемся на массовое движения.
«Справа» от AF стоят, среди прочего, совсем маленькие фашистские партии и PPF; «слева», что в этом контексте нужно понимать как умеренные, можно назвать, к примеру, насчитывающий много членов (в 1935 году – 700 000) союз бывших фронтовиков «Les Croix de Feu» («Огненные кресты», основан в 1927 году, в 1936 под давлением государства переименован во Французскую социальную партию, Parti Social Française, PSF) во главе с подполковником Франсуа де ла Роком (1886-1946), который радикальные правые, фашисты, отвергали как «длинную руку правых оппортунистов».
Ученый Герман Хофер видит близость Дриё ла Рошеля к Action Française на протяжении всего периода с 1918 по 1939 годы. На это следует возразить, что с 1936 по 1938 годы Дриё был активным членом PPF (Французской народной партии), габитус и программа которой в корне отличается от программы AF; но, более того, это высказывание не может быть правильным и для предшествующего 1936 году времени. Вместо этого правильно лишь то, что его спор с AF выходит за рамки этого межвоенного времени. Семью Дриё – он сам описывает ее как националистическую, республиканскую и католическую – разделяет с AF монархизм последней, и сам Дриё на протяжении своей жизни видит в монархизме непреодолимый барьер на пути сближения с AF: «Монархист никогда не может быть настоящим фашистом[...], потому что монархист никогда не может быть человеком модерна: у него нет ничего от беспощадности и варварской простоты модерна».
Здесь снова можно диагностировать, что Дриё защищает убеждение, что Шарля Морраса и идеологически следующую за ним AF следует рассматривать как часть контрреволюции, которая стремится назад, «в прошлое», а не «в будущее». Даже если Дриё – как и Моррас – воспринимает модерн как декадентское явление, фашист стремится к овладению и управлению фактом «модерна», в то время как AF утверждает, что сможет остановить и повернуть вспять процесс развития в современное массовое общество.
Дриё был в послевоенное время близок к Action Française, но причина этой близости была вполне прагматичной: он расценивает AF, которая в течение ряда лет после победного исхода войны в 1918 году пребывает в своем апогее, как самый сильный блок справа, способный остановить «коммунистическую опасность».
Идеологически Дриё отделяет от AF наряду с роялистским принципом последней также воинствующий национализм и шовинизм по отношению к немцам, а также непрерывный отказ руководителей AF осознать главную, на взгляд Дриё, проблему 1920-х и 1930-х годов, социальный вопрос.
Тем не менее, Дриё ла Рошель в сентябре 1939 года в своем религиозном и политическом завещании («Testament religieux et politique») неожиданно заявил о своей приверженности к AF и Mоррасу. Это можно объяснить, в принципе, только ошеломившим Дриё началом войны и политическим одиночеством его личности, так как в конце 1938 года он покинул PPF после ссоры с партийным лидером Дорио и искал себе политическую опору. Через несколько недель после составления религиозного и политического завещания и начала немецко-французских боевых действий Дриё в соответствии с этим снова как можно скорее дистанцируется от Морраса и посылает ему письмо, в котором открыто и необычайно откровенно высказывает острую критику и самого Морраса и его отношения к европейскому вопросу.
Впрочем, подтрунивающего над Дриё Шарля Морраса это мало беспокоит. Для него представители молодой, литературной гвардии французского правого радикализма и фашизма, от Робера Бразильяка до Дриё ла Рошеля и Люсьена Ребате (1903-1972) – все предатели, так как они охотно сотрудничают с «заклятым врагом» – Германией.
(Люсьен Ребате, бывший сотрудник AF, опубликовал самую успешную книгу времен коллаборационизма – роман «Руины». Разочарованный Моррасом и Петэном Ребате вскоре повернулся в сторону фашизма. – прим. автора.)
Для фанатичного антисемита и германофоба Морраса теперь начинается – если не считать Петэна, который высоко его ценит – время изоляции.
4.2. Отношения с партийным фашизмом: PPF и Жак Дорио
Последняя большая яркая акция AF Морраса – это столкновения в Париже 6 февраля 1934 года, которые были начаты совместно с другими правыми союзами и организациями, и которые Дриё воспринял с воодушевлением. Но в ходе беспорядков, однако, быстро стало ясно, что долгосрочный победитель февральского кризиса – политические левые, которые временно объединяются против опасности фашизма в основанном в 1935 году Народном фронте. Хотя после отставки Эдуарда Даладье власть переходит в руки «правительства национального единства» во главе с консерватором Гастоном Думергом (1863-1937), но уже в 1936 году Народный фронт Леона Блюма (1872-1950) выигрывает выборы. Одним из первых внутриполитических действий Блюма на посту премьер-министра стал запрет в июне 1936 года всех радикально-правых и ультраправых союзов и лиг.
В этой атмосфере возникает новая ультраправая партия, заявленная цель которой представляет собой синтез из национальных и социальных элементов – Parti Populaire Français, Французская народная партия. 28 июня она празднует свое основание на «встрече в Сен-Дени» (Дриё ла Рошель). Руководитель партии Жак Дорио, которому в тот момент было 38 лет, квалифицированный слесарь, бывший член исполнительного комитета Коммунистической молодежи Франции и Parti Communiste Français (PCF, Французской коммунистической партии), был с 1931 по 1937 год мэром парижского рабочего предместья Сен-Дени. Как ни парадоксально, в июне 1934 года его противник Морис Торез (1900-1964) исключил Дорио из PCF за то, что тот во время февральских уличных беспорядков в Париже на свой страх и риск создал в маленьком масштабе антифашистский народный фронт с социалистами, чтобы мобилизовать рабочий класс против правых. Но так как сотрудничество с умеренными левыми, которых высмеивали как «социал-фашистов» было до 1935 года запрещено московским руководством Коммунистического Интернационала (Коминтерна), Дорио нарушил тем самым партийный устав и дал возможность своему вечному конкуренту в борьбе за пост председателя партии и верному сталинисту Торезу исключить его из компартии.
На учредительном собрании PPF в большом зале ратуши Сен-Дени, которое происходило перед несколькими сотнями приглашенных гостей, уже можно увидеть, что политически сверхактивный Дорио помимо рабочих обращается и к другому слою: молодым интеллектуалам различных политических направлений. Наряду с Дриё ла Рошелем, который сразу же верит, что в PPF произойдет так чаемое им мистическое слияние правых и левых элементов, и видит в Дорио так долго ожидаемую им фигуру вождя, к членам-основателям партии относятся также писатель и журналист Бертран де Жувенель, бывший коммунист Поль Марион (1899-1954), сторонник учения Жоржа Сореля Пьер Андрё и выходец из сферы промышленности Пьер Пюшё (1899-1944). Несколько позже к ним присоединяются другие амбициозные интеллектуалы, такие как неосоциалист Альфред Фабр-Люс (1899-1983) и бывший коммунист Рамон Фернандес (1894-1944), которые придают партии идеологический профиль. Уже 28 июня Дриё ла Рошель становится членом центрального комитета PPF, из круга которого формируется вышестоящее политбюро. Начиная со дня основания и до 18 ноября 1938 года, Дриё каждую неделю писал передовую статью, которая публиковалась на второй странице партийной газеты «L'Emancipation Nationale» («Национальное освобождение»). Серия статей, содержанием которых было героизированное изображение прежней жизни Дорио, выходит под заголовком «Avec Doriot» («С Дорио») уже в 1936 году. Но стержневой тезис пропаганды Дриё в пользу PPF – это всегда представление, что фашизм как универсальный феномен представляет собой наиболее адекватную теорию дальнейшего развития социализма девятнадцатого века, так как фашизм, в отличие от того «старого» социализма, охватывает более сложные, комплексные экономические и социальные обстоятельства двадцатого века.
Определение образа врага происходит в верном соответствии с фашистской направляющей линией, так как либерализм и марксизм характеризуются как равным образом рационалистические и материалистические, и потому их нужно отбросить. В этой ежедневной газете PPF, которая в то время (1936-38) выходила самым большим тиражом – в среднем 130 000 напечатанных экземпляров, Дриё подчеркивает, кроме того, представление партии, что католической церкви как потенциальному союзнику в борьбе за цельный облик человека («un système de pensée complet») подобает занять достойное место в «новой Европе».
Что касается «question juive», «еврейского вопроса», то Дриё выступает как представитель мыслительного антисемитизма, что уже отмечалось нами выше при рассмотрении его романа «Жиль». Еврей, которого Дриё без колебаний использует в качестве козла отпущения за общественный разлад и непорядок, представляет для него прообраз человека модерна, который в жажде наслаждений и оторванности от жизни бежит в декаданс и вследствие этого воплощает гибнущую эпоху буржуазного общества, за которой, по мнению Дриё, последует фашистская революция морали, общества и государственной системы.
1937 год, когда PPF насчитывает еще около 137 000 членов, характеризуется для партии Дорио попыткой образовать «Фронт свободы» против коммунизма. После первоначальных успехов переговоров с конкурентами – от буржуазных правых и ультраправой крестьянской партии «Parti Agraire» фермера Пьера Мате (1882-1956) до неосоциалистов вокруг Марселя Деа – переговоры в конце года, наконец, заходят в тупик из-за отказа «Parti Social Français» (Французской социальной партии) Франсуа де ла Рока основать союз. Правая народная душа Франции кипит в очередной раз, потому что национальный единый фронт снова терпит крах из-за сепаратистской позиции де ла Рока.
Но годом позже перед PPF возникают уже другие, жизненно важные для партии проблемы. 1938 – это год, когда Германская империя объединяется с Австрией в Великую Германию и несколько позже в результате Мюнхенского соглашения в ходе политики умиротворения получает еще и населенные судетскими немцами области Чехословакии.
Отношение Дорио к национал-социалистической Германии было с самого начала противоречивым. С одной стороны, коммунистический ренегат восхищается жесткой антибольшевистской, и вместе с тем антисталинской позицией Гитлера и осуществленной им «новой формой [...] коллективной жизни», с другой стороны, социально-революционного фашиста гнетет страх перед германским антифранцузским империализмом. В 1936 году лозунгом PPF еще остается «Ни Берлин, ни Москва!», и она ориентируется скорее на итальянский фашизм, но во время Судетского кризиса Дорио колеблется и затем демонстрирует свою самую полную поддержку требований немцев. Для Дриё ла Рошеля это стало поводом для выхода из партии в ноябре 1938 года. С наступлением нового 1939 года за ним следуют де Жувенель, Марион, Пюшё и еще некоторые другие. Неуверенная, медлительная позиция Дорио, которую, в конце концов, сменяют симпатии к Гитлеру, наряду с предложениями о сотрудничестве, с которыми Дорио обращается к буржуазным правым, приводят к окончанию деятельности Дриё в партии. Дриё горько разочарован, и в письме на четырех страницах упрекает бывшего выбранного им вождя в том, что своим право-реакционным и – в уничижительном смысле – буржуазным антикоммунизмом и сближением с Гитлером тот дезавуировал французский фашистский эксперимент.
После поражения ненавистной Третьей республики в июне 1940 года, которое Дриё приветствовал, он, однако, прозаично воспринимает введенную в южной «свободной» части Франции патриархальную форму государственного правления во главе с маршалом Петэном, его слишком сильно беспокоит практикуемая национально-авторитарным государством Виши романтика прошлого. После того, как желание о создании единой фашистской партии Франции не находит никакого отклика у немецких ответственных лиц в Париже и Берлине, наоборот, Дриё с подачи своего друга немецкого посла Отто Абеца получает в свои руки руководство журналом «Nouvelle Revue Française».
(С франкофилом Абецем, в то время основателем немецко-французского молодежного «Зольбергского кружка», Дриё познакомился еще в 1933 году, задолго до того, как Абец в 1940 году стал послом Германии в Париже. На посольской должности Абец был главным ответственным за литературу и публицистику в оккупированной зоне и действовал как цензор, пользуясь при этом большим уважением со стороны пронемецких правых и фашистских интеллектуалов. – прим. автора.)
До конца 1942 года Дриё занимается этой работой и дополнительно пишет отдельные статьи для фашистских органов печати («La Gerbe», «Le Fait», «Je suis partout»). Темами этих статей является война и будущая послевоенная Европа под немецкой гегемонией. Так как значительная часть буржуазии далеко не с полным воодушевлением относится к немецкой оккупационной власти и не хочет «фашизировать» Францию, а обращает свои симпатии к большевистскому Советскому Союзу, буржуазия снова вызывает негодование Дриё:
«On verra les sanglants idiots de la bourgeoisie faussement catholique, faussement nationale, faussement libérale, à jamais passer sous silence les millions victims politiques de Lénine et de Trotsky, les milliers de fusillés de Staline, les millions de détenus en Sibérie qui attendant leur délivrance». («Можно увидеть кровавых идиотов из буржуазии, фальшивых католиков, фальшивых националистов, фальшивых либералов; как они замалчивают миллионы политических жертв Ленина и Троцкого, тысячи расстрелянных Сталиным, миллионы заключенных, которые в Сибири ждут своего освобождения».)
Наряду с недовольством собственными земляками, у Дриё возникает разочарование немецкой оккупационной политикой и отсутствием европейской программы у национал-социалистических вождей. Постепенно Дриё ла Рошель уже не видит в немцах «освободителей» от демократии и либерализма, а усматривает в них завоевателей старого стиля, которые совсем не заинтересованы в создании фашистского государства во Франции, так как оно стало бы самостоятельной величиной в Европе. Также самой решительной партии коллаборационистов, PPF, немцы едва ли хоть как-то содействуют, а в лучшем случае лишь терпят ее. Тем не менее, Дриё появляется на «Congrès du Pouvoir» («Конгрессе силы») Дорио, в котором с 4 по 8 ноября в Париже принимают участие примерно 7000 делегатов, и сидит на трибуне правления рядом с бывшим активистом французской компартии и сотрудником Коминтерна Виктором Бартелеми (1906-1985). Дриё во второй раз вступает в PPF. На этот раз в полном осознании того, что будет принадлежать к ненавистной партии, которая без успеха среди своих земляков, без поддержки со стороны правительства Виши и немецких оккупационных властей влачит свое мятежное существование и скорее похожа на секту фанатиков. Жест упрямства, в момент, когда и Дриё понимает, что его видение «Europe fasciste» («фашистской Европы») провалилось. В 1943 году Дриё бросает редакцию NRF и отныне в качестве автора пишет статьи для еженедельника «Révolution Nationale» («Национальная революция») Люсьена Комбеля (1913-1995). PPF между тем продолжает влачить жалкое существование, среди прочего, и потому, что ее партийный лидер Дорио и твердое ядро воинственно настроенных членов в это время уже ищут свое предназначение на немецком Восточном фронте в качестве добровольцев Légion volontaires français contre le bolchévisme (LVF, Французский добровольческий легион против большевизма). Оставшиеся во Франции члены партии, количество которых с военными потерями и отступлением держав «Оси» непрерывно уменьшается, должны, кроме того, бороться с атаками движения Сопротивления, число которых с 1943 года быстро растет и достигает апогея в 1944 году, в год высадки союзников в Северной Франции. Только в июне 1944 года было убито 270 активистов PPF. После Libération (освобождения) Парижа видные представители коллаборационизма – как например, Дорио и Деа – были вывезены в Зигмаринген. Дриё, в отличие от них, нет. Также в этом моменте он склоняется к абсолютизации: все или ничего, победа или смерть. На свои похороны в самом узком кругу Дриё приглашает только аполитичных женщин и лево-социалистических интеллектуалов, но никого из членов или сочувствующих PPF.
5. МЕЖДУ АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ И ОТКАЗОМ ОТ НЕГО: ДРИЁ И ФРАНЦУЗСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
Политические события в Европе между окончанием Первой и окончанием Второй мировой войны непосредственно отражаются на позиции французских интеллектуалов того времени. Самое позднее, после поляризующих восстаний в феврале 1934 года, но в основных чертах уже после 1918 года, друг другу непримиримо противостоят две политические позиции. Филофашистские и исконные фашистские интеллектуалы, большей частью ставшие в будущем коллаборационистами (видным исключением был де ла Рок, который после поражения продолжал борьбу с немцами и был вследствие этого арестован), противостоят антифашистским писателям, которые как сочувствующие социализму и коммунизму в годы оккупации между 1940 и 1944 открыто или тайно агитируют за Сопротивление. Между ними находится основанная Полем Дежарденом (1859-1940) еще в 1892 году ассоциация интеллектуалов с республиканско-государственническими взглядами «Union pour la vérité» («Союз за правду»), члены которой выводили свои позиции из базовых принципов гуманизма и хотели защищать либеральную демократию от любых тоталитарных стремлений. Кроме того, существует еще одно течение в политическом мышлении интеллектуалов, нонконформизм, возникший в окружении интеллектуального кружка «Ordre Nouveau» (ON, «Новый порядок») и национально-революционного «Jeune Droite» (JD, «Молодые правые»); Дриё ла Рошель, по меньшей мере, временно агитирует в журнале «ON Combat» в пользу последнего.
Дриё ла Рошель, как блистательная личность, поддерживает активный идейный обмен особенно с представителями радикальных и крайних позиций. К его временным друзьям в межвоенные годы относятся, тем не менее, не только фашисты как Робер Бразильяк или левые как Андре Жид (1869-1951), но и испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) и британский писатель Олдос Хаксли (1894-1963).
В человеческом плане ближе всего к Дриё ла Рошелю были, иногда до его смерти, творческие умы как справа, так и слева, как Луи-Фердинанд Селин и, еще больше, такие характеры как Андре Мальро или Жан Полан.
5.1 «Враждебные братья»? – писатели-антифашисты
Наряду с Мальро и Поланом, особо важную роль в жизни Дриё ла Рошеля сыграл Луи Арагон. Они познакомились, когда Дриё летом 1916 года получил отпуск с фронта, и, приехав в Париж, встретился там с Арагоном. Всего годом позже, в августе 1917 года, Арагон стал одним из первых рецензентов на первое произведение Дриё «Interrogation», которое с большим трудом проходит цензуру из-за братского посвящения немецким врагам. Возникает дружба, в начале которой оба будущих антагониста вращаются в среде дадаистов и сюрреалистов. Вместе с Эммануэлем Берлем и Жаном Бернье оба возвратившихся домой с войны солдата особенно часто бывают в литературных кафе столицы. Но их дружба длится только до 1926 года. В этом году главные фигуры сюрреалистов входят в PCF (компартию), в том числе и Луи Арагон. Дриё, который в трех открытых письмах сюрреалистам резко критикует их выступление на стороне коммунизма, в одном из этих писем в статье с заголовком «La grande erreur des surréalistes» («Великая ошибка сюрреалистов») обращается непосредственно к Арагону. Главный тезис критики – это допущение Дриё, что хотя коммунисты и олицетворяют политическую веру недовольных, но сами они ждут только того, чтобы самим получить привилегии. Кроме того, в это время Дриё еще считает, что интеллектуал и художник должен оставаться в своей профессии, тогда как сфера политики представляет чужой для него мир. Одновременная деятельность как писателя и как политического активиста привели бы, на его взгляд, к взаимной блокаде обоих этих сфер деятельности.
Арагон, который еще в 1924 году посвятил Дриё свое произведение «Le Libertinage», на критику сюрреалистов со стороны Дриё насмешливо отвечает, что, мол, Дриё не понимает масштабные взаимосвязи и широкие контексты. Доходит до разрыва, который в будущем приведет к появлению «Aurélien» и отображению Арагона в образе Сириля Галана в романе «Жиль». При всей ясности идеологической противоположности Арагона и Дриё остается общее для них неприятие статус-кво буржуазного общества и то, что каждый из этих двух писателей существовал одновременно как «homme de pensée» (человек мысли) и в то же время как «homme d'action» (человек действия).
Луи Арагон (1897-1982)
Арагон и Дриё презирают реальность жизни французского общества, оба делают ее центральной темой своих основных романов, оба стремятся к активному участию в тоталитарной партии, чтобы преодолеть общество Третьей республики – Арагон с 1926 года, Дриё на десять лет позже. Но если в финале общественной критики Дриё его главного героя ожидает «l'esprit fasciste» (фашистский дух), то Арагон отдает предпочтение пробуждению марксистского социализма; в то время как Дриё последовательно идет до конца по пути коллаборационизма, Арагон со своей стороны после поражения Франции как партизан-»маки» борется против национал-социалистической оккупационной власти и ее французских пособников. Это два противоположных пути, которые, тем не менее, обнаруживают несколько аналогий.
Через год после разрыва прежней дружбы Дриё знакомится с Андре Мальро. Писатель-экзистенциалист Мальро – левый, как и Арагон, тем не менее, он лишь в 1933 году приходит к коммунизму. Как летчик Мальро активно сражается в Испании на Гражданской войне против объединения фалангистов и карлистов во главе с Франсиско Франко, но уже в 1939 году порывает с партийным коммунизмом из-за своего разочарования подписанием советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа).
Дриё и Мальро с 1927 по 1943 год проводят друг с другом много времени за долгими политическими дискуссиями и беседами о положении литературы. Роберт Сауси и Фредерик Гровер исходят из того, что Мальро, который после Второй мировой войны станет голлистом, даже был для Дриё ла Рошеля самым лучшим другом. В пользу этой гипотезы наряду с частыми встречами обоих говорит и то, что Дриё в 1943 году по просьбе Мальро и его жены стал крестным отцом их второго сына Венсана. Этот жест немало значил в тот период войны, когда друзья принадлежали к враждующим группировкам, и оба лагеря порой очень жестоко действовали против оппонентов.
Для обоих идеологических оппонентов свойственны пропаганда «действия», воли к жизни и влияние «жизненного порыва» («élan vital») Анри Бергсона (1859-1941). Бертран де Жувенель в 1959 году в беседе с Фредериком Гровером дополняет, что Мальро и Дриё связывало еще кое-что, а именно усилие «вырасти над собой». И то, что они оба делают, они делают последовательно и признают эту последовательность и за своим противником тоже. Леви цитирует содержательный ответ Дриё на вопрос, готов ли он в гражданской войне, в которой бы ему противостоял Мальро, застрелить его, своего друга: «Да, естественно, я убил бы его, ведь не сделай я этого, я не воспринимал бы его всерьез».
Свой литературный опыт Мальро и Дриё оба в молодые годы собирали в «Nouvelle Revue Française». Это связывает их с третьим антифашистским писателем, близкое отношение которого к Дриё будет в общих чертах описано в данном исследовании: Жаном Поланом.
Жан Полан в 1925 году возглавляет редакцию NRF, пост, который он сохранит по июнь 1940 года и снова займет в 1953 году, когда этот журнал после перерыва снова начнет выходить под именем «La Nouvelle NRF» («Новое NRF).
(Журнал NRF не выходил с 1945 по 1953 год из-за упреков в коллаборационизме. В 1959 году редакция «La Nouvelle NRF» убрала из заголовка журнала слово «Новое», добавленное в 1953. – прим. автора.)
После пятимесячного принудительного перерыва NRF снова начинает выходить только в ноябре 1940 года, на этот раз под руководством Дриё ла Рошеля, после того, как эту должность предложил ему Отто Абец. Полан и Дриё знакомятся друг с другом после Первой мировой войны как редакторы «Littérature». Важным моментом, повлиявшим на взаимоотношение обоих, стал их временный разрыв с 1940 года, которому предшествует оживленная переписка: Дриё обвиняет Полана, что он предпочитает его работам тексты левой направленности Арагона. В мае Дриё, наконец, дистанцируется от NRF Полана и так обосновывает это в письме главному редактору:
«Как патриотический, пусть даже антидемократический писатель я больше не могу сотрудничать в журнале, который во время войны публикует работы бывшего директора подчиняющейся загранице большой политической газеты («Ce Soir»), Арагона».
В ноябре Дриё видит шанс возместить позор предпочтения Арагона и возглавляет NRF. Полан, который в глазах Дриё остается сомнительным ввиду его антифашистской внутренней позиции, вопреки политической антипатии поддерживает своего преемника при выпуске журнала. Но хотя в первых номерах NRF при Дриё публикуются такие уважаемые авторы как Андре Жид и Поль Валери (1871-1945), наряду с правыми и фашистами вроде Анри де Монтерлана (1896-1972) и Рамона Фернандеса, Жан Полан вплоть до прекращения выхода журнала в июне 1943 года никогда не публикуется в нем как автор. Причину своей воздержанности Полан сам никогда не называл, однако, по всей вероятности, она состояла в его нежелании компрометировать свое имя появлением своих произведений в журнале, который издает такой общеизвестный и популярный коллаборационист как Дриё ла Рошель. Дриё останавливает публикацию журнала после 31 номера, так как предвоенный уровень невозможно удержать без работавших раньше редакторов; евреи исключались, и Жид, если назвать один пример, по собственному почину подвел под своим сотрудничеством с журналом финальную черту.
Кроме этого, в этом контексте достойно упоминания, что Дриё защищает Полана, когда тот в мае 1942 года был арестован Гестапо из-за его литературной деятельности в Сопротивлении в прокоммунистическом подпольном журнале «Lettres Françaises («Французские письма»). Своим ходатайством перед Гестапо и немецкими властями Дриё добивается освобождения Полана. Тот благодарит его за это в 1945 году своим демонстративным личным участием в похоронах Дриё. Два других соратника Дриё не могут принять участие в церемонии, которая происходит к западу от Парижа в Нёйи-сюр-Сен: Люсьен Ребате и Робер Бразильяк. Ребате убежал с Дорио, Деа, Селином и другими коллаборационистами в Германию, Бразильяк уже 6 февраля из-за своей антисемитской и фашистской деятельности обвинен в коллаборационизме и казнен; несмотря на многочисленные просьбы о помиловании со стороны таких интеллектуалов как Жан Кокто, Поль Клодель, Альбер Камю, Поль Валери, Жан Полан и многие другие, генерал Шарль де Голль твердо отказал в помиловании.
Примечательно, что Дриё ла Рошель до своего самоубийства поддерживает более тесные контакты с писателями левых взглядов, чем с идеологически близким ему интеллектуальным типом фашиста. Например, во время своих похорон Дриё хочет видеть у своего катафалка отнюдь не своих политических попутчиков Люсьена Ребате и Бертрана де Жувенеля, а коммунистов Жана Бернье и Андре Мальро.
5.2. Искушение фашизмом: от Поля Мариона до Люсьена Ребате
В среде французских интеллектуалов 1920-х и 1930-х годов многие часто меняли свои позиции с радикально «правых» на радикально «левые» и наоборот. Примером такого изменения позиций может считаться Жорж Валуа, который перешел от синдикализма к националистическому роялизму, позже создал Le Faisceau («Фасцию»), прежде чем стал искать влияние в радикально-социалистических фракциях и, наконец, погиб в концентрационном лагере национал-социалистов. Другие интеллектуалы, которые сначала были левыми или даже радикально-левыми, а позже перешли к фашизму, – это, наряду с Пьером Дриё ла Рошелем, «enfant terrible» французской литературы Луи-Фердинанд Селин (1894-1961), но также и Альфред Фабр-Люс, Жорж Суарес, Бертран де Жувенель и Пауль Марион.
Луи-Фердинанд Селин (1894-1961) в 1959 году
Например, Марион в 1922 году стал сначала просто членом, затем кадровым работником коммунистической партии. После двух пребываний в Советском Союзе, в 1927 году и снова в 1928 – литературным результатом чего стало его отрезвляющее произведение «Deux Russies» («Две России») – Марион переходит к неосоциалистам вокруг Марселя Деа. В июне 1936 года, вскоре после основания PPF, когда Марион еще был издателем некогда левой газеты «Le Quotidien», он вместе с Дриё присоединяется к партийному вождю Жаку Дорио – тоже бывшему коммунисту – в партийную программу которого он в 1938 году включает элементы корпоративизма. Помимо этого он публикуется в еженедельной газете «Notre Temps» («Наше время») Жана Люшера (1901-1946) и даже занимает пост министра в правительстве Виши.
Центральная идея этого типа фашистского интеллектуала и революционера, который приходит из социализма и видит в фашизме совершенствование как раз этого самого социализма, была уже в 1925 году так понята и сформулирована Валуа:
«Кто бы ни выиграл и ни поглотил бы другого, коммунизм в России и фашизм в Италии будут в результате идентичны. Никакого парламента, никакой демократии, а диктатура, нация, которая создаст себя саму. Если сначала будет выброшена буржуазия, то союз между государством и народом принудит каждого маршировать в национальной дисциплине, шагая нога в ногу».
Очевидно, по меньшей мере, на протяжении определенного периода существовал аналогичный интерес к системам, декларирующим свою «революционность», которые отвергают капитализм и буржуазную демократию. Фабр-Люс и Дриё одинаково путешествуют и по коммунистическому Советскому Союзу и по национал-социалистическому Третьему Рейху, и Суарес в 1933 году даже считает, что Третий Рейх был вдохновлен как итальянским фашизмом, так и русским большевизмом.
Если сравнить друг с другом фрагменты идеологем вышеназванных фашистских мыслителей, то наряду с заметными различиями можно увидеть и их существенные совпадения. Общей целью является устранение беспорядка; с одной стороны, окончание внутреннего беспорядка, вызванного либерально-демократическим парламентаризмом и классовой борьбой, и, с другой стороны, окончание внешнего беспорядка, характеризуемого национальным шовинизмом и эгоизмом, засовом к которым должен стать проект европейского сближения, и, в конечном счете, единства Европы. Ключом к этому засову при этом станет представление о европейском фашизме, который должен решить проблемы народов на экономическом, политическом, культурном и социальном уровне.
Идеи, в зависимости от персональных политических взглядов, находятся в поле напряжения между националистическим коммунизмом, который при этом, однако, уважает право на частную собственность – в этом фашистские интеллектуалы единодушно согласны – и чем-то вроде «левого фашизма», антибуржуазного фашизма с отчетливой акцентуацией социального вопроса.
Другие значительные фигуры фашистской интеллигенции, Робер Бразильяк и Люсьен Ребате, шли к некоему варианту фашизма не по пути (левого) социализма, а оставались учениками мэтра Шарля Морраса, и, следовательно, были близки к Action Française, но отошли от AF, когда эта стерильная и негибкая в духовном плане организация больше не могла дать ответ на национал-социалистический и фашистский вызов в Европе. Потому Бразильяк, а также Ребате опасались, что без их содействия может возникнуть что-то фундаментально новое; не говоря уже об их пронемецкой позиции, которая вызывала настоящее отвращение у Морраса – о чем мы уже писали.
Эстет Бразильяк, талантливый поэт и писатель, кроме того, действует как политический публицист, в частности, для одноименной газеты AF, и как издатель еженедельника «Je suis partout». Бразильяк при этом с самого начала понимает фашизм как духовное явление, и потому не удивляет, что он воспринимает гражданскую войну в Испании как войну между «марксистским декадансом» и «фашистской духовности», как религиозный оборонительный бой католических националистических испанцев против большевизма, создающий, по Сорелю, мобилизующий массы миф, например, пропагандистское оповещение о героическом поведении фалангистов при осаде Алькасара под Толедо. К этому времени, осенью 1936 года, Бразильяк уже отошел от «реакционного» окружения Морраса и AF и постепенно открыл себя фашизму. Он все больше и больше интересуется Арно Брекером и его скульптурами, воспеванием экстаза и эротическим компонентом мужских союзов, как и доктринерской идеологией, однако молча разделяет антисемитизм немецких национал-социалистов; больше того, в некоторых статьях его журнала «Je suis partout» он даже форсирует его и придает «эстетическому эксперименту фашизма» (Дэвид Кэрролл) отчетливо антисемитскую окраску.
Робер Бразильяк (1909-1945)
Во время Второй мировой войны один из самых знаменитых коллаборационистов, он едет не только на «Встречу поэтов в Веймаре», но и на Восточный фронт, где вместе с Герхардом Хеллером посещает французских солдат дивизии «Шарлемань».
Летом 1944 года Бразильяк, как и Дриё ла Рошель, отказывается бежать в Зигмаринген и сначала скрывается. После того, как мать Бразильяка арестовывают в сентябре 1944 года, он в середине сентября 1944 года сдается в руки правосудия. В плену вместе с ним находится также Суарес, издатель журнала «Aujourd'hui» («Сегодня»), которого 9 ноября 1944 года казнят как первого коллаборационистского публициста. Двумя месяцами позже, 19 января 1945 года, Бразильяк после двадцатиминутного процесса был приговорен к смерти за «измену родине» и 6 февраля 1945 казнен. Ходатайство о помиловании, подписанное, среди прочих, Альбером Камю, Жаном Поланом и Франсуа Мориаком, было непреклонно отклонено новым властителем генералом де Голлем. В последние дни своей жизни Бразильяк напишет «Lettre à un soldat de la classe 60», письмо в антикоммунистическом духе вымышленному французскому четырехлетнему мальчику, который через пятнадцать лет, в 1960 году достиг бы призывного возраста. В этом письме Робер Бразильяк в последний раз описал мотивы своих поступков.
(Могила Бразильяка находится на кладбище Шарон на западной окраине Парижа. В каждую годовщину его смерти фалангистский Франко-испанский кружок (Cercle franco-hispanique) вместе с кружком Шестого февраля (Cercle du Six-Février) возлагает венок на его могилу. – прим. автора.)
Люсьен Ребате (1903-1972) пишет посвящение на экземпляре своей популярной книги «Les Décombres» («Руины») в октябре 1942 года.
Как и Бразильяк, Люсьен Ребате на протяжении жизни тоже был другом Германии, одним из тех французских писателей, кто после 1940 года выступает за сотрудничество с немецкими победителями. Но Ребате, отец которого был социалистом, а мать благочестивой католичкой, не только коллаборационист, но и, прежде всего, еще весьма способный стилист, талантливый романист и, не в последнюю очередь, компетентный кинокритик и музыкальный критик.
Во время отбывания военной службы он симпатизирует Action Française, и потому с 1929 года снова и снова пишет статьи для тогда еще близкого AF журнала «Je suis partout», в редакции которого его воспринимают как самого радикального антисемита. Его политические представления на протяжении 1930-х годов все дальше отклоняются от линии AF. Он считает химерой восстановление французской монархии, фиксация на Grande Nation все больше сменяется европейской ориентацией. Кроме того, он агностик, который иногда публикуется под псевдонимом Франсуа Веннёй, и поклонник правления Муссолини. Немецкий национал-социализм он также воспринимает как движение обновления против декаданса буржуазного общества и неоднократно посещает Германскую империю. В 1940 году Ребате сначала ориентируется на révolution nationale маршала Петэна в Виши, прежде чем разочарованно отворачивается от него, так как авторитарно-консервативное, реставраторское государственное руководство противоречит его фашистскому революционному мировоззрению. В отличие от своих попутчиков Бразильяка и Дриё ла Рошеля, Ребате, как и его друг Селин, решается убежать в Зигмаринген. Однако и в этой провинции война в мае 1945 года заканчивается. Ребате арестовывают в Фельдкирхе (Австрия) и приговаривают к смерти 23 ноября 1946 года. Полгода спустя президент-социалист Венсан Ориоль (1884-1966) помиловал его, заменив казнь пожизненной каторгой. Затем, в июле 1952 года, после пяти лет в тюрьме Клерво, его досрочно освобождают. Двадцать лет спустя он умер, до смерти оставшись верным своим прежним идеалам.
5.3. Самовосприятие Дриё ла Рошеля
В предисловии Дриё ла Рошеля к опубликованному в 1942 году и на этот раз не подвергнутому цензуре второму изданию «Жиля» автор представляет читателям свою самооценку. Для Дриё значение писателя определяется, в первую очередь, его способностью видеть, чувствовать и отражать вездесущий в буржуазном обществе декаданс. Поэтому автор ставит самого себя в ряд между другими литераторами, главной темой которых тоже является эта проблема: «Moi, je me situe entre Céline et Montherlant et Malraux». («Себя самого я ставлю между Селином и Монтерланом и Мальро».)
Хотя его самовосприятие, в первую очередь, имеет литературоведческое значение, так как Дриё в своей оценке касается романистов своего времени, это его позиционирование требует все же более детального рассмотрения в нашем исследовании, сфокусированном на политических вопросах. Ведь Дриё рассматривает декаданс буржуазии не в отрыве от общих политических и социальных условий, а воспринимает буржуазный декаданс как результат капиталистической демократии.
Труднее всего проверить на предмет политически-идеологических совпадений с Дриё строптивого Луи-Фердинанда Селина, который буквально изрыгает яд и желчь в своих произведениях. Ибо красноречивый автор добившегося оглушительного успеха и принесшего Селину мировую славу романа «Voyage au bout de la nuit» («Путешествие на край ночи») на протяжении всей своей жизни никогда не присоединялся ни к какой партии или организации, и даже во время немецкой оккупации воздерживался от каких-либо действий. Политическая классификация Селина, если что-то в этом роде вообще возможно в его случае, дала бы в итоге смесь из фашизма, вульгарного антисемитизма и анархизма, которая лучше всего делает осязаемым этого нелюдимого скандального автора и врача для бедных. У Дриё ла Рошеля со своей стороны вызывает уважение та беспощадная манера, в которой Селин изображает декаданс западного буржуазного общества, который так сильно гнетет его самого. В писательском отношении Дриё характеризует Селина как «Блуа минус Бог», и хвалит, кроме того, чувствующего себя польщенным Селина в майском издании NRF: «Во время декаданса те, кто откровенно выступают за него, кто сообщают о нем, являются единственными, кто еще может высказываться».
Можно сказать, что Дриё в 1932 году, при чтении «Путешествия», нашел в Селине образец для себя. Он восхищается безграничной необузданностью и частично заимствует у Селина саркастичные и насмешливые черты экзальтированной критики общества для своих будущих романов «Мечтательная буржуазия» и «Жиль».
(Интересно, что к антисемитизму и правому радикализму Селин пришел лишь после своего пребывания в СССР. До этого его, в т.ч. и за эту поездку, в равной степени ценили как социалисты, так и коммунисты. – прим. автора.)
Писателем совсем другого стиля и жеста был Анри де Монтерлан. Эстет, на которого в значительной степени повлияли Морис Баррес и Габриэле Д'Аннунцьо (1863-1938) был сторонником «Culte du moi» («Культ своего Я») и героической мужественности – и то и другое представляют собой стилевые элементы, которые заметны в публицистике и романах Дриё и относятся к общему репертуару различных исторических фашизмов. Мальро представляет собой третий ориентир в его самооценке. Для Дриё 1930-х годов он является реализованным соединением теории и практики, политической литературы и героического действия, ведь Мальро – не только автор «Condition humaine», «L'Espoir» и «Les Conquérants», которые Дриё читает с огромным восторгом, но он еще и доброволец на Гражданской войне в Испании, где он командует авиабригадой и как летчик лично участвует в боях.
Если теперь заменить имена, которые Дриё приводит в своей самооценке, понятиями, воплощающими основные идеи, представленные названными им авторами, то получится образ литератора Дриё, который с одной стороны обрамляется одержимостью декадансом, антисемитизмом и цинизмом, а с другой – культом самого себя, мужественности и эстетики, а также революционным героизмом. Если перенести это на его творчество, то становится заметным, что восприятие Дриё, позиционировавшего себя между Мальро, Монтерланом и Селином, в этом моменте отнюдь не вводило в заблуждение. Обстоятельства представляются иначе, если критически рассмотреть его политическую способность к анализу реально-исторических процессов, которая в неприятии окружающего его общества привела Дриё к его «социализму двадцатого века», фашизму, и к роковому коллаборационизму с национал-социалистами.
6. ФАШИСТСКАЯ МЕЧТА О ЕВРОПЕ
Вопреки разделяемому многими мнению, что фашизм как идеология был само собой националистическим и шовинистическим, в фашистских кругах также всегда были умы – Дриё, наряду с вождем британских фашистов сэром Освальдом Мосли (1896-1980), был среди таковых одним из самых известных – считавшие, что эпоха традиционного национального государства ушла в прошлое. Самое позднее в ходе Гражданской войны в Испании с 1936 по 1938 годы – а у Дриё и Муссолини, однако, уже в их восприятии Первой мировой войны – и связанной с ней интернационализацией вооруженных сил также на национально-испанской (франкистской) стороне европейские интеллектуалы задумались над тем, чтобы понимать фашизм как двигатель общеевропейской революции, в которой нации путем специфических для каждой страны фашистских революций смогут создать третий бастион, способный противостоять обеим материалистическим сверхдержавам – США и Советскому Союзу.
(Муссолини еще в январе 1921 года заявил: «Либо политике и жизни в Европе удастся достичь единства, либо ось мировой истории окончательно сместится по ту сторону Атлантики, и с той поры Европа будет играть лишь второразрядную роль в истории человечества». – прим. автора.)
Различные умы праворадикальной интеллигенции при этом понимали фашизм в первую очередь как всеохватывающее восстание против капиталистического и коммунистического материализма, как борьбу против декаданса буржуазии и открыто проявляющейся беспомощности парламентской демократии при попытках решения социальных и национальных проблем европейских государств; но не в последнюю очередь они видели в нем также шанс для народов преодолеть тягу к реваншистским внутриевропейским войнам и создать сильную, единую, очищенную от национального шовинизма Западную Европу.
Поэтому тех фашистских интеллектуалов, которые связывали свои программы с наднациональным уровнем, с Европой, называют еврофашистами.
6.1. Еврофашизм? Разъяснение понятия феномена
Общим для теоретиков еврофашизма было то, что защита коренных народов Европы была для них абсолютным приоритетом, и что Европа, с опорой на Карла Шмитта, представляла для них «большое пространство», с запретом вмешательства в дела этого «большого пространства» со стороны чужих держав. При этом корпоративная экономическая система должна гарантировать экономическое удовлетворение спроса и воспрепятствовать тому, чтобы «Старый мир» деградировал до американского рынка сбыта, тогда как форсируемое классовое примирение по всей Европе путем долевого участия рабочих в доходах предприятий должно было лишить почвы коммунистическую риторику классовой борьбы.
Еврофашистские тенденции в межвоенное время существуют во многих праворадикальных движениях Европы, однако, и в этом-то как раз и состоит основная проблема, не существует международной организации, которая, подобно коммунистическому Коминтерну, определяет единое направление главного удара и утверждает программу. Еще хуже, что идеологические различия между отдельными странами поразительно велики и, в особенности, расовый вопрос становится важным конфликтным моментом. Если, скажем, испанские фалангисты вокруг Хосе Антонио Примо де Риверы считают расовый вопрос не существующим – испанская нация для них это историческое единство, а не расовое или языковое, а евреи не являются приоритетной проблемой, так как они, кроме того, вообще едва ли представлены в Испании, то другие европейские фашизмы, например, скандинавский, с 1933 года все больше ориентируется на немецкий национал-социализм. Прежде всего, по этим причинам неорганизованный еврофашизм остается лишь интеллектуальной разновидностью фашизма.
Тем не менее, усилия дать еврофашизму организационную и программную оболочку имели место с различных сторон.
Первый больший общеевропейский конгресс фашистов проходит 16 и 17 декабря 1934 год под девизом «fascismo universale» («Универсальный фашизм») в швейцарском городке Монтрё на Женевском озере с участием представителей четырнадцати стран. К числу приглашенных гостей принадлежат швейцарские группы, к примеру, движение Национальный фронт во главе с отставным военным Артюром Фонжалла (1875-1944), представители австрийского «австрофашистского» Хаймвера («отечественной самообороны»), ирландские «Blueshirts» («синие рубашки»), бельгийцы, греки, норвежцы, нидерландцы, румыны из Железной гвардии, посланцы Муссолини и различные французские группы, в том числе «франсисты» Марселя Бюкара (1895-1946).
(Впрочем, еще в ноябре 1932 года состоялся Европейский конгресс в Италии, но он не носил четкого фашистского характера, потому что большинство участников представляли националистические и либерально-консервативные круги своих стран. Видными участниками конгресса были Пьер Гаксот (1895-1982), Штефан Цвейг (1881-1942) и Ялмар Шахт (1877-1970). – прим. автора.)
Представители испанской «Фаланги» сначала отказались от приглашения, так как они, мол, будучи национал-синдикалистами, не представляли собой фашистов в узком смысле, но затем послали представителей в Швейцарию. Полная перемена взглядов в этом отношении произошла среди оставшихся фалангистов, которые не были маргинализированы верными сторонниками Франко, только в ходе событий Испанской гражданской войны. Несмотря на это, и в будущем большое значение придавалось подчеркиванию того, что фалангизм это истинно испанское явление. Это было оборонительной позицией, объяснимой желанием считаться чем-то исконно своим, самостоятельным, органически выросшим из испанской истории, а вовсе не простой копией фашистской Италии, как звучали обвинения в адрес фалангистов со стороны республиканцев и левых.
Из национал-социалистической Германии, в которой понятие «фашист» воспринимается в весьма отрицательном контексте, делегация тоже не приезжает, и потому и участникам, и общественности становится понятно, что «Фашистский интернационал» как управляемый Италией Comitati d'azione per l'universalita di Roma (CAUR) не может стать адекватным эквивалентом Коминтерна. Лишь три принципа будут приняты в ходе заседаний:
Борьба европейской молодежи против коммунизма и капиталистического эгоизма,
Распространение корпоративизма,
Уважение к национальным особенностям народов.
Затем разочарованный Муссолини отворачивается от утопии «Соединенных Штатов Европы», хотя в 1935 году в Париже и Амстердаме проходят последующие конгрессы. После 1938 года многие из еще оставшихся фашистскими движений все больше соскальзывают в фарватер все более эффективного немецкого национал-социализма, и CAUR утрачивает всяческое влияние на эти группы. Лишь в 1942 году план «панъевропейской федерации фашистских наций» снова начинает играть роль в официозной политике Италии и в конце 1943 года в «Веронской программе» объявляется долгосрочной целью. В этой программе констатируется, что нужно создать европейское сообщество в форме конфедерации всех стран, которая преодолеет капитализм и войны за изменение границ, и этим принесет в Европу благосостояние, свободу и безопасность.
Еврофашистские тенденции присутствовали также в Норвегии и Нидерландах. Норвежец Видкун Квислинг (1887-1945), Fører («вождь») Nasjonal Sämling (Национального единения) и норвежский премьер-министр с 1942 до 1945 года, требует в 1939 году общеевропейских выборов, а нидерландец Антон Адриан Мюссерт (1894-1946) представляет концепцию «великонемецкой» империи, которая должна охватить всех говорящих на голландском языке людей внутри фашистской «конфедерации Европы».
Но эти люди едва ли добились общественного внимания за пределами своих замкнутых подобно сектам организаций; в отличие от Пьера Дриё ла Рошеля, британской надежды радикальных правых сэра Освальда Мосли, и вождя бельгийских рексистов Леона Дегреля (1906-1994).
6.2. Еврофашизм под ружьем: путь Леона Дегреля
Леон Дегрель родился в 1906 году. Он был старшим из восьми детей католического франкоязычного политика и матери немецкого происхождения, живших в Буйоне, во франкоязычной части Бельгии – Валлонии. Как в родном доме, так и в школе иезуитов, воспринимавшейся им как элитная организация, он получает строгое католическое воспитание, которое он до своей смерти в испанской эмиграции оценивает как положительное. В его бельгийском немецко-французском происхождении можно увидеть одну из причин будущей проевропейской позиции Дегреля, которую он в автобиографии представляет как результат переменчивой истории бельгийских земель: «Если я сегодня рассматриваю себя не как француз, не как немец и уже вовсе не как бельгиец, а просто как европеец, то причины этого совершенно понятны из тысячелетней истории нашего континента».
После успешного окончания школы Дегрель сначала изучает философию в иезуитском колледже в Намюре. Наряду с этим он работает как журналист для молодежного журнала «Cahiers de la Jeunesse Catholique» («Тетради католической молодежи») и уже в возрасте двадцати лет становится руководителем издательства «Editions Rex» (название взято из латинского выражения «Christus rex», «король (царь) Христос») в городе Лувене, где он позже будет учиться в университете. В издательстве выходят преимущественно книги католической направленности для молодых людей. После того, как в 1925 году Дегрель проводит в «Cahiers» опрос читателей «Кто является вашим наставником?», и 70 % читателей высказываются в пользу Шарля Морраса и его симбиоза из католицизма и национализма, католические клерикальные круги высшей школы обращаются против Дегреля, так как он в слишком уж положительном тоне высказался о Моррасе и Доде. Представление, что реакционный националист Моррас должен быть учителем и наставником для католической молодежи Бельгии, впоследствии распространяется в широких кругах католического мира и влечет за собой конфликты, которые, в конце концов, приводят даже к осуждению Ватиканом Action Française, что сыграло значительную роль в истории и имело важные последствия.
(Многие католики после отлучения Морраса и Доде от церкви отказали AF в поддержке и доверии, слишком велик был их страх противиться постановлениям Ватикана. – прим. автора.)
Профессора, недовольные позицией этого поклонника Морраса, по окончании первого курса проваливают Дегреля на экзаменах, и Дегрель переходит на факультет правоведения в университете Лувена, города, находящегося во Фландрии, части Бельгии, говорящей на нижненемецком языке (очень близком к голландскому языку). Там Дегрель возглавляет католический студенческий союз.
Из-за недовольства политикой правящей тогда в Бельгии Католической партии, которая была даже готова вступить в союз с бельгийскими левыми социалистами, но не могла предложить никаких путей к разрешению постоянного этнического конфликта между франкоязычными валлонами и большинством населения, голландскоязычными фламандцами, во многих социальных аспектах страдавших от дискриминации, Дегрель начинает принимать активное участие в политике. В 1935 году он за несколько месяцев формирует рексистское движение Mouvement National Rexiste, в известном смысле младо-католический осколок Католической партии, который из-за своего радикального антибольшевизма и националистической агитации выходит из консенсуса либерально-консервативных христиан. Благодаря известному вскоре всей стране призыву «Rex-Appeal» и связанной с ним притягательностью для молодых мужчин и женщин, Дегрель делает из своего национально-революционно-рексистского движения динамичную и готовую к осуществлению обновления альтернативную партию, которая под лозунгами «Rex vaincra!» («Рекс победит!») и «Rex ou Moscou!» («Рекс или Москва!») в мае 1936 года идет на свои первые выборы, и, хотя и занимает совершенно антипарламентские позиции, получает 21 из приблизительно 200 мест в парламенте, и воинственно выступает против всего и всех. Диапазон ее противников простирается от партий статичного парламентаризма, банкиров и коммунистов до «диктатуры суперкапитализма» как таковой.
Вскоре Дегрелю удается увлечь за собой более полумиллиона человек. Католическое националистическое движение растет, все больше и больше принимает фашистский облик и выступает за сближение с национал-социалистической Германской империей и фашистской Италией, в которую он неоднократно путешествует. Но восходящая звезда Дегреля уже начинается закатываться, когда в апреле 1937 года на дополнительных выборах в столице Брюсселе выступает против премьер-министра Пауля ван Зееланда, а тот собирает все партии в единый фронт, только чтобы нанести поражение движению Дегреля.
Леон Дегрель (1906-1994) в начале 1940-х годов
Дегрель, подстегиваемый успехами, требует от кардинала Йозефа Эрнеста ван Руя, чтобы тот посоветовал своей пастве голосовать за рексистов. Но эта кардинальская рекомендация оборачивается против Дегреля, и выборы оказываются для него провальными. Впрочем, как подчеркивает профессор Эрнст Нольте, это было «почетным поражением», произошедшим не в последнюю очередь из-за восстанавливающейся после кризиса бельгийской экономики, а также из-за явной слабости коммунистов, ввиду которой бельгийцы не видели в голосовании за рексистов средство предотвращения или защиты от угрозы большевизации.
Когда в 1940 году немецкий Вермахт, в конце концов, оккупирует Бельгию по стратегическим причинам, это становится важнейшей вехой для радикальных правых Фландрии и Валлонии. В северофранцузском Аббевиле руководство фламандского союза Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) и рексистов – за исключением самого Дегреля – расстреляны французскими солдатами. Остатки Verdinaso объединяются с фламандской националистической партией Vlaamsche Nationaal Verbond (VNV) и сотрудничают с немецкими национал-социалистами, но при этом они, тем не менее, не готовы пойти немцам на уступки относительно запланированного теми объединения с Германской империей («гау Фландрия»). Политически VNV первоначально преследует цель создания в рамках великонемецкой империи (которая рассматривается как конфедерация) суверенных Больших Нидерландов, куда должны были бы войти фламандские области разделенной Бельгии.
Дегрель, видение которого представляет собой позаимствованную из далекого пятнадцатого века Великую Бургундию в форме единой Нации Европы, после того, как его совместный приход к власти вместе с вождем социалистов Хендриком де Маном стал невозможным из-за военных событий на Балканах и на Востоке, отправляется на Восточный фронт как простой солдат «Légion Wallonie» – Валлонского легиона, укомплектованной валлонами части немецкого Вермахта. К концу войны он поднялся там до должности командира созданной позднее дивизии войск СС «Валлония».
(Наряду с Дорио, Дегрель единственный вождь фашистского движения в Европе, активно принимавший участие в боевых действиях на Восточном фронте. – прим. автора.)
Дегрель и на фронте – полностью преданный духу политических солдат войск СС – остается мыслителем с политическим видением. Расширенная за счет частей Северной Франции Бельгия, уже упомянутая Великая Бургундия, должна действовать под немецким доминированием в качестве узлового пункта и местом встречи германских и романских сфер в европейском сообществе государств. Дегрель, который до своей смерти оставался сторонником Гитлера – что было справедливо и касательно отношения самого Гитлера к Дегрелю, до 1945 года не оставлял надежд, что рейхсканцлер примет концепцию европейской политики, которая гарантирует суверенитет отдельных народов и признает за ними обширные свободы.
В меморандуме от 20 октября 1940 года, который вызвал мало взаимной симпатии у национал-социалистов вокруг Гитлера и Гиммлера, Дегрель указывает на ответственность немцев за Европу, за то, чтобы защитить континент от капитализма и большевизма, и в то же время позволить европейским народам сохранить свое духовное своеобразие и независимость. Кроме того, важно, чтобы народами руководили люди с твердым мировоззрением, которые сами являются выходцами из этих народов. Немецкие оккупационные кадры должны вмешиваться и брать в свои руки управление только в самом крайнем случае, т.е. тогда, когда нет никаких местных национал-социалистов или фашистов, готовых к осуществлению управления. В конце своего письма Дегрель ссылается на необходимость сильной Бельгии в сильной Европе.
Чтобы получить от Гиммлера дальнейшие уступки, Дегрель, однако, в последующие годы дистанцируется от своего выраженного в 1940 году требования суверенной Бельгии, когда он в январе 1943 года в своей речи в Брюссельском дворце спорта идет на уступки пангерманской идее. Независимо от того, были ли эти его высказывания продиктованы тактическими соображениями применительно к рейхсфюреру СС, или же речь шла о его новых убеждениях, некоторые значительные интеллектуалы вследствие этого отворачиваются от рексистского движения. Хосе Стреель (Люсьен Альфонс Жозеф Стреель, 1911-1946), влиятельный журналист в рексистской газете «Le Pays Réel», выходит из политического совета рексистского движения (Conseil Politique de Rex), как и Раймонд де Беккер и Пьер де Линь из газеты «Le Soir». Последний обосновывает свой отход от официального рексизма несогласием с любыми решениями об аннексии территорий его родины.
Не только Гиммлер мог удивиться тому, что уже годом позже, в 1944, Дегрель снова отклоняется от своих уступок идее Пангермании и сначала опять требует создания великобургундской державы, а потом даже создает проект западногерманской империи с включением в нее Франции. Но при всех варьирующихся концептуальных попытках в фокусе молодого вождя всегда остается одно: Бельгия в «новом порядке» Европы должна занимать сильную позицию. Также поэтому дивизия «Wallonie» так ожесточенно сражается на Восточном фронте до самого конца. Только тот, кто в борьбе с большевизмом бросает на чашу весов все и готов к большим жертвам, по мнению добровольцев, может надеяться на достойное место в новой Европе.
Когда война заканчивается, эта надежда остается неисполненной. Валлонские солдаты большей частью погибли, были тяжело ранены или попали в плен. На их родине военных добровольцев публично клеймят как «коллаборационистов» и «изменников родины», с ними жестоко обращаются и даже убивают. Даже мать Дегреля, старая дама, единственной виной которой было то, что она родила сына Леона, была убита антифашистами, то же самое происходит с одним из его братьев, а отец Дегреля после окончания войны несколько лет проведет в тюрьме из-за своего родства с вождем рексистов.
Самому Леону Дегрелю удается ускользнуть в Испанию генерала Франко, где он останется до смерти. Даже после этого великого крушения Дегрель остается европейским патриотом. Он так подводит итог:
«История взвешивает заслуги людей. Поверх всего несовершенства мира мы безоговорочно пожертвовали нашей молодостью. Мы боролись за Европу, за ее веру и ее культуру. В откровенности и самоотверженности мы остались верными до конца. Раньше или позже Европа и мир должны признать справедливость нашего дела и чистоту нашей преданности. Ибо ненависть умрет... Но все великое вечно».
Другой бельгийский европравый, публицист и друг Дегреля, Пьер Дэй (1892-1960), до 1939 года лидер фракции рексистов в парламенте, решается на дальнейшее продвижение в проевропейском направлении. В 1942 году он публикует в Брюсселе книгу с заголовком «L'Europe aux européens» («Европа европейцам»), которая только чудом – и к удивлению многих – проходит цензуру. В этом произведении Дэй призывает Германскую империю воплотить в жизнь «историческое творение Пан-Европа» на основе федеративной структуры, осуществить духовное сближение и создать экономико-политическую «Eurafrique», т.е. «Еврафрику». В этом моменте он совпадает с сэром Освальдом Мосли, руководителем британских фашистов, который тоже воспринимает эту модель как идеальный суперконтинентальный сильный блок.
6.3 «Europe a Nation!» – сущность и желания сэра Освальда Мосли
Харизматический Освальд Мосли происходит из аристократической семьи англо-ирландского происхождения и получает хорошее образование в различных элитных учебных заведениях.
Офицер недавно созданных Королевских ВВС (Royal Air Force) в Первой мировой войне до 1917 года, он за год до конца войны вынужден из-за ранения оставить военную службу. Освальд Мосли добивается известности в Великобритании, когда в 1918 году он как самый молодой депутат от Консервативной партии («тори») попадает в парламент. Но Мосли не может согласиться с бескомпромиссной, иногда очень жестокой британской политикой в Ирландии: так называемые Black and Tans («черно-пегие») – добровольческие отряды из недавно демобилизованных британских солдат – безжалостно борются против сторонников независимости Ирландии, что происходит без каких-либо возражений и критики со стороны «тори». Жесткая критика Мосли в адрес молчаливо допускающего это партийного руководства приводит к его разрыву с консерваторами.
Два следующих депутатских срока он проводит как независимый парламентарий, прежде чем как новый член Лейбористской партии, склоняясь там к левому крылу партии, он в 1924 году завоевывает Бирмингем, прежний оплот консерваторов. Однако, назначенный уже в 1929 на пост младшего министра – без конкретной области деятельности, он не может осуществить в этом правительстве давно лелеемую им экономико-политическую программу – «Бирмингемские предложения» («Birmingham Proposals») для борьбы с массовой безработицей – и поэтому в разочаровании уходит в отставку. После провала New Party (Новой партии), которую он основывает в 1931 году, он как патриотический социалист отправляется в Италию Муссолини и возвращается оттуда страстным приверженцем фашизма, стремясь теперь к подобной модели и для Великобритании.
В 1932 году он объединяет наибольшие фашистские и профашистские группы в Британский союз фашистов (British Union of Fascists (BUF)), который на апогее своей деятельности в 1938 году насчитывает до 45 000 членов, и группы уличных боевиков которого, Fascist Defence Force (фашистские силы самообороны), по своему внешнему виду напоминают итальянских чернорубашечников. В географическом плане основными опорами BUF при этом с самого начала были их штаб-квартира «Black House» («Черный дом») в Челси, а также лондонский Ист-энд, населенный преимущественно рабочими район столицы, где на выборах 1937 года Британский союз фашистов получил рекордный результат – 19 % голосов.
Тем не менее, «черные рубашки» Мосли не попадают в Палату общин, так как британское мажоритарное ограничительное избирательное право (Вестминстерская система) сильно ограничивает прохождение в парламент малых партий. Так как во время Второй мировой войны Мосли попал под подозрение как потенциальный пораженец, то он, страстный противник войны, вместе с 800 своими товарищами был интернирован правительственными войсками. После войны Мосли основывает Юнионистское движение (Union Movement) и открыто требует «государства Европа». Как и у Дриё ла Рошеля до войны, эту свою мысль Мосли выводит из двойной угрозы Европе со стороны и Запада и Востока, причем он понимает свои идеи не как решительно антисоветские и антиамериканские, а как «трезвое восприятие действительности». Только при четком разделении блоков и создании объединенной Европы возможен стабильный мир в многополярном мире.
Чтобы предотвратить дальнейшую культурную американизацию Запада должна быть создана «Нация Европа». В этом едином европейском государстве Мосли видит отнюдь не эквивалент американской концепции «плавильного тигля», наоборот, только такое единое государство, на его взгляд, сможет лучше всего сохранить и развить силу автономных, национальных европейских культур, благодаря чему Европа будет спасена от «всеобщего нивелирования и смешения».
Сэр Освальд Мосли (1896-1980) в 1930-е годы
В своих публицистических произведениях – наряду с программной книгой «Я верю в Европу» («The World Alternative», «Мировая альтернатива»), в «Tomorrow We Live» («Мы живем завтра»), «European Socialism» («Европейский социализм») вплоть до его автобиографической работы «Моя жизнь» («My Life») Мосли разрабатывает идею европейского государства в европейско-африканском экономическом пространстве («Еврафрика»), которое в будущей глобальной экономической борьбе и борьбе за ресурсы могло бы гарантировать европейцам возможность автаркического существования и преодолело бы «безумные» братоубийственные войны.
Между довоенным и послевоенным временем меняется только его терминология: после 1945 года Мосли по тактическим причинам отказывается от термина «фашизм» и говорит вместо этого о «европейском социализме». Но основные его темы остаются прежними, и политическая теоретическая конструкция Мосли, таким образом, без сомнения также и после конца войны заслуживает наименования «еврофашизм».
Как и французский фашист Дриё ла Рошель, британский фашист Мосли просит своих соратников и земляков отказаться от идей внутриевропейского реванша и конкуренции девятнадцатого и начала двадцатого веков в пользу общеевропейского сознания, и защищать общую Европу перед остальным миром. Он сам первым делает шаг в этом направлении как пример и становится первым английским националистом, выступающем за право ирландцев на объединение – «right to unite», за объединенную Ирландию в объединенной Европе.
Государство Европа, по мнению Мосли, нуждается в согласованной с наукой и техникой экономической и социальной политике. С помощью управляемого государством «механизма цен и зарплаты», который стал бы основой общеевропейской экономической политики, и благодаря европейскому правительству, которое руководило бы экономикой, но не контролировало ее, единое государство станет, на его взгляд, благом для всех европейских народов. Уровни зарплат в европейских регионах выровнялись бы, и социальное законодательство тоже должно было бы пройти унификацию, чтобы уменьшить внутриевропейские различия в уровне жизни.
На возможную критику, что внутри буквально лишенного внутренних границ единого государства Европы возникнут массовые этнические переселения, Мосли возражает тем аргументом, что из-за общеевропейского уравнивания экономик у людей не возникнет никакой потребности покидать свою родину по экономическим причинам.
Проблемы сырья не будут на самом деле проблемами, так как из-за создания большого пространства Еврафрика и связанного с этим доступа к африканским ресурсам, европейский полуконтинент обеспечит себе автаркию.
Следовательно, решение вопроса пространства и вопроса политики в области заработной платы является, по мнению Мосли, основой успешной экономической и социальной политики в Европе. Если эти оба основных вопроса будут решены, возникнет основа для перспективной общеевропейской экономики. Кроме того, свободное предпринимательство, долевое участие рабочих в прибыли предприятий, и сословное самоуправление обозначаются им как гарант нового благосостояния Европы.
Наряду с экономической и социальной необходимостью «Нации Европы» Мосли еще до начала войны в 1939 году указывает на необходимость объединенного государства Европы с точки зрения силовой и оборонной политики, чтобы предотвратить падение великих держав Франции, Великобритании и Германии.
И история все же признает впоследствии правоту Мосли, так как даже те колониальные империи, которые выйдут из войны победителями, начнут распадаться уже во время войны.
Войну Мосли провел сначала в лагере для интернированных с 1940 по 1943 год, затем до 1945 под домашним арестом, и немедленно отреагировал на окончание военных действий. Горе, которое отдельным народам пришлось снова пережить с такими мучениями, в очередной раз помешало им в видении Европы; теперь, после перерыва 1945 года, братским народам нужны самообладание и способность прощать друг другу: «Давайте помнить о прошлом только достаточно долго для того, чтобы изучить его! А потом давайте его забудем: Перед новым рождением Европе нужен великий акт забвения».
Желание Мосли остается неуслышанным. Хоть его идеи и находят сначала некоторый отклик среди слабых послевоенных правых, и он вместе с бывшим руководителем «Черного фронта» и революционным национал-социалистом Отто Штрассером (1897-1974), со своей женой Дианой (1910-2003) и другими европравыми публикуется в собственном журнале «The European» («Европеец»), но его попытки вернуться в политику терпят грандиозный провал на выборах в 1959 и 1966 годах.
Сэр Освальд Мосли, один из основных духовидцев еврофашизма, умирает в 1980 году в эмиграции в Париже. В автобиографической книге «Моя жизнь» он уже в 1968 году сделал вывод об узком эгоизме европейских национализмов: «Мы были слишком национальными; история вполне могла бы предположить, что мы и близко не были достаточно интернациональны».
6.4. Европейская концепция у Пьера Дриё ла Рошеля
Не быть даже и близко достаточно интернациональным, это один из немногих упреков, который никак нельзя было предъявить Дриё ла Рошелю; наоборот, став проевропейским уже к концу Первой мировой войны, Дриё развивается в «ключевого теоретика еврофашизма», как замечает замечательный знаток панъевропейских правых юрист Ганс Вернер Нойлен в своем замечательном исследовании еврофашизма.
Поворот к Европе начинается в публицистике Дриё с «Mesure de la France», через четыре года после окончания войны; впрочем, еще раньше в сборнике военных стихотворений «Interrogation», строфы которых французский солдат Дриу посвящает своим немецким противникам на другой стороне траншей, уже заметна его нешовинистическая основная позиция.
В 1922 году Дриё впервые требует объединения Европы на основании права народов на самоопределение. Предпосылкой для осуществления такого проекта является для него примирение между Германией и Францией, за которое он выступает публично, когда его земляки во время оккупации Рура вступают на западные земли Германии. Спустя четыре года – когда немецко-французскую «исконную вражду» снова и снова подчеркивают, в частности, во французском правонационалистическом лагере – он требует отделения национализма от реакционного милитаризма. Тем не менее, уже в 1928 году в эссе «Genève ou Moscou» («Женева или Москва») он отказывается и от этой идеи, и вместо этого отвергает уже и сам мелкобуржуазный национализм как таковой. По мнению Дриё, именно такой национализм и играет решающую роль в препятствовании европейскому сближению, без которого Европу ожидает окончательный закат.
Предпосылкой для «Соединенных Штатов Европы», на его взгляд, стало бы экономическое объединение наций. Дриё настаивает на сохранении колониальных владений европейцев, которые он хотел бы пропорционально распределить между отдельными странами, и которые позволят Европе существовать как экономической автаркии. В то же время он предостерегает от экономического империализма американцев и советской идеологической экспансии: «Европе угрожают американский капитализм и русский империализм [...]. Это поле сражения, где обе системы открыто противостоят друг другу».
В этой фазе, которая продолжается до 1934 года, Дриё представляет точку зрения, что объединение нужно осуществлять на фундаменте «дисциплинированного капитализма» и политически объединенной Европы.
Вместе с Бертраном де Жувенелем Дриё становится членом Ligue France-Europe и пишет статью для социалистического журнала «L'Europe nouvelle». Там наряду с ним публикуются также другие будущие фашисты, такие как Поль Марион, Жорж Суарес, Альфред Фабр-Люс и снова де Жувенель.
В 1931 году следует эссе Дриё «L'Europe contre les patries», в котором предметно рассматривается проблематика внутриевропейских границ. Конфликты между Италией, Францией и Германией за регионы Савойя, Корсика и Эльзас-Лотарингия культурно и исторически нельзя решить однозначно. Поэтому Дриё здесь опережает свое время и дает в активному в будущем регионалисту Ги Эро (1920-2003) ключевой лозунг о том, что автономия является единственным адекватным решением. Если отсутствуют экономические предпосылки для региональной самостоятельности, Дриё предлагает присоединение к соответствующей соседней стране, решение о котором принимает население большинством на референдуме. Территориальные споры в Восточной Европе нужно регулировать договорами между меньшинствами, учитывая отдельные требования пересмотра границ.
В решении этих европейских вопросов о границах Дриё видит преодоление последних преград к европейскому объединению.
Колониальные владения, по мнению Дриё, высказанном им в этом длинном эссе, как уже в работе «Женева или Москва», обязательно следует сохранить. В течение следующих лет у Дриё ла Рошеля созревает понимание того, что его «видение Европы» не имеет никаких шансов на реализацию в рамках Третьей республики и Европы Лиги наций. Падение нравов, вездесущий упадок, явная неспособность демократов и социалистов, но также и антипатия к «старым правым» вокруг Action Française и Croix de Feu возрастают и довершают дело: с 1934 года Дриё становится сторонником фашизма.
Как и у Бразильяка и Ребате, в случае Дриё речь при этом первоначально идет об умственном и моральном обновлении, об отказе от буржуазной Европы и повороту к новому типу человека; очищенного от национального шовинизмам, обид, декадансам, индивидуализма. Потому определение фашизма у Бразильяка, очищенное от национального эгоизма и дышащее воздухом европейского сближения, справедливо также и для Дриё:
«Фашизм не был для нас политической доктриной, он не был экономической доктриной, он не был имитацией иностранных образцов, и наши встречи с иностранными фашизмами приводили только к тому, что мы могли лучше понимать национальное своеобразие, и не в последнюю очередь наше. Но фашизм – это дух. Сначала антиконформистский, антибуржуазный дух, и непочтительная дерзость – часть этого. Это дух, который противится предубеждениям, как классовым, так и всем другим. Это также дух дружбы, которому мы желаем, чтобы он поднялся до духа дружбы между нациями».
В этой цитате звучит также, что в фашистской Европе будущего следует уважать «национальную оригинальность», особенности каждого народа. Это убеждение можно найти и у самого Дриё, когда в эпилоге его романа «Жиль» его герой Жиль Гамбье вступает в диалог о Европе с одним фалангистом, после чего в мыслях обращается к самому себе:
«Чем была Европа, какой она должно была быть? Различные державы должны связываться друг с другом, не мешая и не раня при этом ни одну из них, все страны следует уважать, и их самостоятельная жизнь должна сохраниться. Лига наций была только бледной абстракцией, унижением для различных могущественных существований. Нации должны соединиться под одним всеохватывающим обширным понятием, знаком, который гарантирует автономию всех источников – соответственно как особенных для каждой из них, так и универсального».
Отклонение классического национализма в пользу наднационального, панъевропейского фашизма также явно показано в этом центральном фашистском романе Дриё 1939 года. В споре трех фашистов – ирландца, поляка и француза Жиля, в этот момент еще выступающего под псевдонимом Вальтер – они сначала размышляют о будущем союзе католицизма и фашизма. Затем Дриё устами поляка констатирует: «В конце концов, мы должны выбирать между национализмом и фашизмом». И ирландец O'Коннор соглашается: «Национализм устарел. То, чего не достигли в Женеве демократические страны, смогут фашистские державы. Они создадут единство Европы».
Дриё, который уже, кажется, предвидит, что на войне, которая начнется через несколько недель после первой публикации его произведения, «его» универсальный, западноевропейский фашизм утратит почву в пользу германоцентричного национал-социализма, завершает эту дискуссию в «Жиле» следующими словами:
«Против вторжения русских армий в Европу должен возникнуть патриотический европейский дух. Этот дух может развиться только тогда, если Германия с самого начала интегрирует целостность отечеств, всех отечеств Европы. Только тогда Германия может выполнить задачу, которая уготована ей ввиду ее силы и традиций Священной римско-германской империи: определить европейскую линию будущего».
И именно этого европейского определения позиции как раз и ожидает Дриё в конце 1930-х годов от Германии. Он мечтает о восстановлении европейской империи по образцу средневековой Священной Римской империи германской нации, которой должен быть присущ антимарксистский социализм. Еще несколько месяцев после оккупации Франции Вермахтом Дриё действительно верит в эту воображаемую картину будущего; в его безусловно пронемецких заметках «Notes pour comprende le siècle» он полагается на разумную внешнюю политику и европейскую политику Гитлера.
Пронационал-социалистическая и пронемецкая позиция не может скрыть того, что быстрое военное поражение Франции порождает у Дриё сомнения. Разрываясь между воодушевлением из-за заката буржуазно-демократической Франции и разочарования из-за проигранной Grande Nation войны, он всерьез рассматривает возможность эмиграции в Великобританию.
В конечном счете, жизненные принципы Дриё, особенно его антилиберальная критика культуры и цивилизации, оказываются для него сильнее, чем огорчение из-за военной слабости своего отечества, потому он принимает решение против эмиграции в нефашистскую, либерально-демократическую Англию, так как там в самой большой степени царят как раз те обстоятельства, из-за который он сам превратился в фундаментального противника Третьей Французской республики.
После оккупации Вермахтом примерно двух третей французской государственной территории в Европе и образования свободной французской южной зоны, управляемой в городке Виши правительством во главе с маршалом Петэном, героем Вердена, Дриё принимает решение вести политическую деятельность в оккупированном Париже вместо того, чтобы участвовать в «национальной революции» Виши, которую он отвергает, так как патриархальный режим представляется ему безнадежно устаревшим, и он презирает человека, стоящего за Петэном, бывшего социалиста Пьера Лаваля.
Дриё просит аудиенции в Париже у его друга Отто Абеца, немецкого посла, и разъясняет ему свою идею единой фашистской партии, которая должна взять в свои руки общефранцузскую политику и пойти на военный союз с державами «Оси». Абец категорически отвергает это предложение; с одной стороны, он хотел бы уберечь своего друга от разочарований, с другой стороны, у него нет достаточных полномочий, чтобы принимать такие политические решения. Кроме того, к этому моменту еще не было и ясной позиции Гитлера относительно Европы. Для Дриё и руководящего слоя PPF эта беседа оказалась особенно разочаровывающей, так как они были полны предвкушения радости и надежд. Завышенные ожидания можно объяснить тем, что их немецкие собеседники в Париже – Эрнст Юнгер, Карл Эптинг, Отто Абец – не показывали никаких антифранцузских чувств, впрочем, нужно подчеркнуть, что никто из них не был национал-социалистом и, следовательно, не придерживался мировоззренческих позиций правительства Рейха.
Дриё после этого разочарования удаляется в редакции коллаборационистских изданий и отныне снова как публицист выступает за европейское сотрудничество. Подобно ему поступают также Ребате и Бразильяк в журнале «Je suis partout». Именно Бразильяк в марте 1942 года по поводу конференции в Брюсселе требует «новой Франции» в «новой Европе» и страстно желает прекращения все никак не прерывающегося цикла взаимной немецко-французской бойни.
Как и Ребате, Дриё публикуется в журнале Бразильяка. Несмотря на это, он становится также членом другого интеллектуального кружка, который формируется вокруг журнала «La Gerbe» («Сноп»), Альфонса де Шатобриана (1877-1951): Le Groupe Collaboration (полностью: «Groupement énergies françaises pour l'unité continentale», в 1945 году Дриё вошел в ее почетное правление, помимо него в нем были также поэт Абель Бонар (1883-1968) и государственный секретарь правительства Виши Фернан де Бринон (1885-1947) – прим. автора). Эта группа выступает за объединенную Европу на националистической и социалистической основе, где будут преодолены вездесущие национальные эгоизмы.
При этом Шатобриан доверяет своему дневнику:
«Момент для возрождения Европы наступил. Мы должны заново начать преобразовывать себя. Посреди инертности других наций Германия дает нам неопровержимое доказательство пылающей жизненной силы. Без Германии Европа – это только улица, открытая всем вторжениям будущего».
Но впоследствии коллаборационизм, напротив, развивается в улицу с односторонним движением, так как Германия в эти трудные военные времена не испытывает интереса к ищущей себя фашистской Франции, которая с уверенностью в себе предъявила бы претензии на свою роль в «новой Европе». Правительство немецкого Рейха слишком озабочено военным обеспечением безопасности оккупированных стран, чтобы в разгар войны задуматься о европейском преобразовании, которое, во всяком случае, можно обсуждать и осуществлять в мирные времена.
Дриё реагирует разочарованно, так как он считает, что правительство Рейха находится в плену национально-шовинистического великодержавного мышления, и полагает, что Гитлер не осознал, что в век мировоззренческих войн границы между странами уже не играют никакой роли при выборе союзника. Не только фашисты в Париже все больше разделяют это убеждение, но и готовые к переговорам политики свободной зоны. История сохранила замечание заместителя премьер-министра Виши Пьера Лаваля, которое он сделал в беседе с Гитлером: «Вы хотите выиграть войну, чтобы создать Европу – вы должны создать Европу, чтобы выиграть войну». Однако Лаваль не понимает – или в данном случае не высказывает это из вежливости – что Гитлер до сих пор не представил четкую европейскую программу. Так это останется и до конца войны, сохранилось лишь несколько расплывчатых идей о «Пангермании», которая должна быть создана после войны. Даже в самой национал-социалистической верхушке рассуждения о «новой Европе» остаются малоконкретными. Единственный положительный вклад в дело Европы из кругов НСДАП исходит потому также не от Гитлера, Гиммлера или Геринга, а от рабочего кружка северогерманских и западногерманских областей (Arbeitsgemeinschaft der nord- und westdeutschen Gaue, AG Nordwest) во главе с Грегором Штрассером (1892-1934). Этот кружок внутри НСДАП разрабатывает нормативный проект к новой программе партии, который в плане европейской политики предусматривает таможенный союз со Швейцарией, Венгрией, Данией, Нидерландами и Люксембургом. Этот союз должен стать первым этапом к образованию «Соединенных Штатов Европы», ядром и движущей силой которых была бы Великогерманская империя.
Проект сторонников Штрассера не смог победить и так и остался единственным существенным продвижением в сторону Европы внутри всего национал-социалистического движения. Знаток европейских стремлений к объединению во время Второй мировой войны Ганс Вернер Нойлен пытается на основе статей и речей Адольфа Гитлера доказать, что Европа в представлениях немецкого вождя могла существовать, по меньшей мере, как великогерманская империя, где немецкий народ вместе с фламандцами, датчанами, норвежцами, шведами и другими германскими народами жил бы в отделении от славянских и романских народов, которые, во всяком случае, имели бы право создать свои маленькие и зависимые от Германии государства-сателлиты.
Катастрофа под Сталинградом (1942/1943) представляет собой важную веху в европейской политике Рейха. Немецкие вожди в 1943 году понимают, что строгое ограничение агитации лишь на германские компоненты больше не может высвободить новые, другие силы (не немецкого происхождения – прим. перев.), и потому «Европа против большевизма» становится новым боевым призывом геббельсовской пропаганды; сам Гитлер неодобрительно высказывается о применении понятия Европы в данном контексте.
Еще несколькими месяцами раньше Альфреду Розенбергу запретили проводить выставку из-за ее спорного названия «Борьба за Европу», и все европейские конгрессы или мероприятия были принципиально запрещены распоряжением Гитлера. Но, начиная с 1943 года, национал-социалистическое руководство, изначально, пожалуй, из тактических соображений, медленно и нерешительно приоткрывается европейской идее. Гиммлер, который прежде, как и Гитлер, был страстным противником расширения европейских добровольческих формирований на негерманские народы, теперь разрешает формирование частей даже из боснийских и индийских добровольцев.
Впоследствии войска СС (Waffen-SS) станут, прежде всего, общеевропейской армией, в которой встречаются и учатся уважать друг друга хорваты и французы, фламандцы и латыши, валлоны и эстонцы, и даже сражаются плечом к плечу с некоторыми неевропейцами. В 1944 году из 950 000 солдат войск СС 231 000 не являются немцами по происхождению. Потому не особо удивляет, что в этих новых войсках СС, в практическом военном еврофашизме, возникает общеевропейский дух, который отражается также на развитии основных политических идей.
Хауптштурмфюрер СС Александр Долецалек (1914-1999) проектирует, например, немецкую европейскую хартию, конечную цель которой представляет создание европейской конфедерации на основе национального социализма. Только происходит это лишь в 1945 году, когда уже слишком поздно наверстывать упущенные вождями Рейха шансы действиями одного отдельного солдата, хотя в войсках СС новая Европа давно стала фактом, ведь в траншеях Восточного фронта мировоззренческие тонкости не играют роли. Йозеф Геббельс, который уже в 1943 году выражает недовольство тем, что в национал-социалистических кругах слов «европейское сотрудничество» все еще боятся как черт ладана, 1 марта 1945 года записывает в свой дневник:
«В нашей восточной политике можно было бы достичь очень многого, если бы мы уже в 1941 и 1942 годах поступали по принципам, [...] за которые ратовал Власов. Но наши упущения в этом отношении теперь очень тяжело снова исправить».
Генерал Андрей Андреевич Власов (1901-1946) со своей стороны уже в 1942 году предлагал – безуспешно – немецкому руководству создать из русских добровольцев дивизии, которые должны были бы на стороне немцев на советской территории бороться против большевистских правителей. 250 000 русских и представителей других угнетенных народов СССР только в 1942 году вступают в добровольческие части, в 1943 году их уже 800 000, до конца войны целых 1,4 миллиона. Однако из-за антиславянских сомнений немцы разрешают создание русских дивизий лишь в 1944 году, но их численность вначале ограничивают 50 000 солдатами и, ко всему прочему, их плохо оснащают и вооружают.
Но не только на востоке Европы последствия подобных упущений оказываются роковыми. Неумные или непопулярные решения лиц, ответственных за немецкую оккупационную политику, вызывают, особенно во Франции, антинемецкие чувства.
Французскому добровольческому легиону (LVF), преобразованному 23 июля 1944 года в дивизию СС «Шарлемань», мобилизации равным образом мешают и Гитлер и Петэн, и потому дивизия никогда не насчитывает более 15 000 человек; но, несмотря на это, она сражается до конца войны, и частично еще несколько дней после. Дорио, руководитель PPF и доброволец на Восточном фронте, во время демонстрации в Париже, в которой принимает участие также и Дриё, объясняет смысл этого участия в войне: «Кровь, которую мы проливаем на Востоке, открывает нам ворота в Европу».
За это их наказывают вдвойне. С одной стороны, исходом войны и победой большевизма на Востоке, с другой стороны, своими же подстрекаемыми антифашистами земляками после возвращения домой. Десяткам тысяч французов в смутные времена Épuration («чистки») пришлось жизнью заплатить за свое реальное или предполагаемое сотрудничество с немцами, только 780 из них получают смертный приговор после судебного разбирательства, подавляющее большинство разъяренный сброд просто застреливает или забивает до смерти.
(Цифра жертв остается спорной. Вольф говорит о «как минимум 40 000» во время и сразу после освобождения, Нойлен называет общее число 105 000, с ним согласен и Пьер де Принже, действительное число явно ближе ко второй цифре. – прим. автора.)
Доброволец LVF и послевоенный автор Сен-Лу (Марк Ожье де Сен-Лу (1908-1990)) подвел отрезвляющий итог:
«Мы пожертвовали [...] национализмом ради единой и социалистической Европы. Но при молчании Германии и намеренно напущенном со стороны Гитлера тумане мы не догадывались, что этим мы только способствовали другому, новому национальному господству».
Но Пьер Дриё ла Рошель подвел итог иного рода; 15 июля 1944 года он в «Фашистском балансе» подводит окончательный критический итог национал-социалистической внешней политики с еврофашистской точки зрения и далее пропагандирует свой собственный европейский идеал. Однако публикацию этой работы запрещает Герхард Хеллер, которому как зондерфюреру, ответственному за литературную политику, подчиняется цензура книг в оккупированной Франции, и это несмотря на то, что в прочих случаях немецкая цензура была вполне великодушной.
Для Дриё национал-социалистическая революция провалилась, и причины этого он видит в том, что революционное обновление было остановлено еще до того, как национал-социалистическое преобразование Германии осуществилось полностью. Вместо этого революция сохранила «капиталистический персонал» и старые кадры Рейхсвера, тогда как 30 июня 1934 года, при подавлении так называемого путча Рёма, «правое крыло» НСДАП, которое впоследствии и несло ответственность за ошибки при ведении войны, следовало бы столь же жестко лишить власти.
Тем не менее, центральная проблема для Дриё – устарелость немецкой внешней политики, показавшей свою неспособность начать «революционную войну». Затем Дриё в общих чертах описывает свое представление о немецкой оккупационной политике в Европе, которое говорит само за себя и поэтому должно быть приведено здесь во всех деталях:
«1. Она [немецкая политика, Б. K.] могла бы отвергнуть любой жест, который напоминал бы о старой политике военных завоеваний, дипломатических предубеждений и экономических конфискаций. Она не вывешивала бы немецкие знамена на общественных зданиях, и не упраздняла бы национальные знамена и национальные гимны; она избегала бы парадов. Она всюду уважала бы национальную автономию в административном и политическом плане и не проводила бы аннексий в старом духе, вроде аннексий Богемии, Эльзаса, Северной Франции, Польши. Она не торопилась бы с конфискацией и арестом имущества частных предприятий, обществ, машинных парков, фабрик и банковских вкладов.
2. Зато она освободила бы военнопленных, провела бы плебисциты, чтобы заключить хотя бы временные мирные договоры между народами; она упразднила бы таможенные границы и ввела бы европейский таможенный союз.
3. Самым серьезным и глубоким способом она перешла бы от государственной политики к межгосударственной политике; свою национальную политику она связала бы с интернациональной политикой. Таким образом, она могла бы надлежащим образом сопротивляться нациям, которые являются ее самыми большими противниками: России, имеющей в своем распоряжении коммунистический интернационал, православный интернационал и, возможно, мусульманский интернационал, а также Америке и Великобритании, располагающими демократическими, масонскими, протестантскими, католическими и еврейскими интернационалами.
Лозунг «Европа» с помощью привлекающих внимание, глубоких и всесторонних мероприятий должен был быть воплощен в жизнь конкретным, положительным и однозначным способом».
Далее Дриё подчеркивает, что двумя самыми важными мерами в начале оккупации должны были бы стать референдумы и учреждение европейского союза, военную основу которого представляли бы СС, которые тем самым поднялись бы до «сборного пункта воинственной молодежи Европы».
Через эту европеизацию вооруженных сил оккупация европейских стран приобрела бы иной характер, так как тогда (фашистские/национал-социалистические/националистические) французы исполняли бы свой воинский долг во Франции, чехи в Богемии и норвежцы в Норвегии.
В дополнение к военному компоненту присоединился бы социалистически-европейский интернационал, правильным местонахождением которого, исходя из его положения, был бы Брюссель или Страсбург. Ввиду отсутствия правого интернационала отдельные движения вне Германии были обречены на поражение, например, движение Видкуна Квислинга в Норвегии.
Насилие было вполне законным, однако, применялось оно, разумеется, ошибочно. Франция ожидала бы кровавой расправы, касающейся, очевидно, старых, демократическо-капиталистических элит, но после этой расправы должно было бы наступить великое обновление, а также великие жесты великого победителя, такие, как создание европейского союза или разрешение возвращения домой военнопленных. Дриё продолжает: «Зачем нужно было бы аннексировать Эльзас, если со дня, когда Германия прекращает быть Германией, чтобы раствориться в Европе, вся Европа, так или иначе, становится немецкой?»
В том, что немецкое руководство не поняло этого, была – по словам Дриё – не в последнюю очередь вина «мелкобуржуазного происхождения Гитлера», из-за которого он закоснел в прошлом и мыслил устаревшими масштабами. Но также и радикальная критика Вермахта находит выражение в этом «Балансе». У этого «устаревшего и окостеневшего учреждения» была своя доля вины в катастрофе. В целом причинами неудачи в войне были недостатки в политической, экономической и социальной революции. Так как помимо всего прочего, отсутствовал революционный размах, и Германия застряла в своей «мелкобуржуазной и националистической обращенности назад» (реакционности – прим. перев.), было невозможно успешно вести войну одновременно против двух сверхдержав, США и Советской России.
Дриё добавляет к этому первому анализу последующий, который для него пробивается к «более глубокой причине»: недостаточные знания Гитлера о революционной акции как таковой, основы которых были поняты и сформулированы Марксом и Лениным.
При всей правомочной критике Маркса нужно согласиться с тем, что из его трудов произошла «мистическая ориентация», которая по существу означала радикальную критику капитализма. И Дриё продолжает: «Из-за того, что он не знал Маркса, Гитлер потерпел поражение».
Однако Дриё высоко ценит тот пролом в «демократическо-капиталистической стене», который пробили Гитлер и Муссолини, и который в этой форме не смог бы пробить ни один марксист.
Ведь фашизм, по мнению Дриё, был романтичным явлением и, собственно, первым выходом на политическую сцену действительно социалистического движения. Дриё продолжает: «Мы, европейские фашисты, мы будем по-настоящему революционными, какими мы и хотели быть. Мы можем умереть спокойно».
Из-за приближающегося ухода Гитлера и Муссолини откроется свободный путь для Сталина, который либо все выиграет, либо все проиграет. Дриё в конце своей работы пишет: «И не подвергнул ли он [Сталин, Б. K.] опасности ту революционную силу, которую он держит в руках? Станет ли для него уничтожение Гитлера самым удачным шахматным ходом или же величайшей ошибкой?»
Это был последний связанный с европейской политикой акт Дриё ла Рошеля, этого европейского духовидца, который искал общеевропейский «третий путь», одновременно антикапиталистический и антикоммунистический, и верил, что найдет его в европейском фашизме.
Опередив время, он уже в июле 1944 года знает, что выбор в ближайшем будущем будет лишь между коммунизмом или капиталистической демократией, что реально-политический фашизм, как, впрочем, также и его собственный идеалистический западноевропейский фашизм, обречен на гибель. Он готовится к концу и пишет свое литературное связное прощание: «Вступление», «Речь» и «Заключительное слово». За «Балансом», где он выступает в качестве обвинителя национал-социалистического руководства Германии, теперь следует Дриё как подсудимый будущего поколения, Дриё как защитник самого себя:
«Я не признаю себя виновным, я думаю, я действовал так, как я мог и должен был поступать как интеллектуал и как мужчина, как француз и европеец. В этот час я даю отчет не вам, а, в соответствии с моей позицией, Франции, Европе, людям».
Итак, вот он истинный Дриё, последний раз в наступлении.
7. РЕЗЮМЕ
Фашизм был, по словам Рольфа Дарендорфа, «искушением несвободы». Но вопреки тотальности фашистских движений (или как раз из-за нее?) повсюду были интеллектуалы, которые подпали под очарование тотальности этого искушения. От Мирчи Элиаде (1907-1986), Готфрида Бенна (1886-1956), Кнута Гамсуна (1859-1952), Эзры Паунда (1885-1972), Т. С. Элиота (1888-1965), Т.Э. Лоуренса («Лоуренса Аравийского», 1885-1930) до французских протагонистов фашистской интеллигенции: Бразильяка, Ребате, Жуандо, де Жувенеля, Селина и Дриё ла Рошеля; все они – частично временно, частично до конца своей жизни – в различной степени стали жертвой этого тоталитарного соблазна.
Так и не добившийся успеха фашизм во Франции между 1918 и 1945 годами также все время был сумбурной неразберихой из организаций, партий и отдельных лиц, основные идеологические позиции которых значительно разнились между собой. Поэтому правильнее говорить о «фашизмах» во множественном числе, ибо ни одна из идеологически конкурирующих группировок не смогла достичь статуса объединяющего движения и создать оригинальный, специфический французский фашизм – в отличие от Германии и Италии. Там НСДАП и Partito Nazionale Fascista (PNF, Национальная фашистская партия) поглотили большую часть ультраправых фракций и сформировали немецкий национал-социализм и, соответственно, итальянский фашизм. (Естественно, также в НСДАП и PNF были иногда сильно отклоняющиеся от главной линии идеологические течения. Но, в отличие от Франции, в этих странах была одна правящая партия, которая до сегодняшнего дня символизирует образ соответствующей идеологии. Потому, когда говорят об (историческом) национал-социализме в Германии или об (историческом) фашизме в Италии, с этими понятиями связывают в первую очередь идеологию Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а не, например, Отто Штрассера или Дино Гранди. Во Франции такого аналога нет.)
Эрнст Нольте, опираясь на существование множества фашистских организаций во Франции, выразил оценку, что в личности фашистского интеллектуала Дриё ла Рошеля, «вероятно, наиболее наглядно воплотилась разноцветно-яркая, трудно поддающаяся пониманию в ее неосязаемых изменениях сущность французского фашизма».
И, в самом деле, Дриё ла Рошель – лучший пример французского фашиста, политическое мышление которого иногда очень сильно варьируется и по этой причине остается столь трудным для понимания.
Дриё ла Рошель не был чисто систематическим мыслителем, по отношению к которому можно адекватно использовать политическую «схему левых и правых», ни до «ключевого 1934 года», ни после него, и, все же, есть аспекты, которые постоянно остаются частью его мировоззрения и характеризуют его. Это «единство Европы», одновременно антикапиталистический и антибольшевистский «третий путь» и неприятие буржуазного общества, которое он в его сущности воспринимает как декадентское. Так было в 1922 году, когда он, неопределенно склоняясь влево, пишет свое эссе «Mesure de la France». Но это было точно так же и двадцать лет спустя, когда он выразил эти взгляды во втором издании своего романа с фашистским подтекстом «Жиль».
Под влиянием отрицательного примера его отца Дриё начинает критически изучать политику и философию, в частности, через триаду Ницше, Сореля и Морраса. Под влиянием Ницше он испытывает неприятие «juste-milleau», посредственной умеренности, и отвергает «слабое», что воплощается для Дриё в Третьей республике и в ее буржуазном обществе. Ибо это общество не предлагает молодежи никаких перспектив кроме потребления и порочности. Направление главного удара у Сореля, позаимствованное Дриё, было подобным этому: нужно ликвидировать аморальное общество буржуазии и капитализма, чтобы, в крайнем случае, насильственным путем, создать пространство для морального обновления. Это обновление стремится осуществить также и Моррас, хотя он, в отличие от фашиста Дриё, понимает антидемократическое восстание как антимодернистскую контрреволюцию по отношению к результатам 1789 года. Дриё, который воспринимает массовое общество модерна как факт, уже не подлежащий пересмотру, стремится к овладению им и заимствует у Морраса, прежде всего, антидемократическое и элитарное направление его идеологии. С Моррасом Дриё совпадает также в отождествлении человека модерна с евреем (евреем «вообще»), что пропагандируется им, например, в «Жиле». Еврей в антисемитской трактовке представляется безродным космополитом, антисоциальное стремление к прибыли и жизнь без добродетели которого переносится и на коренных французов. Дриё ла Рошель пользуется здесь иррациональной и упрощенной критикой капитализма и общества, так как он объясняет такую сложную структуру как товаропроизводительный капитализм и его буржуазное общество образом врага – «еврея».
Неприятие буржуазного общества занимает, следовательно, центральную роль в развитии мировоззрения Дриё. Это неприятие – исходный пункт для отвержения демократии, либерального капитализма и Третьей республики как таковой. Так как антисемитизм (хотя и не полностью биологистический (расовый), так как еврей, по взглядам Дриё – в отличие от национал-социалистической точки зрения – может ассимилироваться) также является составной часть системы мира Дриё, его обращение к фашизму кажется последовательным.
В основе отвращения со стороны буржуа Дриё ла Рошеля к буржуазному обществу лежит отчужденность Дриё от его собственной среды. Когда он борется с декадансом общества, он борется и с частью самого себя. В часто сатирически или цинично написанных романах Дриё доводит декаданс буржуазии до апогея, хорошо зная, что его собственный образ жизни обнаруживает определенные сходства с образом его заклятого врага. Дриё отвергает буржуазное общество также потому, что оно, по его мнению, слишком неэнергично и слабо, чтобы противопоставить хоть что-то адекватное опасности напирающего коммунизма. Фашизм, как считает Дриё с 1934 года, это соответствующий времени динамичный ответ, синтез социального и национального.
Впрочем, это обращение к фашизму не может скрыть того, что другой главный момент идеологии Дриё, «видение Европа», это освобождение от связей с определенной нацией, едва ли совпадает с национально-шовинистическими лозунгами «старых» правых радикалов, к примеру, Action Française и Croix de Feu. Доктрина PPF стоит ближе всего к идеологии Дриё, включая фиксацию на Европу, причем концепция Европы Дриё остается интеллектуальной программой с утопическим моментом, которая не нашла полного одобрения даже среди правых коллаборационистов и могла бы осуществиться только в том случае, если бы Вторая мировая война в Европе переросла бы в «войну объединения» (Гизельхер Вирзинг).
Открытыми для будущих исследований остаются другие вопросы в «деле Дриё ла Рошеля» (Бернар-Анри Леви): Является ли Морис Баррес в понимании декаданса и адаптации Сореля непосредственным предшественником Дриё, как полагает Штернхелль? И, разумеется, в не столь научном ключе: Как можно объяснить, что антисемит и антикоммунист Дриё ла Рошель в своем самом близком окружении общался преимущественно с евреями, например, с Колетт Жерамек или Эммануэлем Берлем, и с коммунистами, такими как Андре Мальро или Жан Бернье? Другая проблема, которая все еще ждет своего исследователя, – это реальное, продолжающееся до сегодняшнего дня влияние Дриё на послевоенных французских радикальных правых.
Наконец, нужно еще возразить Эрнсту Юнгеру, который исходит из того, что самоубийство Дриё было «реакцией короткого замыкания» (т.е. действием в состоянии аффекта – прим. перев.). Скорее следует согласиться с Петером Бюргером, подчеркивающим, что фашистской воодушевленной убежденности Дриё с самого начала было свойственно что-то самоубийственное. Последовательность, с которой Дриё практиковал коллаборационизм, целеустремленно вела его к такому финалу. Здесь в последний раз раскрывается абсолютное и тотальное мышление Дриё ла Рошеля, когда он в своем «Заключительном слове» обращается к своим политическим противникам: «Оставайтесь верными идеалу движения Сопротивления, как я остаюсь верным идеалу коллаборационизма. Не обманывайте больше, чем делаю это я. [...] Никаких полумер».
Моральный компонент, вопрос исторической вины Пьера Дриё ла Рошеля, мы здесь осознанно оставляем открытым. Но так как интеллектуал, как замечает сам Дриё, обладает более высокими правами и обязанностями, то злым роком Дриё стало то, что он вступил на путь в этой тотальности. Дриё ла Рошель, кажется, и сам понял это в последние дни своей жизни, ведь дальше он дополняет, почти оправдываясь:
«Даже если они [интеллектуалы, Б. K.] ошибаются, то, все же, они взяли на себя необходимую миссию: быть не в том же месте, где масса. Впереди ее, позади или рядом с ней, это не играет никакой роли, но быть в другом месте. Будущее сделано из того, что видело большинство и меньшинство».
Так что и по этой причине имеет смысл выслушать то, что должно сказать меньшинство, в данном случае фашистская интеллигенция. Это поможет лучше понять проблемную область «фашистского искушения».
8. Приложение
Текст «Récit secret» («Тайного рассказа») был написан Дриё за несколько недель до его самоубийства. Разделенный на три короткие части «Вступление», «Речь» и «Я, интеллектуал», он представляет собой последнее объяснение его политической позиции, а также заключительное слово жизни Дриё. Три части приведены здесь в переводе Хайдегард Шуберт.
8.1. Вступление
Я должен говорить: «я», а не «мы».
Я бы охотнее говорил «мы», но, все же, я интеллектуал, и я привык поступать только от самого себя, а французы, в свою очередь, всюду, где они соединяются в группы, настолько не сходятся во мнениях, что недопустимо, говоря о том или другом, говорить «мы» и ручаться за кого-то другого, кроме как за самого себя.
Тем не менее, я хотел бы говорить о процессе, который одним способом касался всех, и который, несмотря на разницу происхождения, мнений, характеров, мотивов и целей в достаточной степени оправдывает свое название – коллаборационизм.
Я хотел бы говорить об этом процессе, потому что после августа 1944 года никому не было разрешено говорить об этом даже с самой незначительной памятью, самым незначительным человеческим чувством и самым незначительным правдоподобием. Довольствовались лишь самыми дешевыми оскорблениями и самой большой клеветой. И чтобы сделать эту нетребовательность еще удобнее, в прессе, с ораторской трибуны или перед судами обвиняли, за исключением некоторых принадлежащих к числу легенд главных лиц, только статистов, которым нечего было сказать, или же посредственных или легко изобличаемых в мерзостях представителей. Само собой разумеется, они признавали себя виновными, и это было также и всем, что от них требовалось.
Поэтому я пришел. Я не признаю себя виновным.
Во-первых, я не признаю ваше правосудие. Ваши судьи, как и ваши присяжные, назначены таким способом, который отодвигает в сторону любое представление о справедливости. Я предпочел бы военный трибунал; с вашей стороны это было бы откровеннее, менее лицемерно. Затем ни следствие, ни процесс не ведутся по правилам, которые являются, все же, основой даже вашего понимания свободы.
Тем не менее, я не жалуюсь на то, что противостою юстиции, которая обнаруживает почти все признаки фашистской или коммунистической юстиции. Я хотел бы только заметить, что действия вашей так называемой революции, чтобы действительно оправдать себя в моих глазах, должны были бы находиться на высоте ваших судебных усилий. Но в настоящее время революция, которой гордится движение Сопротивления, во всем подобна той, которой утешались в Виши.
И движение Сопротивления есть и остается силой, которую трудно определить и трудно классифицировать, силой между реакцией, старым режимом, парламентской демократией и коммунизмом; у нее есть части от всех этих вещей и, тем не менее, она ни из одной из них не черпает настоящей силы.
Я здесь, как многие другие, должен быть осужден чем-то довольно преходящим и недолговечным, на что уже завтра никто не решится ссылаться без колебаний и страха.
Я не признаю себя виновным, я думаю, я действовал так, как я мог и должен был поступать как интеллектуал и как мужчина, как француз и европеец. В этот час я даю отчет не вам, а, в соответствии с моей позицией, Франции, Европе, людям.
8.2. Речь
Чтобы представить свои мысли, я последую за ходом событий.
I. Перед войной я всегда был националистом и интернационалистом.
Интернационалистом не в пацифистском и гуманитарном духе; не универсалистом, а в рамках Европы. Уже в моих первых стихотворениях, написанных в траншеях и военных госпиталях в 1915 и 1916 годах, я показал себя как французский патриот и как европейский патриот.
Я всегда отвергал интеллектуальную ненависть по отношению к какому-либо определенному народу. Мои первые стихотворения были озаглавлены: Жалоба европейских солдат, Вам, немцы. («Я не ненавижу вас, но все же, я сопротивляюсь вам всей силой моего оружия».)
После войны я и дальше продолжал в этом же духе, я беспокоился о Франции, ее благополучии, ее гордости, и в то же время я возлагал свои надежды на Лигу наций.
Сначала я верил, будто капитализм может обновиться сам собой, потом я отказался от этой наивной веры и в 1928 или 1929 году стал считать себя социалистом.
Мои книги «Mesure de la France», «Genève ou Moscou», «L'Europe contre les patries» свидетельствуют о постоянстве этого двойственного ощущения, которое связывалось с критическим, слава богу, достаточно бодрствующим духом.
Я вдоволь изучил все партии во Франции и научился презирать их. Ни старые правые, ни старые левые мне не нравились. Я подумывал стать коммунистом, но это было только выражением моего отчаяния.
С 1934 мои сомнения и колебания закончились. В феврале 1934 года я окончательно порвал со старой демократией и со старым капитализмом.
Но когда коммунисты объединились в Народный фронт с радикалами и социалистами, я отошел от них. Я очень хотел бы объединить демонстрантов 6 февраля с демонстрантами 9 февраля, фашистов с коммунистами.
В 1936 году я верил, что смогу найти такое слияние у Дорио. Наконец, правые и левые встретились. Я был разочарован французским псевдофашизмом, как другие были разочарованы Народным фронтом. Двойной провал, выгоду от которого получил старый, лежащий при смерти, но все еще пронырливый режим.
С Дорио и с моими товарищами из Parti Populaire Français я хотел добиться следующего: Я хотел снова создать сильную Францию, которая освободится от парламента и от ордена (масонов – прим. перев.) и будет достаточно сильна, чтобы навязать Англии союз, в котором господствовали бы равенство и справедливость. Франция и Англия затем должны были обратиться к Германской империи и вступить в переговоры, в которых царили бы разум и твердость; мы должны были либо дать Германской империи протектораты, либо подтолкнуть ее на Россию. Таким образом, у нас в нужное время была бы возможность вмешиваться в конфликт.
Когда Дорио потерпел провал, как совсем обычный ла Рок (вождь авторитарного движения «Огненные кресты» – прим. авт.), мы находились в нелепой ситуации. После Мюнхена [Мюнхенское соглашение 1938 года], за который я выступил безрадостно и с презрением, я покинул Дорио, удалился в свой кабинет и ждал катастрофы.
У меня было очень ясное представление о процессах 1939 и 1940 годов; я знал, что во Франции была невозможна революция, которую сделали бы сами французы. Революция могла прийти только извне. Теперь я снова думаю так, но, все же, в 1940 году я вопреки всей вероятности питал надежду.
II. С начала войны
Я не исходил, как многие другие, из представления о французском поражении: Для меня это было только одним фактом, символизирующим куда более общую ситуацию. Господствующее положение Франции в Европе пропало со времени расширения Британской империи, объединения Германии, а также процессов в России и в Соединенных Штатах.
Новая градация сил в мире поставила нас на второразрядный уровень.
Мы неизбежно должны были быть в какой-то блоковой системе и занимать в этой блоковой системе подчиненное место. Мы получили этот урок из нашего союза с Англией (30 лет). Против этого факта уже больше никто не сопротивлялся.
Так как я однозначно принял и обнародовал этот факт – он, по моему мнению, не является болезненным, так как относится к развитию мира и уравновешивается в глазах гуманиста и европейца – ко мне, прежде всего, стали чувствовать отвращение. Это отвращение естественное, и только достойный этого имени интеллектуал в состоянии стоически вынести его: Он должен продолжать и дальше выполнять это неблагодарное задание.
С того мгновения, когда мы стали второстепенной державой, которая должна включиться в какую-либо систему, остается вопрос, какой союз Франции полезнее для страны и для Европы. Я никогда не отделял друг от друга обе эти цели, которые для меня могли быть только одной единой целью.
Немецкая система казалась мне выгоднее в сравнении с другими, так как у Америки, Британской империи, Российской империи слишком много своих собственных интересов – и слишком много интересов вне Европы, чтобы они могли бы взять на себя ответственность также и за эту Европу.
Или же они разделят Европу: это как раз и происходит. Я же, напротив, хотел достичь единства Европы от Варшавы до Парижа, от Хельсинки до Лиссабона. Только соглашение между Германской империей, первой и центральной державой с сильным промышленным и экономическим потенциалом, и остальными континентальными нациями могло бы поддержать это единство.
Германия представляла себе это соглашение как немецкую гегемонию. Я принял эту гегемонию, как я принял французскую и английскую в Женеве, ради европейского единства.
По этому пункту я часто менял свое мнение; временами я сильно критиковал идею гегемонии и предпочитал ей идею федерации. В другой раз я думал, что одна идея связана с другой: не бывает жизнеспособной федерации без гегемонии, не бывает и жизнеспособной гегемонии без федерации.
На основе этих общих представлений я принял принцип коллаборационизма.
Я в 1940 году прибыл в Париж, с твердой решимостью, и хорошо осознавая то, что я на долгое время порву с самой большой частью французского общественного мнения. Я в полной мере осознавал все неприятности, которые я навлеку этим на себя, проникающие глубоко в сердце неприятности; но вопреки моим страхам и моим отступлениям я принудил себя сделать то, что считал своим долгом.
Тремя существенными идеями, которые я всегда подчеркивал и постоянно совершенствовал, были:
1) Коллаборационизм между Германской империей и Францией мог рассматриваться только в качестве одного из аспектов европейской ситуации. Речь шла не только о Франции, но также и обо всех других странах. Речь шла не об особенном союзе, а об элементе всей системы. Потому здесь не было никаких эмоциональных элементов. Я никогда не был германофилом, я говорил это громко и отчетливо. И я сохранил в себе всю мою особую симпатию к английскому гению, с которым я был гораздо лучше знаком.
2) Я решительно старался сохранить свой критический ум, и я могу сказать, что я сделал это как можно лучше и даже за пределом возможного – по отношению к немецкой системе, как и по отношению к британской, американской или русской.
Я сразу увидел, что подавляющее большинство немцев не понимало масштаб задачи и новизну средств, которых она требовала.
3) Также в то время, когда я включился в систему унификации и подчинения, которая удовлетворяла или должна была удовлетворять мои интернациональные, европейские идеи, я собирался защищать французскую автономию, и для этого у меня были очень ясные представления о внутренней политике, с помощью которой должна была осуществляться эта защита Франции.
Какими средствами я пользовался, чтобы воплотить эти общие идеи? Давайте оставим область отвлеченного и абстрактного, и обратимся к личному поведению.
8.3. Я, интеллектуал
Я, в середине своей жизни, с полным сознанием вел себя так, как это соответствовало моему представлению об обязанностях интеллектуала.
Интеллектуал, ученый, художник – это не буржуа, как другие. У него есть более высокие права и обязанности, чем у других.
По этой причине я принял отчаянное решение; но во времена великого переворота каждый человек находится в том же положении, что и художник. Государство тогда не указывает ни надежное направление, ни достаточно высокую цель. Так это было в 1940 году. Маршал предлагал нам единство, но также и только оно одно: Это была тень без содержания. Поэтому одни смельчаки отправились в Париж, а другие в Лондон.
Тем, кто поехал в Лондоне, повезло больше; но последнее слово в настоящий момент еще не сказано.
Я был в Париже, и вместе с несколькими другими мы взяли на себя задачу выйти за рамки национального, противодействовать общему мнению, стать меньшинством, на которое смотрели сначала со сдержанностью, сомнением, недоверием, и, наконец, прокляли его, когда в Эль-Аламейне и в Сталинграде железные игральные кости были брошены на чашу весов.
Роль интеллектуалов, по меньшей мере, некоторых из них, состоит в том, чтобы стать выше событий, также исследовать шансы, риски, испытывать пути истории. Даже если они в данный момент ошибаются, то, все же, они взяли на себя необходимую миссию: быть не в том же месте, где масса. Впереди ее, позади ее или рядом с ней, это не играет никакой роли, но быть в другом месте. Будущее сделано из того, что видело большинство и что видело меньшинство.
Нация – это не единственный голос, это созвучие многих. Всегда будет существовать меньшинство; и мы были им. Мы проиграли, мы были объявлены предателями: Это справедливо. Вы были бы предателями, если бы ваше дело потерпело поражение.
И Франция осталась бы ничуть не меньше Францией; а Европа Европой.
Я принадлежу к интеллектуалам, роль которых состоит в том, чтобы быть в меньшинстве.
Но что такое меньшинство? Мы – несколько меньшинств. Большинства нет. Большинство 1940 года быстро распалось, ваше большинство тоже распадется.
Движение сопротивления. Все меньшинства. Старая демократия.
Коммунисты.
Я горжусь тем, что относился к тем интеллектуалам. Позже над нами станут склоняться с любопытством, чтобы услышать от нас звук, отличающийся от привычных. И этот слабый звук станет все сильнее и сильнее.
Я не хотел быть тем интеллектуалом, который осторожно взвешивает свои слова. Я мог бы писать тайно (я подумывал об этом), писать в неоккупированной зоне, писать за границей.
Нет, нужно брать ответственность на себя, присоединяться к нечистым группировкам, познавать политический закон, согласно которому всегда нужно принимать презренных или ненавистных союзников. Нужно, по меньшей мере, замарать ноги, но не руки. Я не замарал своих рук, а только ноги.
Я ничего не делал в этих группировках. Я присоединился к ним, чтобы вы смогли приговорить меня сегодня, поставить меня на уровень привычного, обычного приговора. Судите, как вы говорите, так как это вы – судьи или присяжные.
Я отдал вам себя в руки, так как я уверен, что хоть и не сегодня, но, все же, со временем ускользну от вас.
Но сегодня судите меня, целиком и полностью. Поэтому я и пришел.
Вы не ускользнете от меня, а я не ускользну от вас.
Оставайтесь верными идеалу движения Сопротивления, как я остаюсь верным идеалу коллаборационизма. Не обманывайте больше, чем делаю это я. Приговорите меня к смертной казни.
Никаких полумер. Мышление стало простым, оно снова стало тяжелым, оно не опускается снова до легкомыслия.
Да, я – предатель. Да, я был заодно с врагом. Я принес врагу французский разум. Это не моя вина, если этот враг не был разумен.
Да, я – не обычный патриот, не ограниченный националист: я – интернационалист.
Я не только француз, я европеец.
И вы тоже таковы, неосознанно или осознанно. Но мы играли, и я проиграл.
Я ходатайствую о смерти.
Дополнение:
Георгий Константинович Косиков
Может ли интеллигент быть фашистом?
Пьер Дриё Ла Рошель между «словом» и «делом»
Свободный выбор человеком самого себя полностью совпадает с тем, что принято называть его судьбой.
Жан-Поль Сартр. Бодлер
Позор всем тем, кто жалуется на свою судьбу»1. Пьер Дриё Ла Рошель до конца остался верен этому девизу, сформулированному им еще в молодости. Все, что он совершил, все, из чего сложилась линия его жизни, было результатом свободного и осознанного выбора. И точку в этой жизни он тоже поставил сам – свободно и осознанно.
Дриё Ла Рошель покончил с собой с третьей попытки. Первую он совершил 12 августа 1944 года, приняв смертельную дозу люминала. Тогда его спас неожиданный приход Габриэль, прислуги, успевшей вызвать скорую помощь. Всего через несколько дней, едва оправившись в больнице, Дриё вскрыл себе вены, на этот раз умереть ему не дала санитарка, заглянувшая в палату. Впрочем, и эта случайность уже не могла ничего изменить. Отпустив себе еще полгода, чтобы написать исповедальный очерк «Рассказ о сокровенном», Пьер Дриё Ла Рошель совершил наконец свой «уход в никуда» ранним утром 16 марта 1945 года, когда никто не мог ему помешать, он принял три упаковки снотворного и для верности открыл газовый кран. В оставленной записке была лишь одна строчка: «На этот раз, Габриэль, позвольте мне уснуть». Ему было 52 года.
Политические мотивы этого самоубийства лежат на поверхности: Дриё – один из наиболее известных французских интеллектуалов, поставивший свое перо на службу фашизму. Фашистское мирочувствование притягивало его с юности. Уже в годы Первой мировой войны Дриё, по его собственному признанию, «был законченным фашистом, сам того не ведая»2, а через 17 лет, вскоре после прихода к власти Гитлера и сразу же после попытки правого антипарламентского переворота во Франции (6 февраля 1934 г.) он сделал окончательный политический выбор, во всеуслышание заявив – в книге «Фашистский социализм» – о своей принципиальной приверженности фашистской доктрине. Не ограничившись декларациями, Дриё вскоре [258-259] совершил практический шаг – вступил (в июне 1936 г.) в профашистскую Французскую Народную Партию, созданную Жаком Дорио (бывшим коммунистом, исключенным из ФКП за два года до этого). На протяжении 30 месяцев – вплоть до разрыва с Дорио в январе 1939 года – Дриё вел непримиримую борьбу с идеями Народного фронта на страницах партийного органа ФНП, газеты «Национальная эмансипация», а его выход из партии был обусловлен еще более резким сдвигом вправо – в сторону гитлеризма, заставившим Дриё переступить ту грань, за которой начиналось прямое предательство национальных интересов Франции: сразу же после капитуляции (июнь 1940 г.) он пошел на прямое сотрудничество с оккупационным режимом, приняв предложение германского посла в Париже Отто Абеца об издании литературно-художественного журнала. Этим журналом стал «Нувель Ревю Франсез», в течение двадцати предшествующих лет бывший рупором независимых французских интеллектуалов, а в 1940—1943 гг. благодаря руководству Дриё Ла Рошеля, превратившийся в рупор коллаборационизма. Этой акцией Дриё сжег за собой мосты и потому после отставки Муссолини (июль 1943 г), прозвучавшей как один из первых сигналов об окончании фашистского похода в Европе, ему оставалось лишь сожалеть о несбывшихся мечтах («Так вот что такое фашизм! Сил у него оказалось не больше, чем у меня – философа в халате проповедующего насилие<...>. Марксисты были правы: фашизм в конечном счете – всего лишь буржуазная самозащита»)3, хотя, будучи искренним в своих убеждениях, он сохранил верность однажды сделанному выбору: «Не будь я так стар <…>, я должен был бы стать солдатом СС»4, записывает Дриё в середине 1943 года. С каждым месяцем кольцо сжималось все теснее, но если «старость» избавила Дриё от необходимости умереть с оружием в руках, то «гордость» не позволила спастись бегством: «Я мог бы уехать в Испанию, в Швейцарию, но нет <…>. Я не хочу отрекаться, не хочу скрываться, не хочу, чтобы ко мне прикасались грязные лапы»5. Но что значило «не отречься»? После Освобождения Дриё грозил суд по обвинению в измене Родине, публичный позор, презрение большинства писателей, таких друзей молодости, как Арагон. Это было страшнее всего, и самоубийство все чаще представлялось Дриё единственным выходом из положения. В июне 1944 года после высадки союзнических войск в Нормандии, он констатирует: [259-260] «У меня нет ни малейшего желания унижаться перед коммунистами, тем более перед французами, тем более перед литераторами. Я, стало быть, должен умереть»6. Эта мысль начинает преследовать Дриё: «Я боюсь бесполезных унижений... Лучше будет, если я спокойно и достойно <...> покончу с собой в подходящее время»7.
Несколько месяцев спустя такое время настало.
И по возрасту (он родился в 1893 г.), и по жизненному опыту Дриё, побывавший на фронтах Первой мировой войны, ходивший в штыковую атаку, несколько раз раненный, принадлежит к тому поколению западных европейцев, которое принято называть «потерянным». Возвращение к мирной жизни далось ему нелегко. Как и многие его сверстники, он надеялся, что, пережив четырехлетнее потрясение, Европа пробудится от спячки, в которой пребывала со времен «прекрасной эпохи», воспрянет духом. Однако, демобилизованный в 1919 году, Дриё сразу же попадает в среду полусветских интеллектуалов, не чуждую политики, но едва ли не наполовину состоящую из безвольных алкоголиков, расслабленных наркоманов и гомосексуалистов. Эта среда затягивает Дриё, и на протяжении 20-х годов он ведет «рассеянный» образ жизни – заводит любовные романы, бывает в публичных домах, много пьет, знакомится с наркотиками...
Такая жизнь не устраивает его, но накладывает отпечаток на все его мировосприятие: ему кажется, что послевоенная Франция – сплошная «клоака», населенная «недочеловеками», или «монастырь, переполненный добровольными кастратами»8, обреченный на то, чтобы в самом скором времени быть стертым с лица земли и изгладиться из человеческой памяти. Охваченный растерянностью, он находит для характеристики своей эпохи лишь одно словечко – «декаданс» и, главное, не видит никакого выхода из создавшегося положения: классическим буржуазным партиям правого толка он не доверяет, а на пролетариат, который, по его убеждению, вполне интегрировался в капиталистическую систему, не возлагает ни малейших надежд. В течение какого-то времени Дриё с симпатией присматривается к левым, прежде всего к радикалам во главе с Эдуардом Эррио (выведенным в романе «Жиль» под именем Жюля Шанто), но скоро разочаровывается и в них как в «партии бездействия». Больше всего [260-261] молодому Дриё импонируют энергичные коммунисты, однако члены ФКП в его глазах – не только «агенты Москвы», но и зачастую просто недалекие, умственно неразвитые люди (ср. в «Жиле» злой портрет коммуниста Лорена).
20-е годы задают направление всех дальнейших духовных поисков Дриё Ла Рошеля, а в следующем десятилетии он уже приобретает известность как журналист и как писатель.
В первую очередь Дриё – политический публицист, автор таких эссе, как «Мера Франции» (1922), «Молодой европеец» (1927), «Женева или Москва» (1928), «Европа против отечеств» (1931), «Фашистский социализм» (1934), «Рядом с Дорио» (1937), «Политическая хроника» (1944), «Европейский француз» (1944) и др.
Однако по-настоящему его влекла слава творца, писателя-интеллектуала, «властителя дум». И хотя с юности он мучился мыслью о том, что писатель по самой своей сути – это ущербное существо, «созерцатель», который не столько живет, сколько размышляет о жизни и ее «изображает», значительная часть его собственной жизни прошла именно за письменным столом. Дриё принадлежит целый ряд новеллистических сборников, повестей и романов: «Гражданское состояние» (1921), «Жалоба на неизвестного» (1924), «Мужчина, облепленный женщинами» (1925), «Последовательность в мыслях» (1927), «Блэш» (1928), «Женщина у окна» (1930), «Светлячок» (1931), «Странное путешествие» (1933), «Дневник обманутого мужчины» (1934), «Комедия Шарлеруа» (1934), «Белукья» (1936), «Мечтательная буржуазия» (1937), «Жиль» (1939), «Всадник» (1944) и др.
Наиболее удачное беллетристическое произведение Дриё – роман «Жиль». До середины 30-х годов ему не хватало ни терпения, ни опыта, ни смелости, чтобы решиться на «крупную вещь», и он ограничивался новеллами, небольшими повестями и автобиографическими набросками, в которых проявилось его литературное дарование: Дриё умел смешать «черное» и «розовое», создать атмосферу, где горькое ощущение безысходности, а временами и подлинного трагизма соседствует с искренним лиризмом и неожиданной иронией.
Успех пришел к Дриё в 1934 году, когда он опубликовал сборник новелл «Комедия Шарлеруа», где рассказал о том, что ему пришлось перечувствовать на войне. Благожелательный прием помог Дриё поверить в свои силы, и он взялся за «Мечтательную буржуазию» – свой первый «большой» роман, вышедший в 1937 году. Затем последовал «Жиль» – произведение, которое Дриё вынашивал с 20-х годов: он хотел «сказать в нем все». [261-261]
«Жиль» не претендует на литературную новизну и чужд всякого экспериментаторства (хотя Дриё высоко ценил итальянских футуристов и французских сюрреалистов, со многими из которых был близко знаком, тем не менее как писателя их опыты оставили его вполне равнодушным). «Жиль» – «традиционное» повествование, имеющее двоякую жанровую природу. С одной стороны, это сатирическое нравоописание послевоенной Франции; ведь Дриё давно хотел вынести полновесный «обвинительный приговор» «капиталистической демократии», показать «изнанку современного «общества». В соответствии с этим замыслом в первой части романа вскрывается «изнанка» войны, во второй – «изнанка» сюрреалистического авангарда с его гротескными попытками обрести политическое лицо, а в третьей – «изнанка» парламентской Третьей Республики, обманувшей надежды таких бывших фронтовиков, как Дриё, причем разоблачительный пафос романа, ирония и издевка, которыми он пропитан, едва ли не целиком определяются национал-фашистскими позициями, на которых автор стоял в конце 30-х годов («Жиль» писался как раз в тот период, когда Дриё состоял в партии Дорио).
Вместе с тем «Жиль» – типичный «роман воспитания», в котором изображается духовное становление героя на протяжении 20 лет – с 1917 по 1937 год. Молодой Жиль, своего рода простодушный «пикаро» XX века, попадает в послевоенный Париж, в мир богачей, политиков, роскошных женщин, литераторов-авангардистов и поддается всем соблазнам, быстро приобретает опыт, а с ним и цинизм, однако, понимая, что катится по наклонной плоскости, спохватывается и в эпилоге находит свое подлинное место в жизни – в рядах фалангистов, сражающихся против республиканского правительства Испании.
Жиль, таким образом, получает фашистское воспитание. Роман любопытен тем, что позволяет изнутри проникнуть в психологию целого поколения «молодых европейцев», пришедших с фронтов Первой мировой войны, травмированных ею, без всякой передышки попавших в социально-политический водоворот 20-х годов и увидевших спасение лишь на «правом» берегу.
Главное достоинство Дриё-повествователя в том, что он умеет вызвать у читателя доверие, добиваясь этого за счет особой, свободно-разговорной манеры повествования, ведущегося в разных регистрах и разном темпе, полного задержек и перебивов, характерных для устной речи: создается впечатление, что автор не сочиняет роман, сидя за письменным столом, а совершенно спонтанно нашептывает слушателю-конфиденту свои самые сокровенные тайны. [262-263]
Такое впечатление верно. Дриё был искренним писателем, и писал-то он прежде всего для того, чтобы исповедаться. Не только «Жиль», – вся проза Дриё сугубо автобиографична: в сущности, он умел говорить только о себе самом, себя одного видел, описывал лишь свои собственные проблемы и переживания, но при этом никогда собою не любовался, а напротив, стремился добраться до самых болезненных точек своей души.
«Гэаутонтиморуменос» («сам себя истязающий») – сказал бы о нем Бодлер, а один из современных критиков назвал его «мифоманом наизнанку». Действительно, воспроизводя свой жизненный опыт, Дриё в первую очередь стремился изжить его отрицательные стороны, заставляя своих двойников (героев сочиненных им романов) совершать поступки, на которые он сам не отважился бы: наркоман Ален, герой «Светлячка», которого манит смерть – так же, как она манила самого Дриё –, в конце концов кончает с собой, переступает черту, тогда как Дриё в конце 20-х годов остановился у самого края; Жиль под вымышленным именем отправляется в Испанию, чтобы в рядах фашистского интернационала вновь обрести «чувство локтя», ощущение «боевого товарищества», по которому он тосковал в течение двадцати лет, между тем как сам автор так и остался в Париже.
Герои Дриё доводят до логического конца его грезы, мечты, – то, что в нем самом существовало лишь в форме побуждения или замысла. Он прекрасно осознавал свою внутреннюю драму и без устали, на множество ладов, разыгрывал ее в своих произведениях, зная, что это – драма мелкого буржуа, выбитого из привычной социальной ячейки, «беспочвенника», в котором до самой смерти враждовали два существа – «человек-созерцатель» и «человек действия».
В первую очередь эта драма коснулась политической мысли Дриё. Уже вскоре после Первой мировой войны он с тревогой констатировал, что не только Франция утратила ведущее место в Европе, но и сама Западная Европа, расслабленная дарами индустриальной цивилизации, погрязшая в потребительстве, лени и роскоши, оказалась у опасной черты, не имея сил противостоять жизненному напору двух новых мировых гигантов – США и СССР; вот почему западно-европейские страны должны, пожертвовав частью национального суверенитета, объединиться в федерацию. Правда, первоначально Дриё мечтал о равноправном содружестве, однако с течением времени шансы Франции на национальный подъем падали в его глазах все больше, тогда как Германии, в которой назревала национал-социалистская [263-264] революция, напротив, повышались. Даже признавая, что немецкий фашизм представляет собой зло, Дриё был убежден, что это зло благотворно и совершенно необходимо для излечения европейской цивилизации и прежде всего – Франции, утратившей в XX веке «душу и тело»; «будучи европейцем <...>, я отнюдь не опасаюсь пангерманской тенденции»9, – писал он в «Фашистском социализме». В условиях нарастания нацистской угрозы Дриё всю вторую половину 30-х годов колебался между французским «национализмом» и германо-фашистским «интернационализмом», однако в 1940 году ему пришлось сделать окончательный выбор, а еще через 5 лет сполна за него расплатиться.
Примечательно, впрочем, другое. Как и его герой Жиль, Дриё «плохо знал итальянский фашизм и имел лишь самое смутное представление о гитлеровском движении. Однако в целом он полагал, что фашизм и коммунизм движутся в одном и том же направлении – в направлении, которое ему нравилось. Коль скоро коммунизм оказывался неприемлем, <...> то оставался фашизм. Жиль заметил, что он, сам того не ведая, инстинктивно тянется к фашизму»10.
Дриё – «инстинктивный» фашист. Исторический фашизм в значительной мере оказался для него лишь социально-политической декорацией, на которую он попытался спроецировать свой индивидуальный миф, сформировавшийся уже в детстве.
От отца Дриё унаследовал слабую психическую организацию, страх перед практической жизнью, склонность к «витанию в облаках», к «черной меланхолии» и саморефлексии. Его любимым чтением был «Дневник» Амьеля, а сам он всю жизнь вел интимные записи, стремясь разобраться в «тончайших движениях своего существа». Однако, в отличие от швейцарского мечтателя, Дриё грезил не об уединении, но о бранной славе: ребенком он часами не отрывался от красочных альбомов с изображениями Наполеона, его героических маршалов и солдат («Я узнал Наполеона раньше, чем узнал Францию, Бога и самого себя»11), а с 14 лет «Заратустрой» и романами Мориса Барреса. Грезя о дерзновенном поступке, о роли «предводителя», но на деле способный отважиться лишь на посещение публичного дома в компании таких же юнцов, как и он сам, Дриё презирал и ненавидел в себе пассивного «созерцателя», доходя в этой ненависти до жажды самоуничтожения. [264-265] Именно с этим чувством он попал на войну. Быть как можно скорее убитым, чтобы покончить с внутренней драмой – вот сокровенное упование Дриё летом 1914 года: «Я призывал войну, потому что хотел умереть, хотел, чтобы смерть стерла с лица земли то непомерно слабое существо, которым я себе казался»12, – признавался он впоследствии своему другу Андре Сюаресу. Но 23 августа, в Бельгии, под Шарлеруа, случилось событие, о котором Дриё вспоминал всю оставшуюся жизнь и которое хоть в какой-то мере примирило его с самим собой: он принял участие в штыковой атаке: «Я поднялся во весь рост <… > Я кричал, бежал, звал за собой <…> Я работал руками и ногами. Я хватал людей за шиворот, отрывал от земли, тащил вперед. Я их гнал и толкал, я был организатором атаки»13. Именно в августе 1914 года Дриё понял, что и он – хотя бы изредка – способен становиться «мужчиной», даже «вождем». Вот почему война всегда вызывала у него двойственное отношение.
Подобно Барбюсу, Ремарку или Селину, Дриё не мог не испытывать отвращения к промерзшим, кишащим крысами окопам, к грязным, вшивым соседям по землянке, к смердящим трупам на бруствере. Однако по-настоящему ужасала его не смерть на войне, а ее массовый анонимный характер, когда уничтожают друг друга не два воина, состязающиеся в отваге и силе, а два человеческих «скопления», разделенные сотнями, а то и тысячами метров, друг друга не видящие и ничего друг о друге не знающие. Солдат на такой войне – простой придаток механизма, предназначенного для убийства, «вспомогательная деталь» винтовки, пулемета или пушки, и вот это-то ощущение своей случайности как личности более всего унижало Дриё Ла Рошеля. Он отвергает не убийство как таковое, а лишь «современное» (безличное и бездушное) убийство, которому противопоставляет «очеловеченные» схватки – те, которыми он любовался на страницах своих альбомов, о которых читал в приключенческих романах или в книжках Киплинга, где противники, сойдясь в смертельном единоборстве, имеют возможность взглянуть друг другу в глаза перед тем, как нанести последний удар («Человек должен убивать другого человека лишь тогда, когда он его видит, на расстоянии вытянутой руки»14, – писал Дриё в «Комедии Шарлеруа»). Вынося приговор первой мировой бойне, Дриё делал это отнюдь не во имя «вечного мира», но во имя «вечной», или, как он еще выражался, «идеальной» войны. [265-266]
Такая война, разумеется, предполагает и идеального героя. Воображая себя то эпическим Роландом, то странствующим рыцарем, то испанским фалангистом или солдатом-эсэсовцем, Дриё всегда мечтал о приобщении к высшей касте – касте «воинов» и «сверхчеловеков». Даже свое необоримое влечение к смерти (задетый снарядом под Шарлеруа, он воскликнул: «Какое счастье!.. Теперь я узнаю, что такое смерть»15) он попытался сублимировать, представить как жажду доблестной гибели на поле брани.
Дриё всей душой прочувствовал знаменитый клич испанского генерала Милана Астрея: «Viva la Muerte!», ибо смерть он воспринимал не только как способ изжить беспокойство Эроса и раствориться в абсолюте небытия, но и как сущность жизни: «Нужно убить кого-нибудь собственными руками, чтобы понять, что такое жизнь»16, – писал он в «Молодом европейце» и добавлял: «Только люди, умеющие умирать, имеют право на жизнь»17. Более того: «Если человек готов к тому, чтобы быть раненным или убитым, то разве не имеет он права ранить и убивать в свою очередь? А если это его право, то не превращается ли оно в обязанность?»18. Под пером Дриё способность к убийству становится критерием человеческой полноценности: «Есть два рода мужчин: воины и все прочие»19>, удел воинов – «слава и страдание»; удел «всех прочих» – посредственное существование. На вопрос: «кого же можно убивать?» Дриё отвечал: «тех, кого презираешь», то есть тех, кто не принадлежит к касте «воинов» и, далее, «воинов» из противоположного стана.
За этими мрачными рассуждениями стоит, конечно, определенная мифологема, вскормленная ранним, торопливым и пристрастным чтением Ницше, – мифологема, имеющая три основных аспекта.
Во-первых, Дриё славит смерть потому, что она, в соответствии с ницшевской идеей «вечного возвращения», является необходимым залогом постоянного обновления жизни, происходящего в процессе ее стихийного самоуничтожения – гибели всего старого, из которого, словно из умирающего зерна, с необходимостью рождаются побеги молодого бытия. «Смерть – это не небытие, это продолжение жизни!»20 – восклицает Дриё, причем «новая» жизнь оказывается для него ничуть не более совершенной, нежели «старая»; она «лучше» [266-267] просто потому, что «новее», потому что в ней больше витальных соков, и этот факт уже сам по себе оправдывает ее безжалостное торжество над всем, что отжило свой срок.
Вот почему, во-вторых, борьба и насилие, по убеждению Дриё, представляют собой нечто самоценное, укорененное в самой жизненной практике индивида, отвечающее его исконным инстинктам.
В 1936 г. Дриё в ответ на одну из своих воинственных статей в «Национальной эмансипации» получил письмо от молодой женщины, сожалевшей о том, что ей пришлось родить сына, ибо она не желает его гибели на очередной войне. Дриё не полез за словом в карман: «Вы произвели на свет ребенка не для того, чтобы он просто жил, ел и занимался любовью; вы произвели его ради того, чтобы он утвердил нечто»21; это «нечто», согласно Дриё, – вовсе не нравственный идеал, ради которого можно пожертвовать жизнью, но лишь жажда самоутверждения, реализующаяся в столкновениях с себе подобными: «единственное, для чего рождаются люди, так это для войны»22, – писал Дриё еще в «Фашистском социализме» и пояснял: «Я полагаю, что инстинкт насилия настолько же необходим, извечен и плодотворен для человека, как и инстинкт половой <...>, он <...> таится внутри всякого чувства ответственности, внутри любой жажды самопожертвования»23.
В-третьих, наконец, Дриё переносит свою мифологему из индивидуального плана в общественный. Социальная жизнь для него – это витальная схватка различных коллективных (прежде всего национально-государственных) воль, воплощенных в соответствующих «идеологиях», ориентированных вовсе не на достижение истины и не на улучшение мира, а на подавление друг друга. «Идеология» – это сила, стремящаяся перебороть другую силу, воплощенную в чужой идеологии: «Любая война предстает как антагонизм двух идеологий <...>. Мнения противопоставляют не только индивидов, но и целые народы»24. «Природа вещей заключается в том, чтобы одни помыслы вступили в столкновение с другими; именно тогда начинает звучать музыка и раздается вечный рокот барабана войны»25.
Следует отдать Дриё должное: он не изменил своим принципам до самого конца, пытаясь лишь скорректировать их применительно к менявшейся социально-политической ситуации. Исходным для него [267-268] всегда являлся тезис о старческом одряхлении западной цивилизации, исчерпавшей к началу XX века свои жизненные соки. Проблема же, которую предстояло решить, сводилась к двум пунктам: 1. Следует ли безвольно наблюдать за угасанием безнадежно больного? Не лучше ли помочь ему поскорее отправиться на тот свет? 2. Где найти те витальные силы, которые, разорвав оболочку умирающего зерна, пробьются к свету в неудержимом жизненном порыве?
На первый вопрос у Дриё всегда был один и тот же ответ: падающего толкни. «Чтобы воспрепятствовать медленному разрушению, которое я наблюдаю повсюду, чтобы остановить гибельную эволюцию, я хочу противопоставить ей немедленное и полное разрушение»26, – писал он еще в «Молодом европейце». «Человек, пинком ноги отшвыривающий негодные часы, поступает куда более нравственно и разумно, нежели тот, кто упрямо пытается их починить»27.
Что касается второго вопроса, то, будучи французом, Дриё долгое время надеялся, что обновить и объединить Европу сумеет именно его родина («Я всегда был националистом и европейцем»28: это – ключевая политическая формула Дриё). Однако, убедив себя, что от Франции, представляющей собой «разлагающийся труп» парламентской демократии, ждать нечего, что она безнадежно упустила свой шанс на благодетельный катаклизм («никто не сумеет разуверить меня в том, что если бы в 1934 или в 1936 году Франция совершила революцию [революцию фашистскую или революцию коммунистическую], то в 1940 году ей не пришлось бы воевать, т. к. ее отношения с Германией оказались бы гораздо более определенными»29, – записывает Дриё в 1944 году), Дриё в конце концов делает ставку на «молодую силу» и «жизненный порыв» немецкого фашизма, на эсэсовца, который рисуется ему в облике монаха-воина, призванного огнем и мечом уничтожать в Европе остатки «декаданса». Констатировав в 1943 году «крах фашизма», Дриё вовсе не сделал отсюда вывода и о крахе собственного мифа, не отказался от мечты об «очистительной буре», которая должна пронестись над Европой: чем ближе к концу, тем чаще звучит у Дриё мысль о том, что дело «возрождающего разрушения», которое не удалось Гитлеру, скорее всего довершит Сталин с его громадными армиями, готовыми вторгнуться на западноевропейские пространства. Со страхом и надеждой [268-269] он обращает взоры на восток. «Я ожидаю гуннов»30 – такова последняя запись Дриё Ла Рошеля. Он умер, ничего не забыв, ничему не научившись и в сущности ни в чем не раскаявшись.
Культ «воина-вождя», «вечной войны», неотрефлектированного действия и насилия (подпитываемый чтением не только Ницше и Киплинга, но и Ч. Дарвина, Г. Спенсера, революционного синдикалиста Жоржа Сореля, Мориса Барреса и Шарля Морраса, Габриеле Д'Аннунцио и Филиппо Маринетти) – этот культ выполнял в жизни Дриё компенсаторную функцию, что не являлось секретом ни для него самого, ни для его современников: «Мои недруги прекрасно уловили – и это было достаточно очевидно – женский, инвертированный характер моей любви к силе»31.
Женственность, пытающаяся восполнить себя сверхмужественностью, – вот психологический исток «двойственности» Дриё, о котором (в рецензии на «Фашистский социализм») Жюльен Бенда писал так: «Его фашизм – это не столько политическая доктрина, сколько моральная установка – ницшеанская воля к постоянному самопреодолению, презрение ко всему статичному, неподвижному, к мирным радостям, символом которых представляется ему демократия. Он ненавидит клерка, который жизненным опасностям предпочитает уединение в четырех стенах, где он мог бы предаваться размышлениям по совести. И однако этот культ героизма уживается с неподдельным сочувствием к малым мира сего. У этого фашиста социалистическое сердце. Вот в чем его драма»32.
Драму, о которой говорит Бенда, пережил не один Дриё Ла Рошель, это драма значительной части европейской интеллигенции XX века. Суть ее Бенда описал еще в 1927 году в знаменитом эссе «Предательство клерков»33.
В первой половине нашего столетия «клерками» во Франции называли (да и сейчас еще называют) «образованных», «грамотных» людей, причем не просто «интеллектуалов» (специалистов в той или иной области умственного труда), но скорее тех, кого мы именуем «интеллигентами», имея в виду не уровень их умственного развития или характер профессии, а их нравственную позицию в мире. Именно [269-270] эту позицию, доказывает Бенда, предала значительная часть современных клерков-интеллигентов. Именно в их рядах оказался Пьер Дриё Ла Рошель.
Слово «клерк» происходит от церковнолатинского «клирик». В Средние века «клир» представлял собою группу людей (отчасти напоминавшую буддийскую сангху), которые, как правило, не добывали себе пищу, не производили материальных благ и не воевали, но, в сущности, жили за счет мирян, добровольно взявших на себя заботу об их обеспечении. Если мирянин жил «мирскими заботами», т. е. индивидуальными и групповыми (семейными, классовыми, национальными и т п.) интересами, то за что же он кормил клирика, какие функции ему отдавал? Чем тот был призван заниматься? Только одним: поиском истины. Чему служить? Справедливости. Что создавать? Пространство мыслительной культуры, организованное неутилитарными идеалами и вознесенное над миром «мирской суеты». «Царство мое – не от мира сего», – мог бы сказать о себе каждый подлинный клирик, и тем не менее в любом традиционалистском обществе «клир» возникал не вопреки, а благодаря воле мирян, пользовался поддержкой и почитанием с их стороны.
Не имея возможности помешать мирянам жить «страстями», совершать насилия и преступления, «клирики» всегда более или менее успешно препятствовали тому, чтобы люди сублимировали свои корыстные инстинкты, находили им нравственное оправдание; именно благодаря клирикам, подчеркивает Бенда, человечество, неустанно творя зло, поклонялось все же не злу, а добру. Именно клирики во все времена были совестью человечества, не позволяя угаснуть его вере в собственное «достоинство».
Новоевропейский клерк-интеллигент – прямой наследник прежнего клирика, ибо в расчет следует принимать не его личные слабости или достоинства (Гёте, например, по его собственным словам, «едва только в мире политики вырисовывалась серьезная угроза, своевольно уносился мыслями как можно дальше»34, тогда как Руссо или Шатобриан, близко принимавшие к сердцу дела «века сего», непосредственно в них вмешивались, Эразм Роттердамский и Кант, сами сторонясь политических распрей, старались привить согражданам чувство совести и справедливости, зато Вольтер в деле Каласа или Золя в деле Дрейфуса проявили незаурядную гражданскую твердость), но его нравственную установку – убежденность в том, что совестливый [270-271] разум и насилие несовместимы и что интеллигент может служить лишь истине, а не тому или иному мирскому «делу».
Беда в том, что трещина, так или иначе всегда существовавшая между «клерками» и «мирянами», к началу XX века превратилась в настоящую пропасть: современные «миряне» сводят счеты между собой, не обращая никакого внимания на голос интеллигенции, а в крайних случаях физически изолируют или просто уничтожают ее. Существует, замечает Бенда, надежный критерий, позволяющий узнать подлинного «клерка»: чем тверже его убеждения, тем неподдельнее ненависть к нему со стороны «мирянина», и наоборот, похвалы «мирян» служат верным признаком того, что интеллигент изменил своему призванию.
Вот эта-то измена и составляет главный предмет размышлений в книге Бенда. Во всех странах, пишет он, среди «клерков» появилось множество «предателей» (Бенда называет, в частности, Ф. Брюнетьера, М. Барреса, Ш. Морраса, Ш. Пеги, Г. Д'Аннунцио, Р. Киплинга) – людей, поставивших свой интеллект на службу классовым, национальным или расовым интересам.
Если Эрнест Ренан, этот типичный «клерк» XIX века, был вполне убежден в том, что человек «не принадлежит ни своему языку, ни своей расе, но принадлежит лишь самому себе, ибо он – свободное и, стало быть, нравственное существо»35, то уже через несколько десятилетий Морис Баррес, этот типичный «предатель» XX века, дал Ренану холодную отповедь: «Нравственен тот, кто не стремится к свободе от собственной расы»36. Рубеж веков (канун Первой мировой войны) – свидетель массового перехода историков, филологов, писателей в лагерь «мирян», «политиков», использовавших свои гуманитарные познания для торжества того или иного социального «дела». «Подлинный историк Германии, – цитирует Бенда одного немецкого профессора, – должен сообщать лишь те факты, которые способствуют величию Германии»37, а М. Баррес одним из первых сформулировал идею верховенства национального интереса над совестью: «Даже если моя родина не права, ее все равно следует оправдать»38 (ср. позднейшее: «Права моя страна или не права, но это – моя страна»). «Клерки», подобные Барресу, сознательно, хотя и не [271-272] без усилий, сбросили с себя путы идеализма, ибо истина для них стала определяться пользой, а справедливость – интересами и обстоятельствами.
Разумеется, подчеркивает Бенда, интеллигенту отнюдь не заказано испытывать симпатию к тому или иному мирскому «делу» и даже бороться за него, но сама эта симпатия объясняется тем, что в какой-то момент клерк поддается иллюзии, будто речь идет о борьбе за «правое» дело, способное привести к торжеству человеческих идеалов. Душа, уставшая от созерцания, от «невмешательства», мучимая чувством бессилия перед лицом творящегося зла, может вполне искренне поддаться подобной иллюзии. Гораздо чаще, однако, такая иллюзия служит лишь способом обмануть собственную совесть, выполняет функцию успокоительного лекарства, создает человеку нравственное алиби.
Что касается таких, как Дриё, то они, не испытывая потребности ни в каких алиби, отвергли любые попытки самооправдания: Дриё даже и не пытался убедить себя или других, будто борется за «правое дело»: с самого начала он знал, что им движет инстинкт самоутверждения: «Я хотел быть совершенным человеком, – записывает он в дневнике за полтора месяца до самоубийства, – не просто кабинетной крысой, но еще и воином, способным брать на себя ответственность, умеющим не только получать, но и наносить удары»39.
Симптоматичен сам факт длительного колебания Дриё между французским национализмом, русским большевизмом (петроградский октябрь искушал его своим «цинизмом» и «насильственностью») и немецким национал-социализмом, и если в конце концов он бросился в объятия германского фашизма, то сделал это лишь потому, что именно последний, как ему представлялось, воплощал исторически восходящую линию в мировом цикле «вечного возвращения».
Таким образом, Дриё, отнюдь не пытаясь примирить в себе «клерка» и «воина», с полной ясностью осознавал наличие непреодолимого антагонизма между ними, однако, в отличие от Жюльена Бенда, ставку он сделал не на первого, а на второго: «Современному человеку, – говорится в «Фашистском социализме», – слишком просто стать клерком. Напротив, чтобы остаться воином, ему нужно сделать над собою усилие»40, на что, правда, Бенда, а с ним и [272-273] небольшая кучка западных «клерков», не пошедших на «предательство», могли бы возразить: ныне, когда вся Европа разделилась на противоборствующие станы, вовсе не требуется усилий, чтобы оказаться в одном из них в качестве «воина»; но почти нечеловеческое мужество нужно тому, кто решил во что бы то ни стало остаться «клерком»: такой человек должен не только на долгие годы «задержать дыхание», чтобы в его легкие не проник зараженный воздух Европы, но и продолжать свою гуманистическую проповедь без всякой надежды быть расслышанным, но зато ежечасно рискуя быть оплеванным, оболганным, лишенным свободы, а то и просто убитым.
Несомненно одно: решительно противопоставляя «слово» и «дело», рефлектирующую «созерцательность» и неотрефлектированный «поступок» («Мы делали историю, а это совсем не то же самое, что читать о ней»41, – не без вызова заявлял он), Дриё искал твердой, «последней» позиции в мире, хотя его поиски больше всего напоминали судорожные метания человека, хватающегося за все проплывающие мимо соломинки.
Строго говоря, сам Дриё за свою жизнь совершил всего два полноценных поступка – в августе 1914 года, когда он сумел подняться в штыковую атаку, и в марте 1945 года, когда он добровольно ушел из жизни. Все остальное (публицистические книги, политические выступления, участие в руководящих органах ФНП и даже коллаборационизм) было, в сущности, «полупоступками», оставлявшими пути для отступления. Дриё, если воспользоваться выражением Сартра, то и дело «ангажировался», но делал это лишь затем, чтобы немедленно «дезангажироваться», как бы взять свои слова (и «поступки») обратно.
Так, его недолгий «роман» с радикал-социалистами в 20-е годы кончился ясным осознанием того, что, будучи последовательно проведены в жизнь, их идеи непременно обернутся анархией. Вспоминая Первую мировую войну, когда немцы были врагами, в которых он стрелял вместе с заокеанскими союзниками, американцами, Дриё мучительно переживал тот факт, что, в сущности, французы убивали своих европейских сородичей, сражаясь на стороне чужеземцев: «Последние немецкие пулеметчики! Затерявшись в чужих рядах, в рядах американской армии, я со сжимавшимся сердцем смотрел, как вы умираете под новым Ватерлоо, под ударами нового врага»42. Это чувство вины перед «европейским отечеством» как раз и подвигло [273-274] Дриё на проповедь «континентального интернационализма», но опять-таки ему понадобилось не много времени, чтобы понять, что в европейском концерте держав роль первой скрипки, несомненно, будет принадлежать Германии, которая не раздумывая подомнет под себя Францию, тем более, что уже в 1934 году, побывав в Берлине и увидев реальный, а не книжный нацизм, Дриё испытал чувство «ужаса» и глубокой «безнадежности». Отсюда – сближение (во второй половине 30-х годов) с национал-патриотами из партии Жака Дорио, обернувшееся новым разочарованием: шовинизм в Европе равносилен ее самоубийству, ибо означает всеобщую гражданскую войну, – к началу 1939 года Дриё в этом больше не сомневался, а потому выбрал наименьшее, по его разумению, из всех зол – немецкий фашизм. Последний поворот в его политическом сознании произошел в 1943 году, когда он смирился с тем, что Европе предстоит стать «русской», – лишь бы она осталась «континентальной», не превратилась в «атлантическую», т. е. американскую.
«Пацифист» и «милитарист», «анархист» и «тоталитарист», «патриот» и «интернационалист», «социалист» и «фашист» попеременно, Дриё чувствовал себя пылинкой на социальных ветрах своей эпохи, и Франсуа Мориак с полным правом высказался о нем так: «Говоря о Дриё, я назвал его правым. Но я знаю, что это выражение неточно. Вернее будет сказать, что Дриё находился в центре – не в политическом, а в нервном магнетическом центре соблазнов, искушавших целое поколение»43.
Ни с одной партией, ни с одним движением Дриё не пошел до конца и сам причислил себя к отступникам: «Подлинный интеллектуал – это отринутый адепт: он, безусловно, человек веры, но он – вечный еретик <...>«44.
То и дело ввязываясь в политические сражения, Дриё в решающий момент испытывал неодолимое желание встать «над схваткой» («второй Ромен Роллан» – это тоже его самохарактеристика), уйти в «башню из слоновой кости», где можно было бы либо вовсе отрешиться от «суеты» (так в 1944 году Дриё едва ли не полностью забросил политическую журналистику и погрузился в «Упанишады»), либо предаться самоанализу. Причина, конечно, не в «трусости» Дриё (он умел преодолевать свое слабоволие), а в том, что, будучи наделен художественным даром, он оказался слишком чувствителен к [274-275] реальному многообразию и сложности жизни, чтобы всерьез поверить, будто ее можно заковать в стальную рубашку той или иной доктрины: «Я одинаково принимаю все идеи с тем, чтобы они взаимно корректировали друг друга»45. Для «человека действия», «вождя», певца «вечной войны» подобная фраза уже не просто ересь, а скорее преступление против того дела, которому он взялся служить.
«Я стану работать и уже поработал во имя установления фашистского режима во Франции, но и завтра я останусь столь же свободным по отношению к нему, каким был вчера»46 – наивность этого суждения заключается в том, что в нем Дриё пытается примирить голоса двух непримиримых людей – «воина», которым ему так хотелось быть, и того самого «клерка», которого он стремился презирать всеми силами своей души.
Драма Дриё состояла в том, что «клерком» был не кто-то другой, а он сам: клерк жил в его собственной душе. Временами создается впечатление, что он бросался в политику, заставлял себя «действовать» только для того, чтобы создать материал для саморефлексии, взглянуть не себя со стороны и, подобно констановскому Адольфу, получить возможность для бесконечного углубления в мотивы собственных поступков.
Дриё был одновременно и носителем «инстинкта смерти» и обладателем светлого разума, апологетом «крови» и «чернильной душой», он не мыслит себя вне политической ангажированности и в то же время претендует на духовную независимость, пытается сохранить за собой право на свободу суждений. По природным задаткам он – «клерк», но клерк, на протяжении всей жизни предававший собственное призвание; по устремлениям он – «воин», но воин, то и дело изменявший своему «воинскому долгу». Он так и не сумел (или не захотел) сделать окончательный выбор, остался ни клерком, ни воином, причем самым мучительным, пожалуй, было для него ясное осознание межеумочности собственной позиции. «В истории народов и интеллектуалов, – писал Дриё еще в 1933 году, – бывают лишь краткие (раз в столетие, пять минут в столетие) мгновения, когда интеллектуал приходит в согласие с тем или иным политическим движением, это случается в первые, еще прекрасные дни революции. Во все остальное время – сплошные раздоры и распря»47. [275-276]
Хуже всего было то, что Дриё не только не пытался смягчить, но всячески обострял происходившую в нем внутреннюю борьбу: «воин» и «клерк» были одинаково дороги ему и ненавистны друг другу. Ни за какие блага Дриё не отказался бы быть свободным интеллектуалом – «писателем» (он ушел из жизни, оставив на столе неоконченный роман), но в то же время он органически не умел существовать «неукорененно», без политических убеждений: «кровью», «насилием», «смертью» и «вечным возвращением» он также не желал поступаться, причем настолько, что даже записного расиста и антидемократа Барреса считал возможным упрекнуть в христианском мягкосердечии и интеллигентском «упадочничестве». Баррес, писал Дриё, «никогда не согласится говорить, к примеру, о насилии как о необходимости-в-себе, он способен рассуждать о насилии только как о зле, от которого необходимо обороняться. Этим он обязан своему воспитанию. Он присоединяется к греческим философам времен раннего декаданса, к Платону и Аристотелю, для которых, как и для христиан, зло уже превратилось в нечто внеположное душе, в нечто ей навязанное и привнесенное. Между тем я (вслед за Ницше, Гегелем и Шопенгауэром) придерживаюсь более древних представлений, согласно которым зло таится в самом сердце жизни...»48.
«Соседство между идеями человека духа и идеями человека действия – это соседство через пропасть»49, – такую запись Дриё сделал еще за пять лет до самоубийства. Свой внутренний конфликт он превращал в импульс и в материал для творчества. Однако чем честнее переживается подобный конфликт (а Дриё не умел лгать, в особенности самому себе), тем он опаснее. Расиновские герои, не вынеся внутренней распри, кончали с собой, но их судьба была предопределена богами. Дриё же свою судьбу выбрал сам: вся его жизнь – это неуклонное движение к финальной катастрофе, которую он предчувствовал и которой втайне желал. Откликаясь на его гибель, Ж.-П. Сартр писал: «Он пришел к нацизму в силу избирательного сродства: в глубине его сердца, как и в глубинах нацизма, жила ненависть к самому себе и порождаемая ею ненависть к человеку»50. «Воин» ненавидел «клерка», «клерк» не мог примириться с «воином». Поэтому они уничтожили друг друга.
П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Drieu La Rochelle P. Mesure de la France. P., 1922. P. 51.
2 Drieu La Rochelle P. Socialisme fasciste. P., 1934. P. 220.
3 Drieu La Rochelle P. Journal 1939—1945. Р., 1992. Р. 349—350.
4 Ibid. P. 51.
5 Цит. по: Grover F. Drieu La Rochelle. P., 1962. P. 59.
6 Цит. по: Grover F. Drieu La Rochelle. P., 1962. P. 58.
7 Drieu La Rochelle P. Journal 1939—1945. P. 354.
8 Drieu La Rochelle P. Cronique politique. P., 1943. P. 58.
9 Drieu La Rochelle P. Socialisme fasciste. P. 197.
10 Drieu La Rochelle P. Gilles. P., 1967. P. 420.
11 Drieu La Rochelle P. Etat civil. P., 1921. P. 4.
12 Цит. по: Balvet M. Itinéraire d'un intellectuel vers le fascisme: Drieu La Rochelle. P., 1984. P. 15.
13 Drieu La Rochelle P. La Comédie de Charleroi. P., 1970. P. 74.
14 Ibid. P. 242.
15 Drieu La Rochelle P. La Comédie de Charleroi. P., 1970. P. 61.
16 Drieu La Rochelle P. Le jeune Européen. P., 1978. P. 35.
17 Drieu La Rochelle P. Le Français d'Europe. P., 1944. P. 16.
18 Drieu La Rochelle P. Socialisme fasciste. P. 144.
19 Drieu La Rochelle P. Interrogation. P., 1941. P. 37.
20 Drieu La Rochelle P. La Comédie de Charleroi. P. 60.
21 Drieu La Rochelle P. Avec Doriot. P., 1937. P. 97.
22 Drieu La Rochelle P. Le jeune Européen. P., 1978. P. 29.
23 Цит. по: Balvet M. Op. cit. P. 112.
24 Drieu La Rochelle P. Avec Doriot. P. 98.
25 Drieu La Rochelle P. Interrogation. P. 34.
26 Drieu La Rochelle P. Le jeune Européen. P. 94.
27 Drieu La Rochelle P. Notes pour comprendre le siècle. P., 1941. P. 151.
28 Drieu La Rochelle P. Récit secret suivi du Journal 1944—1945 et d'Exorde. P., 1951. P. 101.
29 Drieu La Rochelle P. Le Français d'Europe. P. 9.
30 Drieu La Rochelle P. Journal 1939-1945. P. 458.
31 Ibid. P. 393.
32 Цит. по: Grover F. Op. cit. P. 157.
33 Benda J. La Trahison des clercs. P., 1927.
34 Цит. по: Конради К. Гете. Жизнь и творчество. M., 1987. С. 426.
35 Цит. по: Benda J. Op. cit. P. 79.
36 Ibid. P. 79.
37 Ibid. P. 90.
38 Ibid. P. 123.
39 Drieu La Rochelle P. Journal 1939—1945. P. 447.
40 Drieu La Rochelle P. Socialisme fasciste. P. 152.
41 Drieu La Rochelle P. Interrogation. P. 83.
42 Drieu La Rochelle P. L'Europe contre les patries. P., I931. P. 36.
43 Цит. по: Grover F. Op. cit. P. 84.
44 Ibid. P. 96.
45 Drieu La Rochelle P. Socialisme fasciste. P. 228.
46 Ibid. P. 235.
47 Цит. по: Grover F. Op. cit. P. 96.
48 Цит. по: Grover F. Op. cit. P. 101.
49 Drieu La Rochelle P. Journal 1939—1945. P. 76.
50 Цит. по: Balvet M. Op. cit. P. 216.
Текст воспроизводится по изданию: Косиков Г.К. Может ли интеллигент быть фашистом? (Пьер Дриё Ла Рошель между «словом» и «делом») // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания. – М.: Диалог – МГУ, 1997. – 258-276.
Георгий Константинович Косиков (29 июля 1944 – 29 марта 2010) – доктор филологических наук, профессор, до последнего времени заведовавший кафедрой истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ. Крупнейший современный специалист по истории французской литературы и методологии гуманитарных наук.
Номера страниц указаны в квадратных скобках.
Источник
Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс «ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»
Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> Новости сайта Велесова Слобода.


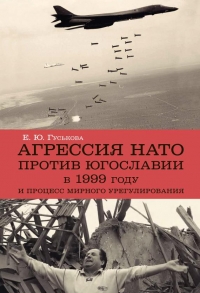


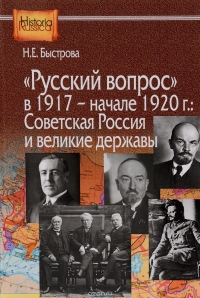

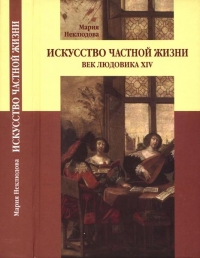
Комментарии к книге «Еврофашизм и буржуазный декаданс», Бенедикт Кайзер
Всего 0 комментариев