Сборник статей Неизвестная война. Правда о Первой мировой. Часть 1
© Г. П. Бельская, составление, 2014
© АНО «Редакция журнала “Знание-сила”», 2014
© «Вест-Консалтинг», компьютерная верстка, макет, 2014
Вступление Первая мировая война. Иллюзии и реальность
Оглядываясь на историю столетней давности, с удивлением обнаруживаешь, что человечество вступало в XX век не только с всегдашними своими агрессивными привычками и напором, но, что, пожалуй, еще хуже, – с наивными умонастроениями.
С грядущей войной связывались радужные надежды. Европейские гуманисты были уверены, что она станет освободительной и последней в череде бесконечных военных конфликтов. Российские националисты твердили о «братьях славянах» и историческом долге завоевать Царьград. Либералы рассчитывали, что война приблизит идеалы демократии и социализма, и власть, наконец-то, дарует России конституцию…
И всем без исключения казалось, что война разрубит тугой узел не решаемых проблем, мир скинет старые одежды, вздохнет и заживет свободно.
Результаты такого затмения разума не заставили себя долго ждать – большая позиционная война с сотнями тысяч гибнущих мирных жителей и солдат, своими телами засеявших земли Европы. Такова была и цена этой наивности, и ее урок.
Россия оказалась страной более всех других пострадавшей в войне. И это понятно.
Не хватало заводов, производящих оружие. Не было автомобильной промышленности, отсюда – изнурительные пешие переходы. Архаичное, времен Суворова, техническое оснащение армии, десятикратная нехватка снаряжения, боеприпасов, продовольствия.
И наконец – состояние армии, не преодолевшей отсталость полуфеодальной страны. Ключевые слова здесь – «полуфеодальная страна». Россия к началу века только вставала на путь промышленной революции, находилась в самом его начале и состязаться со странами Европы была, конечно, не в состоянии.
Первая мировая война – по сути, неизвестная война в нашей стране. В СССР о ней старались не вспоминать. Её основные события не изучались в школе. Ее настоящие герои не были широко известны. Научные исследования, посвященные этой войне, не приветствовались. Были, конечно, люди, изучавшие ее, но, как говорится, в частном порядке, в стороне от официальной науки. Их было немного, и они не имели возможности публично рассказать о результатах своей работы.
Этот сборник посвящен по-настоящему Неизвестной Первой мировой войне. В нем авторы, так или иначе, стараются ответить на многие недоуменные вопросы, не получившие и за сто прошедших лет однозначных ответов. И делают это, привлекая новые документы, воспоминания, письма. И идеи.
Авторы сборника – ученые-историки, посвятившие многие годы исследованию различных вопросов, связанных с Первой мировой войной, изучавшие ее с разных позиций. Их материалам можно верить.
Галина БельскаяЕвропа предвоенная
Светлана Князева XX век берет разбег
В августе 2014 года исполняется сто лет с тех пор, как на Европу обрушился смерч мировой войны. Первые дни августа были «радужными», многие европейцы считали, что речь идет всего лишь о нескольких неделях победоносных (для каждой из стран) сражений. Но осенью 14-го стало ясно – предстоят месяцы, а может быть, и годы испытаний, невзгод, а война уже приносит обильный урожай смертей, болезней, увечий, горя.
Долгое время в изучении Первой мировой войны преобладала тенденция, согласно которой основная ответственность за развязывание европейского, затем мирового пожара возлагалась исключительно на имперскую политику развитых стран Европы в канун всемирной бойни. Поэтому именно дипломатия и политика ведущих держав Европы и мира оказались в числе «ядерных» тем: в течение ста лет вышли многотомные исследования, публикации документов, сотни (если не тысячи) монографий по истории дипломатии, внешней и внутренней политики, социально-экономической ситуации воюющих стран.
Однако так ли уж пацифистски были настроены европейские нации? Что скрывалось за патриотизмом французов, россиян, британцев, немцев в первые месяцы европейского пожара? Чем жил и интересовался, как себя ощущал маленький европеец – «простой человек с улицы», что его окружало и занимало, какие фильмы смотрел, какие танцы танцевал и чем занимался в годы, непосредственно предшествующие началу этой страшной войны? И, главное, как не видел, не замечал, как его прямо затягивает в страшную воронку…
Что пряталось на донышке Belle E’poque?
* * *
Время внезапно спрессовалось, стало липким, сбилось в вязкую массу, затрепетало, сложилось пополам, как лист бумаги с плотно напечатанным текстом. Потом листок развернулся, искривил пространство, вдруг в конце коридора приоткрылась дверь и…
В какую эпоху мы попали? В начало XX столетия?
Оптимизм. Оглушительный, переливающийся через края европейского мира…
Мы будем жить в мирном и разумном XX веке – без войн, без катаклизмов. Наступил Век Разума, Прогресса, Счастья!
Появились новые герои. Грандиозность. Величие. Гордыня.
Человечество ошеломлено. Сбито с толку и растеряно. Мы покорим пространство и время. Мы все добудем, поймем и откроем: холодный полюс и свод голубой. Мы сокрушим старый мир, перевернем его с ног на голову. Мы облагодетельствуем человечество!
Мания грандиозности. Сверкают глаза ораторов, наливаются кровью и величием, выпрыгивают из орбит, излучают абсолютную истину. В расширенных кокаином зрачках четко, с мельчайшими подробностями, отражается многократно уменьшенная толпа на площади. Высоко задранный подбородок человека на трибуне. Сильно развитые нижние челюсти, холодный гипнотический взгляд очковой кобры, а хватка – бульдожья: как схватит такой, как сожмет челюстями… Глаза буравят, прожигают, гипнотизируют толпу, человек держит ее своими крепкими острыми зубами, заражая идеями всеобщего равенства и повального счастья, – теперь не выпустит! А как нарастает, как ширится сила, напор произносимых слов – от шепота до грохота и ора, срывающегося в ультразвук. Трескучие, каркающие, громыхающие фразы. Это уже не политики – нет! Вожди. Откуда они взялись? Вчера их еще не было.
Там, где прежде была суша, теперь, откуда ни возьмись, заплескался океан амбиций, разлились моря честолюбия. Выросли новые и укоренились хорошо забытые старые мифы. Лозунги. Новояз. И толпы, толпы верящих вождям людей.
Новая эпоха!
– Свобода – это ответственность?! – понизив голос до свистящего полушепота, с издевкой вопрошали Вожди. – Кто вам это сказал? Плутократы-либералы? Да они заражают вас бубонной чумой фальшивой демократии. Нет, подлинная демократия – это свобода! А подлинная свобода – это раскрепощение! Подлинная Свобода с большой буквы – это справедливая народная война!! Подлинная Свобода – это народная Революция!!! Да здравствует Свобода! Да здравствует Революция и ее дитя – Свобода!! Свобода – это хаос. Свобода – это произвол большинства. Свобода – это война, экспроприация, бунт!
Европу захлестывает шпиономания. Кажется, совсем еще недавно оправдали, наконец, капитана Дрейфуса, невинно осужденного за шпионаж в пользу Германии и передачу ей секретных разработок новейших видов оружия. Сам Президент Французской Республики Арман Фальер торжественно утвердил его в чине майора и наградил, сделав Кавалером Почетного Легиона. Так теперь новых шпионов и предателей ищут – и находят!
…Утонченный модерн, изощренный, уводящий в потусторонний мир декаданс… изыск!. Это нечто оглушительное… доводящее до безумия, до исступления… Гумилев, Блок, Анна Ахматова. Габриэле Д’Аннунцио… Его высокомерный, но печальный взгляд, изящно искривленный рисунок его презрительно, горестно сомкнутых губ, прячущихся под божественными усами. Какой шик! Он неподражаем. С великолепной отстраненностью смотрит он на толпу. Его стихи, его проза – чувственная, полная достоинства, – и горькая. А рядом с ним его подруга – несравненная Элеонора Дузе.
…А это Поль Верлен и головокружительные – и как только можно было услышать в своем сердце, нащупать в душе, угадать? – такие точные слова! Испепеляющие, услаждающие слух Les sanglots longues. Как оголяет нерв, истончает его эта поэзия!
Пронзительно. Невозможно. Губительно сладко, неповторимо, изумительно.
Парижские интеллектуалы обсуждают теорию Прогресса и футуристов-будетлян. Город будущего! Это видение. Какой шик! Итальянский поэт Филиппо Маринетти и его соратники в журнале La Plume возводят фантастические в своей нелепости мегаполисы будущего, созидают нового кентавра – человека-машину, грозятся выбросить с Парохода Современности Венеру Милосскую, Пушкина, Достоевского и кого-то еще, потому что все они устарели, да и вообще никому непонятны, как иероглифы…
Кругом модерн. Один модерн. Ничего, кроме модерна. Ох, как кружится голова от этого модерна! Утонченный модерн в искусстве, модерн в науке, даже модернизация церкви!
А вот, мы слышали, во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый международный конгресс эсперантистов – в нем приняли участие 688 человек. Как ново, свежо, как интересно!
Но… Толпа… Возбужденные крики. Разнузданное поведение, отсутствие манер. Простой народ на гулянье. Эй, ты там, в цилиндре! А хошь в нос?
Как утверждал один недавно умерший философ, на толпу обычно не производят впечатления благородные изречения и возвышенные истины. Маленький простой человек с улицы разбушевался, стал новым героем. Век индивидуализма, уважения к человеческой личности уходит медленно и печально. Век толпы вступает в свои права.
Даешь Свободу, то есть анархию и произвол!
Разнузданная толпа. Это, оказывается, страшно. Выходят из берегов взбудораженные толпы. Толпы людские заплескались на площадях – брызги летят во все стороны! Как много людей – тысячи! Закипевшие лица, расплавленные, стекающие, с широко открытыми орущими ртами, вывернутыми наизнанку до самого нутра, как карманы их штанов; лица, обезображенные спиртным, хамством и какой-то низменной страстью. Они внимают вождям – и все это называется у них теперь «демократия»! Взрывается толпа бомбами одобрения, строчит из пулемета очередями интереса, восторга!
Вот он, век массовой культуры! Пена людская поднимается со дна человеческого океана и мелким бесом бурлит, переливаясь через края и распространяя вокруг себя всеобщее равенство и свободу, затапливает все вокруг… Кумир для этих людей – безграничная свобода. Боги, цари, короли, правители, аристократы, пророки, герои, священнослужители – смешались в кучу все. Короны полетели в грязь! Долой короны! Долой аристократов! Долой тиранов-правителей! Долой веру в Распятого! Долой самого распятого!
Страшно…
Анархисты распоясались. По всей Европе они угрожают свободе и достоинству людей. Убит анархистом, вернувшимся из Америки (куда он эмигрировал), итальянский король-карлик[1]. Мутная волна анархизма нахлынула из Европы и в США. И уже смертельно ранен несколькими выстрелами не то польского, не то мадьярского эмигранта-анархиста американский президент Мак-Кинли[2]. Ветеран Гражданской Войны умирает спустя несколько дней.
Слабеет власть, падает уважение к ней – вот и шалят анархисты.
Где достоинство у человека из толпы, где его уважение к себе, к другим?
Смешались люди, сословия, кровь, достоинство, стиль, мысли, маски, горькие радости индивидуализма. Уходит в небытие прошлого старая элита. Образованные, свободно мыслящие, утонченные интеллектуалы.
Долой реализм, позитивизм, либерализм! Наш новый наркотик – потусторонняя ирреальность.
Даешь очищение от мещанства, быта, старого хлама! Долой уют и мещанство: фикус в кадке, герань на подоконнике, фортепиано, оранжево-рыжий абажур с бахромой! Долой Моцарта и Бетховена, короля вальсов Штрауса и старую музыку, и поэзию, и прозу тоже в придачу! Не нужны семейная затхлость, семейные драгоценности – да и семья не очень-то нужна! Это скучно, это все старо, как мир. Выкинем же в помойное ведро истории викторианскую мораль, а лучше, всякую мораль, несовременные манеры и нравы! Нам нужны сквозняк, свежий ветер, вихрь, буря, огонь, пожар, пушки, танки – мы устремились в черную воронку все очищающей войны! Какой шик!
Гимн войне, бунту, революции!
Какой смысл в борьбе за мир на европейских конгрессах в Гааге, зачем нужны антивоенные манифестации, если войны захотели сами люди?
Гибнет разум. Прогресс – не гарантия разумного поведения людей.
И захлебнулось достоинство человека.
Люди устремляются вслед за Синей птицей. Абсолютная истина снится им по ночам. Существует ли мировой эфир? Счастье во всемирном масштабе? Разум в абсолюте и сверхчеловек? А Скрижали мудрости? А Святой Грааль?
Мир захлестывает волна открытий. Брошен вызов атому! Он устремляется в бесконечность пустоты… Где абсолютная истина? Казалось, люди приблизились к ней… Ученые пытаются точно вычислить скорость света. Один математик определил иррациональное число π с точностью до более 700 знаков после запятой, а другой нашел ошибки где-то после 500-го знака. И тогда ученых посетила догадка: последовательность цифр в десятичной части π бесконечна, а само число трансцендентно. Но что же таит в себе я? Кладезь мудрости?
Числом π заинтересовался и какой-то пока мало кому известный ученый – Альберт Эйнштейн… О нем мало что знают, известно лишь, что он, кажется, разработал общую теорию относительности, но это трудно осознать… Странен его четырехмерный мир: к ширине, глубине и высоте он добавил еще и время.
Однако если все в мире относительно, то нет ничего прочного – призрачно все, зыбко вокруг. Как найти абсолютную истину? Или нет в этом мире абсолютных истин? А чему тогда верить? И кому тогда нужно верить?
Все, что можно было изобрести, уже изобретено! Сводит всех с ума вал открытий. Все телефонируют друг другу. Все повально слушают радио. Накрывает с головой вал Нобелевских премий за изобретения, литературный талант, борьбу за мир – их получают писатели, ученые, главы государств и правительств.
А по вечерам отовсюду слышны арии из «Богемы», «Мадам Баттерфляй», «Тоски», «Электры»… Люди ходят в театры, а гуляя по улицам, распевают полюбившиеся арии, насвистывают разлетевшиеся по всему белу свету мелодии любимых опер.
На сцене «Метрополитен Опера» дают «Сельскую честь» и «Паяцы», и там уже солировали чешская певица Эмма Дестин и несравненный итальянец Энрико Карузо… На сцене выступает Божественная Сара, и специально для нее великий мастер драмы Эдмон Ростан сочинил «Самаритянку» и «Орленка». Какой фурор произвела она недавно в пьесах Дюма-сына!
Все ходят в синематограф на сеансы движущейся фотографии и смотрят короткие, конечно, всего-то минут на 15–20, не больше, синема. Quo vadis? Последний день Помпеи. А вот «Филм д'ар» великого Жоржа Мельеса «Галлюцинации барона Мюнхгаузена» продолжается почти целый час. Стоп-кадр, замедленная протяжка кинопленки – сногсшибательные спецэффекты!
Нам показывают кадры кинохроники… Это велогонки «Тур де Франс». И вот уже в них участвуют женщины – ничего себе! А посмотрите, что учудили раскрепощенные американки? В Европе все только и говорят, что о женской автогонке из Нью-Йорка в Филадельфию! Ну, так эти американки чересчур экстравагантны, очень смелы и уж слишком современны.
Ралли Монте-Карло – дух захватывает!.. Летящий с умопомрачительной скоростью прямо на публику в зале паровоз – ох! Даже как-то не по себе становится! Взмывающий ввысь прямо на глазах неуклюжий аппарат братьев Райт… это уже совсем старая кинопленка: их полеты из Китти-Хоук близ Дейтона на Wright Flyer-e с аэродинамической трубой и тремя осями вращения планера.
А вот уже американец Глен Кёртис совершает полет на первом в мире гидроплане. Дирижабль на поплавках приземляется прямо на водную поверхность – не утонет?.. Летящий через европейский Пролив с сумасшедшей скоростью французский пилот Луи Блерио. Долетит или упадет в воду? Ну, слава Богу, долетел!..
А вот под Парижем французский авиатор Анри Фарман поднимается на изобретенном им самим фармане в воздух, преодолевает по замкнутому маршруту заданное расстояние – и завоевывает приз в 50000 франков! А ну как сейчас грохнется прямо в зрительный зал?
Кадры быстро-быстро сменяют друг друга, словно смотришь фотографии – только они движутся. А вот еще кинопленка. Это перелет россиянина Уточкина из Одессы в Дофиновку. Смелый авиатор должен подняться на своем фармане, пролететь одиннадцать верст над заливом и спуститься на землю в Дофиновке. Невысоко над водой летит аппарат Уточкина… Вот он оторвался от земли и, треща мотором, несется над морем. И тысячи зрителей-одесситов, собравшихся на берегу моря, а потом зрители синема в разных городах мира видят в лучах заходящего солнца велосипедные колеса аэроплана, бак и даже крохотную согнутую фигурку самого пилота, повисшую прямо над морем, кричат от восторга, рукоплещут…
А это что за ужас такой? Дредноуты! Жуткие сооружения, такие до сих пор только в кошмарах могли присниться… И опять английская кинохроника: маршируют британские солдаты, поют, раздаются слова веселой, почти легкомысленной песни:
Its a long way to Tipperary, its a long way to go[3]…
Кадры быстро сменились – и это конвейер на американском заводе миллионера Форда. Рабочие быстро-быстро собирают детали, конструируют машины. Да, но то в Америке, в Европе это новшество еще только обсуждается.
Вновь смена кадра – показывают торжественное открытие Симплонского туннеля. И как это его прорыли в самой горе? Длина целых двадцать километров – он самый длинный в мире! А на торжественной церемонии открытия присутствуют и высочайшие гости. Вот они на экране крупным планом – швейцарский президент и итальянский король. И надо же, какой король этот неуклюжий, голова непропорционально большая, а ноги совсем короткие, и красотой не блещет… Не случайно итальянцы за глаза называют его – Schiaccianoci – Щелкунчик! Меткое прозвище, надо признать.
И последние на этот день кадры синема. Российская Империя, Санкт-Петербург. Показывают царскую семью… Царь Николай II, царица, величественная, с холодной любезной улыбкой на красивом лице, – говорят, ее в Российской Империи не очень-то любят; наследник – царевич Алексей, высокий для своего возраста, миловидный мальчик. Все они исполнены достоинства – как величественно, как торжественно несут себя… Но она же слаба, эта власть! Это видно невооруженным глазом. Слабеет, угасает российская власть, воспринимается многими думающими людьми как ничтожная.
…А тапер синема знай наяривает фривольную мелодию матчиша а ля Феликс Майоль и Борель-Клерк…
Актрисы – вамп. Сегодня, в XXI веке, их назвали бы мега-звездами. На сеансе – загадочная starle Лида Борелли. Обворожительная Франческа Бертини. Томная Вера Холодная. Огненная Теда Бара. Несравненная Мэри Пикфорд, с ее всепоглощающей неэкранной любовью… Ее встречи и расставания, ее браки и разводы.
…Париж, Монмартр и Мулен Руж… Законодательницы мод, экстравагантные женщины-вамп умопомрачительной красоты – мороз по коже продирает от омута их бездонных глаз. Неправдоподобно расширенные белладонной или кокаином, а может быть, и тем, и другим, зрачки, взгляд, затуманенный или, наоборот, пронзающий насквозь, изощренно манящий, брошенный из-под густых длинных ресниц, отбрасывающих на пол-лица тени стрелами, и сулящий счастливому избраннику нереальное, неземное блаженство… А уж шляпки – ах!..
Непревзойденная актриса, огненная танцовщица, утонченная стриптизерша в восточном стиле, великая куртизанка, таинственная девушка-вамп – страстная парижанка, голландка, малайка, Бог знает! Она бесподобна, она окутана тайной, словно густой вуалью в мушках, она – умопомрачительная Мата Хари. Неуловимая шпионка, шикарная девушка, так любившая мужчин, особенно в военной форме, но не оставившая равнодушным ни одного встретившегося ей мужчину. Обольщение – вот ее безошибочный метод, интрига – вот ее неподражаемая дипломатия, цианид ртути – вот ее непробиваемое средство защиты своей свободы от ненужных ей детей, наскучивших связей, опостылевшей семьи, ненавистного мещанского быта. М-да!..
Лето. Париж, синий час, тонкая, как паутинка, дымка, голубоватый флёр, умопомрачительные шумные кафешантаны, дразнящая слух фривольная музыка. Всхлипы скрипки, вздохи виолончели… Старый утонченный – искрящийся радостью, призрачный, почти утраченный мир. Ох, уж этот Париж!..
А теперь? Редко-редко мелькнет где-нибудь там, в толпе, дорогой, пошитый у хорошего мастера ателье элегантный костюм… цилиндр… Ведь носить его недемократично, да и опасно, – ах, это аристократ! И все же… мода шантеклер, шляпки шантеклер с умопомрачительными перьями и оттеняющими взгляд полями, куафюр. Прощай, корсеты – это несовременно, и шик отсутствует! А юбки шантеклер – широкие в бедрах, узкие-узкие внизу и уже не в пол: хорошо видны ножки, обутые в изящные туфельки на каблучках, и тонкие шелковые чулки, и соблазнительные женские щиколотки… Как шикарны эти юбки шантеклер! Как неповторимы женщины в этих нарядах! И правильно говорят об этой эпохе современники: Belle E’poque.
И снова Париж, и Всемирные Промышленные выставки – ой, как интересно! Всемирные достижения науки и техники – а это что? Ну-ка, продегустируем? Судя по всему, это шустовский[4] коньяк «Фин-Шампань Отборный». Это ему был единодушно присужден Гран-при!
Или вот еще! Ну, радио нас уже не удивишь! А вот радиообращения с Эйфелевой башни – и куда?! На другой континент!
По улицам маршируют сумасшедшие суфражистки в костюмах мужского покроя, мужских ботинках с грубыми носами, с плакатами и массивными зонтиками в руках. Мы хотим свободы! Мы больше не хотим буржуазной семьи – мы желаем свободных от уз связей! Да здравствует свободная любовь! Мы хотим избирать тех, кто нравится нам, а не нашим мужчинам. Мы желаем любить тех, кого нам захочется, и столько раз, сколько нам захочется!
.. Так это же прославившаяся на весь мир Эмма Гольдман! Красная Эмма, бывшая подданная Российской Империи, уже несколько раз попадала в тюрьму в США, а несколько лет назад была лишена американского гражданства. Но из Америки ее изгнать пока не удалось – и она все не унимается, выступает с лекциями, воспевает анархию, половую распущенность и призывает к свободной любви. Ух, какой хоровод феминисток водит она здесь, в Европе – даже из-за океана это у нее выходит отменно! Она шикарна, она экстравагантна, она просто предел всему! Она независима и свободна, как ветер! И вот уж кого не упрекнешь в несовременности!
Ой, в ход пошли зонтики!
И ведь до чего же дошли! Феминистки Лондона дубасят зонтиками министра Черчилля!
Однако… Мужчина решает, куда и когда, и с кем поехать женщине отдыхать, с кем и как проводить свободное время, сколько ей иметь детей и как распорядиться собственным имуществом. Женщина же не может вообще ничего – она не имеет даже права требовать развода, когда муж надолго покидает семейный очаг и супружеское ложе.
Феминисток сажают в тюрьму – а они объявляют голодовку. Их кормят насильно через питательные трубочки, отпускают домой отдохнуть – а они хулиганят, попадают за решетку…
Однако у женщин-суфражисток серьезные намерения – они уже выступают за свои права на международных конгрессах. Копенгаген… Амстердам… И вот уже в Великом княжестве Финляндском женщинам предоставляют избирательные права наравне с мужчинами. Но в большинстве стран все это неосуществленная женская мечта.
На улицах европейских городов все меньше ландо, карет, пролеток – зато повсюду громыхают громоздкие, неповоротливые сооружения, воняют, гудят, издают оглушительные звуки – а-автомобили, ка-ккая гадость! Их становится все больше, больше… Господи, куда же они так летят! Однако надо, пожалуй, смотреть по сторонам и ходить осторожнее, ведь под машины уже попадали несчастные пешеходы!
Неужели они приживутся?
А что же элита, старая и новая?.. Вера в потусторонний мир. Таинственные кружки, собрания в Париже, Берлине, Петербурге. Обсуждают идею Прогресса, секреты оккультизма и нумерологии, тайны Тибета и Шамбалы – столь велико обаяние Востока. В кружках жарко спорят, развивая теории деволюции и творческой эволюции, а теорию Дарвина предлагают выбросить на свалку истории. Они говорят о ноосфере, панспермии, развивают идеи Плотина[5] и неоплатоников, критикуют импрессионизм Леруа, творческую эволюцию Анри Бергсона[6], идеи нобелевского лауреата Сванте Аррениуса… Интерес к этим проблемам зашкаливает. Да… Ведь и сто лет спустя, в начале XXI века, об этом будут писать, говорить, показывать в популярнейших программах по телевизору…. Какие-то медиумы занимаются астрологией, эзотерикой, столоверчением, спиритизмом, вызывают из потустороннего мира неподдающиеся рассудку и несуществующие в нашем подлунном мире пугающие энергетические эфирные сущности – прямо тень несозданных созданий… на эмалевой стене[7]. Ангелы и архангелы, тонкий мир и энергетический уровень бытия – и полная тайн, никем не виданная чудесная страна Гиперборея или Атлантида, или Шамбала… Поиски пути в параллельную реальность. В этих кружках вызывают духов предков, читают «Тайную доктрину» госпожи Блаватской, обсуждают шокирующее заявление герра Ницше о том, что Бог умер и рождается сверхчеловек, вспоминают катрены Нострадамуса… А еще изучают магию, каббалистику, занимаются сатанизмом, поклоняются Пустоте, Черному квадрату, Князю Тьмы… И число таких обществ постоянно растет: вот недавно в Вене образовалось некое оккультное общество Туле… Какое-то умопомрачение – и это в XX веке!
В кружках поклоняются новым Богам – ими стали Разум, Прогресс. Верят в безграничные возможности человеческого Разума.
А кому-то удается даже соединить Разум с потусторонним миром. Ничего странного. Если возможности человека ничем не ограничены, то ему подвластны и потусторонний мир, и эфирный тоже.
Возможно ли связать воедино эзотерические учения и веру в Прогресс?
Оказывается, возможно.
А вот… прямо на первой полосе! Титаник!!!
«15 апреля… Незадолго до полуночи с 14 на 15 апреля комфортабельный британский лайнер «Титаник», самый большой из всех когда-либо сходивших с доков, который всего за несколько дней до того совершил успешное пробное плавание, а 10 апреля вышел из гавани в Саутхэмптоне, что в Великобритании, с заходом в Шербур вечером того дня, чтобы отправиться в свой первый рейс через Атлантику к берегам США, неожиданно натолкнулся на айсберг. Спустя всего два часа сорок минут после этой ужасной, ставшей роковой, встречи гигантский корабль затонул в 2 часа 27 минут ночи близ берегов Ньюфаундленда. Из 2224 находившихся на борту пассажиров погибли 1513 (по другой версии 1502) человек! Выжили всего лишь 710 пассажиров».
Какой кошмар! А ведь всего месяц назад эти англичане такую шумиху подняли! Пробное плавание, непотопляемый корабль, новая эпоха в истории мореплавания…
Рушится старый мир.
Титаник совершал плавание в США. Америка… Слишком она молодая, кипучая. Американцы пышут здоровьем, свободны, энергичны, предприимчивы. Чересчур предприимчивы и независимы для Старого Света и вечно пребывают в поисках новизны – старушка Европа переносит это с трудом.
…А это что такое? Летняя танцверанда, и пары, сливаясь в восторженном сексуальном экстазе, то медленно, то, все ускоряя темп, страстно касаясь друг друга бедрами, совершают синхронно не вполне приличные движения… И звучит сладкая и огненнострастная, чувственная и томительно-волнующая, захватывающая, пронзительная и сентиментальная, взлетающая ввысь на гребнях волн наслаждения и увлекающая в сулящие забвение невообразимые дали, обволакивающая мелодия… Танец-дуэль, танец-спор, танец-вихрь, танец-соитие.
Но ведь это же та самая непристойная рептилия, которой недавно очаровал европейские столицы никому до того не известный сеньор Энрике Саборидо из Аргентины или Уругвая, да Бог его знает? Конечно же, это танго! Пламенная Ла Морча, Неувядающая, которую он, без памяти влюбленный, посвятил королеве танго неотразимой Лоле Кандалес…
Скажи-и-те на милость, какое неприличие! Безнравственный танец! Это не комильфо. Низменно! Непристойно! Омерзительная рептилия.
Викторианцы шокированы. Правда, они несовременны и ничего не понимают в шике…
Безумие. Эпидемия танго.
Какой шик!
…А далеко-далеко, за морями, за долами, за горами, за реками уже пахло порохом. Раздавались одиночные выстрелы, погромыхивали взрывы… Но никто этого не слышал, не чувствовал, не замечал…
* * *
Тогда, сто лет назад, чувство грандиозности, величия овладело значительным количеством людей на земном шаре, и произошло это почти внезапно.
Где потерялось достоинство старого мира? Человек разменял свое достоинство на грандиозность и атеизм, на свободу и равенство любой ценой, на вседозволенность, неуважение к жизни человека. А на сдачу получил мелкое честолюбие, расплескал достоинство на пути к величию.
Разум и прогресс в начале XX века? Самонадеянный оптимизм, вера в вечный мир затянули Европу в бесконечные кризисы, толкнули в кровавую воронку войны. Человечество, как гадаринские свиньи, шагало к пропасти – и ничего не замечало. Belle E’poque!
Потерявший себя где-то на крутых горках двадцатого века Разум прятался от самого себя, от прогресса, играл с ними то в жмурки, то в салочки. Разбилась вдребезги идея божественного происхождения власти, и люди перестали уважать монархов, затем вообще всякую власть, а часто – самих себя. Человек с улицы бросил вызов аристократии. Массовый век вызвал на бои без правил старую элиту, прицелился в глаз элите вообще. А в России власть слабела с каждым месяцем, днем, часом. Власть, словно снулая рыба, судорожно зевала, таращила свои полумертвые, уже подернутые мутной, белесой, застывающей на глазах пленкой глаза… а потом она умерла.
Но и повсюду в Европе уходили в прошлое индивидуализм, голубая кровь, хорошее происхождение, образованность, достоинство и нравственность, да и теория Дарвина, а ля Томас Хаксли, оказалась как нельзя кстати. А после мировой войны разные страны пошли разными путями. Свобода – старая, как мир, мечта, старый кумир, напяливший на себя почти не узнаваемые шутовские одежды, – свобода захлестнула мир огромной мутной волной. Кто-то сумел выплыть, не захлебнувшись в отвратительной горько-соленой жиже…
Судьба других была определена как минимум на столетие.
Какой шторм свободы поднялся в нашей стране! Захлестнули ее, затопили волны неуправляемой свободы. Шутовской колпак нацепила она себе на голову.
Даешь швободу!!!
Гопникам захотелось швободы.
Что заставило этих людей терять человеческий облик?
Вылезла из щелей и дыр, показала острые клыки социальная зависть.
Вы хотели сильной власти? Она придет скоро. Пройдет немного лет – вы получите сильную власть. Вы хотели свободу-анархию? Получайте произвол и диктатуру! Советская страна устремилась на покорение пространства, а заодно и времени, растаптывая достоинство простого человека. Но… по плечу ли покорить пространство и время обычному смертному, даже если он Вождь всех Времен и Народов?
За величие диктаторов XX века, за близость коммунистического Завтра придется расплачиваться в течение столетий. И не только России.
…И вдруг замаячило на заднем плане зловещее сооружение гильотины, показались в отдалении красные фригийские колпаки якобинцев и косой острый нож убийственной конструкции. Вот оно! Всего через несколько секунд неумолимый нож падет на склоненную голову, отсекая ее очередной жертве…
Не дай Бог попасть в эпоху Террора! Неважно, какой чеканки – якобинской, сталинской, нацистской.
Какая опасность может угрожать сегодня? Эпоха диктатур прошла, они остались в XX столетии, а история едва ли повторится, в точности воспроизведя старую модель власти. Хотя… иногда эта затейница выкидывает такие номера, что диву даешься.
* * *
Мы пришли туда из будущего – сто лет спустя.
Виктор Мальков Россия и мир, 1914-1918 Пространство времени в воспоминаниях, дневниках и письмах
Россия – страна всех возможностей, сказал кто-то.
И страна всех невозможностей, прибавлю я.
З. Н. Гиппиус. ДневникиЭрик Хобсбаум – «последний сталинист», как дружески-шутливо называл его американский историк А. М. Шлезингер-мл., в своей книге «Век экстрима», говоря о «коротком XX веке» (1914–1991), писал, что Великая война и ее последствия (и среди них в качестве ключевого события – Октябрьская революция 1917 года в России) дали толчок экономической и социальной трансформации, полностью изменившей лицо человеческой цивилизации[8]. «Позолоченный XIX век» для одних, по словам Хобсбаума, растворился без остатка в ностальгических воспоминаниях: «позабудь про камин, в нем погасли огни». Для других, как писал «ранний» Томас Манн, он становился объектом «наглого пренебрежения»[9], поскольку по их представлениям он разоружил и обезволил человечество перед лицом грядущих испытаний, усыпив его бдительность в отношении скрытых мотивов сил разрушения, коренящихся в изъянах человеческого духа, погрязшего в самодовольстве и филистерстве. Третьи, мечтая о «царстве свободы» в государстве-утопии, рассуждали в терминах теории империализма, по их мнению, раскрывающей все глубинные причинно-следственные связи в процессе назревания гигантского конфликта интересов и раскола мира на враждебные блоки.
В форме рабочих идеологем и военных доктрин распространялись планы возвышения одних стран за счет других, вытеснения конкурентов с сырьевых рынков и торговых плацдармов, захвата стратегически важных территорий и позиций на суше и на морях, идеологической и культурной экспансии. В «тепличных» условиях притворно романтического мирного времени подспудно накапливались идеи реваншизма и национального превосходства. И тем не менее знаком эпохи, общим для всех становились реальные социальные и правовые достижения ведущих, «передовых» держав на всю глубину общественных структур и договорных отношений. Реформы коснулись государственного устройства и органов местного самоуправления (включая полицию и судебную систему), фабрично-заводского законодательства, систем социального страхования, демократизации общеобразовательной школы и вузовского обучения, коррекции земельных отношений и содействия крестьянским кооперативам, поощрения свободомыслия, партийных перегруппировок с выходом на авансцену оппозиционных левых партий, избирательных прав, гендерных отношений и т. д. Межконфессиональные и межэтнические отношения оставались напряженными, все привилегии сохранялись за титульной нацией, но и то и другое контролировалось правительствами, где больше, а где меньше законодательно закрепляющих права нацменьшинств.
Нельзя не сказать и о внедрении систем финансового регулирования и даже об экспериментах с занятостью, системой вспоможествования и пенсионного обеспечения.
Европа и Северная Америка обустраивались, приобретая вполне респектабельный, привлекательный вид. Этим процессам сопутствовал не только рост грамотности населения, но и сдача экзамена на зрелость имущими классами, показавшими себя заинтересованными в распространении научного знания и не только. В полном соответствии с изменением архетипа национального патриота проходило движение от гуманности через национализм к зверству (как писал Альфред Вебер). Культ науки прямым путем вел к модернизации вооружений, флотов и армий, что становилось в духе времени первейшим показателем культурности и благополучия наций, их успешности в целом. Реально, как это ни парадоксально, на этой модернизации до поры до времени держался баланс сил в мире, эффективность дипломатии и устойчивость режимов. Складывался механизм манипулирования массовым сознанием, его милитаризации и привычка к ранжированию народов по расовому принципу.
Возник феномен, который можно было бы (с оговорками) обозначить понятием пространства времени, охватывающего синхронно проходившие в различных странах и примерно одноплановые для западного и опосредованно восточного мира трансформационные процессы, закрепляющие достижения гражданского общества и развития личности, благодаря расширению коммуникационных связей, туризма, динамично повышающейся потребительской способности масс и тяги к просвещению и обмену знаниями, а также пока только первых признаков стирания различий между сословиями и классами, богатыми и бедными. В этих более или менее последовательно осуществляемых преобразованиях отчетливо угадывались контуры нового мира. Быть его провозвестником открыто претендовали США с их «Американской мечтой». Э. Хобсбаум пишет, что «Человечество (в целом. – В.М.) находилось в ожидании альтернативы». Оно пыталось заглянуть в будущее с тем, чтобы узнать, каким это будущее будет.
То же «ожидание альтернативы» пронизывало и русскую интеллектуальную среду. Однако в политике оно оставалось слабо выраженным. З.Н. Гиппиус в предисловии (1920 г.) к своим знаменитым «Дневникам» писала, что продвижение новых идей в живую российскую действительность было делом призрачным. «Партия конституционно-демократическая (кадетская) единственно значительная либеральная русская партия в сущности не имеет под собой никакой почвы. Она держалась европейских методов в условиях, ничего общего с европейскими не имеющих»[10]. В России, по образному выражению той же Гиппиус, «партийно-молчащей самодержавной» дать выход волеизъявлению масс и придать ему рационально-правовой характер оказалось невозможным.
Цепкость традиционного уклада вопреки революционизирующим тенденциям эпохи перехода к индустриализму оказалась сильнее самых влиятельных веяний в пользу модернизации. В своем письме к той же Гиппиус в разгар столыпинского правления 18 июня 1907 года другой русский литератор Валерий Брюсов в немногих ярких словах охарактеризовал символ времени, переживаемого Россией «Слева бомбы, и грабёж, бессмысленный и пьяный, справа – штыки и виселицы, дикие и грубые, в центре усы Головина (председатель 1-й Государственной Думы. – В.М.) и кадетский радикализм «Перевала». Нет путей – ни влево, ни вправо, ни вперед – разве назад!»[11] Длительность застигшего страну безвременья никто предсказать не мог. Впереди ждало убийство Столыпина, Ленский расстрел, Распутин и роспуск 4-й Государственной Думы весной 1917 года и, наконец, как писал Герберт Уэллс, «колоссальный непоправимый крах»[12].
Между тем из истории стран Запада можно привести немало ярких примеров целенаправленной практической работы по устранению препятствий для обновления государственного устройства и межклассовых отношений в конце XIX – начале XX века. Один из наиболее заметных – Германия.
Теобальд фон Бетман-Гольвег, с 1909 по июль 1917 года находясь на посту главы имперского правительства Германии, последовательно проводит свою политику «диагонали», что означало рекалибровку капитализма путем дозированного включения социал-демократии в государственные структуры и создание коалиции общественных сил – от левых до правых. Во внутренней политике он широко использовал достижения леволиберальной общественной мысли (П. Брентано, А. Вагнер, М. Вебер), выводя необходимость внутренних реформ не только из общих правовых принципов и норм, но и из пресловутых национальных интересов имперской политики. Он делал, как тогда говорили, «левую политику правой рукой». Укреплением парламентаризма, предупредительностью в отношении рабочего движения, внедрением идей социального партнерства во многом Германия обязана длительному пребыванию Бетман-Гольвега на посту канцлера. Только в годы войны, констатируют немецкие исследователи, выросло отчуждение между рабочими и работодателями, которые стали восприниматься в обществе не как представители «национального производящего капитала», а как «промышленные магнаты». Вот тогда-то «народная общность» затрещала по швам. Но это случилось уже в 1918 году, до этого «диагональ» Бетман-Гольвега сделала ее вполне реальным фактом вплоть до поражения в войне. Но она же привела к переменам и в системе управления хозяйственной жизнью.
Здесь не место углубляться в ситуацию с изменениями в процессе реформаторской деятельности лево-либералов и прогрессистов в США в конце XIX – начале XX века в период президентства У Маккинли, Т. Рузвельта, У Тафта и В. Вильсона или либералов в Англии, давших истории таких ярких реформаторов как Асквит и Ллойд Джордж. Скажем только, что «Прогрессивная эра» буквально переформировала демократию в Америке за счет усиления представительства среднего класса в органах власти, влияния прессы, появления организованного движения рабочих, афроамериканцев, женщин, фермеров. Война замедлила этот процесс, даже отбросила его назад, но институциональные изменения, касающиеся, например, избирательных прав, судебной системы, трудового законодательства, финансового регулирования оставались фактически неизменными. Аналогичные примеры можно было бы привести в связи с гражданским и политическим развитием десятка других стран, включая Англию, Францию, Бельгию и Японию.
По контрасту с этим стандартом модернизации Россия, пройдя (скажем словами В. О. Ключевского) через полосу недобросовестно исполненных «великих реформ» Александра II и контрреформ, связанных с именем его сына Александра III, не смогла вписаться в мировой прилив реформаторства, задуманного с прицелом на будущее, непосредственно предшествовавшего 1914 году и захватившего частично войну, особенно в области экономики. Для нее переход к социально-экономическому дирижизму был затруднен многими причинами, в том числе культурной отсталостью, массовой безграмотностью, сопротивлением владельцев зарождавшейся тяжелой индустрии и доморощенных «юнкеров», которые принять этот путь, как признавал В. М. Чернов, оказались не способны[13]. Догоняющий тип развития был сохранен и в кризисный момент истории 1914–1918 годов, в очередной раз подтвердив неизменность традиционному мышлению, т. е. упованию на авось и фаталистическому безволию. «Россия, – писал В. О. Ключевский еще в 1898 году, – на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать? Ответа нет»[14].
Прошло еще 10 лет, а ответ так и не был найден. Продолжался процесс насаждения «хаоса государственного разложения», если воспользоваться словами известного правоведа и политика В. А. Маклакова, сказанными им во 2-й Государственной Думе в 1907 году в ходе дебатов по поводу военно-полевых судов[15]. Характерно, что П. А. Столыпин поставил себе в заслугу «заговаривание» этого ключевого вопроса в Думе. В письме Николаю II от 4 марта он написал: «Нам удалось свести вопрос (о военно-полевых судах. – В. М.) на нет». Он знал, чем понравиться царю, но так и не сумел стать его фаворитом.
Между тем, от здравомыслия самодержца, от скорости операционного мышления его окружения зависело очень многое. Однако препятствий на «конституционной дороге», которую начертал П. А. Столыпин, будучи председателем Совета министров, оказалось слишком много, да и он сам, по словам современника, к переменам скоро «остыл». Следует признать вместе с тем, что все было значительно глубже и сложнее, нежели архаизм государственного мышления последних Романовых или усталость кучки мыслящих советников, нежели тактические ошибки, нерешительность и проволочки думских партий, передавших Временному правительству в марте 1917 года страну, как выразился эсер и его видный член В. М. Чернов, «полную вопиющих неудовлетворенных потребностей»[16].
Буквально накануне войны, в дни июльского кризиса 1914 года страна переживала глубокий психологический стресс и отсутствие ясного целеполагания, о которых сегодня почему-то не принято говорить, как будто бы все наладилось и вошло в полосу благоденствия благодаря подъему экономики и урожаям. «Не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление», – писала 1 августа 1914 года (по старому стилю) Гиппиус. – Повсюду беспорядки, волнения». Одни говорили об «органическом» начале революции против самодержавия, другие – о солидарности с ним на волне патриотического подъема. Однако четкое представление о том, что делать, отсутствовало и пришло много позднее, уже в разгар военных поражений на фронтах Великой войны, открывших тягостные раздумья и хождение по мукам. Одним словом, правящая верхушка России и думская оппозиция оказались в состоянии духовного ступора, уповая на чудо, отвергая саму возможность революционных перемен и сосредоточившись на агитации за полную победу, на критике пороков дворцовой знати и одиозных фигур в окружении царя.
Падение самодержавия пришло как бы само собой, однако думская оппозиция, едва придя в себя, не нашла сил, чтобы осмыслить произошедшее и сосредоточиться на главных, неотложных задачах. Очень ярко и убедительно об этой пустотелости интеллектуальной элиты России даже в дни роковые для страны сказано в дневниковой записи от 28 декабря 1915 года французского посла Мориса Палеолога. Вот она: «За те почти два года, что я живу в Петрограде, одна черта поражала меня чаще всего при разговорах с политическими деятелями, с военными, со светскими людьми, с должностными лицами, журналистами, промышленниками, финансистами, профессорами: это неопределенный, подвижной, бессодержательный характер их воззрений и проектов. В них всегда какой-нибудь недостаток равновесия или цельности; расчеты приблизительны, построения смутны и неопределенны. Сколько несчастий и ошибочных расчетов в этой войне объясняется тем, что русские видят действительность только сквозь дымку мечтательности и не имеют точного представления ни о пространстве, ни о времени»[17].
В мемуарах В. М. Чернова говорится, с чего следовало бы после падения самодержавия начать в России «перебелять начисто» черновик истории. С решения аграрного и рабочего вопросов. Но как сочетать его со строительством новой власти и одновременно сохранить Россию в войне – никто не знал. Создание подобия «нового земельного режима», изменение на «европейский манер» положения трудящихся в городах оказалось не по плечу политическому классу России, одушевленному оной мечтой – оставаться в строю с союзниками и воевать «до победы». Чернов усматривал в пропасти, отделяющей российских магнатов промышленности от рабочих, в их упрямом отказе от уступок в стиле ллойд-джорджизма прямой предвестник гражданской войны, «которой никакими заклятиями никто остановить был бы не в силах».
Охотнорядская психология российских денежных мешков (за некоторым исключением) не позволяла следовать примеру западных либералов от большого бизнеса, в нужный момент способных мимикрировать в чадолюбивых пастырей промышленных империй. Известный писатель и публицист М. Н. Арцыбашев, после революции игравший в эмиграции очень заметную роль, писал, что она (революция) «могла быть предотвращена или по крайней мере надолго отсрочена», если бы не отказ Николая II принять решительные меры в социально-экономической области и его нежелание иметь дело ни с Думой, ни с печатью, ни с Церковью. «Он этого не сделал, – писал Арцыбащев, – с одной стороны, не идя ни на какие уступки, а с другой – терпя оппозиционную Думу и печать, почти революционную»[18].
Мы уже говорили, что накануне войны Россия оказалась в фазе высокого экономического подъема, но неимущим слоям населения страны права участвовать в результатах этого подъема дано не было. Распределение благ и привилегий их не коснулось. Сам Николай II вопреки всем правилам рисовал положение своих подданных летом 1914 года в самых мрачных и, пожалуй, самокритичных тонах. Это редкое признание мы находим на страницах воспоминаний московского генерал-губернатора, шефа жандармов и приближенного к царю В. Ф. Джунковского[19]. «Бездарный царизм» (Г. Уэллс) в годы войны усугубил страдания тех, кто воевал и тех, кто оставался в тылу.
Постепенно уже в годы войны медленно нараставший после затишья летом и осенью 1914 года конфликт в общественном мнении России. Далеко не все хотели вслед за Николаем II «тихого и безмолвного жития». Эти настроения содействовали возникновению предпосылок реального осуществления повестки дня, близкой к европейскому образцу и целям, таким, например, как 8-ми часовой рабочий день, что было стандартом нового цивилизованного мира XX века. Ликование по поводу начала «короткого XX века» после залпов августовских пушек 1914 года должно было бы напомнить дворцам о тех, кто призван был, с энтузиазмом приняв на себя миссию защитников отечества, занять в конечном итоге отведенное им историей положение. Положение не просто подданных его величества, но полноправных граждан России[20]. Но как оказалось, только революция (каким бы кратким этот период, прерванный Термидором, ни был) открыла клапан, перекрывающий доступ низам к законотворчеству и социальному лифту, долго недоступному в силу ограничений в правах на равенство возможностей, узурпированного верхушкой общества, всеми силами цепляющейся за сословные различия и религиозно-автократические методы управления страной. Стоит процитировать фрагмент из книги воспоминаний Г. К. Гинса – участника и свидетеля событий, занимавшего должность главного юрисконсульта Министерства продовольствия Временного правительства, а затем в январе 1918 года занявшего высокие посты в Омском правительстве адмирала Колчака: «Революция, уничтожившая сразу все социальные перегородки: дворянство, национальные ограничения, чины, последовательность прохождения должностей – открыла свободный путь к власти и общественному влиянию самым простым людям. Эта перспектива блестящей карьеры, в таком масштабе ставшая возможной только при большевистском режиме, кружит голову и опьяняет молодежь, быстро достигающую самого высокого положения не только благодаря талантам, но и в награду за неразборчивость средств и просто преданность власти. Так создается новая аристократия, накопляющая богатство всеми путями, жадная и безжалостная»[21].
Характерно, что объясняя желание русского офицерства оставаться в «большевизии» (термин, придуманный Гинсом) и служить в Красной Армии, Гинс говорит об его враждебном отношении к союзникам, которые «казались многим не друзьями, а врагами России», и тяготении к Германии как к стране «обиженной и способной на более искренний и тесный союз в Россией…»[22] Совершенно не случайно в знаменитых «Очерках русской смуты» А. И. Деникина возникает и нелицеприятный отзыв о французской политике, и особое отношение к представлениям «французских государственных людей» о русской политике, которая «мыслилась только в свете прогерманских или профранцузских аспираций»[23].
Мотивации большевиков и левых эсеров как главных могильщиков наследия царизма и побудителей рывка из отсталости к уровню ушедшей далеко вперед Европы посвящает центральную главу своей последней книги Эрик Хобсбаум (глава 2. Мировая революция). Радикализм экономических лозунгов и внеисторической утопичности большевиков вырастал из стихии антивоенного бунта и фетишизации идеи управляемости обществом и прежде всего экономикой, коллективной волей и разумом[24]. К истории и теории вопроса прямое отношение имели и рассуждения Питирима Сорокина, высказанные им задолго до Хобсбаума и других левых интеллектуалов в брошюре 1923 года. «Современное состояние России»[25], где он говорил об этатизации – коммунизации (или огосударствлении) как прямом и неизбежном следствии войны, голода и разрухи. Вообще процесс огосударствления, вынужденной централизации и перехода к регулируемой экономике принимал в воюющих странах широко распространенный характер. И ярче и полнее всего он проявил себя в Германии, в кайзеровском «военном социализме». Большевистские же новаторы, не страдавшие властебоязнью, с их максимализмом, как считал тот же П. Сорокин, лишь «гениально примазались» к историческому процессу, придав ему сумасшедшее ускорение[26].
Воспетый большевиками культ силы (если не считать нюансов) был присущ России и Германии, Англии и США, большевикам и меньшевикам, вильсонистам и республиканским оппозиционерам в Конгрессе США, членам Пангерманской лиги и Христианско-социальной рабочей партии Штеккера в Германии. В защиту идеи создания механизма, регулирующего всю хозяйственную жизнь, насильственно насаждающего дисциплину и порядок на фронте и в тылу выступил в июле 1917 году. И. Г. Церетели, вождь меньшевиков. Просто гимном репрессиям, «которые, – говорил он, – мы считали похороненными навсегда» стала его речь на пленарном заседании ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. «Мерами репрессий и даже применением смертной казни, – говорил он, – должны мы спасать страну и революцию и наносить удары очень близко от демократических организаций революции»[27]. Тем не менее, это не мешало Церетели и другим в традициях всегдашнего российского раскола обвинять большевиков в экстремизме и терроризме, в нереалистичности и пустозвонстве.
Однако пространство времени, очерченное завершающей фазой Великой войны и ее прямыми последствиями, вместило самые благоприятные условия для приближения «светлого будущего» в реальном и мифологизированном виде.
Марианна Сорвина Предупреждение судьбы Гулльский инцидент или первый опыт решения военного конфликта
Существуют в мировой истории такие события, которые иначе как «зловещим предупреждением» назвать нельзя. К ним можно в полной мере отнести Гулльский инцидент, случившийся в Северном море в полночь на 9 (22) октября 1904 года. Сейчас уже мало кто помнит, что тогда возникла взрывоопасная ситуация, которая могла еще в самом начале XX века привести к мировой войне и стала для русской эскадры роковым предзнаменованием конца, своего рода предупреждением свыше.
В районе так называемой Доггер-банки, неподалеку от Гулля, британские рыболовные суда подверглись обстрелу со стороны русских военных кораблей Второй Тихоокеанской эскадры, образованной 17 апреля 1904 года и состоявшей из разнородного отряда военно-морских судов.
Эскадра
Русско-Японская война была в самом разгаре, Первая Тихоокеанская эскадра терпела поражение, и наспех сформированную Вторую эскадру направили на Дальний Восток в помощь защитникам Порт-Артура.
Ядром эскадры стали семь броненосцев: четыре новых («Аврора», «Жемчуг», «Изумруд», «Олег»), два старых («Дмитрий Донской», «Светлана») и вооруженная яхта «Алмаз», практически не имевшая бронированного покрытия. Русские броненосцы шли в сопровождении девяти эскадренных миноносцев[28], восьми крейсеров и группы вспомогательных кораблей.
Вступая в войну, Россия переоценила свои силы, и трагическим результатом этого просчета стали потери русских возле Порт-Артура в первые два месяца войны. Занимавшая самую большую территорию на континенте империя имела три флота – Черноморский, Балтийский и Дальневосточный, однако в 1904 году обладала плохо оснащенной и мало обученной армией. Ее флот находился на третьем месте по величине. Ведущими морскими державами были Великобритания, Франция и Германия. Итальянцы имели небольшой флот, преимуществами которого считались техническое оснащение и эстетика оформления. Такие эксперименты с архитектурными излишествами стали бедой французского флота, лишившегося части кораблей, которые затонули из-за неудобных конструкций. США же в начале века больше уделяли внимание собственным прибрежным границам и в общую конкуренцию не вмешивались. Япония, наоборот, выросла как морская держава, тем более что ее техническим оснащением и обучением ее морских офицеров занимались англичане.
Три флота России, расположенные далеко друг от друга, уже создавали проблему для общей координации действий, но при этом каждый из трех имел свои внутренние трудности развития и обучения. Черноморский флот казался наиболее подходящим для проведения военных маневров в теплом климате, но был не слишком мобилен из-за связывавших его международных договоров и обязательств. Балтийский флот находился на севере и большую часть года простаивал из-за скованных льдом пространств, что лишало его необходимой подготовки. Однако именно Балтийский флот, база которого находилась в Кронштадте, стал источником подкрепления для сражавшихся на Востоке моряков.
Предстояло решить поистине фантастическую задачу: для укрепления терпящего бедствия Дальневосточного флота перебросить российские корабли на другую половину земного шара – то есть преодолеть расстояние в 18 тысяч миль. И сделать это следовало осенью, до наступления холодов.
При таком длительном путешествии требовалось много угля, провианта, других необходимых в хозяйстве вещей. И частично проблема с оснащением была решена в чисто русском духе: военные суда под завязку загрузили оборудованием, углем, провиантом, чтобы реже обращаться за помощью к европейским государствам. Это привело к катастрофической осадке кораблей почти на метр ниже ватерлинии. Например, перегрузка «Бородино» перед выходом эскадры из Ревеля превышала 1700 тонн. Бронированная часть была скрыта под водой, корабль становился неустойчивым и мог в любую минуту завалиться на бок или начать опускаться под воду, как это и случилось с плавучим госпиталем «Орел», который еще во время стояния в Кронштадте начал тонуть, из-за чего его пришлось спешно поднимать и разгружать.
И уж совсем недопустимым для военного флота было наличие на кораблях ковров, штор, деревянной мебели, мягкой обивки – всех тех атрибутов прогулочно-туристической роскоши, которые в первую очередь подвержены возгоранию. Известно, что один германский военный специалист, увидев внутренние интерьеры военных кораблей, пришел в ужас и заявил, что на германском флоте за такое предают суду.
Организованная наспех Вторая Тихоокеанская эскадра, конечно, не была образцовой. В нее входили и устаревшие суда, вроде броненосца «Наварин», оснащенного орудиями с низкой степенью дальнобойности, и совсем новые суда, из-за спешки не прошедшие испытаний, к числу которых относились уже упомянутые «Бородино» и «Орел». Новым судном был и флагман «Князь Суворов», которым командовал капитан I ранга Василий Игнациус[29].
В сущности, единственным маневром, отработанным судами в ходе тактики морского боя, было следование в строю кильватерной колонны. С такими неутешительными навыками Вторая Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы 1 октября 1904 года и направилась к Северному морю. Главной проблемой эскадры по-прежнему оставалась постоянная дозаправка топливом и оснащение провизией, в то время как у России не было на тот момент достаточно стабильного положения в Европе, чтобы заходить во все порты, не рискуя привлечь внимание или вызвать недовольство. Заправка осложнялась еще и тем, что российское правительство желало бы как можно меньше афишировать этот рейд.
Самый короткий путь пролегал через Суэцкий канал, контролируемый Великобританией, которая официально придерживалась нейтралитета, однако помогала Японии специалистами и вооружением. Между этими двумя странами в 1902 году был подписан договор, на который германский кайзер Вильгельм отреагировал фразой: «Теперь намерения «вермишелыциков» вполне ясны».
28 июня 1904 года российский министр иностранных дел В. Н. Ламздорф сообщал в секретной телеграмме послу в Лондоне Бенкендорфу: «По слухам, дошедшим до нашего Морского министерства, явствует, будто англичане готовят в Ла-Манше личный состав подводных лодок, обучая японцев управлению этими лодками. К моменту выхода 2-й эскадры Тихого океана из Кронштадта весь личный состав на подводных лодках, действующих в Ла-Маншском проливе, будет состоять из японцев, самые же лодки будут уступлены японскому правительству»[30].
Кругом одни шпионы
Из-за выгодной позиции Японского флота ситуация в Северном море сложилась взрывоопасная. На деятельность военно-морской разведки, обеспечивавшей проход эскадры, Российская империя потратила 300 тысяч рублей. Директор департамента полиции А. А. Лопухин поручил обеспечивать безопасность эскадры А. М. Гартингу, завербованному агенту контрразведки. Тот организовал сеть из 83 наблюдательных пунктов, зафрахтовал 12 судов для наблюдения, активизировал агентов в Норвегии, Дании, Швеции и Германии, подключил сеть местных осведомителей. Позднее говорилось о том, что обстановка паники и истерии на эскадре была во многом спровоцирована бурной деятельностью Гартинга, заботившегося больше об увеличении собственных средств. Многое в подвигах главного имперского филера было явно преувеличено или нафантазировано. Об этом пытался сигнализировать русский посол в Дании А. П. Извольский, писавший о Гартинге: «Он несколько раз приезжал в Копенгаген и сообщал мне о появлении японских истребителей в европейских водах. Не доверяя ему, я собрал сам справки по этому поводу и вскоре убедился в фантастичности его сведений, причем единственной целью, которую он преследовал, было получение возможно большей суммы от русского правительства. Я считал своим долгом сообщить об этом кому следовало в России, но мои предупреждения остались тщетными»[31].
Рейд эскадры проходил в обстановке крайней секретности, координаты никому не сообщались, об остановках в портах русских военных моряков никого не предупреждали, поэтому государства, мимо которых следовала эскадра, не испытывали к ней дружелюбия.
По сведениям Главного морского штаба, в Северном море эскадру поджидали японские миноносцы, и моряки имели четкую инструкцию не подпускать никакие суда менее чем на десять кабельтовых. Суда были оснащены цветной сигнализацией Табулевича, вся прилегающая территория освещалась прожекторами, и в случае появления в опасной зоне неизвестного объекта было предписано стрелять сразу по носу судна и отдать ему приказ выйти из зоны на период прохода эскадры. В случае неповиновения начальник вахты имел полномочия немедленно открыть огонь на поражение из всех видов орудий.
Повышенная боевая готовность идущей эскадры, ожидание диверсий и недоверие к находившейся поблизости Великобритании, поддержавшей Японию в этой войне, привели к нервозности военных моряков и трагическому происшествию при прохождении русской эскадры вблизи британских берегов.
С самого начала этот поход сопровождали досадные нелепости, и моряки, как люди суеверные, не могли не понять, что это дурное предзнаменование. Флагманский корабль почти сразу сел на мель, а один из крейсеров сопровождения потерял якорную цепь. Пока ждали застрявшего флагмана, а крейсер искал якорь, эсминец случайно врезался в любимый линкор контр-адмирала Фёлькерзама «Ослябя» и протаранил его, поэтому линкор вернули в Ревель на ремонт. Несколько крейсеров[32] и миноносцев[33] отстали от эскадры на Балтийском море и шли вдогонку с сильным опозданием.
Экипаж
Командиром Второй Тихоокеанской эскадры был начальник Главного морского штаба, контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, известный как боевыми победами, так и журналистской деятельностью: подобно погибшему на броненосце «Петропавловск» вице-адмиралу С. О. Макарову[34], он публиковал в газетах отчеты о неутешительном состоянии Российского военного флота, чем снискал недовольство начальства. Впрочем, на флагманском корабле эскадры «Князь Суворов» с 11 сентября 1904 года находился еще один «критик» – 2-й флаг-капитан Николай Кладо. С апреля 1904 года он был начальником военно-морского отдела штаба командующего флотом Тихого океана и продолжал им оставаться во время похода эскадры, но отношение к нему всегда было неоднозначное. Отношение Рожественского к придиркам Кладо можно было понять: командующий эскадры был не виноват в том, что ему досталась «груда металлолома» и пропащая команда.
Помощниками Рожественского в этом походе были контр-адмиралы Дмитрий Густавович Фёлькерзам и Оскар Адольфович Энквист, младшие флагманы эскадры. Рожественский не питал к ним особенно теплых чувств: Энквиста он называл «пустым местом», а Фёлькерзама – «жирным мешком». В письмах к жене он порой говорил, что Дмитрий Густавович «умница», но «не подходит для самостоятельных действий».
Их экипажи отличались крайней гетерогенностью – от давно утративших навыки прапорщиков запаса до недавно призванных кадетов, окончивших корпус досрочно из-за войны и не успевших получить достаточных знаний. Много было на судах необразованных крестьян из прибрежных районов. Наспех собранные в дорогу юнцы выглядели жалкими и забитыми, старые моряки боялись военных команд и незнакомых им военных приборов. Некоторые вообще никогда не видели моря и страдали от качки. Знакомые с морем гражданские моряки не имели военных навыков. Офицеры-артиллеристы «Князя Суворова» говорили, что «одну половину приходится учить всему, потому что она ничего не знает, другую половину – потому что она все забыла, но даже если хоть кто-то что-то помнит, это уже неважно, потому что все давно устарело».
Около семи процентов эскадры составляли штрафники, отправленные на войну за различные провинности. Им терять было нечего, и этот рейд стал для них почти увлекательным приключением. Попадались среди них и члены революционных групп, пытавшиеся вызвать волнения, поэтому на некоторых судах отмечались случаи саботажа и раздора между членами экипажа.
К середине пути вся эта маргинальная команда испытывала усталость и напряжение из-за невозможности долгих остановок в портах и нехватки топлива.
Нетрудно догадаться о дурных предчувствиях, которые одолевали Рожественского во время этого похода. Его называли «суровым и прямодушным» «бравым моряком», но «ужасно нервным человеком».
Еще 6 июля 1904 года он сообщал начальнику транспортных судов Второй эскадры О. Л. Радлову: «Из различных источников за последнее время получаются беспрерывные известия об организации Японией целой системы предприятий и ряда покушений на суда нашей эскадры во время следования на театр военных действий. Япония фрахтует иностранные быстроходные коммерческие пароходы и яхты для устройства линий беспроволочного телеграфа, причем по некоторым данным можно предположить, что на этих пароходах устанавливается артиллерия и имеются разного рода мины»[35].
Первые сведения о готовящихся диверсиях противника Рожественский получил во время заправки углем возле норвежского мыса Скаген[36]. Ему донесли, что в порту замечены подозрительные передвижения. В строевом рапорте в Морское министерство от 15 октября 1904 года Рожественский упоминал в качестве своего источника «возвращавшийся из северного плавания транспорт «Бакан»», видевший «четыре миноносца, шедших под одними топовыми огнями, чтобы их издали принимали за бота рыбаков». После получения этих сведений контр-адмирал отдал приказ командирам судов усилить бдительность.
Появились данные о том, что японские миноносцы могут поджидать эскадру возле датского побережья, а кроме того следует опасаться подводных лодок. Консул в Гонконге телеграфировал, что еще в июле японцы купили во Франции несколько подводных лодок и зафрахтовали пароход, который вместе с подводными лодками должен поджидать Балтийскую эскадру между Дувром и Кале за сутки до ее прохода чрез Ла-Манш.
Издерганный всем этим Рожественский тут же отменил погрузку в Скагене и велел сняться с якоря, понимая, что им может не хватить топлива.
Слухи о готовящихся диверсиях вызвали у экипажа вспышку массовой истерии. Для ее подавления Рожественский утвердил приказ о том, чтобы с этого момента ни одно постороннее судно не подпускалось к эскадре. Его приказ тут же спровоцировал очередную нелепость: под обстрел попали два рыбацких катера со связными от государя императора, направлявшимися к Рожественскому, чтобы сообщить ему о повышении в звании до вице-адмирала. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. Но это был еще не конец.
Ночное происшествие
Одним из главных виновников инцидента оказался английский туман. Вечером 8 октября 1904 года русские суда попали в зону невидимости, о чем сообщал впоследствии вице-адмирал: «В ночь с 7 на 8 октября и днем 8 октября густой туман, совершенно скрывавший соседнего мателота на расстоянии даже одного кабельтова, сменялся мглою и кратковременными просветами».
Как раз перед этим командующий решил двигаться дальше шестью отрядами на расстоянии двадцати пяти миль друг от друга. Первый и второй отряды состояли из миноносцев, третий и четвертый – из крейсеров, пятый и шестой – из броненосцев. Таким образом, первые четыре отряда проверяли дорогу для прохода броненосцев, как наиболее важного звена эскадры.
Но этот порядок сразу оказался нарушен. Отряд крейсеров под командованием Энквиста сбавил ход, поскольку контр-адмирал опасался столкновения судов из-за густого тумана и слишком маленького расстояния между ними.
В то же время у миноносца «Камчатка» вышел из строя двигатель. «Камчатка» была ремонтной базой эскадры. Ею командовал капитан 2-го ранга А. И. Степанов. В тот момент он не знал координат местоположения своего судна. Судя по радиодонесениям, транспорт, отстав от флагмана «Дмитрий Донской», уклонялся от миноносцев более 2 часов. На самом деле «Камчатка», потеряв третий эшелон Энквиста, находилась в это время на расстоянии двадцати миль от строя кораблей вице-адмирала Рожественского.
Колонна командующего состояла из флагмана «Князь Суворов» и броненосцев «Император Александр III», «Бородино», «Орел» и «Анадырь». Рожественский во избежание путаницы приказал миноносцам идти к Франции – в порт Брест, а миноносец «Камчатка» был направлен в сторону Доггер-банки – традиционного района рыбной ловли на Северном море.
Без четверти девять вечера начали происходить непонятные вещи. С «Камчатки» передали, что она атакована неизвестными миноносцами и ведет по ним огонь. На запрос, сколько миноносцев на нее напало, был дан ответ: «около восьми со всех сторон».
Судовой инженер броненосца «Орел» Владимир Костенко вспоминал: «Около 8 часов вечера с мостика прибежал на ют мичман Бубнов, где он все время находился в радиорубке, следя за получаемыми телеграммами, и сообщил ошеломляющее известие о том, что транспорт «Камчатка» со всех сторон атакован миноносцами и уходит от них разными курсами, отстреливаясь»[37].
«Камчатка» передавала: «Преследуют миноносцы», «Закрыл все огни», «Атака со всех сторон», «Миноносец был ближе кабельтова», «Разными курсами ухожу от миноносцев», «Иду на ост 12 узлов».
Всего судно выпустило 300 снарядов, но позднее говорилось, что на самом деле «Камчатка» приняла за диверсантов шведское промышленное судно Aldebaran и немецкий траулер Sonntag. При этом запросы «Камчатки» о координатах эскадры оставались без ответа, поскольку на «Князе Суворове» боялись обнаружить свое местоположение. По словам Костенко: «Общее впечатление было, что подозрительный запрос о курсе исходит не от “Камчатки”».
«Князь Суворов» вместе с отрядом броненосцев вышел к месту инцидента и без пяти минут час ночи 9 октября обнаружил вместо неприятеля флотилию английских рыбаков, вполне организованную и оснащенную сигнальными огнями и ракетами.
Все это могло бы показаться нелепым недоразумением и даже напоминало бы известный миф об Аяксе, которого мстительная богиня Афина поразила безумием и заставила принять пасущееся стадо за армию неприятеля, если бы в ходе Гулльского инцидента не произошло несколько странных и необъяснимых происшествий, спровоцировавших новую стрельбу.
Сразу после того, как «Князь Суворов» вышел на рыбаков, к нему вдруг устремилось неизвестное судно без опознавательных огней. Оно не отзывалось на призывы, поэтому по нему открыли огонь. С другой стороны находился рыболовецкий крейсер, и вице-адмирал хотел уже прекратить огонь. Но по левому борту появилось второе неопознанное судно, и теперь огонь велся по обе стороны крейсера, поддерживаемый стрельбой с других кораблей. Минер броненосца «Сисой Великий» лейтенант Александр Витгефт упоминал две ракеты, пущенные из группы рыболовных судов по левому борту немного впереди траверса. Сигнальный кондуктор Повещенко и матрос 47-мм орудия на левом крыле мостика закричали в один голос: «В лучах прожекторов 1-го отряда броненосцев виден четырех-трубный миноносец». Затем еще несколько голосов закричало: «правее его еще один миноносец».
Инженер Костенко тоже видел с броненосца «Орел» неопознанное судно, но разглядел на нем только три трубы: «Неизвестный трехтрубный миноносец и спровоцировал стрельбу». Трех– и четырех-трубных миноносцев в русском флоте не было, не могло их быть и среди рыболовных судов.
То есть свидетельства присутствия на Доггер-банке посторонних миноносцев все же были. Уже после ухода эскадры в сторону Испании на Северном море остался дрейфовать неизвестный миноносец, который некоторое время принимали за русский, брошенный эскадрой, пока от Рожественского не поступило опровержение. Вице-адмирал указывал в рапорте, что «миноносец, бежавший по правому борту, должен был сильно пострадать, а левый скрылся удачно»[38].
Существовала версия, что Англия, враждебно относившаяся к России и вступившая в союз с Японией, спровоцировала этот инцидент специально, чтобы задержать эскадру и деморализовать ее состав. Появление двух неопознанных судов из рыболовецкой флотилии говорит в пользу такой версии.
Впрочем, от «японской» версии тоже не стоило отказываться. Николай Кладо писал: «В нынешних условиях можем ли мы хоть на мгновение предположить, что японцы, в полной мере осознавая огромную важность победы над эскадрой адмирала Рожественского, были настолько глупы, чтобы не взять на себя труд заменить внутренние трубы больших орудий своих кораблей? Не вызывает сомнения тот факт, что японские суда оснащены оружием, сделанным не в Японии, а – тем, что сделано за рубежом, и особенно в Англии. /…/ Например, мануфактуры Армстронга даже не скрывают, что в данный момент перегружены японскими заказами на трубы, броню и т. д. для использования при ремонте поврежденных частей вооружения их кораблей»[39].
В любом случае все последовавшие за этим события стали цепью трагических недоразумений.
На флоте использовался световой телеграф, и над кораблями в темноте можно было заметить выразительные вспышки, освещавшие на мгновение значительную территорию. Крейсеры «Аврора» и «Дмитрий Донской», находившиеся на расстоянии 15 кабельтовых от «Князя Суворова», приняли такие вспышки переговоров, исходившие от Второго отряда броненосцев под командованием контр-адмирала Фёлькерзама, за огонь неприятеля и открыли стрельбу. «Князь Суворов» из-за темноты и тумана не видел «Дмитрия Донского» и «Аврору», поэтому принял их за вражеские миноносцы и открыл ответный огонь. Когда эти два крейсера внезапно вынырнули из темноты рядом с «Суворовым» и броненосцами, их от неожиданности приняли за японскую эскадру. Из-за света прожекторов не сразу разглядели посылаемые с обоих судов цветные сигналы, и начали стрелять по ним из крупнокалиберного оружия, что привело к многочисленным разрушениям.
Началась паника. На броненосце «Бородино» некоторые члены экипажа надели спасательные пояса и легли на палубу ничком, другие в панике собрались возле мачты, крича, что на них напали японцы.
Стрельба продолжалась еще десять минут, в течение которых было выпущено 500 снарядов с борта четырех эскадренных броненосцев. Трагическим итогом инцидента стала гибель двух британских рыбаков, еще один умер от полученных травм через несколько месяцев. Были повреждены четыре британских траулера, один из них, Cran, затонул. При этом были обстреляны два российских крейсера – «Аврора» и «Дмитрий Донской». Их обстреляли семь боевых кораблей.
Матроса-комендора крейсера «Аврора» Григория Шатило задело осколком. В «Аврору» попало пять снарядов, и – опять по роковой случайности – одним из них был тяжело ранен судовой священник, отец Анастасий Рукин: снарядом ему оторвало руку. Во время отхода эскадры капитан «Авроры» Евгений Егорьев просил разрешения зайти в Шербур и отправить священника в госпиталь, но Рожественский приказал не останавливаться. Скончавшегося от кровопотери отца Анастасия похоронили в Танжере.
Деньги решают всё
Гулльский инцидент вызвал в Европе скандал. Больше всего возмущались англичане, они требовали суда над Рожественским и возвращения эскадры.
Британские газеты дали инциденту свое название – The Russian Outrage (Русский произвол, англ.) и насмешливо писали, что, к счастью для британских траулеров, русская артиллерия очень плохо стреляет, о чем свидетельствуют 500 снарядов, выпущенных с броненосца «Орел», которые никого не задели.
Особую пикантность русско-британскому конфликту придавал тот факт, что Рожественский за десять лет до этого служил военным атташе России в Лондоне.
В качестве компенсации Россия уплатила пострадавшим подданным Великобритании немалую сумму – 65 тысяч фунтов стерлингов. Но британское правительство еще долго называло русских моряков «пиратами» из-за того, что они не остановились оказать помощь пострадавшим, а устремились в сторону Испанского побережья: именно там, возле порта Виго, 13 октября эскадра и была остановлена для выяснения обстоятельств. Спешка Рожественского, его бегство с места происшествия, отказ от похода во французский Брест были вызваны опасением, что миноносцы все еще находятся поблизости и в любой момент могут вновь появиться из тумана. В Виго вице-адмирал приказал некоторым офицерам следовать в Петербург с отчетом, а потом дать показания об инциденте.
* * *
Где в этой истории было недоразумение и где провокация, установить впоследствии оказалось невозможно.
«Мы приняли первое «боевое крещение», выражаясь военным языком, но с кем мы сражались – сами не знаем», – писал Владимир Костенко.
Английская сторона, чувствуя себя оскорбленной, организовала постоянное наблюдение за русской эскадрой со стороны крейсеров британского флота. Двадцать восемь линкоров британского флота преследовали русскую флотилию вплоть до португальского побережья, а эскадра британских крейсеров шла за эскадрой Рожественского через весь Бискайский залив.
Чудом международной дипломатии удалось предотвратить начало военных действий, и германская пресса в 1904 году писала, что это был тот самый случай, когда «закон смог призвать ведущие европейские державы к порядку, не вредя при этом их самолюбию»[40].
У Германии был в этом конфликте свой интерес. Через несколько дней после происшествия, 15 октября 1904 года, кайзер направил русскому императору предложение совместно положить конец английским провокациям и образовать союз, в который следует включить и Францию. Николай II, напуганный возможностью войны с Англией, ответил кайзеру согласием, и тот прислал сентиментальное письмо и три написанные совместно с канцлером фон Бюловом статьи договора. Царь посоветовался с министром иностранных дел Ламздорфом и ответил Вильгельму II, что должен внести в договор поправки и хотел бы предварительно обсудить его с французской стороной. После этого раздосадованный кайзер в письме фон Бюлову назвал русского царя «тряпкой» и выразил опасения, что текст договора из-за «бесхребетности» этого «царя-батюшки» попадет в английские и французские газеты, а Германия станет посмешищем.
Промышленники Германии смотрели на это дело с практической точки зрения: их вполне устраивало мирное разрешение конфликта, поскольку летом 1904 года Германия подписала с Россией торговый договор и снабжала эскадру Рожественского углем. Германские условия, предложенные главой компании Hamburg Amerika Linie Альбертом Баллином[41], подходили России больше чем французские[42]. А Баллин еще и выступал вплоть до Первой мировой войны жестким конкурентом английского судоходства[43].
Конечно, Баллина и немецких торговцев вполне удовлетворило официальное требование Германии от 29 ноября 1904 года о вооруженной помощи со стороны России в случае, если Англия воспрепятствует поставкам немецкого угля: такой документ обеспечивал германским предпринимателям торговые гарантии.
В то же время военный союз России с Германией совершенно не устраивал французов, желавших сближения России с Англией против Германии. Именно поэтому Франция стала самым активным действующим лицом в улаживании инцидента, а в качестве штаб-квартиры следственной комиссии предложила Париж.
Впоследствии говорилось и о том, что «очень удачно выступил в роли посредника французский посол в Лондоне Камбон, благодаря которому зловещий инцидент был счастливо устранен и судьба мира спасена»[44].
Поль Камбон был послом в Лондоне с 1898 года. В столице Великобритании он быстро стал авторитетной политической фигурой, в 1904 году активно участвовал в переговорах между Великобританией и Францией, а позднее, в 1912–1913 годах, представлял Францию на Лондонской конференции по вопросу о Балканских войнах. Когда началась Первая мировая война, Поль Камбон обеспечил поддержку британской интервенции со стороны Франции.
Через неделю после инцидента, 16 октября, Поль Камбон явился к статс-секретарю иностранных дел Британии лорду Ленсдауну и сказал, что «сердечное согласие» (именно так переводится слово «Антанта») Англии и Франции не переживет нападения Англии на Россию, как союзницу Франции. По словам посла, в случае такого исхода дела лондонские банки лишатся французских вложений, а это вызовет финансовый обвал в лондонском сити. Британский долг в полтора миллиарда франков напугал Ленсдауна и побудил последовать советам Камбона.
Последовала советам французов и Россия, которая с лета 1904 года задолжала Франции 300 миллионов рублей. Поль Камбон мог ощущать себя победителем, как, впрочем, и вся французская дипломатия. Британский политик Гаральд Николсон называл Камбона «идеальным дипломатом»[45] и писал, что он был «на редкость терпелив»: «Стремящийся к примирению, неизменно скромный, исключительно лояльный, он всегда был готов действовать. Его исключительная способность выбирать подходящий момент, его тонкое понимание обстановки, достоинство его манер сделали его человеком всеми уважаемым и пользующимся всеобщим доверием».
Брат французского посла Жюль Камбон позднее, в 1925 году, с гордостью писал, что «накануне войны 1914 года ни одна страна не имела лучшей дипломатии, чем Республика»[46].
Международная комиссия
В столице Франции была создана международная комиссия (ее еще называли «третейским судом»). В ее состав вошли пять адмиралов разных национальностей – Берман фон Спаун (Австро-Венгерский флот), Франсуа Фурнье (Французский флот), Федор Васильевич Дубасов (Российский флот), Льюис Энтони Бьюмонт (Британский флот) и Чарльз Генри Дэвис (Флот США). В работе комиссии принимал участие имперский чиновник России М. Неклюдов.
В ходе обсуждения Дубасов высказал особое мнение о том, что среди судов рыболовной флотилии был и японский миноносец, который скрылся с места происшествия (пункт 13). Патриотическая позиция и успешное разрешение инцидента принесли Дубасову место в свите русского императора и чин генерал-адъютанта.
В финальном отчете содержалось 17 пунктов[47]. Помимо уже известных обстоятельств, там упоминалось свидетельство капитана британского судна Zero, зафиксировавшего время прохождения кораблей эскадры мимо его борта: он «рассмотрел их достаточно внимательно и позднее узнал их по описанию», а «результаты его наблюдений в целом согласуются с докладом адмирала Рожественского» (пункт 4).
Отмечалось, что большинство членов комиссии не считали приказы Рожественского «чрезмерными во время войны, и особенно в тех обстоятельствах, которые адмирал Рожественский имел все основания считать очень тревожными», так как «в тот момент даже для него невозможно было проверить точность предупреждений, которые он получил от агентов своего правительства» (пункт 8). Рыболовецкая флотилия в отчете описывалась как «тридцать маленьких судов, растянувшихся на территорию в несколько миль»: здесь напрашивается вывод, что причиной недоразумения могла стать такая разбросанность судов, принадлежность и назначение которых невозможно было установить.
Формулировки первого независимого суда, расследующего военный инцидент, представлялись далекими от языка следственных действий. Так, параграф 9 – «ночь была довольно темная, с низким туманом и частичным помутнением воздуха. Луна изредка показывалась между облаками. Умеренный ветер дул с юго-востока» – вызывал ассоциации с пейзажной лирикой британской «Озерной школы», а не с юридическим документом военно-морской комиссии.
Еще удивительнее звучит параграф 15: «большинство членов комиссии полагает, что никаких миноносцев в этом районе не было», однако «продолжительность огня с борта была большей, чем это было необходимо».
Такой вывод не кажется логичным: во-первых, комиссии следовало опираться на факты, а не на предположения большинства ее членов, и, во-вторых, если действительно допустить, что никаких миноносцев не было, то о каком превышении продолжительности огня может идти речь.
В пункте 11 указывалось, что «ответственность за эти действия и разрушения, которым подверглась рыболовная флотилия, несет адмирал Рожественский», и в пункте 13 также подтверждалось, что приказ об открытии огня был «не оправдан». Зато в пункте 15 уполномоченные единогласно признавали, что «адмирал Рожественский с начала и до конца инцидента лично сделал все, что мог, для предотвращения нападения предполагаемого неприятеля, который и был обстрелян с эскадры». Столь же противоречиво выглядело заключение комиссии (пункт 17), признавшее Россию виновной в произошедшем инциденте и одновременно снявшее с нее обвинение в «порочащих моряков действиях».
Совершенно очевидно, что в этом вопросе международная комиссия стала заложницей вечного правового прецедента, касающегося исполнения военного приказа. Международное право никогда не было последовательным в этом вопросе, особенно обострявшемся в моменты военных конфликтов. В то время как русские юристы уже со второй половины XIX века подвергали сомнению положение об исполнении военного приказа как о смягчающем обстоятельстве, мировая практика была менее критична в этом вопросе, ссылаясь на условия военного времени. В тот момент сомнения комиссии и снисходительное отношение к воюющим морякам даже сыграли на руку Российской империи.
* * *
Учитывая истинную цель международной комиссии, едва ли стоит предъявлять ей претензии. В условиях Северного моря невозможно было провести расследование. Еще меньше этому способствовала военная обстановка, тем более что команда, отправлявшаяся воевать, не присутствовала на дознании: на следствии присутствовало лишь несколько моряков. Отсюда и пестрящие в документе сослагательные глаголы, вводные обороты (видимо, по всей вероятности) и вопросительные формы (какое-то судно, какой-то офицер). Многие выводы выглядят чисто формально, рекомендательно. Целью комиссии было не расследование, а улаживание инцидента, и она этой цели достигла, предписав Рожественскому и его отряду спокойно воевать дальше, а российскому правительству – выплатить штраф и пенсии пострадавшим.
Да и сама обстановка на набережной Д’Орсэ меньше всего была похожа на заседание суда, скорее происходящее напоминало спектакль. «Количество присутствующих впечатляло, – писала газета. – Никогда ранее, с момента начала работы Международной комиссии здание министерства иностранных дел на набережной Д’Орсэ не видело такого количества элегантно одетых дам и дипломатов, блистающих почетными наградами. Шикарных позолоченных стульев, предназначенных для приглашенных, оказалось недостаточно. Ассистенты вынуждены были стоять в течение обоих заседаний»[48].
В Париже давали показания три офицера с трех броненосцев: лейтенант В. Эллис («Александр III»), капитан М. Вабронд («Камчатка»), лейтенант В. Шрамченко («Бородино»). Главным ответчиком был капитан II ранга Кладо, находившийся в момент инцидента на «Князе Суворове».
Рожественский отправил Кладо давать показания в Париже, а потом – собирать суда в помощь Второй эскадре. Это было чем-то вроде почетной ссылки. Офицеры «Суворова» тоже недолюбливали капитана и считали ангажированным человеком, орудием в чужих руках. По их мнению, он был сторонником командующего Балтийским флотом А. А. Бирилёва в его борьбе против управляющего Морским министерством Ф. К. Авелана.
Во время парижских слушаний Николай Кладо сделался одной из самых популярных фигур европейской прессы. Газеты писали, что «показания капитана Кладо отличались необычайной живостью и убедительностью. Громко и уверенно он повторил сказанное до него, подтвердив все заявления. Его речь необычайно взволновала аудиторию…»
Судьба эскадры
Вице-адмирал Рожественский расценивал Гулльский инцидент как дурное предзнаменование. Он имел сильное желание повернуть назад, и телеграфировал об этом начальству. Вице-адмирал не верил в успех похода и оказался прав. Рок буквально преследовал эскадру.
Эскадра подошла к Танжеру, потеряв контакт с натворившей бед «Камчаткой», и в течение нескольких дней о ней ничего не было слышно. Но вскоре возле побережья Анголы это судно, ставшее источником проблем, дало о себе знать, вновь устроив панику: на этот раз на «Камчатке» перепутали сигналы оповещения и вместо сигнала о своем прибытии отправили сообщение о прибытии торпедных катеров.
В Дакаре Рожественский распорядился загрузить двойную норму угля. Старший флаг-офицер штаба командующего эскадрой, лейтенант Е. В. Свенторжецкий назвал переход от Танжера до Мадагаскара «беспрерывной угольной операцией». В каждом порту первым к эскадре подпускался угольщик, и тут же начиналась погрузка. За один только час – с пяти до шести часов вечера 17 ноября 1904 года – «Аврора» приняла на борт 1300 тонн угля, что несказанно порадовало командира. И даже Кравченко, старший судовой врач крейсера «Изумруд», приходил в восторг, не понимая последствий этой погрузки для здоровья экипажа. Он восклицал: «Участие принимают решительно все. Белоручек нет. Франтоватых офицеров не узнать – все превратились в эфиопов»[49].
Однако вскоре угольная пыль в сочетании с влажной экваториальной атмосферой пропитала судно сверху донизу и стала причиной смерти нескольких моряков, сутками вдыхавших загрязненный воздух.
Для оптимизации похода 19 ноября на «Авроре» устроили празднество «в честь перехода через экватор» – с костюмированным представлением. Это был один из немногих счастливых моментов, когда моряки искренне радовались и веселились при виде своих товарищей, наряженных мифологическими персонажами. Врача Кравченко навел на фатальные и романтические мысли судовой оркестр. «Как жаль, что во время боя оркестр не может играть, – говорил доктор. – Впрочем, за ревом орудий его все равно и не услышишь. Все-таки инструменты наши решено во время боя не прятать в безопасное место – почем знать, может быть, ко дну будем идти с развевающимися флагами под звуки гимна».
Возле Кейптауна Рожественский получил сообщение, что Кладо сформировал подкрепление, но по представленным ему спискам судов понял, что это не помощь, а насмешка. В качестве подкрепления Кладо отобрал совершенно непригодные корабли, которые сам называл «старыми ваннами» и «рукомойниками». Рожественский высказался по этому поводу вполне определенно: «Убийственную услугу нашему делу оказал Николай Лаврентьевич. Его Маниловская идиллия – застучат молоточки, настроятся кораблики и поплывут выручать эту бедную Вторую эскадру – непростительна потому особенно, что он хорошо знает, что это даже не идиллия, а химера». Никакого желания соединяться с этими судами у вице-адмирала не было. Однако Третья эскадра вышла из Ревеля во главе с адмиралом Небогатовым, который получил приказ двигаться по направлению к эскадре вице-адмирала Рожественского, координаты которой неизвестны. В Третью эскадру вошли броненосцы «Николай I», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин».
Они шли в сопровождении крейсера «Владимир Мономах» и транспортов «Ливония», «Курония», «Ксения» и буксира «Свирь». Узнав об этом, Рожественский назвал Третью эскадру «археологической коллекцией военно-морской архитектуры», которая «преследует его как кошмарный сон по всему земному шару».
Моральный дух Второй эскадры настолько упал, что руководством был предпринят еще один эксцентричный шаг: для команды по всему побережью приобретались экзотические животные, призванные отвлечь моряков от мрачных предчувствий. Эскадра превратилась в плавучий зверинец, состоявший из невиданных животных и птиц. Это стало причиной новой паники: на этот раз ее вызвали ползающие по палубе крокодил и ядовитая змея, которая потом обвилась вокруг пушки и укусила капитана.
В то же время на судне Espérance, снабжавшем моряков провиантом, сломался холодильник, и протухшее мясо пришлось выбросить за борт в море, где его подобрали акулы.
И в довершение всего уже на Мадагаскаре Рожественский слег с высокой температурой, а его начальник штаба Фёлькерзам перенес кровоизлияние в мозг и частичный паралич, поэтому не выходил из каюты. Экипаж проводил время в тавернах, игорных домах и борделях. Команда пьянствовала, у одного из матросов обнаружили запасы сигарет, начиненных опиумом. Случались и преступления. В качестве самого строгого наказания применялось заключение в карцер, но там была настолько высокая температура, что многие матросы заболели.
На кораблях были отмечены и эпидемии – дизентерия, малярия и брюшной тиф унесли несколько жизней. Моральный дух моряков был на исходе. Группу штрафников-революционеров, пытавшихся поднять бунт, по распоряжению Рожественского погрузили на судно Malay и отправили обратно в Россию. Вице-адмирал попытался привести команду в порядок, объявив боевые учения. Но это привело лишь к тому, что от беспорядочной стрельбы на кораблях вновь началась паника, а у злополучной «Камчатки» треснула труба в машинном отделении. И совершенным абсурдом стало прибытие в Африку долгожданного корабля «Иртыш» с вещами для русского флота: оно было загружено меховыми пальто и унтами. С куда большим оптимизмом был встречен перевозивший почту корабль «Горчаков», несмотря на то, что все письма были месячной давности.
3 апреля 1905 года, когда пришли в бухту Камранг, заместитель Рожественского, контр-адмирал барон Фёлькерзам скончался от инсульта на борту своего эскадренного броненосца «Ослябя». Рожественский узнал об этом по отправленному с броненосца секретному сигналу: «На броненосце сломалась шлюпбалка». Оповещать эскадру о смерти младшего флагмана было запрещено, поэтому флаг над «Ослябя» продолжал развеваться вопреки морской традиции, а тело контр-адмирала было помещено в холодильную камеру для последующего захоронения на дне Цусимского пролива. Вместо Фёлькерзама командование осуществлял капитан I ранга Владимир Иосифович Бэр, но он пережил своего начальника всего на сорок дней. Корабли так и ушли в бой, не зная о кончине контр-адмирала Фёлькерзама.
11 мая 1905 года Третья эскадра присоединилась ко Второй возле Индокитая, и от ее экипажа Вторая эскадра узнала о происходящих в России революционных беспорядках и о гибели Первой эскадры у Порт-Артура, после чего вице-адмирал признавался в письме домой: «Нехорошо у меня на эскадре. Два с половиной месяца стоянки на Мадагаскаре разнесли весь запас энергии, который был накоплен предыдущим мощным движением. Последние известия о полном разгроме армии окончательно докончили слабые душевные силы моего народа»[50].
Вдобавок ко всему Рожественский получил письменный приказ двигаться во Владивосток и там передать командование адмиралу Бириллову. Но по пути во Владивосток Вторая эскадра была остановлена японцами в районе Цусимы.
В сражении 14 мая 1905 года погибла вся команда эскадренного броненосца «Александра III» – 867 человек. «Князе Суворов» потерял 935 человек во главе с командиром – капитаном 1-го ранга и художником-маринистом Василием Игнациусом. Из 866 человек команды «Бородино» остался в живых только один матрос. Экипаж «Дмитрия Донского» попал в плен во главе со смертельно раненным командиром Иваном Николаевичем Лебедевым, который скончался в японском госпитале. Ставленник Рожественского, командир «Авроры» Евгений Егорьев был убит осколками снаряда в боевой рубке. Погиб и капитан «Камчатки» Степанов. Раненый капитан «Ослябя» Владимир Бэр отказался покинуть тонущее судно.
Катастрофа в районе Цусимы до сих пор производит чудовищное впечатление, сравнимое разве что с гибелью Помпеи. Японские потери составили 3 торпедных катера, 116 погибших и 530 раненых, но их невозможно сравнить с русскими потерями. Русский флот фактически за два дня лишился 21 корабля, в том числе 7 линкоров. Погибли три адмирала и почти 4500 человек моряков. 7300 человек оказались в плену. Едва ли Россия когда-нибудь несла такие огромные и бессмысленные потери. Адмиралы и капитаны, гордость русского флота, уходили на дно вместе со своими кораблями.
К вечеру 14 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра перестала существовать.
* * *
Рожественский был ранен, потерял сознание и попал в плен. В госпитале города Сасебо ему сделали операция, а японцы относились к нему с большим почтением. На родине вице-адмирала, наоборот, ждали обвинения и травля, в основном со стороны газет. Всю вину за поражение он взял на себя, и суд оправдал его, поскольку он попал в плен без сознания. Но от поражения и позора вице-адмирал так и не оправился.
Сочувствующая пресса писала о нем: «Прокурор отказался его обвинять, суд отказался его судить. Да и весь приговор суда явился только исполнением тягостной формальности. Победителей не судят, но не судят также и побежденных, когда поражение подводит лишь итог целой эпохе, когда оно пишет слово: «конец» на последней, и – как это часто бывает – кровавой странице, закрывающей собою отдельный том истории народа»[51].
Марианна Сорвина Цабернский инцидент (большой скандал в маленьком городе)
Прусский Эльзас
Эта история уходит корнями в позапрошлый век. Франко-прусская война 1870–1871 годов привела к тому, что восточная часть Лотарингии и почти весь Эльзас оказались на территории Германии, при этом мнение местных жителей в расчет не принималось. Французы вовсе не оставили своих соотечественников без поддержки и участия: на «большой родине» развернулось движение в поддержку Эльзаса. Характерно, что во французских городах площади и улицы назывались в честь Эльзаса и Лотарингии. Такое практически всегда происходит в историческом государстве по отношению к отторгнутому этническому меньшинству: как символическое проявление памяти и надежды – своеобразная форма национальной солидарности. Но это – большее, что они могли сделать. Франция воспринималась правителями Германской империи как «наследственный враг» и самый опасный потенциальный противник, поэтому даже в мирное время на захваченной французской территории ощущалось огромное военное присутствие: в Эльзасе было в четыре раза больше солдат, чем в остальной части Германского рейха.
«Большая политика» Германии была сконцентрирована в Берлине, но империя являлась федеративным государством, поэтому внутреннее управление и право считались делом отдельных областей. Население Эльзаса-Лотарингии долгие годы не имело самоуправления, лишь в 1911 году оно получило некоторые права. Но даже тогда эта область считалась «имперской землей», а управляли ею прусские чиновники во главе с губернатором Карлом фон Веделем, который непосредственно подчинялся императору.
Граф Ведель был фигурой довольно интересной. Он занимал этот пост с 1907 по 1914 год и имел чин генерала кавалерии. Но никогда он не был прямолинейным солдафоном, и во многом потому, что был гораздо больше известен как дипломат и приобрел немалый опыт в качестве посланника в Вене, Стокгольме, Бухаресте и Риме. Военным атташе в Вене он стал сразу после Франко-Прусской войны. В 1892 году Веделя направили в Стокгольм, а в 1898 году – в Рим. С 1902 года по 1907 год он был германским послом в Вене.
Дипломатическая деятельность поменяла приоритеты Веделя: губернатор уважал право наций на самоопределение, интересовался французской культурой и образованием, сочувствовал французской солидарности с Эльзасом, искал способы примирения между Францией и Германией и даже боролся за то, чтобы предоставить Эльзасу-Лотарингии полные права федеративного государства.
Но большинство действующих политиков и чиновников, не говоря уже об офицерах, особым тактом не отличалось. Они едва ли понимали, что времена меняются и за сорок лет эта принадлежавшая им область стала совершенно другой страной. Здесь сформировался новый культурный слой населения. Вопреки здравому смыслу правящая верхушка считала, что следует по-прежнему внедрять в Эльзасе принципы старого рейха. Большинство чиновников и солдафонов с радостью устранило бы все, что так или иначе напоминало историческое прошлое Эльзаса, свидетельствовавшее о французской культуре.
В то же время отношение к Германии в Эльзасе было, по словам современных исследователей, далеко не однозначным. Французские историки Раймон Пойдеван и Жак Барьети писали, что большая часть местных жителей, вопреки общему мнению, сложившемуся после инцидента, вовсе не стремились к противостоянию и тем более к войне. Они лишь хотели самоуправления и равноправия. Только небольшая часть населения относилась к Германской империи враждебно и видела в прусских чиновниках и офицерах оккупационный режим. Эльзасцев возмущал не столько сам германский режим, сколько колониальные манеры прусских чиновников и военных, их державное позерство.
Именно в такой момент относительного затишья и произошло нечто непредвиденное. Осенью 1913 года название гарнизонного городка, которого многие никогда раньше не слышали, приобрело нарицательное значение и появилось на страницах всех газет Германии, Франции, других стран Европы и даже США.
На первый взгляд, знаменитый Цабернский (или Савернский) инцидент 1913 года, связанный с оскорблением прусским лейтенантом местных жителей, имевший большой резонанс в прессе и вошедший в историю, кажется теперь совершенной нелепостью, в особенности – из-за абсолютной незначительности лица, ставшего его причиной. Впрочем, эта нелепость имела серьезные исторические последствия. Она привела к правительственному кризису в Германии и отставке нескольких высокопоставленных лиц, а кроме того громко возвестила о неотвратимости военных столкновений в недалеком будущем.
Выходка лейтенанта Форштнера
В Цаберне проживало 8 500 человек. В нем находились резиденция губернатора, районный и областной суд. Старый замок, когда-то принадлежавший Страсбургским епископам, был превращен в казарму, где располагались первый и второй батальоны Верхне-Рейнского пехотного полка № 99. В этом полку служил лейтенант Гюнтер фон Форштнер, с которого все и началось.
28 октября 1913 года Форштнер инструктировал солдат, как следует работать с гражданским населением. Впоследствии этого юнца сравнивали с карикатурами из немецкого сатирического журнала Симплициссимус: среди них был постоянный образ высокомерного и зарвавшегося «Потсдамского гусарика».
И вот в злополучный день 28 октября этот не слишком умный и очень молодой офицер – барону Гюнтеру фон Форштнеру, виновнику инцидента, было девятнадцать лет, а выглядел он и того моложе – велел рекрутам не церемониться в применении оружия и посулил вознаграждение. Произошло следующее: Форштнер объявил, что в случае появления подозрительных гражданских лиц на городской территории следует без всяких церемоний использовать штык. Затем он повернулся к новобранцу и грозно прорычал: «И если вы нанижете на вертел одного из этих waches, то вреда не будет. Вы даже получите от меня десять марок в награду». Офицер команды, сержант Хёфлиг добавил: «И от меня еще три марки».
Этим заявлением Форштнер нарушил устав полка, принятый к исполнению в 1903 году. В уставе строго запрещалось произносить слово «wackes», означавшее «отребье» и имевшее националистическую окраску по отношению к эльзасцам. Оскорбительное слово в данном случае оказалось ключевым и сыграло более серьезную роль, чем даже угроза применения оружия. Именно за это слово пришлось впоследствии оправдываться армейскому начальству, утверждавшему, что лейтенант хотел сказать совсем другое, что слово не так поняли, плохо расслышали и т. д.
Но французы чувствительны к любому сказанному слову, а среди новобранцев оказалось несколько молодых эльзасцев, поспешивших сообщить обо всем редакторам журнала Zaberner Anzeiger.
6 ноября слова Форштнера попали также в Elsässer Anzeiger, а потом и в другие газеты, которые, независимо от их политической ориентации, стали требовать ареста воинственного лейтенанта или отправки его на русскую границу, куда никто добровольно идти не хотел. Губернатор Эльзаса Ведель рекомендовал командующему армейским корпусом в Страсбурге, генералу Бертольду фон Даймлингу немедленно отправить нарушителя в полевые условия. Но командующий ответил резким отказом.
Германские власти и армейское начальство предпочли разбираться не с зачинщиком скандала, а с теми, кто придал этот случай гласности. Были арестованы десять военных, которых подозревали в разглашении сведений газетчикам.
7 ноября в Цаберне началась демонстрация возмущенных местных жителей, и лишь тогда военное командование совместно с правительством Пруссии затеяло спор о том, что же делать с Форштнером – отозвать из Эльзаса, как того требовали демонстранты, или просто подвергнуть аресту. Поскольку Форштнер был представителем военной власти в регионе, возникла ситуация, в которой никто никому не хотел уступать.
Губернатор Эльзаса вновь обратился к генералу Бертольду фон Даймлингу и командиру 99-го полка Адольфу Эрнсту фон Ройтеру с требованием убрать Форштнера из Эльзаса. Суровый вояка генерал Даймлинг был известен подавлением восстания готтентотов в германских колониях Юго-Западной Африки, полковник Ройтер тоже либерализмом не отличался. Едва ли их интересовал сам Форштнер, но они готовы были стоять насмерть, потому что, убрав Форштнера, германская армия расписалась бы в собственном бессилии и признала себя виновной стороной, а командование боялось потерять «лицо» перед жителями оккупированной зоны. Поэтому Ройтер ограничился шестью сутками домашнего ареста для зачинщика инцидента и приставил к нему четырех вооруженных конвоиров.
А тем временем инцидент уже начал набирать обороты. Форштнер превратился в пугало, самого ненавистного человека в Цаберне. Стоило ему выйти за пределы казармы, как сразу появлялись желающие поглазеть на этот живой символ прусской военщины, и со всех сторон слышались смех и выкрики.
Форштнер нагло хорохорился и вел себя так, как будто к нему приставили не конвоиров, а личную охрану. Он ни в чем себе не отказывал и даже ходил в кондитерскую за своими любимыми шоколадными конфетами. Сейчас сохранившиеся фотографии буйного лейтенанта вызывают недоумение: он не похож на молодого мужчину, скорее – на недоросля. Кажется странным, что этому заносчивому подростку доверили инструктировать солдат и представлять имперскую власть в непростом регионе. Впрочем, другие были времена: и девятнадцатилетние могли перевернуть мир. Достаточно вспомнить Гаврилу Принципа – ему тоже было девятнадцать. Но скорее положение Форштнера в армии объяснялось его титулом и происхождением.
Эта комическая процессия – низкорослый и самодовольный Форштнер и четверо крепких вооруженных конвоиров, с серьезными лицами марширующие за ним по улице – напоминала военный парад и вызывала смех у прохожих. За лейтенанта взялись карикатуристы. Форштнер превратился в героя юмористических открыток и даже газетных комиксов. Одна из зарисовок карикатуриста Ханси изображала торжественный поход в кондитерскую. На другой картинке сам Ханси был изображен в роли учителя истории, объясняющего ученику, кто же такие эти «wackes», перед портретами генералов Клебера, Келлермана, Раппа и Лефевра.
Инцидент обрастал новыми подробностями. Газета Zaberner Anzeiger от 15 ноября сообщала, что при инструктаже Форштнер даже советовал новобранцам «насрать на французский флаг».
Вечером 28 ноября возле казарм собралось несколько десятков человек, в основном местная молодежь. Полковник Ройтер призвал демонстрантов немедленно разойтись. Когда это не помогло, он отправил три колонны военных патрулировать вокруг казарм под барабанную дробь. Это вызвало панику и волнения. Солдаты накинулись на собравшихся и арестовали около тридцати человек, многие из которых оказались обычными зеваками, проходившими мимо. Солдаты награждали задержанных пинками и ударами. Потом их заперли на ночь в угольном погребе казармы, оставив без света и еды и отказав в требовании вывести в туалет.
Действия Ройтера в тот момент тоже нарушали закон, потому что военные имели право арестовывать мирных жителей только в случае насильственных действий с их стороны, причем даже в этой ситуации приоритет в наведении порядка оставался за местной полицией, а военные вступали в дело только по решению суда. Один из чиновников напомнил полковнику, что демонстранты не делали ничего плохого. Полковник ответил фразой, которая вошла в историю: «Да я почту за счастье, если сейчас прольется кровь… Тогда наконец будет команда заставить уважать армию, которую все обвиняют».
Во время уличных волнений было арестовано двадцать шесть человек, среди которых оказались даже представители администрации города. Было введено осадное положение, и жители города разгонялись по домам. Многие не смогли встретиться с друзьями и посылали им открытки. Одна из них была послана 29 ноября 1913 года, на следующий день после демонстрации вокруг казармы: «Мои дорогие, Луи завтра не сможет прийти. Мы находимся в состоянии осады, нам запрещается смеяться и останавливаться в городе. Все это становится очень серьезным. Мы с Луи вчера отправились прогуляться по городу и только чудом не угодили в тюрьму. Остальное Луи передаст вам на словах».
Командир 99-го полка потребовал введения в город полицейских частей, на что директор гражданской администрации Цаберна Вильгельм Малер ответил, что это никоим образом невозможно, поскольку никаких нарушений со стороны демонстрантов зафиксировано не было. К этому моменту противостояние внутри самого прусского лагеря Эльзаса обозначилось достаточно ясно: на одной стороне оказались обладавшие гражданским сознанием и сочувствовавшие вверенным им эльзасцам губернатор Ведель, бургомистр Кнёпфлер и директор администрации Малер, на другой – упрямые в своем деспотичном шовинизме военные Даймлер и Ройтер.
Вторая выходка Форштнера
Но уже 2 декабря 1913 года произошел новый инцидент. И его главным героем оказался все тот же буйный лейтенант. Стоило Форштнеру после окончания ареста выйти из дома на улицу, как снова произошел скандал. Когда он вместе с отрядом солдат патрулировал в районе деревни Деттвайлер, его узнали работники обувной фабрики. Они стали смеяться и обзывать его «wackes-лейтенантом», прозвищем, которым наградили его жители Цаберна. Форштнер пришел в ярость и хотел арестовать всех рабочих, но они разбежались. Только один хромой сапожник не успел скрыться, и несколько пехотинцев схватили его. Лейтенант подскочил к нему и ударил саблей по голове. Молодой человек, обливаясь кровью, упал на землю.
После этого стало очевидно, что Форштнер является опасной для общества, внесоциальной личностью, наделенной в силу обстоятельств определенными властными полномочиями. Такие люди нуждаются в изоляции и, возможно, даже в психическом освидетельствовании. Агрессивным поведением они отличаются в силу характера и воспитания.
За вторым скандалом воспоследовали:
2 декабря – открытое письмо бургомистров провинции Эльзас германскому императору, 3 декабря – обращение социалистической партии к жителям Эльзаса, 7 декабря – многотысячные демонстрации в семнадцати городах,
8 декабря – борьба самых разных политических сил в защиту французского меньшинства.
Инцидент в Цаберне повлек за собой высказывания ведущих деятелей рабочего движения – Ленина, Либкнехта, Люксембург. По словам Карла Либкнехта, «у прусского лейтенанта было много предшественников и подражателей», но «до сих пор никто не был в состоянии в такой мере имитировать систему прусско-германского милитаризма, который не только превратился в государство в государстве, но практически встал над государством». Роза Люксембург вопрошала: «Разве эти убийства и насилия на войне не являются привычным делом и подлинной природой военной деспотии, показавшей зубы еще в Цаберне?» Выдающийся поэт Курт Тухольский посвятил инциденту сатирическую поэму «Герой Цаберна».
События сменяли друг друга с невероятной скоростью, причем действие из Цаберна перекинулось в Берлин.
Кризис власти
На следующий день после очередной выходки лейтенанта, 3 декабря 1913 года, рейхстаг в Берлине обсуждал события в Цаберне. Несколько ораторов осудили деяния Форштнера и покрывавшего его Ройтера, выступили против милитаристской диктатуры в Эльзасе.
Канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвег оказался в безвыходном положении. Он, юрист, административный чиновник и многолетний министр внутренних дел, должен был теперь заявить, что военные нарушили закон, однако боялся реакции кайзера Вильгельма II, для которого военные оставались элитным отрядом рейха. Все это грозило ему отставкой. И канцлер начал лавировать. Он сначала осудил поведение Форштнера и Ройтера, а потом сразу же заявил, что, несмотря на это, «Королевская мантия» должна быть защищена от вражеских происков бунтарей. Эти маневры Бетмана разозлили депутатов, и в зале начался шум.
Но окончательно взбесило депутатов выступление военного министра Эриха фон Фалькенгайна, который утверждал, что только «оголтелые бунтовщики» совместно со «злокозненными органами печати» несут ответственность за эскалацию насилия в Цаберне, и проступки Форштнера – мелочь по сравнению с «систематическими издевательствами над военнослужащими и попытками чинить препятствие их рядовой службе, имеющими целью добиться незаконного влияния на решения компетентных органов».
Речь Фалькенгайна вызвала в зале бурю. Лидер социал-демократов и будущий основатель НСДПГ Георг Ледебур крикнул министру: «Вы здесь творите то же самое, что и Форштнер в Цаберне!»
Депутат Константин Ференбах, который позднее займет пост канцлера, неожиданно процитировал слова из «Фауста» Гёте: «Все быстротечное символом станет, невыразимое явью нагрянет» и экспансивно добавил: «Военные точно так же подчиняются закону и праву, и если мы в государстве поставим военную силу вне закона и отдадим гражданское население на милость военных, то, господа – Германии конец! Тогда для германского рейха черной меткой станет именно этот день – третье декабря 1913 года».
Следующий день начался с того, что члены социал-демократической фракции указали канцлеру Бетман-Гольвегу на некоторые расхождения его речи с выступлением военного министра и потребовали от канцлера прояснения его позиции. Бетман-Гольвег совершил роковую ошибку, заявив: «Я полностью согласен с военным министром».
Рейхстаг взорвался криками возмущения, а Народная партия потребовала выразить канцлеру недоверие. Запрос был удовлетворен 293 голосами против 54. Впрочем, для Бетман-Гольвега это был еще не конец: согласно конституции 1871 года в отставку его мог отправить только император. Но парламентское большинство, настроенное против него, сильно подорвало его репутацию и свидетельствовало о национальном кризисе.
Парламентарии ждали реакции кайзера, который в это время находился в Донауэшингене со своим другом, принцем Фюрстенбергом. Там его окружали военные, и он подвергался их влиянию. Естественно, цабернские события кайзеру преподносились односторонне. Генерал Даймлинг отправил императору предвзятый отчет о происходящем в Эльзасе, и Вильгельм был вполне удовлетворен этим документом, а на докладе графа Веделя, в котором содержалась критика военных, сделал насмешливые пометки на полях.
5 декабря Вильгельм II встретился в Донауэшингене с Бетман-Гольвигом, Фалькенгайном, Веделем и Даймлингом. О чем они говорили, не сообщалось, но результат этого совета был доведен до сведения общественности: два батальона пехотного полка № 99 выводились из Цаберна и переводились на военный полигон. От этого немало пострадали интересы гостиничных хозяев, торговцев и ремесленников Цаберна, поскольку большая часть их потенциального дохода была сокращена.
В ходе обсуждений в Донауэшингене было решено как можно скорее провести заседание военно-полевого суда по рассмотрению инцидента.
Преступление и наказание
Судебный процесс против Форштнера состоялся 19 декабря 1913 года в Страсбурге. Рассматривался только случай вооруженного нападения в Деттвайлере 2 декабря. Военный судья приговорил лейтенанта за умышленное нападение на гражданское лицо и незаконное использование оружия к 43 дням заключения. Однако лейтенант даже этот кратковременный срок не отсидел до конца. Он подал апелляцию, и тот же суд выпустил его на свободу досрочно – уже 10 января 1914 года. Формулировка суда всех изумила: лейтенант вовсе не угрожал оружием и не совершал нападения, а действовал в рамках необходимой самообороны. Газеты тут же высмеяли героя, оборонявшегося с оружием и в составе целой команды против одного безоружного хромого парня. Лейтенанта назвали «тряпкой» и «полным ничтожеством».
Форштнер был отпущен в тот самый день, когда состоялся суд над Ройтером. Полковника обвиняли в узурпации власти и незаконном лишении свободы гражданских лиц. Почетный мэр Цаберна Луи Франсуа Кнёпфлер назвал суд над полковником фон Ройтером «позорной пародией на судебное разбирательство, в которой все принципы права были выброшены за борт». Ройтер был оправдан на том основании, что прусский кабинет министров в 1820 году издал приказ «относительно взаимных обязанностей военных и гражданских властей в фортах и гарнизонных городах». Эти приказы не были опубликованы и являлись «Положением о применении оружия» для внутреннего пользования, включенным в устав в 1898 году. Эрнст Рудольф Хубер назвал это положение «неконституционным и, следовательно, незаконным». Известный правовед Литцт сказал в 1914 году в рейхстаге, что этот документ является недействительным. Последствием Цабернского инцидента стало новое служебное распоряжение кайзера от 19 марта 1914 года об использовании оружия военными.
При этом прусская военная юстиция не избежала двойных стандартов. Ройтера оправдали, Даймлинга оставили на его посту, а троих новобранцев, поставивших газеты в известность о нарушении устава Форштнером, арестовали и 11 декабря 1913 года осудили за «разглашение государственной тайны» на сроки от трех до шести недель.
Губернатор Ведель был снят со своего поста и заменен на министра внутренних дел Пруссии Йохана фон Дальвица, авторитарного чиновника и человека консервативных взглядов. 31 января 1914 года отправили в отставку и государственного секретаря министерства Эльзаса Гуго Цорна фон Бюлаха, вместо которого прислали потсдамского советника Зигфрида фон Рёдерна.
Эпилог
Но судьбе уже не было никакого дела ни до прусских военных интересов, ни до двойных стандартов правосудия. Апелляция и пересмотр приговора уже не имели никакого значения, потому что через несколько месяцев началась Великая война, и виновник этих событий лейтенант Форштнер, направленный в 67-й пехотный полк, был убит на русском фронте.
Куда более удивительной оказалась судьба другого героя этой истории, сурового генерала Бертольда фон Даймлинга, ратовавшего за честь и престиж прусской армии. В результате Великой войны он превратился в убежденного пацифиста и демократа, одного из руководителей Friedensgesellschaft – Немецкого мирного общества.
* * *
Так нарушения прав человека в одной провинции привели к политическому кризису целого государства, а патриотизм жителей Эльзаса, отказавшихся воевать на стороне немцев – к возвращению этой территории Франции в результате Версальского договора. В данном случае прецедент общественного отказа привел к позитивному результату для угнетенного меньшинства. Позднее, уже в годы Второй мировой войны, Эльзас и Лотарингия вновь были заняты Германией, но ненадолго – как и вся оккупированная гитлеровцами и освобожденная союзными войсками Европа.
Марианна Сорвина События в Инсбруке Сироты древней империи
Австрия в начале XX века была одним из тех многонациональных имперских образований, которым в недалеком будущем предстояло стать и главной проблемой и главной жертвой обновляющейся Европы. Пребывая в состоянии перманентного кризиса – парламентского, национального, образовательного, – она вынуждена была бороться со всеми этносами, входившими в ее состав. То был беспрецедентный случай, когда имперская власть в стране оказалась вненациональной – никому не симпатизировавшей и никому не симпатичной. Детей у империи не было – одни приемыши и сироты. Правительство на рубеже XIX и XX веков составлялось из уроженцев славянских областей – Богемии, Моравии, Польши, делалось это с целью заручиться поддержкой славянского большинства в парламенте. Немецкая группа в немецкоязычной стране превратилась в притесняемый этнос. Австрийские немцы считали себя не титульной нацией, а национальным меньшинством, отколовшимся от своей исторической родины – Германии. Такие настроения были характерны и для Тироля, самостоятельного географического, исторического и культурного образования. По традициям и языку Тироль тяготел к католической Баварии.
Но на рубеже XIX–XX веков в тени немецко-славянского противостояния оказалось другое противоборство – поначалу не столь заметное, но впоследствии превратившееся в Великую войну на Юго-Западном фронте. Итало-австрийскому конфликту в Тироле не придавали значения из-за небольшой численности итальянцев (3 %), кучно проживавших в провинции Трентино. События, о которых здесь пойдет речь, произошли задолго до Великой войны, но именно с них все и началось.
Университетский вопрос в Тироле
Трагический случай в Инсбруке получил итальянское название «Fatti di Innsbruck» («События в Инсбруке»), что было связано с некоторым конфузом австрийских властей и армии. Австрийцы предпочитали реже вспоминать об этом, в то время как итальянские революционеры считали эти события началом своего организованного движения за освобождение Южного Тироля и даже отмечали годовщины инцидента.
В первое десятилетие XX века в Австрийской монархии насчитывалось 768 422 итальянцев, и проживали они в Триесте, Фиуме и в Тироле.
Университетский вопрос, возникший с 1860-х годов, до XX века находился в тени политических событий, связанных с образованием Тройственного союза. Попытки итальянского ирредентизма заявить о себе были безуспешны. Движение, получившее название «ирредента» («неосвобожденная», «неискупленная», итал.), не воспринималось всерьез не только Австрией, но даже Италией, находившейся в вассальной зависимости от Германии. Но к началу нового века с доверием Германии было покончено, и Италия обратила внимание на свои меньшинства в соседнем государстве. Тогда ирредента начала превращаться в серьезную силу, а ее поддержка из-за границы стала особенно заметна. Создавались общества, позиционировавшие себя как благотворительные фонды для студенчества, а на самом деле помогавшие организовывать акции, направленные против австрийского правительства.
«Ирредента» была любопытным случаем слияния социалистического движения с националистическим. Историки ломали голову над тем, как в рамках II Интернационала с его идеями равенства и братства могло зародиться националистическое движение. В начале войны это раскололо «ирреденту» на последовательных социалистов и радикальных националистов. Первые выступали за союз с австрийскими социалистами и борьбу с милитаризмом, вторые пропагандировали войну и объединялись с фашистами и милитаристами Италии.
В начале века «ирредента» добивалась открытия в Австрии университета. Система образования являлась основой формирования национального самосознания, поэтому университетский вопрос приобрел политическое значение. Наибольшей остроты он достиг в 1904 году. Итальянцы настаивали на университете в порте Триест, но там проживало много славян, и власти боялись, что славяне тоже захотят открыть свои учебные заведения. И тут трентинский депутат Де Кампи предложил открыть университет в Инсбруке.
Этот город был историческим центром и священной землей для «пангерманистов». С Инсбруком был связан наивысший момент исторической славы Тироля – борьба национального героя Андреаса Хофера и его отряда с нашествием наполеоновских войск возле легендарной горы Изель. В Инсбруке, одном из самых благополучных городов Австрии, с передовой наукой, образованием и низким процентом неграмотности (2 %), на рубеже XX века начался расцвет культуры модерна. Литераторы и художники создали объединение «Молодой Тироль» (Jung-Tirol»), сравнимое по творческой одаренности с российским Серебряным веком.
Тирольские немцы никогда не согласились бы на открытие итальянского университета в столице края, но итальянцы были настроены решительно. И наибольшую инициативу проявляли радикальные ирредентисты. Социолог Эва Бауэр отмечала, что «сращивание университетского, студенческого вопроса с ирредентистами, вовсе не посещавшими университет, наводит на мысль, что это было сознательным и продуманным решением»[52].
Во главе «ирреденты» стоял социалист Чезаре Баттисти. В его группу входили поэт Пранцелорес, юрист Пиджеле, профессор Лоренцони. К ним примкнул и католический активист Альчиде Де Гаспери – будущий премьер-министр Италии.
По другую сторону оказалась буржуазная и творческая элита Инсбрука во главе с мэром-прогрессистом Грайлем и его заместителем, издателем Эрлером. Оппозиция концентрировалась вокруг сатирического журнала Der Scherer («Подстригатель», нем.), возглавляемого фотографом Карлом Хаберманом.
Баттисти накануне открытия университета подогревал радикальные настроения на страницах газеты II Popolo: «Ходят слухи, что немецкие студенты намерены захватить помещение правового факультета, в котором вы соберетесь на свое первое занятие. Все на Инсбрук!!!»[53]
Открытие итальянского юридического факультета
В Инсбрук прибыло около трехсот итальянцев из разных городов Австрии и Италии – студенты, профессора, журналисты и члены революционных объединений. Арендованный для итальянцев четырехэтажный дом № 8 на Либенеггштрассе был готов к вселению итальянского факультета. С самого начала открытие факультета сопровождали недоразумения. Газета Innsbrucker Nachrichten дезинформировала читателей, сообщив, что открытие состоится лишь 4 ноября. Это привело к отсутствию резонанса вокруг столь важного события. 3 ноября на Либенеггштрассе явилось 200 человек, из которых некоторые случайно проходили мимо. Зеваки жевали бутерброды, а корреспондент в растерянности топтался тут же, пытаясь взять интервью у присутствующих.
Газета намеренно пошла на этот шаг, чтобы предотвратить беспорядки. Поэтому столкновения немцев с итальянцами начались не утром, а поздним вечером. Innsbrucker Nachrichten, удовлетворенная отсутствием внимания к этому событию, не упустила случая бросить камень в огород итальянцев и упрекнуть их в намеренном нагнетании паники: «Сегодняшнее открытие итальянского факультета прошло в исключительно спокойной обстановке, не омраченное никакими инцидентами. /…/ Немцы не приехали, заставив «синьоров» краснеть за свои пророчества…»[54].
На собрании в Вене было решено послать в Инсбрук 30 итальянцев, чтобы выразить солидарность товарищам. А в Инсбруке итальянские студенты собирались устроить вечер встречи с профессорами в «старом городе» – центре тирольской столицы. Это стало завязкой инсбрукской трагедии.
Итальянцы отправились к центру города, громко распевая боевые песни. Вечером в отеле «Белый Крест» состоялся праздничный сбор студентов и преподавателей, организованный Баттисти. Хозяева гостиницы не были предупреждены о собрании и банкете. Количество итальянцев росло, на улицах звучали смех и пение хором. После этого 22 депутата и преподаватели покинули комнату. Атмосфера сразу приобрела националистический характер. Послышались призывы «Долой Австрию», «Немецкие свиньи», «Да здравствует Италия»[55].
Вначале 11-го ночи итальянцы, к которым присоединились венские собратья с вечернего поезда, выражали восторг по случаю победы над австрийской бюрократической машиной.
К 10 вечера на площади, отделяющей новый город от старого, начали собираться немецкие жители Инсбрука, они продвигались к отелю Zur Goldene Rose[56]. Это создало давку: проход к ратуше и особняку «Золотая крыша» от центральной улицы города очень узкий. Полиции едва удалось оттеснить толпу от гостиницы и отогнать ее в начало улицы Марии-Терезии, чтобы предотвратить штурм помещения, где собрались студенты и члены ирредентистских обществ.
«Черная пятница»
В половине 11-го ночи 140 участников встречи хотели покинуть «Белый Крест», некоторым профессорам и гостям удалось уйти. Но итальянским студентам преградили путь около 70 человек немцев. Посыпались взаимные оскорбления. Немцы вытащили камни, итальянцы вооружились палками.
Полицейские попытались вступить с ними в переговоры.
Накопившиеся эмоции проявлялись лишь в устной форме, но вдруг кто-то крикнул: «У одного из итальянцев пистолет!» Начальник охраны вызвал Баттисти с требованием сдать оружие. Тот ответил: «Ни у кого нет оружия, дайте нам пройти!»
Без четверти 11 полиция продолжала вести переговоры с Чезаре Баттисти, и он обещал увести итальянцев, если им освободят левую сторону улицы Герцога Фридриха. Однако в это время со стороны отеля «У Золотой Розы» послышались выстрелы. Некоторые итальянские студенты, стоявшие на углу, не выдержав эмоционального напряжения, попытались прорвать заслон, выхватили оружие и начали стрелять по немецким демонстрантам. Около десятка человек оказались травмированы и ранены.
От выстрелов итальянцев пострадали и гражданские лица. Учитель физкультуры местной школы был ранен в руку, железнодорожник Энгельбрехт – в низ живота. Студенту философского факультета Венского университета пуля срикошетила в голову.
Толпа кинулась на итальянцев, в ход пошли палки, и началась сумятица. 14 итальянских студентов и некоторые полицейские получили сильные ушибы. Полиция оттеснила итальянцев, размахивавших револьверами, разоружила их и втолкнула в ресторан, заняв позицию между демонстрантами и входной дверью. Часть итальянцев укрылась в здании башни. Пострадавшие были доставлены в мэрию, где развернулся экстренный пункт скорой помощи.
В половине 12-го ночи в окна отеля «Белый Крест» летели камни, а у полиции появилась новая проблема: толпа разделилась на две части – одна осталась на улице, а вторая устроила дежурство в фойе гостиницы, где забаррикадировались итальянцы.
В это время в кабинете военного советника фон Рунгга совещались бургомистр Грайль и имперский советник Лихтентурм. Вопрос стоял о введении в город армейских частей.
«Я не могу на это согласиться, – твердил бургомистр. – Военное присутствие вызовет еще большее раздражение в городе и брожение в умах!»
«Ну так делайте что-нибудь! – бросил с досадой Лихтентурм. – Здесь вам легко приводить доводы и контрдоводы. Пойдите и попробуйте их уговорить, чтобы они разошлись. Это же ваш город, в конце концов».
Вошел взвинченный губернатор Тироля полковник Шварценау, сказал с порога:
«Почему до сих пор нет военных? В ратуше заперты итальянцы. Там всего два наряда полиции. На улице две тысячи человек. Осада начнется с минуты на минуту. Чего вы ждете?»
После безуспешных попыток Грайля успокоить толпу в город был введен 14 батальон кайзеровских стрелков.
Убийство
Было почти 2 часа ночи. Стрелки, вооруженные штыками, продвигались к площади перед улицей Герцога Фридриха. Перед ними стояла задача освободить центр города и прилегающие к нему улицы от демонстрантов. Когда военные подошли к площади, офицер полиции вновь обратился к толпе с призывом разойтись, но в ответ раздались угрожающие выкрики. Тогда войско приступило к зачистке улиц[57].
Военные заняли все переулки и в два часа ночи были уже рядом с отелем «Золотая Роза». Внутри слышался топот ног, окно было разбито. Отряды рассредоточились по переулкам, отходящим от собора. Некоторые зашли в аркаду «Золотой Розы» из переулка Штифтгассе.
В это время художник Август Пеццеи, иллюстратор сатирического листка Der Scherer, собиравшийся делать зарисовки происходящих событий, находился в аркаде отеля «У Золотой Розы». Незадолго до этого его узнал служащий городского собрания Гуршнер. Он подумал, что художнику опасно находиться здесь в такой момент, и хотел подойти к Пеццеи, но его оттеснили к площади.
Как свидетельствовали очевидцы, стрелки подошли к дверям ресторана, и вдруг один из них увидел человека с блокнотом. У художника была немецкая внешность: голубые глаза и русые волосы. Он прислонился к двери и что-то набрасывал в блокноте. Стрелков, вышедших из переулка, он не видел.
Август Пеццеи не был ни немцем, ни итальянцем. Он был ладином. Ладины – маленький этнос, проживающий на альпийских территориях. Немцы всегда относились к ним с братской нежностью, а художник принадлежал к австрийской творческой элите, поэтому в Инсбруке его любили. Эрцгерцог Ойген Габсбург купил на выставке художника 6 полотен. Картины Пеццеи были в частных собраниях заместителей бургомистра, у губернатора Вильтена, депутатов и профессоров. Пеццеи был не просто модным художником. Он был исключительно одарен. Его картины и сейчас поражают чувственностью, оригинальностью, философской насыщенностью.
В центр города он пришел со своей собакой, черным ретривером: очевидно, никак не предполагал, что события примут столь жесткий оборот.
Стрелком, который увидел художника, был Луиджи Минотти, итальянец из Борго. Минотти долю секунды смотрел на человека перед собой, а потом, когда художник отвернулся и сделал два шага в сторону площади, вдруг бросился на него с криком: «Ostia, avanti porci tedeschi!»[58] – и вонзил штык ему в спину.
Никто не понял, что произошло. Август Пеццеи обернулся и широко открытыми глазами с удивлением смотрел на убийцу, успевшего выдернуть окровавленный штык. Потом художник упал рядом с входом в отель. Минотти с его штыком оттеснили назад. Ретривер то присаживался рядом с телом хозяина, то принимался метаться, глядя на арку. К художнику бросились те, кто оказался рядом, раздались крики: «Врача! Человека ранили!» Люди расступились, пропустив бледного, как смерть, бургомистра.
«Врач здесь, – сказал Грайль и, повернувшись назад, закричал в сторону улицы: – Да где врач?! Долго ждать?»
Он наклонился к раненому и шептал что-то ободряющее. Появился врач в сопровождении вице-мэра Эрлера.
«Господи всеблагой! Это же Пеццеи!» – произнес Эрлер в ужасе.
Врач наклонился к художнику, взял за руку, но тут же отодвинулся и покачал головой с каменным лицом.
«Бесполезно. Ничего нельзя сделать».
«Не может быть! – закричал Эрлер. – Он просто ранен! Надо перенести его отсюда».
«Он что-то говорит», – вдруг заметил Грайль и наклонился к художнику.
«Что? Что он сказал?»
«Спрашивает, где его собака».
«Не трогайте его, – сказал врач. – Он уже отходит. Позовите священника, – он вновь наклонился к художнику и, взяв его холодеющую ладонь, мягко сказал: – Мужайтесь, дорогой… молитесь».
Все было кончено. Никто не понимал, как это могло произойти: почему в результате уличных беспорядков погиб только один человек, да и тот – самый безобидный и всеми любимый житель города.
Августа Пеццеи перенесли в здание старой ратуши, и жителям города в течение двух часов заходили для прощания. Грайлю казалось, что такое потрясение отвратит людей от радикальных действий.
Священная жертва
Но после убийства события окончательно вышли из-под контроля. Толпа разрушила итальянский факультет, и здание решили не восстанавливать. Днем с криками «Смерть убийцам Пеццеи!» молодежь расколотила фасад дома, в котором жил командир кайзеровских стрелков Лойпрехт. В городе громили итальянские рестораны. Бургомистр Ерайль произносил гневную речь в городском собрании, а издатель журнала Der Scherer Хаберман выступал на площадях перед демонстрантами с обвинениями в адрес «лживого австрийского правительства».
Номера журналов и газет писали исключительно об убийстве художника. Der Scherer вышел со стихами, посвященными Пеццеи:
Вы этого хотели! – Получите! Вот он лежит – распластан на мольберте. Теперь он мертв… так что же вы молчите?! Вы видите, кого предали смерти. Закрыла смерть глаза, что так любовно Прекрасный этот мир ласкали взглядом… Приказ исполнен был беспрекословно. Удар штыка – и никого нет рядом. Вы этого хотели! Алой кровью Святую нашу землю затопить. Оружие держали наготове — И жизни рвется тоненькая нить. Вы этого хотели! Вам не верят! Разрушен мир на долгие века. Для нас – невосполнимая потеря, Для вас – всего один удар штыка[59].Поэт Артур фон Валльпах сочинял стихотворные воззвания:
Уже века в оковах дремлет Немецкий гордый край! Спасать от зла родную землю, Германия, вставай![60]Смерть Пеццеи приобрела характер священной жертвы. Его сравнивали с Андреасом Хофером, отдавшим жизнь за свободу Тироля. Похороны Пеццеи вылились в демонстрацию против австрийского режима и итальянского нашествия. Заместитель бургомистра Шалк разразился гневными словами: «Ты стал нашим героем-мучеником, и твоя смерть – ответ тем, кто считает, что волю нашей нации можно согнуть. Тироль останется немецким! Из твоей крови прорастет чудесный цветок германского единства!»
Августа Пеццеи провожали в последний путь 40 тысяч человек. Он был с почестями похоронен в аркаде Западного кладбища.
«Туманное дело»
Позднее исследователи признавали, что события в Инсбруке были полны странностей и недомолвок. Историк Михаэль Гелер писал, что они «напоминали фарс», а эту историю назвал «туманным делом». Никто не мог толком объяснить, кто такой стрелок Луиджи Минотти и почему он совершил столь необъяснимый поступок. Innsbrucker Nachrichten сообщала, что «капрал Луиджи Минотти из Борго спрятал свой окровавленный штык в огромном ворохе соломы и пошел позаимствовать оружие в другой отряд»[61]. Непонятно было, почему его так и не отдали под суд.
Уже во второй половине дня 4 ноября в листовках распространялась информация о том, что эксперт-криминалист Карл Ипсен сомневается в результатах вскрытия и утверждает, что смерть Пеццеи могла наступить от удара ножом. В момент беспорядков полиция арестовала 137 итальянцев, в числе которых были Баттисти, Де Гаспери и другие лидеры, однако через 30 дней все они были отпущены без предъявления обвинений. Одной из причин такого либерального отношения к арестованным стало давление Италии, начавшей собственное расследование. У инцидента, получившего международный резонанс, не оказалось виновников. Конфликт предпочли замять.
Об этих событиях вспомнили через сто лет. В ноябре 2004 года итальянские и австрийские историки собрались в Инсбруке на конференцию, посвященную этой истории. Целью конференции было примирение сторон и попытка пролить свет на события вековой давности. Но, несмотря на интересные выступления исследователей, туман так и не рассеялся.
Эпилог
Но едва ли не самым любопытным моментом «туманного дела» стала последняя открытка Августа Пеццеи, оставленная им на рабочем столе. У художника был обычай – уходя на задание редакции, оставлять коллегам какое-нибудь послание, чтобы, придя на работу, они обнаружили весточку от своего товарища.
Когда произошло убийство, сотрудники Der Scherer не сразу вернулись в редакцию, а вернувшись, обнаружили на столе художника открытку и остолбенели.
Пеццеи написал размашистым почерком: «Вперед к победе! Радуйтесь жизни! Пеццеи». На открытке была изображена его иллюстрация к еще не вышедшей книге – могильный холмик с покосившимся крестом.
Марианна Сорвина Прощание с миром Италия перед войной
О бедственном положении Италии свидетельствовало начавшееся еще на рубеже XIX–XX веков активное переселение утомленных голодом и нищетой провинциальных жителей в эмиграцию – преимущественно в США. К 1914 году, то есть к началу «Grande Guerra», их число достигло миллиона за год. Почти половина населения страны – 48 процентов – была неграмотна. Военная предыстория Италии и походов XIX века лишена успехов. В ней трудно было отыскать героический прецедент, который вдохнул бы патриотизм и национальную идею в массу неграмотных и обделенных людей. Эти бесконечные поражения итальянской армии, состоявшей из феодальных крестьян, продолжались с середины XIX века и тоже не остались незамеченными советскими военными историками. По их словам, в сражениях 1848 года эту не слишком храбрую и безынициативную армию все время громили австрийцы, и наибольший конфуз таких поражений заключался в том, что численно австрийцев было вдвое меньше.
Сначала итальянцев победили при Мортаре, потом, 25 июля 1848 года – при Кустоцце, а весной следующего года – при Новарре. Прошло почти двадцать лет, но ничего не изменилось: в 1866 году войска императора Виктора-Эммануила опять терпели поражение при Кустоцце и спасались бегством в сторону реки Минчио. В том же 1866 году в 30 километрах от Далмации, на Адриатическом море, австрийцы опять разбили итальянцев. Потеря нескольких кораблей и беспорядочное бегство уцелевших стало символом позора итальянского флота. В том же 1866 году бесславно провалилось и завоевание Абиссинии, а еще через тридцать лет, в 1896 году, профессионально обученная и хорошо подготовленная итальянская армия была с неприличной легкостью разбита абиссинскими добровольческими отрядами и потеряла при этом всю артиллерию и десять тысяч человек[62].
Военные поражения неизбежно вызывают у побежденного противника жажду реванша. Милитаристские настроения активно подогревала и фашистская пресса: Il Secolo, где публиковался накануне войны лидер трентинского ирредентизма Чезаре Баттисти, Popolo d’Italia, издаваемая его учеником Бенито Муссолини, а также Idea Nationale, Corriere della Sera и другие средства массовой информации активно призывали к войне.
Однако и к Великой войне Италии не удалось привести в порядок свои войска. Часть ее гарнизонов именно в тот момент завязла в Северной Африке, отбиваясь в Триполитании от египетских племен. Вооружения Италии давно устарели, обмундирования не хватало, а в пехоте на целый полк приходился лишь один пулеметный взвод. В отсутствии каких-либо героических традиций храбростью не отличались ни рядовые армейцы, ни штабные офицеры. Военные историки писали, что «Подготовка командного состава и штабов находилась на весьма низком уровне. Это подтвердили впоследствии не отличавшиеся талантливостью операции итальянской армии в мировую войну. При поражении паника обычно начиналась с высших штабов»[63].
Именно такая неприглядная картина начала XX века рисовалась на страницах советских исторических исследований конца 1930-х годов.
Британский историк В. Готлиб, в свою очередь, отмечал, что сам Тройственный союз «был делом рук Бисмарка», который старательно подогревал неприязнь Италии к Франции и разжигал итальянские аппетиты, вследствие чего «итальянцы рассчитывали, оказав Германии новые услуги, приобрести взамен Ниццу, Корсику и Савойю»[64].
Доказательством такого подобострастного доверия Италии к Германии служит, по словам историка, эпизод 1881 года, когда Бисмарк, желая убрать Францию из европейской политики, намеренно отвлек ее внимание на Тунис, а Италия, тоже наметившая себе эти колониальные территории, вынуждена была отступиться под влиянием Германии.
Вторым моментом единения Италии и Германии была Австро-Прусская война 1866 года, поставившая Италию на сторону Пруссии. Однако после этого Германия попыталась покровительственно сблизить Италию с Австро-Венгрией, чтобы получить двух преданных вассалов. В какой-то мере это удалось, чему как раз и был свидетельством Тройственный союз. Но это ни в коей мере не устранило вековую ненависть, порожденную двумя факторами – давним владычеством австрийцев над итальянцами и положением Южного Тироля, в котором проживали их собратья. Австро-Венгрия на тот момент уже снискала славу тюрьмы народов, а мысль о неосвобожденных тирольских ирредентистах окончательно похоронила идею примирения этих двух стран[65].
Окончательно итальянское доверие к Германии и Тройственному союзу было подорвано в 90-е годы XIX века, когда Италии не оказали поддержки в ее африканской кампании. Терпя одно поражение за другим, амбициозная держава догадалась, что Германии нет до нее никакого дела, а внутренне над ними по-прежнему насмехаются те самые германские варвары, которые некогда разорили великий Рим. Так ненависть к Австрии перекинулась и на Германию[66], а идея Тройственного союза утратила всякий смысл.
Германия и Австрия относились к Италии с недоверием, ожидая от нее какого-нибудь подвоха. По словам Луиджи Виллари, явным доказательством презрения Австрии к его стране было нежелание императора Франца-Иосифа нанести ответный визит римскому императору: причиной историк считал подобострастие австрийского монарха перед Ватиканом, отделенным от Италии, которую «австрийские набожные фанатики были склонны рассматривать/…/как кощунственную державу, так как она вырвала Рим из-под власти пап»[67].
По словам Виллари: «… К Австрии итальянцы никогда не питали симпатий, и союз с нею в этих условиях был даже более, чем союз с Германией, лишь «mariage de convenance» («брак по расчету»):
«Объединение Италии было достигнуто лишь после трех войн против Австрии, и ненависть к Австрии была глубоко заложена в итальянском народе, и Австрия продолжала тиранически господствовать в нескольких провинциях с высококультурным итальянским населением или же с населением, хотя и смешанным (итальянцы и южные славяне), но по существу принадлежащим к латинской и итальянской культуре. Несмотря на союз, Австрия все же продолжала представлять собой угрозу безопасности Италии, продолжала вооружаться против нее, укреплять границы Трентино и Венеции Джулии и покрывать приграничный район сетью стратегических шоссейных и железных дорог»[68].
Последнее действительно характерно для южной части Австрии начала XX века, однако строительство дорог в Тироле носило не столько военно-стратегический, сколько промышленный характер: Австрия, при всем своем консерватизме, стремилась наверстать упущенное в области коммуникаций, а премьер-министрами в первые годы XX века нередко становились министры железных дорог. К этому же относится строительство вокзалов и проведение трамвайных путей.
Под «несколькими провинциями с высококультурным итальянским населением», где «Австрия продолжала тиранически господствовать», Виллари подразумевает регион Трентино и Альто-Адидже (ставший камнем преткновения в националистическом и военном вопросе после Первой, а потом и Второй мировой войны). Виллари сам итальянец, а весьма примечательным для итальянского менталитета той эпохи является высказывание о «по существу принадлежащих к латинской и итальянской культуре» территориях со «смешанным итало-славянским населением». Речь идет о Далмации и Фиуме, которые к большому негодованию итальянцев достались после Первой мировой войны Югославии. Почему славянское население должно «по существу» принадлежать к латинской и итальянской культуре, понятно лишь носителю «священного эгоизма», активно внедрявшегося в сознание итальянцев накануне Великой войны.
Идея утраченного древнеримского величия фанатично отыскивала даже в маленьком провинциальном Трентино останки римского прошлого, сохранившиеся с архаических эпох – как доказательство итальянского избранничества. И кое-какие реликты там действительно остались со времен правления римских императоров. Итальянская публицистка Изабелла Босси Федриджотти напоминает, что «в первом веке до Рождества Христова сюда пришли римляне, прельстившись горнодобывающей промышленностью, плодородием земель и работой местных искусников», когда Тренто еще был «маленькой деревушкой»: «Есть множество свидетельств того, что римляне оставили здесь следы своего присутствия, их можно увидеть в основном в районе дворца Лодрон (остатки дома, магазин виноторговца, дорога и стена) в Епархиальном музее (остов от двери), на площади Чезаре Баттисти…»[69].
Но сам Трентино начала XX века едва ли мог соответствовать масштабам и культурным параметрам Римской цивилизации двадцативековой давности: это был маленький, красивый, но провинциальный город – один из многих городов Европы. Кстати, римские реликты можно было найти почти в каждом государстве Западной Европы (например, в Сербии и Болгарии) и, конечно, на Севере Африки. Однако считать все эти государства тоже территорией Италии новейшего времени было бы довольно удивительно. Это не казалось удивительным лишь националистам, активизировавшимся в Италии в начале XX века. Так рассуждал, к примеру, политически активный поэт-националист Габриеле Д’Аннунцио – и когда написал эссе «Держу тебя, Африка», и когда вместе с двумя тысячами своих сторонников в 1919 году незаконно захватил город Фиуме.
В свою очередь, российские и французские дипломаты и историки 30-х годов констатировали, что истинной причиной нейтралитета Италии по отношению к Тройственному союзу (а потом и присоединения к Антанте) стали вовсе не патетические лозунги о справедливости или воссоединении исконных земель, а страх вновь потерпеть поражение в случае присоединения к более слабой стороне. Один французский дипломат даже сказал, что Италия «volera au secours du vainqueur» («бросится на помощь победителю»)[70]. Нейтралитет, в котором трентинский политик и будущий премьер Италии Альчиде Де Гаспери, с его жаждой активного мессианства, видел христианское миротворчество, на самом деле был вовсе не жестом христианского благородства или пацифистских убеждений, а лишь продуманным маневром: Италия выжидала, на чьей стороне окажется перевес, и примкнула к этому более выгодному союзнику, предварительно поторговавшись в Лондоне за австрийские земли.
* * *
Несмотря на воинственные узурпаторские амбиции итальянских верхов, простые труженики Италии в 1910-е годы войны вовсе не жаждали, на призыв к всеобщей мобилизации жители ответили массовой стачкой, и волнения прокатились по всей стране, после чего премьер Саландра перешел к открытым угрозам военных репрессий.
Этот острый момент итальянской истории также отразил английский историк В. Готлиб, когда упоминал переписку Аварны и Боллати – двух друживших между собой послов-германистов (из Австрии и Германии):
«Седьмого марта 1915 г. Аварна писал Боллати: «Беспорядки вновь показывают, что страна в целом не хочет войны». Но, как отмечал потом Саландра, «уже нельзя было остановиться на пути, который мы избрали»[71].
В этом отношении действующий тогда кабинет министров Италии был настроен вполне определенно.
«Sacro egoismo»[72]
Вторая половина 1914 года ознаменовалась в Италии двумя смертями.
20 августа умер папа римский Пий X, и пятого сентября на его место был избран тот самый Бенедикт XV, с которым встречался католический миротворец Альчиде Де Гаспери.
16 октября скончался премьер-министр Сан-Джулиано. Временным управляющим делами кабинета на правах председателя стал Антонио Саландра, которому надлежало к началу ноября представить новый кабинет и свою концепцию политики.
Саландра считался по взглядам либералом, но принадлежал к милитаристски настроенному меньшинству партии, уступая Джованни Джолитти[73], человеку умеренному и лишенному воинственности. Желание наверстать упущенное и добиться преимуществ для Италии превратило Саландру в завсегдатая резиденции британского посла Реннеля Родда, на которого теперь следовало ориентироваться всем представителям власти в стране.
Британия была тем самым кукловодом, от которого зависело положение других народов. И если вначале Италия с одобрения англичан пошла на нейтралитет, то потом этого было уже мало, и Саландра первым это ощутил, поэтому, чтобы обойти Джолитти и добиться доверия большинства, начал опираться на сторонников интервенции, националистов и фашистов[74].
Впоследствии Саландра утверждал, что «как бы ни развивались события, благоприятно или неблагоприятно», он всегда «был более чем кто-либо убежден в необходимости и справедливости войны»: «Без этого мы все походили бы на безнадежных калек, неспособных защищать свои интересы и, что еще хуже – честь и достоинство собственного народа»[75].
Кадровая политика Саландры с самого начала его правления распространилась на его кабинет: все сомневающиеся были немедленно устранены из правительства и заменены воинственными «крестоносцами», готовыми подписаться под любыми ассигнованиями армии. Ядро этой группы, более напоминавшей армейский штаб, составляли военный министр Витторио Цупелли[76], главный казначей Паоло Каркано[77] и министр колоний Фердинандо Мартини[78]. К слову сказать, последний до своей политической карьеры успел попробовать себя на театральном поприще: Мартини вышел из актерской среды и сам был комическим актером и средней руки драматургом, что для Италии того времени, в общем-то, не являлось редкостью. Представители богемы были не просто политизированы – рамки театральной условности и сценическое пространство оказались им явно тесны. Политики тоже ощущали себя актерами, а их речи напоминали сценические монологи. Желание произвести впечатление на аудиторию сближали и тех, и других.
«Серым кардиналом» премьер-министра стал сын банкира Сидней Соннино, подвизавшийся в роли черного маклера. Весьма энергичный, амбициозный и не лишенный способностей человек, он имел все данные, чтобы самому получить пост премьера, но ему помешала сомнительная репутация интригана и биржевого афериста.
В лояльности Соннино Саландра поначалу сомневался: тот был убежденным сторонником Тройственного союза, поскольку опасался, что в случае выхода из него победы Германии и Австрии поставят отделившуюся Италию в унизительное положение и приведут ее к публичному позору.
Соннино утверждал: «Решение о нейтралитете представляется мне сомнительным. Возможно, Австрия и Германия одержат победу на суше. И что тогда ожидает нас? После этого нас отстранят от мировой политики»[79].
Единственным убедившим его аргументом, стал, конечно же, британский флот. Не только на Соннино, но и на всю Италию он действовал подобно гипнозу. Британский флот был одной из обязательных оговорок даже в соглашении Тройственного союза – в случае участия в военных действиях британского флота, угрожавшего итальянским берегам, Италия оставляла за собой право не вмешиваться в военный конфликт.
Участие Англии в войне сразу изменило взгляды Соннино на противоположные. Теперь Саландра без колебаний доверил ему министерство иностранных дел, однако возложил на него непростые полномочия – добиться наибольшей выгоды для Италии и выполнения всех обещаний Антанты.
В ноябре 1914 года Саландра предстал перед парламентом и народом и озвучил кредо своего кабинета:
«Принципы нашей международной политики завтра будут те же, что и вчера. Чтобы продолжить наше дело, необходима непоколебимая твердость духа, спокойное видение реальных интересов страны, зрелость мысли, что не исключает, по мере необходимости, готовности к действию. Нужно обладать мужеством. Не словами, а делами. Ум должен быть свободным от какой-либо предвзятости, от предрассудков, от любого чувства, кроме неограниченной и исключительной преданности нашей стране, священному эгоизму для Италии»[80].
Ключевые слова были произнесены – «sacro egoismo»: это словосочетание стало девизом Италии. После выступления нового премьера и началась печально знаменитая битва нейтралистов с интервенционистами. Позицию нейтралитета по отношению к несправедливой со стороны Германии и Австрии войне поддерживал ряд итальянских депутатов во главе с Джованни Джолитти. В их число входил и трентинский политик, доктор филологии Альчиде Де Гаспери. Джолитти придерживался мнения, что в нынешних условиях от Европы многое можно получить и без войны.
Саландра тут же использовал характерный для политиков нечестный прием – он заявил, что Джолитти ведет себя непатриотично по отношению к доблестной итальянской армии, которой он отказывает в храбрости и военном мастерстве. Это звучало провокационно и некорректно. Было ясно, что армия далека от совершенства, что она плохо подготовлена и оснащена, что она, наконец, застряла в Ливии. Но во всеуслышание признать правду значило прослыть не патриотом и почти предателем национальных интересов. А объявить обратное – значило солгать. Джолитти, как и любой другой политик на его месте, предпочел солгать. В обстановке того времени прослыть предателем было опасно и недальновидно.
«Он утверждает, что я выразил противоположное мнение относительно вступления в войну из-за того, что я не доверяю силе нашей армии», – сказал Джолитти. – «Это не соответствует действительности. О значимости нашей армии не было и речи… Мои уста никогда не произносили той хулы, которую приписывает мне Саландра. Разве могу я недооценивать роль наших солдат в Ливии и во всех войнах»[81].
В это время, чтобы предотвратить вступление Италии в войну на стороне Антанты, Германия пошла на радикальный шаг – сама предложила Австро-Венгрии отдать Италии территории, населенные итальянцами, и германский посол в Италии граф фон Бюлов оповестил об этом Джолитти. Тот был несказанно рад такому решению германцев и сразу же поставил в известность парламент Италии, полагая, что это остановит сторонников войны с Австрией.
В парламенте началось голосование по этому вопросу, результат которого совершенно обескуражил Джолитти и его соратников: нейтралитет поддержали 320 депутатов, но агитация противников нейтралитета оказалась сильнее, и 508 голосов было подано за вступление в войну.
После этого премьер-министр Саландра попытался подать в отставку, что было в большей мере демонстративным шагом, нежели его истинным намерением. Король Италии Виктор-Эммануил, у которого к тому моменту уже побывал со своей милитаристской идеей трентинский ирредентист Чезаре Баттисти, эту отставку не принял. Собственно, такого исхода Саландра и ожидал. Воинственный кабинет министров мог торжествовать: он получил карт-бланш. Кстати, впоследствии королю Италии припомнили его соглашательство и с милитаристским правительством Саландры, и с фашистским правительством Муссолини.
Умеренный Джолитти тоже совершил политическую ошибку: до 1915 года он настолько уверовал в свое либеральное большинство с нейтралистскими взглядами, что совершенно упустил из вида многие факторы, в том числе и влияние на парламент ирредентистов и фашистов. Он не сомневался в результатах голосования в пользу нейтралитета, и перевес сторонников войны в парламенте стал для него полнейшей неожиданностью. Проиграв парламентскую борьбу, Джолитти, потрясенный исходом голосования, уехал из столицы.
Горькие разочарования
Нарушение договора с Тройственным союзом не было легким решением даже для некоторых итальянских представителей власти. Сторонников сохранения тридцатилетнего союза оказалось не слишком много, но они все же были. Некоторые члены итальянского правительства были потрясены случившимся. Один из советников министерства, товарищ министра Фузинато, в результате тяжелого депрессивного синдрома покончил с собой.
Тяжелые, пессимистические настроения отличали и двух послов в Австрии и Германии, для которых разрыв Тройственного союза стал личной трагедией, поскольку они искренне любили страны, в которых работали.
Герцог Джузеппе Аварна ди Гуалтиери[82], родовитый сицилийский аристократ, сын премьер-министра Сицилии Карло Аварна и кавалер десяти орденов, занимал должность посла уже более десяти лет. Аварна оказался на этом посту по призванию: он прекрасно владел немецким языком и знал австрийскую культуру. Весной 1915 года он, подобно его другу Риккардо Боллати[83], итальянскому послу в Берлине, испытывал тяжелые чувства, поскольку именно ему предстояло озвучивать все решения итальянского правительства австрийской стороне и вручать ноту.
23 мая 1915 года Аварна официально объявил правительству Австрии о начале войны. По словам знавших его людей, в этот трагический момент посол держался с исключительным достоинством, как и подобает итальянскому патриоту и должностному лицу. Однако совершенно очевидно, что все это и свело его в могилу менее чем через год.
Посол Рикардо Боллати, германист и специалист по дипломатии на Балканах, до конца оставался противником войны, продолжил антивоенную деятельность в депутатских группах Италии и впоследствии, с приходом к власти режима Муссолини, отошел от дел.
При всем желании Аварна и Боллати, равно как и любые другие политики или чиновники, никак уже не смогли бы повлиять на ход истории. За неделю до вступления в войну Италии был заключен секретный пакт в Лондоне, в котором говорилось, что Италия отделилась от Тройственного союза, созданного совместно с Австрией и Германией, и присоединилась к державам Антанты (Россия, Англия и Франция). Там подтверждалось, что Италия взяла на себя обязательство вступить в войну против Австро-Венгерской империи в обмен на территории Трентино, Истрии и части Далмации: в пакте было шестнадцать пунктов и перечислялось много территорий, предложенных Италии в качестве платы за выход из Тройственного союза.
С объявленным первоначально и вполне оправданным военной ситуацией нейтралитетом было покончено. Позиция, занятая Австрией по отношению к своему бывшему политическому союзнику, перекинувшемуся на сторону противника, была сформулирована в словах патетического обращения кайзера Франца-Иосифа I[84] к своему народу. Эти слова помещены на памятных нагрудных знаках австрийцев 1915 года: «Ein Treuebruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt» – «Предательство, какого не знает история».
Марианна Сорвина Прощание с миром Австрия перед войной
Австрия еще на рубеже XIX–XX веков потонула в кризисе парламентаризма, и главным камнем преткновения стал вопрос о языках: огромная империя, в разные времена поглотившая маленькие страны Балканского полуострова и славянские территории, никак не могла урегулировать этот вопрос, не ущемив при этом какой-нибудь народ. Достаточно упомянуть о том, что в Венском парламенте на Рингштрассе заседания постоянно срывались по инициативе чешской или немецкой фракций. Вопрос о языках и правах меньшинств блокировал даже принятие государственного бюджета. Министр-президенты менялись каждые два-три месяца, а иногда и каждые полмесяца.
В национальном противостоянии уже в начале XX века лидировали австрийские немцы, чехи и итальянцы. К 1904 году чехи отошли на второй план, и главным стало противоборство немцев и итальянцев.
Итальянцы, особенно проживавшие на территории австрийского Тироля, именовали себя «ирредента»[85]. Но в Австрии сформировалась и большая группа политически активных этнических немцев – своеобразная «Австрийская Германия». Тирольский депутат от земельной палаты Карл Грабмайр писал, что «в Австрии имеется немецкий «ирредентизм». Это те немцы, которые видят выход только в распаде Австрии и присоединении к Германии»[86].
Чтобы держать в узде многонациональное сообщество с новорожденными националистическими партиями и группами, Австрийской империи необходимо было постоянно закреплять общественные догмы и охранять консервативные ценности. Австрийский центр старался внимательно следить за тем, что происходит в отдаленных регионах страны. Для этого действовала хорошо организованная система контроля и подавления, которую представляли цензура, суд и реакционная печать. Воспитание человека начиналось еще со школьной скамьи. И политическое противостояние в Тироле оказалось связано, в первую очередь, с системой образования, как основой формирования национального самосознания. Именно поэтому университетский вопрос приобрел государственное и политическое значение. С конца XIX века каждый срыв лекций, каждая университетская стычка или демонстрация попадали на страницы местной печати.
Кульминацией противостояния двух национальных групп стали события в Инсбруке, столице Тироля. В ночь с 3 на 4 ноября 1904 года там разыгралась кровавая трагедия: открытие итальянского юридического факультета и последующие брожения по городу и националистические выкрики итальянцев привели к массовому побоищу. Активными участниками этой истории оказались итальянские и немецкие студенты, трентинские революционеры-ирредентисты, инсбрукская полиция и многонациональный военный отряд стрелков. В результате множество людей получили ранения, а художник Август Пеццеи, сотрудничавший в пангерманском сатирическом журнале Der Scherer, был убит.
После этих событий университетский вопрос из региональных советов Тироля перекочевал в более представительные собрания, а в 1911 году – в государственный парламент Австрии. Но решения по нему не могли принять даже сами итальянцы внутри своей фракции, поскольку фракция разделилась на умеренных христианских центристов и социалистов националистической направленности. Их представляли бывшие союзники в борьбе за университет – уроженцы австрийской провинции Триент Альчиде Де Гаспери и Чезаре Баттисти. Они оба были участниками инсбрукского инцидента 1904 года, и оба в результате конфликта оказались задержаны инсбрукской полицией. Баттисти через сторонников передавал из тюремной камеры интервью и репортажи для своей радикальной газеты II Popolo, Де Гаспери – тоже сидя в камере – дописывал курсовую работу по «Фаусту» Гёте для 4 курса филологического факультета в Вене.
Непримиримые противоречия
После межнационального конфликта 1904 года большинство итальянских лидеров продолжало настаивать на открытии университета в Триесте. Особенно яростные столкновения умеренных и радикальных итальянцев Австрии начались летом 1905 года. 27 августа на собрании в «Рива дель Еарда» Альчиде Де Гаспери высказался одобрительно по поводу правительственного предложения открыть итальянский университет в Тренто, столице австрийских итальянцев, где они составляли большинство. Такая идея не нравилась Чезаре Баттисти, и он публично обвинил Де Гаспери в оппортунизме. Как показали инсбрукские события, ирредентисты во главе с Баттисти вообще не были заинтересованы в урегулировании университетского вопроса: они активно провоцировали войну, считая, что только она способна решить проблему итальянского меньшинства в Австрии. Еще в 1902 году в письме к своему товарищу Антонио Сальвотти Баттисти писал: «Короче – давай трясти всех итальянцев, которые все еще живут в ветхой австрийской монархии, ибо недалек день – может быть, он совсем рядом, – когда она распадается на части, и мы сможем вернуться к нашей исконной родине, а не будем поглощены Германией. /…/ Но об этом следует кричать, кричать во весь голос, а не бояться на каждом шагу, что какой-нибудь комиссар полиции причинит нам некоторые неудобства»[87].
Четырьмя годами позже, в 1909, нападки на Де Гаспери продолжил в газете II Popolo ученик Баттисти, публицист Бенито Муссолини. В тот момент он еще придерживался осторожной политической линии: по большей части лишь поддерживал сторону своего наставника, нежели выступал сам. До начала 1910-х годов Муссолини не позиционировал себя как сторонника войны и находился в тени радикалов.
17 июля 1911 Альчиде Де Гаспери, филолог по образованию и христианский демократ по убеждению, стал членом Венского парламента. Радикалы послали туда же Чезаре Баттисти в качестве своего представителя.
В том же году секретарь католической партии Конци во время своего доклада в парламенте неожиданно выдвинул идею создать итальянский факультет в Вене. Это предложение вызвало сначала оторопь и шок в рядах парламентариев, а потом вылилось в горячую дискуссию с одной стороны между итальянскими и немецкими депутатами, с другой – между Де Гаспери и Баттисти. Итальянский университет в столице австрийской империи представлялся централисту Де Гаспери компромиссом и подарком властей, Баттисти этого мнения не разделял. Воинственный издатель вообще не желал слышать австрийское правительство, и что бы оно ни предложило, это уже не имело значения. Поэтому, когда Конци озвучил свою идею о перенесении университета в Вену, речи Баттисти в парламенте приобрели наиболее агрессивный характер. Выступая 24 октября 1911 года на заседании, Баттисти заявил, что он категорически против всех институтов власти в монархии Габсбургов и тем более в Вене. Он окончательно раскрыл все свои карты, сказав, что это просто нелепо, потому что «главным врагом итальянского университета стало австрийское правительство»[88]. По его мнению, создание итальянского факультета в Вене не отвечает интересам итальянцев, потому что им нужен «настоящий университет», а не какая-то «мелкооптовая фабрика». Тем более что речь идет не только о юридическом факультете, но и о медицинском, философском и педагогическом, который выпускал бы учителей средних школ, так как отсутствие средней и высшей школы – это «признак упадка национальной культуры»[89] и ведет к «обескровливанию итальянского интеллектуального самосознания». Кроме того, «Вена – неподходящее место для итальянских профессоров еще и потому, что университет не может быть отделен от своего народа, как голова от тела»[90].
Де Гаспери, выступавший на следующий день, напомнил, что речь идет о большой уступке австрийских властей в университетском вопросе, то есть о «подчинении общей законосообразности» и «категорическом императиве»[91].
Стремясь предупредить нападки правых радикалов, Де Гаспери заметил, что не стоит опасаться появления на базе университета нового центра итальянского ирредентизма, поскольку именно отказ от культурного равенства и приводил ранее к националистическим волнениям итальянской стороны. Отношение «популистов» к университетскому вопросу он назвал «политикой бессердечного упрямства». Де Гаспери объявил, что пора наконец принять решение и «покончить с туманным состоянием между надеждой и тревогой». Закончил он свою речь предупреждением: «Тот, кто хоронит идею факультета, навлекает на свою голову новые проблемы, потому что факультетский вопрос будет восставать из могилы вновь и вновь»[92]. Де Гаспери видел будущее многонациональной империи в равновесии национальных прав и постепенном замещении немецкого превосходства на конгломерат центра и национальных меньшинств. Готовность к компромиссу Де Гаспери объяснялась стремлением к легитимности, то есть реальному праву на существование международных союзов. Разно-национальные сообщества с политической и прагматической точки зрения должны быть готовы к переговорам. Однако все это уже не имело никакого значения. Эта риторическая дуэль превратила университетский вопрос в политический тупик. Борьба за итальянское образование продолжалась до 1914 года и стала чуть ли не главной проблемой Габсбургской монархии – государства-колосса, поглотившего множество национальностей и, в конце концов, погребенного под их спудом.
28 июля 1914 года, в тот самый день, когда сербские сепаратисты убили в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда, Венский парламент был распущен.
12 августа 1914 года депутат Венского парламента доктор Баттиста с женой и тремя детьми перешел итальянскую границу.
В сентябре 1914 года, уже после объявления войны, в Риме появился и Де Гаспери. Это произвело ошеломляющее впечатление на его земляков, переехавших в Италию. Они давно считали Де Гаспери оппортунистом, ставленником австрийских властей, но теперь они сочли его еще и австрийским шпионом. В письме своему товарищу, альпинисту Джованни Педротти[93] Чезаре Баттисти сообщал: «Сегодня я натолкнулся на депутата Де Гаспери. Когда я его увидел, на меня будто затмение нашло. Окажись со мной тогда какой-нибудь молодой человек, я бы его отправил за ним проследить»[94].
С октября 1914 года до мая 1915 Баттисти ездил по городам и выступал с политическими лекциями в университетах и на площадях Италии. Он пропагандировал военную идею, всюду встречая восторженное признание.
Де Гаспери, приехав в Рим, имел противоположные цели. Он ощущал себя католическим миссионером и гордился тем, что Италия объявила о своем нейтралитете. Он много выступал, встречался с деятелями итальянской и австрийской политики. По словам немецкого историка Михаэля Фёлькля, «В Де Гаспери по обе стороны границы видели ценного партнера, высокопоставленного чиновника от католической Народной партии и законного представителя большей части итальянско-язычного населения многонационального государства. И кульминацией этих контактов стала, конечно же, частная аудиенция у только что избранного Папы Бенедикта XV, с которым Де Гаспери обсуждал ценность мирной политики»[95].
Впрочем, ход истории уже не зависел ни от Де Гаспери, ни от Бенедикта XV.
Бедные Габсбурги
«Бедным» императора Австрии назвал в своей переписке депутат парламента Бернрайтер: «Этот салон, который наш бедный император имеет обыкновение посещать, и в котором он, общаясь с сомнительными, безответственными людьми и слыша их бестактные разговоры, может быть введен в заблуждение вследствие своего добродушия, стал для нашей внутренней политики поистине средоточием всех несчастий»[96].
Речь в письме шла о сообществе парламентских радикалов, пытавшихся оказать влияние на старого монарха. Но бедным он был не только поэтому.
На рубеже XIX и XX веков за ожесточенными дебатами и потасовками в Венском парламенте никто из депутатов, погруженных в свои собственные внутрипартийные и внутриклубные интересы, не заметил двух вполне рядовых событий.
Первое произошло в Германии, в десяти километрах от Гамбурга. Тридцатого июля 1898 года в городке Фридрихсруе на восемьдесят четвертом году жизни скончался легендарный «железный канцлер». Отто фон Бисмарк ушел в самом конце столетия, и это ознаменовало завершение великой эпохи личностей наполеоновского масштаба.
Второе казалось на первый взгляд еще менее значительным: десятого сентября того же 1898 года на набережной Женевы ударом заточки была смертельно ранена немолодая женщина.
Обычная история: уличное ограбление, повлекшее смерть потерпевшей. И произошло это в другой стране, и венские парламентарии были заняты собственными проблемами.
Но убийцей был не случайный грабитель, а итальянский террорист Луиджи Лукени[97] – амбициозный неудачник, поставивший своей целью уничтожать именитых персон. Он рос в детском доме, образования не получил и жаждал простой и быстрой славы. Пребывание в Швейцарии, куда стекались политические эмигранты, способствовало его увлечению анархией и политическим терроризмом. Лукени начал замышлять убийство, но еще не знал, кого выберет своей жертвой. Личность жертвы мало интересовала его. В дневнике он написал: «Как бы мне хотелось убить кого-нибудь, но только чтобы это был кто-то важный, потому что о нем напишут в газетах».
Важных персон обычно сопровождает вооруженная охрана. Гораздо проще убить одинокую женщину без охраны.
Жертвой Лукени, той самой пожилой дамой, прогуливавшейся по женевской набережной, была любимица венгров шестидесятилетняя Элизабет Габсбург, императрица Австро-Венгрии. Телохранителей Сиси не любила: ей нравилось уединение и долгие прогулки в обществе камеристки, с которой она могла бы разговаривать на венгерском языке, который любила.
На набережную 10 сентября 1898 года императрицу привела самая обычная необходимость: Сиси собиралась сесть на пароход в Монтрё. Когда горничная отошла к пароходу, к Элизабет подбежал Луиджи Лукени. Он воткнул ей под ребро заточенную отвертку, и Сиси поначалу даже не поняла, что произошло. Она оттолкнула Лукени, приняв его за простого уличного хулигана или грабителя. Даже боль в боку она ощутила не сразу и приняла ее за давление неудобного корсета. Она взошла на пароход и только потом, начав задыхаться, упала. Врачи уже ничем не смогли ей помочь.
* * *
Конец Габсбургского дома совпал с распадом империи. У престарелого Франца-Иосифа не осталось наследников.
Еще в конце 1860 годов разыгралась трагедия в Мексике и погиб брат императора Максимиллиан Габсбург. Человек образованный и неглупый, он оказался жертвой обстоятельств. Женившись на бельгийской принцессе, Максимиллиан мирно жил в Италии, любил путешествовать, вел путевые этнографические заметки. Он оказался в чужой, непонятной стране, на мексиканском троне при посредничестве французского императора Наполеона III, которого впоследствии называли злым гением Габсбургов. Решив распространить свое влияние на Латинскую Америку, французский император сделал Максимилиана пешкой в своей игре[98]. Когда в Мексике разразилась революция, австрийский король оказался никому не нужен. В тот момент от него отвернулись все, даже Наполеон III, которого его собственный ставленник больше не интересовал. 19 июня 1867 года Максимиллиан Габсбург был расстрелян повстанцами. Его жена, добивавшаяся его спасения, провела последние годы жизни в клинике для душевнобольных.
Через двадцать два года, 29 января 1889 года, произошла еще одна трагедия, ставшая ударом для императорской семьи. Единственный сын Франца Иосифа и Элизабет погиб в охотничьем замке Майерлинг при загадочных и эксцентричных обстоятельствах[99].
Вольнолюбивый Рудольф едва ли годился в наследники. Он вел праздный и беспутный образ жизни, а с другой стороны – интересовался социалистическими идеями и анонимно писал в газеты критические статьи об австрийском правлении. Последнее привело к появлению версии об убийстве Рудольфа политическими противниками. Этому способствовали и отчаянные попытки императорского дома скрыть обстоятельства трагедии. Первое официальное сообщение, опубликованное в три часа дня 30 января 1889, гласило: «Его Императорское и Королевское Высочество прославленный наследный принц эрцгерцог Рудольф вчера отправился на охоту, и только что была получено тревожное известие. Его Императорское и Королевское Высочество внезапно скончался, вероятной причиной называется инсульт».
Современный итальянский издатель и публицист Фабрицио Расера однажды написал, что «существует любопытный парадокс, заслуживающий изучения. Общественная память и исторические труды не идут рука об руку, или, что еще вернее – они идут не только с разной скоростью, но в разных направлениях»[100].
Общественная память тяготеет к романтическому восприятию исторических событий и личностей, она руководствуется стихийными страстями и преувеличенными чувствами. И если Рудольф и его шестнадцатилетняя подруга, баронесса Мария Вечера действительно совершили парное самоубийство, то остается лишь признать, что они выстроили свою смерть именно в расчете на общественную память: театральность и таинственность происшествия послужила основой для многочисленных спектаклей, мюзиклов и кинофильмов. Самая громкая из дворцовых тайн второй половины XIX века не давала покоя многим профессиональным исследователям и любителям. Личность наследника и его похождения, возраст и экзотический шарм его возлюбленной-иностранки (Мария была дочерью англичанки и константинопольского предпринимателя) – все это дало возможность обыграть майерлингский скандал в деталях и напустить еще больше тумана.
К началу XX века вопрос о наследнике престола оставался открытым, а престарелый император с признаками слабоумия, зафиксированными врачами, из последних дряхлеющих сил продолжал во имя семейного и патриотического долга держать слабеющими руками приближавшуюся к распаду лоскутную империю. Франц Иосиф был старожилом на троне – он правил страной шестьдесят восемь лет.
История, в отличие от общественной памяти, по словам австрийского журналиста, Клауса Гаттерера, «не признает мечты»[101]. Память оставляет несчастному, задавленному войнами, катаклизмами и кризисами человечеству иллюзию романтической красоты и дворцовых интриг; история сурово формирует то, что мы называем «политическим реноме». События в Мексике, как и скандал в Майерлинге, принесли Габсбургскому дому сомнительную популярность. И без того расшатанный авторитет двора был подточен окончательно, что породило активную и единую в своих целях внутреннюю оппозицию.
Габсбургский дом подходил к своему концу, и оставалось только убить эрцгерцога Франца Фердинанда. Вместе с Габсбургами умирала эпоха.
Гибель Цислейтании
Австрийская империя уже не была Австро-Венгрией. С 1867 по 1918 год она носила причудливое название Цислейтания, о котором даже большинство современных австрийцев не помнят.
Венгрия к тому моменту имела самоуправление и могла налагать вето на государственный бюджет. В то же время Австрией эта страна тоже не могла называться: помимо австрийских земель она включала в себя подконтрольные австрийской короне земли – Чехию, Словению, значительные области Хорватии, Польши и Украины и некоторые районы нынешней Италии (Горицию, Триест и часть Тироля). Из-за этого дряхлеющая монархия снискала репутацию «тюрьмы народов» и подвергалась риску распада, причем опасность ей угрожала и извне и изнутри.
Несмотря на это Цислейтания продолжала время от времени аннексировать слабые регионы, стремясь преумножить свою территорию. Именно так в 1908 году ею были аннексированы Босния и Герцеговина. Местное население состояло из единой этнической группы мусульман, а также хорватов и сербов. К этим последним принадлежал и Таврило Принцип. На момент аннексии ему было четырнадцать лет: самый подходящий возраст для становления национального самосознания, а также – для максимализма и радикализма. И его сказанные на допросе слова – «Мои действия носили индивидуальный характер»[102] – были в какой-то мере правдой.
* * *
28 июня 1914 года без 10 минут 11 утра девятнадцатилетний Таврило Принцип двумя выстрелами убил в городе Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену, чешскую графиню Софию Хотек. Убийство престолонаследника послужило формальным поводом к Первой мировой войне: она была официально объявлена ровно через месяц после покушения. Этого же самого месяца Таврило Принципу не хватало до смертного приговора: он родился 25 июля 1894 года, и в момент совершения убийства ему еще не исполнилось двадцать лет.
Смерть Франца Фердинанда не стала для Австрии трагедией. Эрцгерцог отнюдь не был привлекательной фигурой. Соотечественники не видели в нем будущего лидера страны: он плохо сходился с людьми, был угрюм, дурно воспитан и неприятен внешне. Журналист Карл Краус писал, что «он был крайне неприветлив, и никто из венцев никогда не мог проникнуть в темную и неизведанную область его сердца»[103]. Даже узнав об убийстве Франца Фердинанда, австрийцы продолжали веселиться и танцевать на площадях.
Несмотря на то, что придворный гувернер Онно Клопп внушал своему воспитаннику идею о «божественном избранничестве», ни к наукам, ни к языкам этот «избранник» оказался совершенно не способен. Решив выучить итальянский язык, он был крайне раздосадован сложностью грамматики и посвятил себя более доступному для его интеллекта делу – охоте. С детства эрцгерцог развлекал себя неуемным и бессмысленным уничтожением животных. Своего первого слона он убил в девятилетием возрасте, за свою жизнь успел убить 274511 оленей, а в 1908 году гордился «дневным рекордом»: застрелил за один июньский день почти три тысячи чаек. Кровавый след Франца Фердинанда тянулся по всему миру – от Цейлона до Африки.
Франц Иосиф I откровенно презирал племянника. Императора возмущало, если эрцгерцога где-нибудь торжественно принимали. Сбежал от эрцгерцога и его обергофмейстер, будущий австрийский премьер-министр граф Тун-Хоэнштайн – по причине полной взаимной непереносимости. Придворные Франца Фердинанда тоже старались как можно реже попадаться ему на глаза.
Поэтому эрцгерцог послужил скорее символом покушения на австрийскую государственность, нежели живой, человеческой трагедией.
После покушения правительство в Вене сразу предположило, что за нападением стоит Сербия, главный враг Габсбургской монархии на Балканах. Одержав несколько побед над Османами и присоединив македонские земли, Сербия питала надежды на создание великодержавного или «великосербского» государства-колосса. 3 июля 1914 года в будапештской газете появились показания убийц о том, что в Белграде у них были соучастники. Следующие допросы привели дознавателей в масонскую ложу, в помещении которой в Париже проходило совещание тайного союза, принявшего решение об убийстве. На участие Сербии указывал и тот факт, что сербская пресса сразу поспешила объявить Принципа «национальным героем».
Местом встреч Принципа, Грабеца и Кабриновича была кофейня «Код «Албани»», на углу одной из центральных площадей Белграда – Теразие.
В 1911 году Таврило Принцип вступил в тайный национально-освободительный союз «Молодая Босния», студенческую организацию молодых бунтарей. Но Принцип и Кабринович быстро поняли, что «Молодая Босния» недостаточно серьезная организация. Поиски более влиятельного союза привели их в группу «Единство или смерть», известную в народе как «Черная рука». Ею руководили военные из генштаба и законспирированные агенты секретной службы Сербии. Одним из создателей этого союза был руководитель сербской разведки Драгутин Димитриевич, известный участием в убийстве сербского короля Александра Обреновича и его жены. Чин полковника Димитриевич получил за это убийство. Покровительство полковника Аписа позволило Принципу и его товарищам проводить тренировки по стрельбе на закрытом полигоне сербской армии. Оружием молодых террористов снабжал подпольщик «Молодой Боснии», учитель и социалист Данило Илич[104], стрелять их учил еще один член организации Милан Циганович.
В марте Кабринович получил сообщение из Сараево, что эрцгерцог приедет на летние маневры в Боснию. Приглашение исходило от наместника Боснии и Герцеговины, австрийского генерала Оскара Потиорека[105]. Визит престолонаследника на Балканы был расценен сербскими националистами, как вторжение врага южных славян на их территорию: день визита считался в Сербии национальным праздником поминовения погибших, и маневры выглядели кощунственно.
Утром 28 июня шестеро террористов прибыли к месту следования кортежа эрцгерцога, на набережную реки Милечки, и рассеялись по маршруту королевского конвоя, где оказалось на удивление мало австрийских солдат и сто двадцать полицейских, находившихся среди толпы. Позднее комиссия, расследовавшая происшествие, вынесла вердикт: «Охрана была организована из рук вон плохо. Если сказать точнее: ее вообще не было»[106].
В 10.26 утра Кабринович первым увидел приближающиеся автомобили. Он бросил бомбу, но неудачно: шофер эрцгерцога Леопольд Лойка резко свернул в сторону, и бомба взорвалась рядом с машиной эскорта, убила шофера второго автомобиля и ранила нескольких армейских офицеров[107]. Кабринович проглотил яд, а потом бросился в измельчавшую речку, где его схватили полицейские. Таврило Принцип, услышав взрыв, решил, что дело сделано и пошел в кофейню. Франц-Фердинанд прибыл в ратушу и, выступив с небольшой речью, отправился в больницу навестить раненого осколками бомбы полковника Меризи. Барон Морсей предлагал наместнику Потиореку очистить улицы от посторонних, но тот заносчиво спросил: «Вы считаете, что Сараево кишит убийцами?»
Выехавший кортеж свернул не в ту сторону. Первоначально было решено ехать по набережной Аппель, но Потиорек забыл сказать об этом шоферу, и тот повернул на улицу Франца Иосифа. За первой машиной двинулся весь кортеж. Потиорек в истерике закричал: «Стой! Не туда! Поезжай прямо! Скорее! Да что это? Это же не та дорога!» Дойка резко затормозил, и процессия остановилась, образовав на улице затор. На этой же самой улице оказался Таврило Принцип. Он как раз выходил из кофейни и остановился возле магазина деликатесов Морица Шиллера, намереваясь купить бутерброд. Увидев кортеж, Принцип остолбенел, но в следующее мгновение выхватил браунинг и дважды выстрелил. Первая пуля попала Францу Фердинанду в шею и застряла в позвоночнике. Принцесса Софи вскочила, и ее сразила вторая пуля. Принцип попал ей в живот, но позднее утверждал, что стрелял не в нее, а в Потиорека. Эрцгерцог обхватил голову жены и закричал: «Соферль, не умирай, пожалуйста, живи ради детей!». После этого он умер, а жена скончалась пятнадцатью минутами позже. Гаврила Принцип, подобно Кабриновичу, проглотил яд, но он тоже не подействовал. На Принципа набросились полицейские. В тюрьме арестованного зверски избили, и руку из-за нескольких переломов пришлось ампутировать.
Ядом обоих террористов снабдил Милан Циганович. Сам он успел скрыться в Албании, и был объявлен в розыск.
Франц Иосиф, узнав об убийстве, разрыдался и воскликнул: «Существует ли на свете хоть одно тяжелое испытание, которое бы меня миновало? Никого в моей жизни не пощадили! Нет у меня сына, нет жены, а теперь они убили и моего наследника…»
Позднее водителю Леопольду Дойке была выписана премия в 400 тысяч крон, которые тот вложил в постоялый двор. Его трактир в Брно пользовался популярностью из-за выставленных там окровавленных подтяжек эрцгерцога и обломка золотого браслета принцессы.
Участие полковника Димитриевича в убийстве было доказано в 1917 году, когда он был арестован в Греции по обвинению в покушении на принца-регента Александра. Полковника задержали в городе Салоники, в резиденции сербского правительства в изгнании.
10 апреля 1917 года заключенный под стражу Димитриевич передал военно-полевому суду рапорт, в котором признал свою ответственность за убийство в Сараево. Но было это лишь поддержкой заговорщиков или все нити заговора сходились в его руках, так и осталось тайной, которую Апис унес в могилу вместе с собой.
По австрийским законам военное лицо за преступление против государства приговаривалось к расстрелу, штатское – к повешению. 3 февраля 1915 года были повешены в Сараево три активиста «Черной Руки» – Данила Илич, Мишко Йованович и Велко Кубрилович. Еще двоим после апелляции смертный приговор заменили длительным заключением. Полковника Димитриевича, полностью признавшего свою вину в убийстве короля Александра и участии в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, расстреляли 26 июня 1917 года.
28 октября 1914 года Гаврила Принцип, Неделко Кабринович и Трифко Грабец были приговорены к двадцати годам тюремного заключения. Тюрьма Терезин, превращенная впоследствии в концлагерь, славилась невыносимыми условиями. Кабринович скончался от туберкулеза, Грабец от истощения. Таврило Принцип умер последним из троих террористов – в апреле 1918 года. Ему было двадцать три года.
Марианна Сорвина Предложение, от которого невозможно отказаться Ультиматум как провокация
События в Сараево привели к так называемому «Июльскому ультиматуму» (или «Июльскому кризису») 1914 года. Очень скоро австрийское следствие убедилось в том, что сербское правительство еще до 28 июня 1914 года знало о планах покушения в Сараево. Сербия в 1913 году освоила беспроводной телеграф и активно использовала его для секретных переговоров, и доклады от правительственного агента, перевозившего заговорщиков через пограничную реку Дрина, поступали к премьер-министру по официальному каналу.
Тем не менее, Фридрих фон Визнер[108], направленный в Сараево контролировать ход следствия, послал в Вену сообщение, содержавшее историческую фразу о том, что нет никаких свидетельств осведомленности сербского правительства о покушении, которые помогли бы выдвинуть обвинение против Сербии. Раздосадованный министр иностранных дел Австрии граф Леопольд Берхтольд[109] скрыл это сообщение от императора Франца Иосифа. Впрочем, речь шла лишь об одной фразе из отчета Визнера. Позднее, 13 июля, он представил правительству в Вене убедительный документ, в котором содержались подробные данные о деятельности заговорщиков Войи Танкосича и Милана Цигановича, состоявших на государственной службе и беспрепятственно готовивших убийство на территории Сербии, в том числе – на полигоне вооруженных сил.
29 июня 1914 года, на следующий день после покушения, губернатор Боснии и Герцеговины Оскар Потиорек[110], основываясь на допросах Таврило Принципа и Неделко Кабриновича, телеграфировал в Вену, что убийцы действовали в сговоре с государственным чиновником Сербии Миланом Цигановичем и еще рядом лиц. Эти лица из организации «Черная рука» предоставили молодым радикалам револьверы, бомбы и деньги для организации покушения. Полицией была задержана большая часть заговорщиков, но некоторым удалось скрыться…
Одинокий беглец
28 июня одним из первых на пути следования кортежа эрцгерцога оказался член «Млада Босна» Мухамед Мехмедбашич[111], ранее пытавшийся совершить покушение на губернатора Потиорека с отравленным кинжалом. Босниец Мехмедбашич был завербован для покушения в Сараево и находился около здания Австро-Венгерского банка. Он видел приближающийся автомобиль, но не решился стрелять, потому что у него за спиной стоял полицейский. После убийства эрцгерцога босниец бежал в Черногорию, где 12 июля был арестован.
Показания Мехмедбашича неожиданно расширили географию и круг заговора. След вел во Францию. Мехмедбашич заявил, что покушение готовилось в Тулузе в помещении масонской ложи. Арестант полностью сознался в содеянном, однако дальше стали происходить странные вещи: дав признательные показания, он через два дня бежал из тюрьмы Никшич, и его охранников-черногорцев задержали и допрашивали по подозрению в организации побега. Возможно, Мухамед Мехмедбашич просто оказался очень проворным человеком. Возможно также, что кто-то из тюремщиков действительно проявил к нему сочувствие. Но возможен и третий вариант: этот арестант много знал и говорил. В заключении он был опаснее, чем на воле. И если кто-то возразит, что проще было устранить его в тюрьме, на это есть объяснение. Во-первых, в те времена насильственные методы применялись не столь широко и часто, как можно подумать. И, во-вторых, в истории известны и другие случаи, когда слишком осведомленных арестантов выпускали из тюрьмы с формулировкой «за отсутствием доказательств» или же, при наличии таких доказательств, устраивали им побег, поскольку внезапная смерть подобного узника могла вызвать резонанс в прессе и общественных кругах.
Дальнейшая судьба Мехмедбашича сложилась весьма причудливо. После своего бегства он пять лет скрывался на территории Сербии, а после Первой мировой войны, в 1919 году, решился вернуться на родину и даже был помилован по амнистии. Но его, стоявшего у истоков Первой мировой войны, настигла Вторая мировая. В 1943 году пятидесяти семилетний Мехмедбашич был убит сербскими фашистами усташами. И по стечению обстоятельств – в Сараево.
…В 1914 году перед судом предстали двадцать пять человек, девять человек были отпущены за отсутствием доказательств. Большинство арестованных и бежавших оказались сербскими подданными, причем занимали в Белграде важные государственные посты и были близки к главе правительства.
Правительство Сербии возглавлял Никола Пашич, выходец из семьи болгарских румын-переселенцев, радикал, националист и личность на Балканах авторитетная, хотя и несколько маргинальная. Но… то была эпоха маргинальных личностей.
Радикальный премьер
Никола Пашич (1845–1926) получил сербскую фамилию от своего отчима, и позднее его болгарско-румынское происхождение оспаривалось сербскими националистами, делавшими из его биографии легенду. Начав учиться только в одиннадцать лет, Пашич окончил школу в двадцать один год, но проявил исключительную работоспособность и за свои успехи был направлен в Политехнический институт Цюриха, где сблизился с радикалами. Швейцария, как пристанище политических эмигрантов, влияла на молодые умы, и Пашич, испытывая симпатию к России и ее революционной демократии, начал активно читать Герцена и Добролюбова. Там же, в Цюрихе, он познакомился с социалистом Светозаром Марковичем, впоследствии заключенным в тюрьму Триеста за антиправительственную деятельность и умершим там от туберкулеза в возрасте двадцати девяти лет.
Карьера Пашича, как и многих государственных деятелей, началась с железной дороги. Весьма примечательно, что во время студенческой практики он строил стратегически важную ветку «Вена – Будапешт», что само по себе было счастливым билетом для будущего политика. Практически сразу после этого он был назначен ведущим инженером строительного министерства Сербии. Решив баллотироваться в депутаты, Пашич должен был уйти с государственной службы и подал в отставку, однако ему отказали.
Отказ не остановил Пашича. Он продолжал заниматься политикой и присоединился к повстанческому анти-турецкому движению, а позднее стал представителем Национальной радикальной партии. Но междоусобица в стране привела к насильственному разоружению негосударственных радикальных формирований, которые в ответ прибегли к восстанию. Чудом избежав тогда смертной казни, Пашич был вынужден бежать и отсиживаться в Болгарии, где к нему относились очень благожелательно, пока он не попытался участвовать в политической жизни гостеприимно принявшего его государства.
Вынесенный ему заочно смертный приговор продолжал действовать до амнистии 1889 года, и лишь после смены правительства и амнистии Пашич вернулся в Сербию, где его сразу же избрали председателем национального собрания, а в 1891 году – премьер-министром.
Но и тогда и позднее положение Николы Пашича нельзя было назвать прочным: у него имелись как противники (король Милан Обренович и в то время не достигший совершеннолетия его сын Александр), так и конкуренты (королевский регент Йован Ристич). Пашича преследовали интриги и ссоры, его отправляли в отставку и даже санкционировали – в форме своеобразной ссылки – его назначение представителем Сербии в Петербурге на излете XIX века (1893–1895 годы). Когда и это не помогло убрать Пашича из политики, его подвергли девятимесячному тюремному заключению.
Наконец, некий террорист, поляк Дюра Кнезевич, служивший в пожарной команде, попытался самостийно убить короля Милана. Случилось покушение уж очень вовремя. Многие посчитали это провокацией с целью начать преследование радикальной партии и арестовать ее деятелей во главе с Пашичем. Король Милан настаивал на смертном приговоре для лидеров партии, включая Пашича. Но тут вмешалась Австрия, опасавшаяся ухудшения отношений с Россией в случае казни популярного у русских Пашича. Его освободили, и он успел выступить с реформаторским докладом, но в это время внутри его радикальной партии был спровоцирован раскол, оппозиционеры обвинили его в трусости и оппортунизме. Пашича вновь арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Приговор так и не вступил в силу, а Пашича снова освободили, хотя позорная слава оппортуниста тянулась за ним еще некоторое время. Тогда оставив и радикальную партию, и политику, Пашич стал на время пенсионером и по совместительству – независимым консультантом правительства по политическим вопросам. Только это был еще не конец.
С такой выдающейся биографией, как у Пашича, можно было сделаться либо параноиком, либо чрезвычайно отважным человеком. Пашич, очевидно, приобрел вкупе и то и другое, потому что, прикинувшись отошедшим от дел, 11 июня 1903 года он-таки осуществил свой главный радикальный поступок – избавился от ненавистного короля Александра Обреновича, убрав его руками офицера Драгутина Димитриевича, прозванного Аписом за мощное телосложение. После этого политического убийства Апис получил за преданность чин полковника и возглавил сербскую разведку. Вместе с королем и королевой были убиты премьер-министр и министр обороны, что дало Пашичу возможность контролировать формирование новой власти в стране. Отец убитого короля Милан Обренович к тому моменту уже отрекся от престола в пользу сына и умер в Вене, поэтому Пашичу никто больше не угрожал.
Пашич одобрил коронацию Петра I, ориентировавшегося на западные демократические идеалы и популярного в народе. В 1904 году он стал новым премьер-министром, сохранив за собой и пост министра иностранных дел.
Однако и на этом бурные перемещения Николы Пашича на политическом поле не закончились. В 1908 году его правительство подало в отставку в связи с закрытием границ Австро-Венгрии и сменой курса. Тогда же были аннексированы Босния и Герцеговина, и Пашич сыграл роль миротворца, успокаивая волнения народа и анти-австрийские возмущения. В его политической деятельности все большее значение приобретали связи с Российской империей, в которой виделся могущественный славянский покровитель балканских народов. От радикализма Пашич перешел к славянскому национализму, решив провозгласить Великую славянскую империю на Балканах.
Вернувшись в политику и сформировав подряд два правительства (1909 и 1912 годов), он в 1912 году инициировал создание Балканской лиги, в состав которой вошли Сербия, Болгария, Греция и Черногория. Эта сила, объединившаяся под знаменем защиты христиан, с неожиданной для всех легкостью путем войны отвоевала у Османской империи в 1913 году почти все территории, освободила северную Грецию, Македонию, а также создала независимое Албанское княжество. Сербские войска продвинулись к Адриатическому побережью, и теперь уже южные славяне в составе Австро-Венгрии с надеждой смотрели на крепнущую Сербию. Растущее могущество Балканского союза внушало опасения Австрии и Германии, на ослабление которых нацелилась лига. Австрия потребовала от Сербии уйти с Адриатики, но это вызвало взрыв негодования в России и уличные демонстрации с анти-австрийскими лозунгами. Это было связано с надеждой России закрепить свое влияние на бывших турецких территориях Европы.
Лондонский мирный договор от 30 мая 1913 года закрепил за Балканской лигой отвоеванные у турок земли, но в тот момент полному триумфу Балканской лиги помешало отступничество Болгарии, решившей побороться за территории с недавними союзниками. Болгария получила меткое прозвище «Пруссия на Балканах» за свои амбиции и огромное войско, насчитывавшее 600 тысяч человек. При поддержке России она рассчитывала присоединить к себе Македонию и Фракию, что привело ко Второй балканской войне, начавшейся 30 июня 1913 года. Лишь объединенными силами Балканской лиги, в основном Сербии, Греции и Румынии, удалось блокировать со всех сторон болгарское наступление, после чего 31 июля по инициативе Болгарии было подписано перемирие. Болгария в результате этой войны потеряла не только свои недавние завоевания, но и территории, принадлежавшие ей раньше. Большая часть Македонии досталась Сербии, ее южную часть получила Греция вместе с Салониками и Западной Фракией. Остальная часть Фракии вновь отошла к Турции.
К 1913 году сочетание внутреннего национально-освободительного движения и внешних интересов капиталистических держав Европы превратило Балканский полуостров в наиболее опасный в военном отношении регион, с которого и могла начаться катастрофа.
До Первой мировой войны оставался год.
Июльские переговоры
В июле 1914 года, сразу после теракта в Сараево и начала следственных действий, Сербия, опасаясь обвинений, продолжала утверждать, что пыталась предотвратить убийство. Сербский посол во Франции Миленко Веснич[112] и сербский посол в России Мирослав Спалайкович[113] заявили, что Сербия заранее предупреждала Австро-Венгрию о готовящемся покушении. Однако никаких данных о таком предупреждении не имелось. Уже позднее, когда война началась, сербский военный атташе в Вене полковник Лешанин сказал, что поручение предупредить австрийцев о покушении возлагалось на посла в Вене Иована Иовановича[114], но тот не справился с заданием. Что означает последняя формулировка, и как можно было «не справиться с заданием», не ясно. Впрочем, и само высказывание полковника Лешанина ничем не подтверждено, да и запоздало.
Премьер Пашич демонстративно предпринял собственное расследование, но старался, судя по всему, замести следы. Секретарь министерства иностранных дел Славко Груич[115], к которому австрийские власти также обратились с запросом, ничего определенного ответить не смог.
При прямом участии в покушении Сербии эта странная растерянность, неподготовленность к запросам и претензиям выглядит удивительно. Создается впечатление, что и для Сербии покушение в Сараево стало неожиданностью, а кроме того повлекло за собой множество проблем.
Когда Австро-Венгрия решительно потребовала от сербов представить документы, необходимые следствию, Пашич ответил отказом. Тогда Сербии был предъявлен ультиматум – требование допустить австрийских представителей на место преступления. Само по себе это требование с юридической точки зрения было вполне оправданным, однако, по сути, оно означало ввод австрийских войск в Сербию. Отказ сербов сотрудничать с следствием спровоцировал в Австрии всеобщую мобилизацию, которую объявил руководитель штаба, барон Франц Конрад фон Гётцендорф[116]. Он назвал срок сбора войск – шестнадцать дней.
В те же дни активную дипломатическую деятельность, направленную на подготовку войны с Сербией, развернул уроженец города Фиуме, начальник канцелярии министерства иностранных дел Австрии граф Александр фон Ойос[117]. Вместе со своим заместителем графом фон Форгахом он занялся пересмотром прежнего меморандума в адрес Сербии и значительно ужесточил его.
4 июля в Вену прибыл чиновник министерства иностранных дел Германии Виктор Науман. Он выразил немецкую солидарность Австрии на случай действий со стороны России. Однако составителей меморандума это не убедило, и решено было направить Ойоса в Берлин, чтобы заручиться поддержкой союзников в лице германского кайзера.
5 июля губернатор Потиорек, следивший за ходом следствия, снова телеграфировал в Вену. Назван был еще один организатор заговора – майор Войя Танкосич.
В тот же день граф Ойос с письмом императора Франца Иосифа, прибыл в столицу Германии. В Берлине графа хорошо знали: он уже появлялся здесь в качестве парламентера в дни Боснийского кризиса 1908 года с похожей целью – убедить Германию поддержать аннексию Австрией Боснии и Черногории.
В день приезда Ойос встретился с Артуром Циммерманом[118], который в то время занимал пост заместителя госсекретаря по иностранным делам…
Позднее, уже в конце войны, Циммерман, поднявшийся до поста госсекретаря, снискал себе прозвище «самый разрушительный человек XX века», поскольку в 1917 году послал властям Мексики шифрованную телеграмму с предложением включиться в войну на стороне Германии, чтобы предотвратить нападение США. Телеграмма была перехвачена и сыграла обратную роль, спровоцировав США на немедленное возмущение против Германии. Циммерман тогда вынужден был уйти в отставку. Можно было бы лишний раз вспомнить, что инициатива наказуема, если бы госсекретарь действовал по собственному почину, но в этом случае авторство шифровки приписывали начальнику Циммермана Готлибу фон Ягову, а Циммерман просто оказался крайним.
Несмотря на то, что Ойосу хотелось избежать участия в переговорах престарелого посла в Берлине Сегени-Марича Ласло[119], которого планировали отправить в отставку из-за его эмоциональности, глухоты и слабого здоровья, посол также сыграл немалую роль в миссии Ойоса и подготовке Австрией войны против Сербии. На званом обеде в Потсдамском дворце он переговорил с кайзером Германии в тот же день, когда Ойос встречался с Циммерманом. Там же, в Потсдаме, посол передал кайзеру письмо Франца Иосифа, в котором император сетовал на политику воссоединения южных славян под сербским флагом, представляющую постоянную опасность для Австрийского королевского дома, и на поведение Румынии, которая, сблизившись с Сербией, ведет анти-австрийскую агитацию. В конце письма император Австрии призывал императора Германии присоединиться к кампании, направленной на борьбу с панславянским союзом. Император писал, что «сараевское убийство не является делом отдельной личности, а есть результат тщательно подготовленного заговора, нити которого ведут в Белград». Сербию Франц Иосиф называл «осью панславистской политики», а Белград – «очагом преступной агитации»[120].
На следующий день после этих параллельных переговоров состоялось заседание Совета Короны. Кайзером Вильгельмом II, канцлером Теобальдом фон Бетман-Гольвегом[121] и Циммерманом было принято решение поддержать Австро-Венгрию в связи с убийством эрцгерцога в Сараево и готовиться к войне. Решающим было, конечно, мнение кайзера. Вечером того же дня посол Сегени-Марич телеграфировал в Вену о полученной поддержке. Циммерман рассказал о заседании совета Ойосу. Граф получил с собой письмо Бетмана-Гольвега, составленное от имени кайзера. В нем кайзер благодарил Франца Иосифа за послание, заверял австрийского императора в своей поддержке и обещал взять переговоры с Румынией на себя.
В те дни германская верхушка, поддерживавшая на словах Австро-Венгрию, вела себя достаточно равнодушно по отношению к происходящим событиям. Государственный секретарь Готлиб фон Ягов[122] проводил медовый месяц в Люцерне, переложив свои обязанности на Циммермана, а кайзер Вильгельм II на следующий день после переговоров с австрийскими официальными лицами уехал в круиз по Северному морю.
Австрийские политики делали то же самое, но по иным причинам. Министр иностранных дел Берхтольд посоветовал Конраду Гётцендорфу и военному министру Александру фон Кробатину уйти в отпуск, чтобы никто ни о чем не догадался.
7 июля граф Ойос вернулся в Вену и в тот же день выступил на заседании министерского совета с отчетом. Его второе выступление на эту тему состоялось 19 июля.
Позднее говорилось о том, что сторонник войны с Сербией Александр Ойос приближал ее всеми силами, не представляя в то время ее истинных масштабов. Он хотел вооруженного конфликта на Балканах, едва ли подозревая, что пламя войны охватит весь мир.
Стремительная смена событий вызвала хаос и сумятицу не только в делах, но и в сознании людей: никто так и успел понять, что в действительности произошло. В момент австрийской мобилизации главнокомандующий Сербии находился в Австрии на отдыхе, а потерявшие наследника престола австрийцы продолжали заниматься повседневными делами и отмечали выходные песнями и танцами.
Реакция европейских стран на сараевское убийство была не совсем адекватной. В то время как Сербия посылала Австрии официальные соболезнования, английская официальная печать выходила с заголовком «К черту Сербию!».
Еще интереснее вел себя министр иностранных дел Англии Эдвард Грей[123]. Его двойная игра стала в истории символом беспримерного лицемерия. 8 июля он сказал русскому послу Александру Бенкендорфу[124], что Англия всегда поддержит Россию, в особенности – если последняя окажет военную помощь Сербии. На следующий день объявил немецкому послу Лихновскому, что Англию с Россией не связывают никакие соглашения, и он приложит все усилия для предотвращения войны. 27 июля он же, угрожая выходом в отставку, требовал от кабинета министров утверждения военной резолюции, а еще через два дня, 29 июля, вновь заверял Лихновского в совершенной дружбе с Германией и сохранении нейтралитета. После этой зигзагообразной политики кайзер Вильгельм II назвал Грея «подлым обманщиком и фарисеем»[125].
Король Великобритании Георг V 26 июля сообщил германскому принцу Генриху, что его страна в случае начала войны будет придерживаться нейтралитета[126].
Премьер-министр Венгрии Тиса призывал к осторожным действиям по отношению к Сербии и возмутил этим австрийского министра Берхтольда. Французская делегация во главе с президентом Пуанкаре и премьер-министром Вивиани находилась с официальным визитом в России.
Все были заняты своими повседневными делами, а летнее время способствовало еще и традиционным отпускам в излюбленных районах Европы, от которых царственные особы, чиновники и дипломаты не собирались отказываться, полагая, что ничего особенного в мире не происходит.
Ультиматум
6 июля, когда граф Ойос еще вел переговоры в Берлине, Иован Иованович передал из Вены, что в ходе следствия появились данные об участии Сербии в заговоре. После этого стало ясно, что обвинений в соучастии не избежать, и началась проверка сербских государственных структур.
В тот же день министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов[127] подошел к австрийскому послу в Санкт-Петербурге Оттокару Чернину[128] с предложением организовать сербское расследование заговора и предотвратить тем самым нагнетание военной истерии. Определенного ответа он в тот день не получил…
Австрийский дипломат Йозеф Редлих как-то назвал своего коллегу Оттокара Чернина «человеком семнадцатого века, который не понимает времени, в котором живет». Чернин был чешским аристократом, австрийским чиновником и доверенным лицом Франца Фердинанда. Доверие эрцгерцога уже о многом говорит, поскольку близко сходились с ним лишь немногие люди, наделенные терпением. Впрочем, Чернину не пришлось долго терпеть угрюмость принца: он постоянно пребывал в дипломатических разъездах – то в Румынии, то в России. Как австрийский абсолютист Чернин действительно не понимал реальности того времени. Желая заинтересовать Румынию территорией Трансильвании, он навлек на себя недовольство венгров, и его прорумынская идея провалилась. Переоценивая силу Австрии, он недооценивал влияние Германии и считал возможным оказывать на нее давление.
И все же Йозеф Редлих ошибся в своем определении: Чернин не был человеком семнадцатого века, скорее он оказался провидцем, хотя сам об этом не подозревал. После Первой мировой войны территория Трансильвании действительно досталась Румынии, а военная мощь Германии оказалась побеждена силами Антанты.
Посол Чернин смог дать ответ Сазонову лишь десять дней спустя. 16 июля он сообщил русскому министру, что Австрия не станет предпринимать никаких шагов, которые вызвали бы войну на Балканах. Это было явной дезинформацией с целью успокоить Россию. И российские власти не стали выражать протест.
Несмотря на нанесенное в Сараево оскорбление имперского двора, автором ультиматума была не Австрия, а Венгрия. 7 июля 1914 года (в тот же день, когда выступал граф Ойос) на заседании австрийского правительства премьер-министр Венгрии граф Иштван Тиса[129] объявил о решении предъявить Сербии условия. Активность Тисы в этом деле объяснялась его беспокойством и желанием предотвратить конфликт. Сам он считал свой документ очень мягким и взвешенным.
В ультиматуме содержалось десять пунктов:
1. Запрещение изданий, пропагандирующих неприязнь к Австро-Венгрии и нарушение ее территориальной целостности;
2. Исключение анти-австрийской пропаганды из народного образования;
3. Запрещение общества «Народна Одбрана»[130] и всех других союзов и организаций, ведущих пропаганду против Австро-Венгрии;
4. Увольнение с военной и государственной службы всех офицеров и чиновников, занимающихся анти-австрийской пропагандой;
5. Сотрудничество с австрийскими властями в подавлении движения, направленного против целостности Австро-Венгрии;
6. Проведение расследование против участников убийства в Сараево и участие в расследовании австрийского правительства;
7. Арест майора сербской армии Войи Танкосича[131] и чиновника железнодорожного ведомства Милана Цигановича, причастных к убийству в Сараево;
8. Введение эффективных мер по предотвращению контрабанды оружия и взрывчатки в Австрию и арест пограничников, помогавших убийцам пересечь границу;
9. Официальное объяснение по поводу враждебных анти-австрийских высказываний сербских чиновников после убийства;
10. Постоянное информирование австрийского правительства о мерах, принятых согласно предыдущим пунктам.
Позднее говорилось, что эти требования не только не были мягкими – они содержали нападки на суверенитет и достоинство Сербии, а главное – документ был составлен так, чтобы Сербия его не приняла[132].
Нападки на анти-австрийскую печать в первом пункте меморандума подразумевали, в том числе, закрытие газеты Балкан, в которой на следующий день после покушения была напечатана статья о Принципе и Кабриновиче. Эта статья была медвежьей услугой всей Сербии, и Войя Танкосич едва не побил редактора, выпустившего ее в свет. Результатом этой скандальной публикации стал визит австрийского дипломата барона Шторка к генеральному секретарю министерства иностранных дел Славко Груичу. Шторка интересовало, каковы будут действия сербского правительства по расследованию убийства, которое даже сами славянские газеты связывают с Сербией? Груич выразил недоумение и непонимание такой формулировки, а также спросил, кем уполномочен Шторк. Тот в свою очередь выразил удивление, что правительство Сербии, не скупящееся в заверениях о своем добрососедстве, ведет себя в этом деле столь равнодушно.
Многие считали особенно вызывающим пункт четвертый, предполагающий увольнение офицеров по спискам, составленным австрийской стороной, поскольку это унижало сербскую сторону.
Время официального вручения этого документа было продумано в дипломатических кругах Австрии заранее. Дело в том, что 23 июля 1914 года в 11 вечера из Петербурга в Париж должен был уехать Пуанкаре. Австрийцы хотели, чтобы Россия получила сообщение об ультиматуме после отъезда французского президента, и союзники не успели договориться о совместных действиях. На следующий день это уже не имело значения. Военный министр России Владимир Сухомлинов[133] позднее называл хронологическим ядром начала Первой мировой войны промежуток с 24 по 28 июля 1914 года[134].
В половине седьмого вечера 23 июля 1914 года ультиматум был вручен сербскому правительству австрийским посланником в Белграде бароном Владимиром Гизлем[135].
Узнавший об ультиматуме кайзер Вильгельм воскликнул: «Браво! Признаться, от венцев подобного уже не ждали»[136]. На следующий день, 24 июля, Россия начала мобилизацию морского флота и четырех военных округов – Московского, Казанского, Киевского и Одесского. Тогда же министерство финансов получило поручение свернуть и изъять денежные вклады в германских и австрийских банках.
Сербскому правительству было дано на ответ двое суток. В случае нарушения срока наступал разрыв дипломатических отношений. За десять минут до истечения срока, без десяти минут шесть вечера 25 июля, Сербия приняла ультиматум.
Военные настроения уже настолько проникли в общество, что сразу же начались непредвиденные эксцессы. В придунайском городе Костолац 26 июля возникла перестрелка в районе побережья, и были захвачены три сербских парохода, на которых подняли австрийский флаг.
В связи со сложившейся предвоенной ситуацией Сербия обратилась за помощью к России. Австрии она сообщила, что с седьмым требованием возникли затруднения: приказ об аресте заговорщиков был санкционирован, но они скрылись в неизвестном направлении.
На самом деле Милану Цигановичу устроили побег. Никола Пашич сообщил австрийцам, что еще 28 июня заговорщик уехал из Белграда в неизвестном направлении, и найти его не представляется возможным. Здесь вышла нелепая накладка, потому что в интервью сербским журналистам начальник белградской полиции заявил, что в Белграде вовсе никогда не было человека с фамилией Циганович[137].
Впоследствии австрийская сторона выяснила, что начальник полиции лично устроил Цигановичу побег на территорию Албании и оформил это как командировку от полицейской префектуры в город Рибари, где его временную резиденцию охраняла местная полиция. Циганович не чувствовал себя одиноким, поскольку компанию ему составил еще один член запрещенного общества «Народна Одбрана», майор Александр Серб.
Изгнание Цигановича длилось ровно месяц, поскольку потом началась Великая война. После этого объявленные в розыск Милан Циганович и его начальник Войя Танкосич командовали отрядами македонских революционеров комитаджей. А еще через год Скупщина дала указание железнодорожному ведомству выплатить Цигановичу всю зарплату за два года, хотя он не работал ни дня. В Сербии он уже считался национальным героем, как и другие заговорщики.
Самым значительным в венгерском меморандуме, конечно, был вовсе не седьмой пункт о поиске заговорщиков, на который Пашич усердно отвлекал внимание австрийцев. Главным был тот самый шестой пункт, в котором говорилось о допуске австрийской полиции в Сербию для расследования. Сербия его не приняла, опасаясь нарушения своего суверенитета и сославшись на конституцию. Формально это был отказ выполнить требования, он привел к разрыву дипломатических отношений.
25 июля в шесть часов десять минут вечера австрийское посольство покинуло Белград. Ближе к ночи был подписан приказ о частичной мобилизации Австрии, за исключением частей на русской границе.
Однако германское правительство рекомендовало Францу Иосифу провести полную мобилизацию (приказ о ней был подписан 31 июля).
В полдень 28 июля Белград получил телеграмму из Австрии с объявлением войны, а ночью с 28 на 29 начался артиллерийский обстрел сербской столицы. 29 июля Россия начала мобилизацию. В полночь с 31 июля на 1 августа Германия предъявила России ультиматум, но ответа не получила. В 7 часов вечера 1 августа 1914 года посол Германии Фридрих фон Пурталес[138] вручил Сергею Сазонову ноту своего правительства с объявлением войны.
В начале августа в войне участвовали Австро-Венгрия, Сербия, Германия, Россия, Франция, Англия и Бельгия.
На войне как на войне
Виктор Мальков «Я испробовал вино смерти…» С русской армией на Восточном фронте Непрочитанный источник из собрания редких книг
«…Сейчас есть то, чего не было, – есть война.
И всё изменилось. В новом, багровом, луче изменились все цвета»
Зинаида Гиппиус. Язвительные заметкио царе, Сталине и муже.Не следует пытаться найти ответ на вопрос, почему замеченный на политическом поприще США американский медиа магнат, владевший популярной чикагской газетой «Чикаго трибьюн», решил прибегнуть к дешевой мистификации, представляя себя читателю опубликованного им в 1915 году сочинения в скромном обличии майора Национальной гвардии штата Иллинойс. Предисловие книги о боях на русском фронте Великой войны должно было убедить читателя, что автор является, скорее всего, заурядным однофамильцем консервативного политика, ставшего нежданно для самого себя игрушкой в руках своей честолюбивой матери, втайне загоревшейся желанием сделать своего сына нечаянно знаменитым. И только чтение книги наталкивало на догадку, что под маской экстремала-путешественника скрывается Роберт Маккормик – сын бывшего американского посла в России Роберта Маккормика-старшего (1902–1905), член клана Маккормиков, владельцев индустриальной империи сельскохозяйственных машин, имевшей свое отделение и в Подмосковье. Не приходится сомневаться, что фамильные интересы и сохранившиеся личные контакты матери побудили стремительно вознесшегося в медийном сообществе отпрыска чикагского олигархического семейства преподнести американской публике книгу-репортаж о войне в Европе, которая согласно прогнозам должна была также быстро закончиться, как и началась. Мать была лишь персонажем второго плана в осуществлении общего замысла. Суть его – напомнить петербургским царствующим особам об их немногочисленных друзьях в Америке и от своего имени просить принять ее сына для освещения событий с места военных действий и оценить боеспособность русской армии.
Но, так или иначе, фактически мы не знаем других примеров из истории американской военной журналистики, который был бы схож с трехсотстраничной книгой Роберта Р. Маккормика «С русской армией. Заметки майора Национальной гвардии Иллинойса», опубликованной в сентябре 1915 году уже знаменитым нью-йоркским издательством «Макмиллан»[139].
Ее первая же страница должна была привлечь к себе внимание читателя своим восторженным, но и многозначительным посвящением Великому князю Николаю Николаевичу, Верховному главнокомандующему русской армией. Текст посвящения напоминал благодарственное послание ученика учителю: «Человеку, кто в знак дружбы к Америке, пригласил меня посетить военные подразделения и части, находящиеся под его командованием, и который в знак все той же дружбы, разрешил мне познакомиться с внутренней организацией русской военной структуры и приграничными укреплениями с целью сделать возможным для нашей страны извлечь уроки бесценного опыта России в военном деле и применять его с учетом особенностей наших американских условий».
Дальше в предисловии, говоря о своем попадании в воюющую Европу, решивший не расставаться с образом «маменькиного сынка», журналист прибегает к легенде о сумасбродной женщине, якобы, в тайне от своего отпрыска – кабинетного затворника, организовавшей в конце 1914 года запрос хорошо знакомым ей русским дипломатам. Его содержанием была просьба разрешить ее сыну, оставаясь частным лицом, стать на короткое время чем-то вроде военного журналиста из нейтральной страны с целью предоставления Америке достоверной информации непосредственно из зоны боевых действий и штабов русской армии.
Можно было ожидать бесцеремонного отклонения весьма авантюрного запроса. У двора в Санкт-Петербурге и у Белого дома в Вашингтоне существовали довольно долго весьма натянутые отношения, однако ответ на подчеркнуто личную просьбу одержимой мотивами семейного престижа вдовы бывшего посла был самым любезным и даже дружественным. После Рождества 1914 года посол России в США Ю. П. Бахметев передал в Нью-Йорке миссис Маккормик следующую телеграмму министра иностранных дел России С. Д. Сазонова: «Храня самые лучшие воспоминания о после Маккормике и стремясь продемонстрировать Соединенным Штатам новые доказательства его симпатии, Великий князь (Николай Николаевич. – В. М.) в качестве исключения согласен принять Вашего сына м-ра Маккормика в зоне боев при условии, что м-р Маккормик приедет не в качестве военного корреспондента, а как иностранец, лично известный Великому князю. Это обеспечит ему исключительно благоприятные позиции, в которых другим отказано и в то же время это не помешает ему передавать корреспонденции в Америку, которые, разумеется, должны проходить через цензуру». От себя Бахметев дополнил письмо Сазонова следующими словами: «Я чрезвычайно рад, что все благополучно разрешилось и надеюсь, что Вы также полностью удовлетворены».
Узнав об этой переписке, Роберт Маккормик, по его же собственным словам, погруженный в свои дела и как будто бы не помышлявший ни о каких путешествиях, пребывал в шоке. Но отступать было уже нельзя. Получив благословение матери, ожидавшей серьезных моральных дивидендов от миссии сына в Россию, пренебрегая рисками, молодой представитель клана Маккормиков 18 февраля 1915 года, переплыв Атлантику, сошел на берег в Ливерпуле (Англия).
Роберт Маккормик сообщает нам об испытываемых им страхах и неподготовленности к «броску в Европу», но близость семейства Маккормиков к президенту Вильсону, поклявшемуся до последнего удерживать Америку от европейского конфликта, заставляет подозревать, что миссия молодого бизнесмена носила не просто осведомительный, а скорее всего разведывательный характер. Нечто подобное с одобрения президента Вильсона и американского общественного мнения, где серьезное влияние имел изоляционизм, осуществило доверенное лицо президента – полковник Э. Хауз, проделавший в январе-мае 1915 года и в декабре 1915 – феврале 1916 исторические вояжи в Европу с целью найти ответ на вопрос, какой линии держаться США. Но Хауз заинтересован был в получении политического и дипломатического диагноза, и он не только не «добрался» до Петрограда, но и не ставил перед собой этой цели. Роберт Маккормик, напротив, своей главной задачей имел встречи с «первыми лицами» России, включая царя, и доскональное изучение в пределах возможного русской армии, ее командного состава, оснащения, боевого духа и опыта ведения позиционной войны. Как он писал, объясняя свое появление в России, с целью извлечения уроков на будущее для фактически несуществующей тогда американской армии.
Книга Маккормика выдает подготовленность ее автора ко всякого рода неожиданностям, его особого рода осведомленность и целеполагание. Он вхож в самые высокие правительственные круги Англии, вступает в полемику с премьером Асквитом, предупреждая его, что в массе своей американцы остаются критически настроенными ко всем странам, вовлеченным в войну, и предпочитают оставаться «проамериканцами», т. е. находиться над схваткой. В беседах с главой Форин оффис сэром Эдвардом Греем – деятелем, подавляющим своим непререкаемым авторитетом в вопросах дипломатии всех остальных членов кабинета. Его вердикт был абсолютно однозначен – избежать войны было нельзя. Германия одинаково опасна для всех. В самой интонации произносимых Греем слов слышалось: хотите получить свою долю добычи – присоединяйтесь к нам.
Маккормик встречается и с Первым лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем в самый разгар скандала по поводу провала экспедиции в Дарданеллах. В откровенном разговоре с ним, писал Маккормик, Черчилль «ни звука не сказал о своем мастерски проведенном маневре, когда он привел в боевую готовность флот перед самым началом войны, но вынужден был признать этот факт, когда я напомнил ему об этом». Черчилль действовал в своей манере, исходя из неизбежности и даже необходимости войны. Маккормик называл его самым, вслед за Великим князем Николаем Николаевичем, воинственно настроенным человеком, «которого я когда-либо встречал».
Рискуя быть пущенным на дно немецкой подводной лодкой, Маккормик перебрался во Францию, где немедленно был принят старым приятелем своего отца министром иностранных дел Т. Делькассе. Последний же начал с повторения аргумента сэра Эдварда Грея в пользу вмешательства США в войну на стороне Антанты: Франция и Англия защищают «республиканизм» против германского «имперства». В сущности же, речь шла о восстановлении баланса сил в Европе, что наслышанному о «русском деспотизме» американцу могло показаться не вполне оправданным так же, как и обвинения немцев в зверствах на фронте и гонениях на свободу. Он не уставал жаловаться, что ежедневно ему самому приходилось терпеть «тиранию» французских военных и местных властей, задерживающих и даже заточавших его за решетку. Впрочем, разрушения Арраса, Амьена и других французских и бельгийских городов в порядке акта устрашения сметенных немцами, целенаправленное уничтожение ими невоенных объектов и постоянное пребывание под обстрелом в траншеях и на открытых дорогах Франции производило пробирающее до дрожи сильное впечатление вперемешку с негодованием по поводу не гостеприимства французских властей, их черствости и отчужденности. Артиллерийские дуэли довершали картину нового вида большой позиционной войны, перемалывающей десятки и сотни тысяч жизней. Солдаты закапывались в землю, их не было видно на поверхности, но количество жертв от обстрелов из тяжелых гаубиц исчислялось тысячами каждый день. Захват или сдача одной линии траншей становились событием либо радостным, либо кошмарным, но повторяющимся систематически без видимого продвижения войск в ту или иную сторону.
В зоне ответственности английской армии Маккормик поначалу также натолкнулся на ледяную холодность главнокомандующего сэра Джона Френча. Ее не растопила даже ссылка на знакомство с премьер-министром Англии. Старый вояка, видимо, подозревал какой-то подвох от американского выскочки в кепи наездника с ипподрома. И только полученное им рекомендательное письмо от анонимного лондонского знакомого фельдмаршала открыли Маккормику путь на передовую. Стойкость, мобильность, хорошее вооружение и снабжение, отличная связь и высокий уровень подготовки командного состава – такими представились взору майора американской Национальной гвардии черты действующей английской армии. Профессионализм англичан, их упор на учет современных методов ведения войны внушили Маккормику уверенность, что в лице солдат его Величества армия кайзера столкнулась с впечатляющей волей отстоять рубежи Британской империи на суше и на море.
Из Южной Франции через Афины, Солоники, Ниш, Софию и Бухарест Маккормик добирается до Петрограда. Путешествие для него было особенно интересным, поскольку активность соответствующих «турбулентных» стран послужила непосредственным поводом (но не причиной, как специально оговаривает Маккормик) Великой войны. Он прибывает в столицу России в начале апреля 1915 г. и немедленно оказывается принятым С. Д. Сазоновым, удивившим своего собеседника осведомленностью и заинтересованностью России в избавлении от германской экономической зависимости и налаживании широких прочных торговых связей с США. Россия, откровенничал Сазонов, является «почти полностью аграрной страной и останется таковой долгое время», и, не расширяя свои рыночные отношения с партнерами, она окажется в плену своей вековечной отсталости, в тисках геополитической активности Германии на Юге, на Западе и на Дальнем Востоке.
Сазонов уже имел согласие российского самодержца принять Маккормика в покоях Царскосельского дворца. Убранство главной резиденции императора, мундиры гвардейцев заставляли чикагского газетного короля чувствовать себя Марко Поло в палатах Верховного суда Китая. Появление императора Николая II развеяло это впечатление. Теплое приветствие царя с напоминанием об отце «тихого американца» подчеркнули доверительный характер беседы. Вероятнее всего оба ее участника касались многих вопросов, но Маккормик зафиксировал лишь одно заявление царя: «Для нас война была внезапной и неожиданной». То, что эта фраза была, скорее всего, лишь формулой речи, Маккормик убедился сразу же, как только оказался на фронте в зоне «ответственности» Великого князя Николая Николаевича – главнокомандующего русской армией. Офицеры ему рассказали, что взаимная ненависть австро-венгров и немцев к русским и наоборот накапливалась задолго до начала боевых действий, к которым готовились с обеих сторон. Годами Берлин способствовал созданию германской системы замаскированных пограничных огневых точек («фермерских жилищ») с утолщенными стенами и амбразурами, обращенными на Восток, чтобы служить малыми укреплениями против нашествия «из-за Вислы» и быть опорой для атакующих действий. Русские крепости на западе империи также были построены с учетом наступательной мощи хорошо оснащенной армии «врагов человечества» с Запада. Крепости Осовец, Гродно, Ивангород, Новогеоргиевск могли служить образцом инженерных сооружений из бетона и металла, способных выдержать многодневную осаду и служить плацдармом для больших наступательных операций. Почти пять месяцев защитники Осовца демонстрировали, сколь непробиваемой может оказаться заблаговременно и по всем правилам возведенная крепость. Маккормик, сравнивая Осовец с бельгийскими укреплениями Льежа, Намюра и Мобежа, в три-четыре дня разрушенные до основания, отдавал дань русской предусмотрительности, смекалистости и бесстрашию.
Достаточно высоко отзываясь о боеготовности русской армии во время своего пребывания с февраля и вплоть до конца апреля 1915 г. на фронте, Маккормик засвидетельствовал несоразмерность ее высокого духа уровню снабжения боеприпасами, патронами и снарядами. Скудость содержимого арсеналов заставляли командование считать в порядке вещей штыковые атаки. Отсутствие разветвленной сети железных дорог, телефонной и радиосвязи, примитивные способы сообщения между подразделениями и частями наводили на невеселые мысли. Русские, спасая Париж ценой своего поражения в конце августа-сентября 1914 г. в Восточной Пруссии, раскрыли противнику свои слабости – медлительность, катастрофическая нехватка тяжелого вооружения, гужевого транспорта, плохая координация действий командующих армиями, слабая работа фронтовой разведки.
В Галиции, где русская армия в первые месяцы войны одержала серьезные победы и где Маккормику и сопровождающему его кинооператору никто, в отличие от Франции, не препятствовал снимать и разговаривать с любым встречным, они вновь столкнулись с тяжелым недугом русской армии – плохо налаженным снабжением всем необходимым для боя. В полосе боевых действий, напичканной современными инженерными сооружениями, командование русской армией не сумело грамотно распорядиться прибывшими с Дальнего Востока закупленными у Японии гаубицами и запастись достаточным количеством снарядов к ним. Немцы же забрасывали позиции русских «чемоданами»-снарядами окопных мортир. С плоскогорья Маккормик поднялся в горы дорогой 8-й армии генерала Брусилова, накануне одержавшего победу на реке Гнилая Липа. 22 марта 1915 г. пал австрийский Перемышль, создалась угроза выхода русских войск на Венгерскую равнину. Но двигаться дольше Брусилов не мог. Он боялся потерять всякую связь с тыловым обеспечением.
«Ландшафт после битвы», представший перед взором Маккормика, изумил его. Городская жизнь в Перемышле и других городах, включая толпу на улицах, в магазинах, ресторанах, увеселительных заведениях протекала так, как будто бы никакой войны не было. Поведение русских солдат нареканий у населения и многочисленных пленных не вызывало. Дети, окружавшие солдат в местах их расположения, чувствовали себя в безопасности. Тут и там по пути следования попадались длинные колонны пленных австрийцев, большинство из которых выглядело вполне благополучно. «Совершенно очевидно, – замечает Маккормик, – что не было попыток побега со стороны военнопленных». И добавляет, что многие пленные, будучи славянами, чувствовали себя вполне комфортно рядом как с русскими, так и с австрийцами. Им не хотелось бежать. Разрушение деревень не было преднамеренным актом русских или австрийцев, как это происходило на Западе, общение сельских жителей с русскими солдатами было, по словам Маккормика, «исключительно сердечным» (с. 112). Армия еще не была доведена до одичания полосой неудач и бессмысленными потерями.
Сердцевину в повествовании Маккормика о путешествии в зону артиллерийских дуэлей, колючей проволоки и штыковых атак составляет история войны «до конца апреля 1915 г.» и дипломатические контроверзы, предшествовавшие началу Великой войны. Повествование ведется как бы в обратном порядке, причем анализ причин войны выносится в отдельное приложение. С военной историей его познакомил офицер штаба главнокомандующего русской армией, который как истинный штабист начал с того, что показал, в сколь невыгодных условиях приходилось начинать войну русской армии сразу же после отклонения Николаем II ультиматума германского кайзера (об отмене мобилизации в России). Огромные малонаселенные пространства вынудили войска быть оторванными друг от друга из-за бездорожья и отсутствия продуманной схемы координации фронта и тыла, могущей способствовать маневрированию войск и их тесному взаимодействию. Стремление Великого князя Николая Николаевича, во что бы то ни стало отвратить угрозу от Парижа, заставило его не ждать плановой мобилизации армии, двинув две ее недоукомплектованные группировки в Восточную Пруссию. Генералы Самсонов и Ранненкампф одерживали победы (г. Гумбинен) и терпели поражения (г. Танненберг), оставаясь вне контакта друг с другом и с Верховным главнокомандующим. Спасая фронт, Николай Николаевич «бросил Самсонова на произвол судьбы», пожертвовав им ради союзнического долга.
Маккормик умышленно концентрирует внимание своих читателей на самопожертвовании Великого князя и Самсонова. Читатель в Америке должен был знать, что его стране, возможно, еще придется добиваться расположения России, которую она явно недооценивала и недолюбливала. Стратегическая задача предотвращения германского блицкрига решалась там, на Восточном фронте. Вердикт Маккормика: «Преодолев все крепостные укрепления Бельгии, разбив Францию в Эльзасе у Шарлеруа, а Англию у Монса, вне всяких сомнений открыв для себя дорогу на Париж и в перспективе готовя французам еще один Седан, немцы вынуждены были снять с западного фронта шесть армейских корпусов действующей армии с тем, чтобы поддержать Гинденбурга в Восточной Пруссии… Германия, между тем, в это время была очень близка к тому, чтобы одержать победу в войне».
Великолепно организованная система немецких железных дорог играла огромную роль в успешном маневрировании резервами германской армии, позволившим в считанные дни войскам, участвовавшим в боях на Марне, появиться под Варшавой и в Галиции. Освоив полностью преимущества повышенной мобильности и связи, проведя перегруппировку своих сил, немцы одержали существенные победы над бельгийцами и англичанами, оттеснив их к побережью Северного моря. Эффект молниеносной передислокации сил на главных направлениях удара дополнялся использованием немцами нового вида оружия массового уничтожения – отравляющих газов. Маккормик свидетельствует: впервые немцы применили их в районе Варшавы в конце февраля 1915 г.
Описание боевых действий на Восточном фронте, со слов офицера-штабиста русской армии, прерывается комментариями Маккормика от имени уже самого автора книги. И первое, на что он обратил внимание – это недостаток вооружений в русской армии, как в количественном, так и в качественном отношении. «У России не было достаточного количества тяжелых орудий, она не могла пытаться атаковать форты», – писал он. Не хватало заводов, которые вдоволь производили бы стрелковое оружие. Напротив, Германия и Австро-Венгрия заблаговременно озаботились созданием военно-промышленного комплекса, полностью обеспечивающего потребности центральных держав в вооружениях, а заодно и потребности внешнего рынка.
Второе. Буквально сразу же стало сказываться превосходство Германии и Австро-Венгрии в наличии разветвленной сети железных дорог, их оснащенности по последнему слову техники и бесперебойной работе подвижного состава по подвозу боеприпасов и переброске войск. Чтобы уравнять силы, главнокомандующий русской армии вынужден был группировать свои резервы в районе железнодорожных узлов в тылу, что не позволяло вовремя подтягивать войска и вести широкие наступательные операции одновременно на больших участках фронта. Маккормик застал момент, когда наступательные операции русских затухали, а немцы, имея превосходство в живой силе и в транспортных средствах, продвигались по территории Польши. Их целью было закрепиться на западных берегах Буга и Нарева. Однако в целом, по мнению Маккормика, прогноз был более благоприятным для России и ее западных союзников, т. е. война на истощение могла закончиться только победой коалиции аграрной империи с ее быстро растущим крестьянским населением и передовых индустриальных стран Европы. С каждым месяцем они технологически опережали Центральные державы и внедряли революционные методы обучения войск ведению современной войны.
Третье. Весьма характерным наблюдением для человека, чья страна была родиной автомобиля, являлась констатация равнения России на средневековые средства передвижения по обычным дорогам, грунтовым дорогам, в горной местности. Отсутствие у русских собственной автомобильной промышленности делало их армию совсем не похожей на армии Англии, Франции, Германии и Австрии, способных на своих грузовиках покрывать по 100 или 200 миль в день, избавляя солдат от изнурительных пеших переходов и сохраняя их силы для боя. Русские использовали гужевой транспорт, делающий почти невыполнимыми требования современной тотальной войны и невозможным быстрое сосредоточение тяжелой артиллерии на важных участках боевых действий. Техническое оснащение русской армии, оставаясь традиционно далеко не ушедшим от привычных образцов прошлого, способствовало сохранению мышления командных кадров на уровне архаичных правил времен Суворова. «Русская мораль, – подводит итог своим рассуждениям о российском военном складе ума Маккормик, – базируется на теории штыковых рукопашных атак…». Примечательно, что американский наблюдатель не усматривал в этом никакой беды, ибо, с его точки зрения это только говорило о физическом превосходстве русского солдата, которое, как ему показалось, оказалось столь необходимым при ведении активной и пассивной обороны с ее обязательным рытьем бесконечных траншей и строительством вручную многоцелевых укрытий. «Если штык для русского пехотинца стал его главной надеждой, то шанцевый инструмент является его лучшим другом», – с оттенком искреннего восхищения писал Маккормик, будучи, видимо, неосведомленным, что лопат и топоров в русской армии не хватало.
Патронный и снарядный голод преследовал русскую армию, и она вынуждена была полагаться на заповедь XVIII века «штык молодец…». Но еще и особенности местности на восточном театре военных действий (огромные незаселенные пространства) повелевали русскому солдату зарываться поглубже в землю, строить землянки в три наката и полагаться на штык в контратаках. Между тем англичане и французы предпочитали иметь иную конфигурацию траншей не столь капитального типа с тем, чтобы избежать поражения от артиллерийских обстрелов тяжелыми снарядами и быть готовыми отразить нападения противника ответным интенсивным огнем, не считаясь с затратой боеприпасов и не покидая траншей. Каждому свое, – резюмировал Маккормик, хладнокровно вдумываясь в кровавую логику взаимоистребления, свидетелем которого с предельно близкого расстояния он стал.
Осовец в апреле 1915 г. был последней точкой на карте русского театра военных действий, на котором побывал майор Национальной гвардии из Иллинойса. Осовец продержался около полугода благодаря грамотно организованной глубоко построенной обороне. Но в конце концов он пал. Не сознавая этого до конца, Маккормик стал свидетелем неравного противостояния двух военных доктрин. Одной, опирающейся на тотальную отмобилизованность индустриального общества, и другой, – предусматривающей с точки зрения современной войны десятикратную нехватку снаряжения и боеприпасов в действующей армии, не преодолевшей отсталости полуфеодальной страны. Уже к середине апреля стало ясно, что русские по всему фронту будут вынуждены перейти к пассивной обороне. И как результат – немыслимые потери. Отъезд в Петроград, последние встречи с радушным Великим князем Николаем Николаевичем, начальником штаба ставки генералом Янушкевичем проходили накануне Великого отступления после немецкого прорыва в районе Горлицы (1–2 мая 1915 г.). Генерал Янушкевич, прощаясь, пообещал повторить приглашение Маккормику побывать еще раз на Восточном (русском) фронте через год, а «еще лучше через два», т. е. в 1917 г. Размышляя по поводу этой перспективы, Маккормик через Стокгольм и Норвегию вернулся в Лондон, где имел обстоятельную беседу с «военным диктатором» Англии лордом Китченером – подлинным технократом современной войны. Содержание этой беседы, в сущности, было кратким резюме будущей книги и «кое о чем сверх того». Затем последовал переезд во Францию и визит в штаб генерала Жоффра. И наконец, снова с риском для жизни, трансатлантический «переход» домой, в Америку.
Работая над книгой, Маккормик был твердо убежден, что она послужит главной цели – готовности США к будущим испытаниям, которых не удастся избежать. Картины забитых трупами траншей, разорванных снарядами солдатских тел лучше всего предупреждали о трагической участи тех народов, которые готовы стать жертвой собственной исторической беспечности. Можно забыть обо всем и продолжать заниматься любимым делом, но его самого, увидевшего войну с максимально близкого расстояния, ничто не должно было заставить замкнуться в узком мирке личных интересов и забыть о смертельной опасности XX века – тотальной войне с использованием оружия массового уничтожения: газов, пулеметов, тяжелой артиллерии. «Я испробовал вино смерти, и его вкус навсегда останется у меня на губах».
Логично было для такого образа мышления погружение в тему возникновения вселенской бойни, в которой гибли империи, исчезали с лица земли города, радикально менялся облик человечества. Ее главную причину Маккормик видел в порыве различных этносов к созданию своих собственных государств-наций и возникшей в силу этого тяге к пересмотру утвердившегося в 1815 г. (Венский конгресс) баланса сил в Европе. Однако хрупкое равновесие было нарушено и движением к независимости малых народов, и образованием бисмарковской империи в 1870 г., и заметным ослаблением России после Берлинского конгресса в 1878 г., и ее же стремлением к реваншу. Христианские народы Балкан в итоге не получили полного освобождения от турецкого владычества. Россия же нажила себе врагов в лице Великобритании, Австрии и новоявленной бисмарковской империи Германии, которую Маккормик называет подлинной прародительницей войны 1914–1918 гг. Поддержка Россией независимых Сербии и Черногории завязала в тугой узел противоречия Санкт-Петербурга с Веной и стоящим у нее за спиной Берлином, твердо рассчитывающим прибрать к рукам Оттоманскую Турцию и сделать покорным сателлитом Россию. Однако на первых порах амбиции Австро-Венгрии, жаждущей компенсировать за счет балканских государств потери в войне с Пруссией в 1866 г., удовлетворялись компромиссами и уступками России. Но для мира, – делает вывод Маккормик, – это ничего не дало: «Годы мира, последовавшие вслед за Берлинским конгрессом 1878 г., накапливали запас нетерпимости и враждебности, вылившиеся в конечном итоге в эту войну (т. е. в войну, начавшуюся в августе 1914 г.)».
Главный источник конфликтных отношений лежал в сфере ограничений, с которыми сталкивалась Германия в своих торгово-экономических связях в особенности в колониальных странах, где хозяйничала Англия, опираясь на свои многочисленные военно-морские базы. И если «владычица морей» не соглашалась терпеть серьезной конкуренции со стороны новой могучей военно-промышленной державы мира, то Германия в свою очередь с каждым годом проникалась сознанием несправедливого распределения земных благ, весьма схожим с ощущениями «непривилегированных слоев общества в некоторых странах, руководствующихся классовой решимостью получить свою долю». Германия устремила алчные взоры на Южную Америку, Африку и Азию, т. е. на континенты, которые «другие европейские страны получили в качестве легкой добычи в процессе экспансии». Что было делать опоздавшему к столу, уставленному богатствами, ниспосланными свыше? Биться, не считаясь с договорами, заключенными еще тогда, когда ее, Германской империи, вообще не существовало, не пугаясь обвинений в захватах на манер «Прусской традиции». Германия, открыто бросив вызов своим соперникам по присвоению мировых ресурсов, пробуждала беспокойство, тревогу, переходящие в алармизм у ближнего и дальнего зарубежья. Каким-то совершенно неожиданным образом, «к удивлению всех», писал Маккормик, Соединенные Штаты оказались втянуты в общий хоровод претендентов на гегемонию и «освоение» спорных пространств. Победа в испано-американской войне (1898 г.) привела к «поглощению» Филиппинских островов Соединенными Штатами, лишивших Германию последнего шанса купить их у той же Испании. В сущности, с этого момента все страны начинают вооружаться друг против друга.
Следующая фаза в борьбе за передел мира и дележ «турецкого наследства» начинается с Балканских войн. Борьба шла, подчеркивает Маккормик, не столько за христианские ценности, сколько за выходы к морю, за порты, проливы, острова в Средиземном море, на Ближнем и Среднем Востоке и обладание политическим первенством. Россия энергично включилась в этот водоворот событий после поражения в русско-японской войне и первой русской революции 1905 года. Ее попытки выступить в качестве модератора и покровителя славян выглядели неубедительно и даже контрпродуктивно. Расчеты на поддержку России в националистически настроенных кругах Сербии сыграли свою роковую роль, ибо накануне сараевского убийства Россия была не расположена воевать (ее программа перевооружения находилась лишь в ранней стадии развития), а Германия напротив усмотрела в нем исключительно удобный повод для начала большой войны против Антанты и ее союзников для «броска на Восток». Для каждого непредвзято настроенного наблюдателя было понятно, что австрийский ультиматум Сербии после выстрела Гаврилы Принципа 28 июня 1914 г. в Сараево согласовывался в Берлине и был сформулирован таким образом, чтобы не дать никому «отвертеться» от войны.
По мнению Маккормика, Россию внезапное развитие вполне, впрочем, предсказуемых событий застигло если не врасплох, то в состоянии определенного ступора и неготовности к немедленному реагированию. Он рисует картину даже в еще более контрастных тонах: императорская Россия испытывала слишком большие внутренние трудности, чтобы сознательно провоцировать сербов на «подвиги» наподобие покушения в Сараево. Потрясенная рабочими волнениями, констатировал он, Россия «совершенно очевидно была беспомощна». Но долго подогреваемый протестом против «прусского засилья» народный подъем за вмешательство в сербско-австрийский конфликт вынудил в тот момент российское правительство поторопиться принять вызов. Этот вывод Маккормика был обращен в будущее, точнее будущим историкам, задающимся вопросом – что и кто был виноват в развязывании Великой войны.
Сергей Храмков Мифы о Танненберге
В истории Первой Мировой войны Восточно-Прусская операция русской армии в августе 1914 года – событие, сильно искаженное исследователями, покрытое множеством легенд, кривотолков и глубоко ошибочных заключений. Это искажение происходило как заинтересованными лицами, так и не намеренно рядом историков, которые не критически принимали на веру «общепринятую» версию событий, сложившуюся за многие десятилетия. Все это вызывает необходимость более объективного изучения всей Восточно-Прусской операции, но в данной статье будет рассмотрена только часть ее, связанная с наступлением 2-й армии Самсонова, которая по «общепризнанному мнению» была уничтожена в сражении под Танненбергом.
За 100 лет вокруг этого события сложились мифы. Россия намеренно бросила на погибель неподготовленную армию Самсонова, ради спасения французских интересов. Другой миф – это сражение показало отсталость русской армии и гнилость царизма. Третий. В этой битве маленькая немецкая армия добилась победы над значительно численно превосходящей русской. Четвертый. Германскому командованию, благодаря гениальным действиям штаба и четко реализованному плану удалось повторить в XX веке «Канны» 216 года до н. э., в которых полководец Ганнибал окружил и разгромил превосходящие его силы римлян. Пятый миф. 2-я армия Самсонова была практически полностью уничтожена и пленена под Танненбергом, спаслись лишь немногие. И, наконец, шестой. Это поражение стало началом «агонии» русской армии, ее разложения на пути к полному краху 1917-го года.
В советской, как и в постсоветской историографии, сложилось прочное мнение, господствующее и в наши дни, что российское командование и руководство страны, в угоду Франции, находясь в финансовой зависимости от нее, не закончив сосредоточения армий, погнало войска в Восточную Пруссию, и тем самым безоговорочно принесло армию А. В. Самсонова в жертву. Что его 2-я армия чуть ли ни сознательно была брошена на заклание под Танненберг, где она, якобы, полностью была уничтожена и погибла за Французские интересы.
Это абсурдное мнение не состоятельно не только потому, что никакой зависимости России от Франции тогда не было, но и потому что России совершенно был не выгоден разгром Франции и повторение сценария Франко-прусской войны 1870–1871 годов, после которого Германия всеми силами могла обрушиться на Восточный фронт. Таким образом Россия, спасая свою союзницу Францию, спасала также и себя, так как не желала оставаться одной против трех враждебных держав. Тактическое поражение России в Восточной Пруссии явилось одновременно ее огромной стратегической победой, так как был сорван план Шлиффена-Мольтке. А его крушение означало также и крах германских военных усилий, направленных на достижение молниеносной победы.
Но возникает вполне справедливый вопрос: не слишком ли дорого обошелся России этот стратегический успех, который, по общепринятому мнению привел к катастрофе 2-й армии Самсонова под Танненбергом, и после которого, якобы началась агония русской армии, закончившаяся в результате ее разложением, крушением монархии и поражением России в Первой мировой войне. Здесь следует отметить, что на протяжении уже 100 лет, как в западной, так и в отечественной советской и постсоветской историографии поражение армии Самсонова под Танненбергом без таких эпитетов как «сокрушительный разгром», «чудовищная катастрофа» и «полное уничтожение», практически не упоминается. Потери всегда объявляются огромными, одних только пленных 90 тысяч. А в некоторых случаях число потерь доводят и до 160 тысяч. Германское оперативно-тактическое искусство и командование, устроившее русским грандиозные «Канны XX века» представляется образцовым.
Однако справедливости ради следует заметить, что еще в 20-е годы, ряд советских военных специалистов в «Кратком стратегическом очерке войны 1914–1918 гг.» дали вполне объективные и взвешеные оценки сражения под Танненбергом. «Немецкая военная литература неправильно старается придать самсоновскому поражению вид шлиффеновских рецептурных «Канн». В общее мнение Европы делается попытка вбить идею о всегда победоносном способе действия Гинденбурга, как некогда в нас вбивали идею о победоносном «косвенном» боевом порядке Фридриха великого… Ниже мы увидим, что между ганнибаловскими Каннами и гинденбурговским Танненбергом нет никакого ни по форме, ни по идее сходства»[140].
Но такие оценки присутствовали лишь в работах узких специалистов, в академических трудах, предназначенных в качестве пособий для высших военно-учебных заведений и выходивших ничтожно малым тиражом.
В современной отечественной историографии начинают появляться работы подвергающие сомнению утверждения о полном разгроме или уничтожении 2-й армии и дающие более взвешенные и объективное описание сражения под Танненбергом.
Одним из мифов этого сражения, является представление о том, что небольшая германская армия сокрушила и уничтожила значительно превосходящую численно русскую. При этом почему-то нигде не упоминаются цифры численности сторон к началу сражения. Но знать численность противников при Танненберге необходимо, хотя бы «потому, что часто эту операцию представляют, как гениальную и героическую борьбу маленького тевтонского Давида с громадным славянским Голиафом»[141]. Некоторые восторженные исследователи видят в этом сражении блистательный пример победы меньшинства над большинством, благодаря гениальному маневру, повторившему в XX веке великую победу Ганнибала под Каннами. Порой делаются совершенно потрясающие открытия, согласно которым 2-я кадровая армия была разгромлена войсками немецкого ополчения – частями ландвера. Однако точные цифры, приводимые офицером, служившим в штабе 2-й армии Богдановичем П. Н. говорят совершенно о другом. К началу сражения немцы имели в пехоте 166700 солдат против 124830 русских, а соотношение в дивизиях было следующим:
11 дивизий и 4 бригады немцев против 10 дивизий и стрелковых бригад русских, 40 пехотных полков и 3 егерских батальона против 36 полков и 4 стрелковых. В артиллерии 134 немецкие батареи против 83 у русской армии (из них по тяжелым батареям соотношение было 31 против 6 в пользу немцев)[142].
Надо также учитывать и то, что в цифру 166700 немецких солдат и офицеров не входят добровольческие части ландвера, которых в германской 8-й армии было много. Точное число их определить не представляется возможным, но приблизительный подсчет дает цифры в 10–20 тысяч, таким образом, общая численность германских войск могла доходить до 175–185 тысяч. Что касается частей ландвера, то их совершенно не стоит воспринимать как второразрядные воинские формирования, так как они были хорошо организованы, мобильны и вооружены на должном уровне, отлично знали местность. Поэтому они как нельзя лучше были приспособлены к боям в условиях леса, особенно это касается частей сформированных из наиболее воинственного во всей Германии прусского населения.
Богданович делает вполне справедливое заключение о соотношении сил перед битвой: «… если к указанным выше громадным преимуществам немецкой армии над нашей прибавить еще подготовленный ими заранее театр военных действий и владение богатой железнодорожной сетью, обеспечивавшей быстроту и удобство передвижений и непрерывность снабжения, то в подавляющем превосходстве немецких сил над нашими в операции у Сольдау не может быть никаких сомнений»[143].
Очень много говорилось и писалось в исторических работах о том, что русское командование армиями допускало грубые ошибки и отправляло незашифрованные радиограммы с указанием расположения войск и их дальнейших действиях. Все шло открытым текстом, чем прекрасно воспользовалось германское командование и добилось успеха. Это действительно было так и не является мифом. Но мифом является то, что это было признаком особой русской беспечности или отсталости. В начале Первой мировой войны во всех участвовавших в ней армиях шифровальное дело было поставлено плохо, полевые рации были несовершенными, постоянно возникала путаница. К примеру, во время битвы на Марне немецкий конный корпус генерала фон Марвица, находившийся на правом фланге маневренного крыла посылал незашифрованными свои радиограммы, которые перехватывались Эйфелевой башней. После одного из таких перехватов 28 августа французы получили полную картину местонахождения 3-й германской армии ген. фон Хаузена, против которого своевременно была сформирована 9-я армия Фоша, сыгравшая ключевую роль в сражении на Марне. Подобная картина происходила во французской и английской армиях. На тот момент это была общая проблема для всех европейских армий и в русской армии эти проблемы ничем не отличались от того, что происходило на западе. В начале войны как на Западном, так и на Восточном фронте во всех армиях царило невероятное убожество в смысле осведомления и разведки. Кроме того, несмотря на всю подготовку к войне генеральные штабы не могли быстро перестроиться на практику военного времени. В работе штабов частым явлением было замешательство и разнобой. Снабжение наступающих армий представляло собой также огромные трудности. Наступающие все время отрывались от своих баз, их коммуникации растягивались, а атакуемые в решающий момент, подготовленные своими путями сообщений, наносили успешные контрудары по выдохшемуся противнику. Так произошло с немцами на Марне, с австрийцами в Галиции и с русскими в Восточной Пруссии. Это характерное явление для всех армий начала войны совершенно не могло быть и не было признаком особой русской отсталости.
Русским командованием действительно были допущены серьезные ошибки в управлении. Это было связано со стремлением как можно скорее помочь Франции, которая находилась в этот момент на грани катастрофы, поэтому наступление часто происходило в спешке и было не организовано должным образом. Положение усугубило непростительное поведение командующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского, нанесшего оскорбление генералу Самсонову. На высказанные Самсоновым опасения о вероятной концентрации противника на юго-западном направлении, способной создать угрозу левому флангу армии, Жилинский ответил: «Видеть неприятеля там, где его нет, – трусость, а генералу Самсонову трусом я быть не позволю!»[144] Эти слова, после которых Самсонов, потеряв душевное равновесие, двинулся безотлагательно на северо-запад, имели губительные последствия. Армия, двигаясь в неизвестность начала отрываться от своих тылов, происходили перебои со снабжением, солдаты голодали. Но начало похода все же было обнадеживающим. В первом серьезном бою 23–24 августа у Орлау-Франкенау части 15-го корпуса Мартоса разгромили и обратили в бегство 37-ю немецкую дивизию. Русские в этих боях потеряли 2,5 тысячи. Противник лишился 4 тысяч, из которых 2 тысячи пленными и столько же погибшими.
Исходя из документальных источников и воспоминаний немецких генералов о войне на восточном фронте, можно сделать определенный вывод, что в начале сражения 26 августа 14 года Гинденбург действительно предпринял попытку окружить 2-ю армию и устроить ей Канны. Он собирал против нее все войска восточнее Вислы. Против 1-й армии Ренненкампфа он оставил 1,5 дивизии, а против 2-й армии Самсонова сосредоточил 12 дивизий. В штабе его идея была воспринята как авантюрная и рискованная. Но Гинденбург сумел настоять на своем и добиться утверждения своего плана. Было принято решение нанести удар по фланговым корпусам: на правом фланге русской армии атаковать 6-й корпус и отбросить его от Бишофсбурга и на левом фланге атаковать 1-й корпус и заставить его отступить от Зольдау. После этого предпринять окружение 3-х корпусов, находящихся в центре: 23-й, 15-й и 13-й.
Утром 26 августа в 8 часов утра произошел встречный бой частей 6-го корпуса с корпусом Маккензена у Гросс-Бессау и Бишофсбурга, где 4-я пехотная дивизия русских первоначально успешно атаковала противника. Но вскоре немцы, имея численное преимущество, против нее ввели в бой до 7 бригад и к 16:30 выдавили русских с их позиций. Против русского 6-го корпуса наступали 17, 1-й германские корпуса и 6-я ландверная бригада. Под таким натиском русский корпус не удержался и отступил к Ортельсбургу. Эти бои стоили тяжелых потерь 6-му корпусу: до 5356 солдат и офицеров и потерянных 16 орудий, но и противник в этом бою потерял не менее 4 тысяч[145]. Командующий 6-м корпусом Благовещенский приказал начать отступление. В результате этого отхода, образовалась серьезная брешь между центром и правым флангом, благодаря чему немцы смогли угрожать флангу и тылу центральным – 15 и 13 корпусам.
Утром 26 августа германцы наносят также мощные удары по 1-му корпусу левого фланга у Уздау. Наступление на Уздау было предпринято после часовой артиллерийской подготовки, которая однако не подавила русские огневые позиции и ринувшаяся в атаку немецкая пехота, наступавшая густыми цепями попала под шквальный огонь артиллерии 1-го корпуса. Русские пулеметы и винтовки производили жуткие опустошения в рядах немцев. Участник сражения Ю. Ф. Бунинский писал: «Видно было, как по открытии нашими пулеметами огня, немецкие цепи и колонны редели и ложились, а пулеметчикам 6-го пех. Либавского полка удалось отбить атаки немецкой кавалерии на наш правый фланг»[146]. Поражение корпуса Франсуа под Уздау довершила решительная штыковая атака Петровского и Нейшлотского полков, обратившая противника в бегство. Только в полосе 2-й пехотной дивизии 23-го русского корпуса немцы потеряли 1250 человек[147]. Но Артамонов, командующий 1-м корпусом, после одержанной победы вдруг впал в беспричинную панику и отказался преследовать отступающих немцев. Этим воспользовался противник и, получив необходимую передышку, подтянув тяжелую артиллерию, на следующий день, 27 августа обрушил мощный огонь на позиции 1-го корпуса. Правый фланг корпуса, подвергаясь сильнейшему артобстрелу, нес тяжелые потери и стал подаваться назад, но на левом фланге дела шли прекрасно, 22-я пехотная дивизия Душкевича с большим успехом атаковала во фланг 2-ю германскую дивизию. Дело было отнюдь не проиграно, и положение можно было переломить в свою пользу, но удачное наступление Душкевича было прервано приказом ген. Артомонова об отходе. Он приказал оставить Уздау и отступить на Сольдау. Отход 1-го корпуса за Сольдау, совершенно обнажил левый фланг ядра 2-й армии. В результате этого поспешного отхода 2-я пехотная дивизия 23-го корпуса, наступавшая правее 1-го корпуса и ничего не зная о его поспешном отходе, оказалась совершенно не прекрытой с левого фланга. Она попала в западню, подверглась ударам с флангов и тыла и была разгромлена у Гросс Гардинена, едва сумев спастись от полного уничтожения.
Из-за этой неудачи 23-й корпус Кондратовича вынужден был отойти частью своих сил к Нейденбургу. Командующий 20-м германским корпусом генерал Франсуа, заняв Уздау, долго не мог поверить, что русские отступают, но впоследствии понял – дорога на Нейденбург в тыл русской армии открыта.
В это же время 27 августа в центре 15-му корпусу Мартоса сопутствовал успех. После мощного артогня в 10.30 русская 6-я дивизия перешла в атаку. Подобно вихрю, русские войска обрушились на поредевшие после удара артиллерии немецкие полки ландвера. Передовые части немцев были сметены, начали беспорядочное отступление, и на плечах отходящих русские ворвались на главные позиции противника. Около 12.30 ландверные полки бросают свои окопы и спасаются бегством на запад. Видя эту картину, начинают сниматься с позиций и отступать немецкие батареи. Нижегородский полк, воспользовавшись этим, врывается в деревню Мюлен и штыковым ударом выбрасывает противника. Одновременно под натиском муромского полка немцы покидают Вальсдорфский лес. Положение немцев становится катастрофическим, и командир 20-го германского корпуса, чтобы остановить прорыв русских и закрыть образовавшуюся брешь срочно снимает выдвинувшуюся на Ваплиц в поддержку 41-й 37-ю пехотную дивизию, предназначенную для выхода в тыл 15-му корпусу. Благодаря этому кое-как удалось приостановить продвижение русских. К вечеру немцы уже сами перешли в контратаку против 2-й бригады 8-й пехотной дивизии и попыталась отбить у русских деревню Дребниц. После ожесточенного боя немцы подожгли деревню и взяли ее штурмом. Бой кипел до поздней ночи. После полуночи русские снова пошли в атаку, и около 2 часов ночи они вновь опрокинули немцев и выбили их из деревни.
В целом по итогам боев 26–27 августа можно сделать вывод о том, что германское командование постигло горькое разочарование – план окружения 2-й армии потерпел провал. Уже на этом этапе Гинденбургу стало ясно, что ни о каких «Каннах» не может быть и речи, и остается попытаться добиться успеха, сузив задачу – окружить 13-й и 15-й русские корпуса в направлении на Алленштайн – Остероде. Однако и эту задачу ему не удалось выполнить в полной мере.
Утро 28 августа не принесло успеха немецкому командованию. Гинденбург наметил удары по 15 и 13 корпусам с 3-х сторон: с севера, с фронта и с юга, где должна была действовать 41 дивизия генерала Зонтага, задача которого состояла в овладении господствующими высотами у деревни Ваплиц, которая к тому моменту была отлично укреплена русскими частями 15-го корпуса. Дивизия выдвинулась ночью, надеясь застать русских врасплох и овладеть ключевыми позициями. Однако существенным недостатком германской тактики тогда было неумение вести бой ночью. Немецкие уставы в отличие от русского, где были подробно расписаны действия войск в ночном бою, вообще не писали об этом. Наступление 41-й дивизии было плохо организовано, отсутствовало взаимодействие пехоты и артиллерии, и как следствие, было выявлено русскими заставами. И на изготовившиеся к штурму войска обрушился огонь русской артиллерии. Так этот бой описывает официальная история 59-го германского пехотного полка:
«Полк в тумане разворачивается и командир полка в 4.15 час. отдает приказ всем батальонам атаковать высоты на сев. берегу Маранзы, между озером и д. Ваплиц. Их встречает ураган гранат и пуль. Командир полк. Зонтаг, не имея резерва, пытается личным примером поднять полк в атаку. Но, потеряв уже сотнями убитых и раненых, полк не в состоянии перейти речку под этим адским огнем. Части 2-го батальона не выдерживают и начинают отходить, направляясь к Адамсгейде. Правее 2-го батальона, против моста, по обе стороны шоссе лежат в ужасном огне остатки 3-го батальона, а правее их уже ворвавшись на окраину д. Ваплиц лежал пригвожденный к земле 1-й батальон. Потери росли с каждой минутой, и положение становилось катастрофическим… Подходившие резервы попали, в километре к югу от деревни, в такой перекрестный артиллерийский и пулеметный огонь, что о продвижении вперед не могло быть и речи. В несколько минут расстреливаются идущие на выручку батальоны и разбитые, отхлынув назад, покрывают высоты новыми бесчисленными жертвами. Свершается судьба – жестокая и беспощадная!
К 8 час. утра туман окончательно рассеивается и мы впервые увидели нашего врага. На невысоких холмах правого (северного) берега речки Маранзы стали видны двух-ярусные русские позиции. Залпами оттуда бил беспрерывно губительный огонь. С фланга, с высоких холмов с востока русские, с колена и стоя во весь рост, расстреливали нас как мишени. Всюду рвались русские гранаты, но вот пробил и последний час геройской борьбы прусским полкам. К 10 час. утра по всему фронту загремело русское «УРА». С высот восточнее нас, вброд через р. Маранзу, пошли на нас в контратаку русские батальоны. Этим был положен конец сопротивлению. Командир полка п. Зонтаг, умер в плену, найденный русскими тяжело раненым на поле битвы»[148].
Несколько немецких атак были отражены с большими потерями, а немецкая артиллерия вместо того, чтобы поддерживать свою пехоту, не разобравшись в ситуации, приняв ее за наступление русских, ударила по своим полкам, посеяв хаос. Этим воспользовались русские и штыковой атакой довершили разгром 41-й дивизии. Полковник В. Е. Желондковский об этом бое писал: «Батареи открыли огонь. Немецкая пехота все продвигалась к нам. То там, то здесь, между облачками разрывов шрапнели можно было видеть группы стрелков поднимающихся с земли и быстро бегущих вперед… Командир батареи по телефону сообщает, что остатки германской пехоты бежали в лес. Но вот опять команды, снова беглый огонь, снова прицелы уменьшаются, но однако на этот раз не доходят до прежнего минимума. И на этот раз немцы отбиты… командир батареи сзади на наблюдательном пункте сделал несколько шагов в сторону батареи и кричит: «Спасибо за блестящую работу. Атака отбита». Ответ солдат сопровождался громким «ура». Летят в воздух фуражки. Я прошу разрешения подняться на наблюдательный пункт… и через несколько минут смотрю в трубу Цейса. Медленно тают еще клубы дыма от разрывов, постепенно очищая просветы между кустами. А там лежат тела убитых и копошатся, как черви раненые. Сколько можно рассмотреть между кустами их много… Вся опушка леса завалена ранеными немцами, так на глаз их кажется человек 300–400. На самом шоссе собрана группа пленных; подсчитываю кое-как – выходит от 600 до 700 человек… «Ни один не ушел назад» – рассказывает мне офицер. «Начальник их дивизии убит, командир бригады ранен и взят в плен. Одну колонну пленных в 800 человек уже отправили. А это вот уже вторая. Видите сколько раненых здесь, а сколько их еще лежит там на поле, а убитых и не счесть. Кончили бригаду»[149].
В рядах германской дивизии началась паника и повальное бегство, что подтверждают слова офицера 5-й роты 2-го батальона 152-го пехотного полка поручика Шмидта:
«…Но вот со всех сторон раздается русское «ура» – наши роты не выдерживают, и все бросается назад. Остановить людей не было возможности. Командир батальона приказывает мне отступать на д. Зейтен, передовая мне только что полученную ужасную весть о разгроме нашей дивизии на севере у Ваплица. Последующий затем пережитый кошмар я не забуду всю свою жизнь. Задыхаясь, бежим, спасая свою жизнь, рядом падают товарищи, одни остаются лежать, другие, окровавленные шатаясь, подымаются и бегут дальше, чтобы через несколько шагов опять упасть. Отчаяние и муки в глазах у всех. Кругом свистят русские пули нам вдогонку. Вбегаю на высоту, чтобы осмотреться: всюду по полю видны тысячи бегущих, вплоть до озера на севере отходят в беспорядке остатки наших полков… Разбитые, покинутые орудия, части взорвавшихся патронных ящиков, убитые лошади, обозные повозки без колес; вот что значит поражение. Отчаяние и горечь охватывают меня!»[150]
41-я дивизия потеряла 2400 солдат только пленными. Убитыми она лишилась от 2000 до 2500. Русскими было захвачено 13 орудий. Потери русских в этом бою составили 12 офицеров и 514 солдат[151]. Новость о разгроме 41 дивизии повергла в шок Людендорфа и Гинденбурга.
Крушение первоначальной части немецкого плана вследствии этого разгрома положило отпечаток на все действия других немецких дивизий. На центральном направлении в районе Мюлена и Дребница немцы не добились значительных успехов, несмотря на перевес в силах. Под Мюленом после сильной артиллерийской подготовки около полудня немецкие ландверные 5-й и 18-й полки пошли в атаку на 22-й Нижегородский полк. У нижегородцев патроны были уже на исходе, поэтому они вели огонь залпами с наиболее верной для попадания дистанции по густым цепям противника. Но в основном шел яростный штыковой бой, в ходе которого атака была отражена с большими потерями для немцев.
Севернее Мюлена германская бригада Унгера предприняла новую атаку на Дребниц. Здесь пролегал большой лес и бои сторон разбились на короткие, ожесточенные и отдельные друг от друга стычки, но вскоре немецкая атака захлебнулась, когда на нее обрушился огонь 6-й артиллерийской бригады. Немцы продолжали наращивать свои силы у Мюлена и вскоре, получив трехкратное преимущество над русскими, усилили артиллерийский огонь из тяжелых орудий и вновь бросились в атаку на нижегородцев. Нижегородский полк не мог выдержать такого натиска и вынужден был оставить позиции под Мюленом и отойти к Гансгорну, ведя упорные арьергардные бои. У Гансгорна германские 5, 18 ландверные и 147-й полки начали охватывать окопавшихся нижегородцев по флангам, пытаясь прижать их к гансгорнскому озеру. Но несмотря на то, что нижегородцы были крайне измотаны и у них почти не осталось патронов, они оказали ожесточенное сопротивление. В боях между Паульсгутом и гансгорнским озером нижегородцы вырвались из западни, проложив себе дорогу штыками. В дальнейшем этот многострадальный 22-й Нижегородский полк с крайне вымотанными и голодными бойцами, почти без патронов поздно вечером прикрывал отход всей 6-й дивизии на Надрау. При этом нижегородцам удалось взять в плен более 1000 солдат противника.
После полудня немцы не ослабевали натиск на Дребниц, стянув туда тяжелую артиллерию и обрушив ураганный огонь по частям 32-го пехотного полка русских. Мощным ударным кулаком немцы протаранили русские позиции и ворвались в Дребниц. Завязался крайне ожесточенный штыковой бой. Кременчужский полк, несмотря на свирепый натиск противника, стоял как скала и отбросил немцев назад. Тогда германская артиллерия усилила огонь по Дребницу, от которого деревня вновь была объята еще более страшным огнем. На объятых адским пламенем и заваленных до отказа трупами улицах Дребница вновь сошлись в беспощадной рукопашной схватке русские и германские полки. И на этот раз кременчужцы неимоверными усилиями смогли отбросить немцев, но оборонять пылающую деревню уже было совершенно невозможно. Русские полки начали отходить к востоку от Дребница.
Таким образом, германцы после кровавых боев смогли овладеть Мюленом и Дребницем, но большего добиться им не удалось. Кроме того, после отпора, который немцы получили от 15-го корпуса, Гинденбург решил ограничиться следованием за ним по пятам, не предпринимая решительных атак.
Севернее, положение 13-го корпуса было более опасным. На рассвете он подвергся интенсивным атакам у Алленштайна. На город, обороняемый всего лишь одним батальоном дорогобужцев, надвигался целый 1-й германский резервный корпус. В это же время жители города открыли огонь из ружей в спины обороняющимся дорогобужцам. В таких условиях у батальона не было никаких шансов удержать свои позиции, и все, что он мог сделать это задержать немцев на несколько часов, позволив основным силам 13-го корпуса выйти из-под наметившегося удара. Ценой своей гибели батальон эту задачу выполнил.
Дорогобужский полк, находясь в арьергарде 13-го корпуса, как мог, тормозил продвижение противника до темноты, и свою задачу выполнил блестяще. Немецкие силы 1-й резервной дивизии были остановлены у Доротова пулеметным и ружейным огнем и дальше не пытались идти.
С 9-ти часов утра германцы нанесли удар по Гогенштейну, обороняемому 3-м Нарвским и 4-м Копорским полками 13-го корпуса. Первая немецкая атака была выкошена ружейно-пулеметным огнем русских. Как обычно в этих случаях немцы подтянули тяжелую артиллерию и открыли ураганный огонь. На этот раз огонь немецких батарей был настолько ужасен, что Нарвцы и Копорцы, понеся тяжелые потери, не выдержали и начали беспорядочный отход за деревню Сауден и к западной окраине Гогенштейна. Германская артиллерия перенесла огонь на Сауден, зажгла ее, и выкурила пожаром оттуда русских. Во время отхода к городу Нарвский и Копорский полки были охвачены противником с фронта, фланга и тыла. Полки были подвержены мощному перекрестному огню, началась паника, солдаты бросились в беспорядке к Гогенштейну. Немцы начали преследовать и на плечах отступающих русских ворвались в Гогенштейн. Русским полкам грозило полное уничтожение, однако положение было спасено, благодаря подвигу поручика А. Ф. Фотинского. Он командовал полуротой (около 80-100 человек) 2-й роты 15-го саперного батальона и выполнял работы по подготовке города к обороне. В течение всего боя он наблюдал за меняющейся обстановкой, находясь на верхних ярусах кирхи и ратуши. Он своевременно предупредил полки об обходном фланговом маневре немцев. Когда началась паника, и русские беспорядочно побежали в город преследуемые немцами, он приказал поднять на здании кирхи, которая была превосходной огневой позицией, два пулемета. Едва немцы ворвались в город, по ним был открыт бешеный пулеметный огонь, которым буквально смело первую волну немцев. Вторая волна остановилась и залегла перед городом. В этом момент русские получили драгоценную передышку, сумели оправиться от полученного удара, перестроиться и встретить врага. Немцы все же прорывались с разных сторон в город, и на улицах Гогенштейна начался яростный штыковой бой. В это время поручик Фотинский косил десятками солдат противника пулеметным огнем, поддерживая своих бойцов до того момента, пока патроны полностью не иссякли. Но главное было сделано – противнику не удалось окружить и уничтожить русские полки. К тому же у самих немцев началась неразбериха в управлении огнем артиллерии, и они по ошибке накрыли мощным огнем свои же части, заходящие русским в тыл. Поручик Фотинский был ранен в руку, но вышел из города в арьергарде своей полуроты вслед за Нарвским и Копорским полками. Так были спасены и вырвались из западни два русских полка, благодаря прочно забытому впоследствии подвигу поручика Анатолия Флавиановича Фотинского.
* * *
Обе стороны в боях за Гогенштейн понесли тяжелые потери: русские лишились 3300 солдат и офицеров[152], противник около 3500–3700. Описание этих боев позволяет развеять прочно укрепившийся миф о том, что все это сражение было непрекращающимся избиением 2-й армии, в котором русские потеряли в 5 или чуть ли не в 10 раз больше своего противника. Судя по описанию боев, можно сделать вывод, что эти фантазии не имеют отношения к реальности. Скорее напрашивается другой вывод – в начале сражения немецкие войска, атакуя русские позиции, пострадали гораздо серьезнее русских.
Перелом в сражении в пользу немцев стал намечаться после полудня 28 августа. И заслуги немецкого командования в этом нет никакой. Самсонов, волею случая и из-за неудачного стечения обстоятельств, совершенно не подготовленный, оказался во главе 2-й армии, И оказавшись во главе ее, совершил несколько непростительных ошибок. 28 августа, прибыв в корпус Мартоса, и увидев, что боеприпасы и продовольствие на исходе, а противник превосходит силой, отдал приказ об отступлении, что было вполне разумно в данной ситуации. Но своими распоряжениями он дезорганизовал управление армией, оно происходило настолько сумбурно, что из его «скользящего плана» ничего не вышло. Мартоса, командующего 15-м корпусом, он отправил к Нейденбургу, куда предполагалось отступать, выбрав предварительно подходящую позицию. По плану предполагалось сначала эвакуировать тылы и обозы, затем корпуса, находящиеся на северном фланге. Лучший корпус был обезглавлен, регулировать его движение было некому. Одни части получили приказ, другие – нет, войска при отходе перемешались, управление ими было утеряно, и все пошло кое как.
Генерал-адъютант Пантелеев в своем докладе о причинах поражения 2-й армии говорит: «… личное присутствие ген. Самсонова в боевой линии 15-го корпуса для действий этого корпуса значения не имело, тогда как отсутствие связи во 2-й армии привело к тому, что все последующие события прошли уже без всякого руководства со стороны штаба армии и без всякой возможности объединения действий корпусов этой армии. Самый отъезд ген. Самсонова из Нейденбурга к 15-му корпусу явился совершенно несоответственным, т. к. с его отъездом из Нейденбурга управление войсками 2-й армии стало совершенно невозможно»[153].
При этом Самсонов непонятным образом упустил из виду маневр корпуса Франсуа, который угрожающе нависал над левым флангом 2-й армии. Вместо того, чтобы ехать в 15-й корпус, где дела шли вполне нормально, он должен был бы выдвинуться на левый фланг, где скопилась треть его сил, и навести порядок в 1-м корпусе. Но Самсонов выбрал наихудшее решение из всех возможных. В это время Франсуа восстановил порядок в своих войсках. Одну дивизию он отправил в центр, под Мюлен, где стоял насмерть Кексгольмский полк, который остановил ее. Главные же силы Франсуа сконцентрировал в районе Сольдау, куда он вскоре обрушился всей своей мощью. Обороняющиеся русские силы, несмотря на отчаянное сопротивление, были выбиты из Сольдау превосходящими частями германского корпуса. После этого Франсуа получил возможность совершить стремительный рейд летучими отрядами на плохо защищенный русский тыл в Нейденбурге. Отряд Шметтау смял остатки 2-й бригады 2-й пехотной дивизии, занимавшей город, немцы оттеснили слабые заслоны кексгольмцев и прорвалась к Нейденбургу.
Город был набит русскими и немецкими ранеными и множеством обозов 15-го корпуса. Это и был наибольший успех немцев в течении всего 28 августа. На остальных участках сражения продвижение немцев было весьма незначительным и стоило им тяжелых потерь. После захвата Нейденбурга немецкой армии удалось совершить глубокий охват с левого фланга центральных 15 и 13-го корпусов. Над ними нависла в виде клешни 20-го корпуса угроза окружения и гибели. Но все же окружения русских корпусов в течение 28 августа не произошло. А происходило по всему фронту беспорядочное, сражение, где обе стороны теряли управление войсками и не могли должным образом правильно оценить обстановку.
Гинденбург в своих воспоминаниях говорит, что сражение разбилось на ряд «изолированных боев». Такая оценка вполне соответствует истине. Напрасно искать в этих боях проявление какого-то плана. И то, и другое командование неоднократно выпускало из рук управление войсками. Германский штаб отдавал приказы, которые часто не исполнялись, отдельные командиры действовали по собственной инициативе. В течение первой половины дня командование 8-й немецкой армии потеряло связь с 17-м корпусом и даже не имело представления, где он находится. Это говорит о том, что никакой превосходной организации и отлаженного механизма в немецкой военной машине не было, как не было и превосходно продуманного и исполненного плана окружения русских войск. В этом сознается и сам Гинденбург: «Нервировало и то, что другую дивизию 20-го армейского корпуса – 37-ю пехотную – в это утро не могли нигде найти, она исчезла бесследно. Штаб армии был бессильным зрителем происходящего»[154]. 26–28 августа происходило сумбурное давление германцев на центр и фланги 2-й армии, заставившее ее отступить на несколько километров, но не закончившееся прорывом ее позиций. В этот момент Гинденбург после понесенных тяжелых потерь его армией уже отказался от плана окружения и докладывал в ставку: «Сражение выиграно, преследование завтра возобновится. Окружение северных корпусов, возможно, более не удастся»[155]. Он решает ограничиться лишь преследованием отходящей 2-й армии.
Но для организации преследования необходимо было навести порядок в собственных частях, что было крайне непростой задачей, т. к. немецкое командование все еще не знало, где находится 37-я дивизия. Она в это время блуждала в лесах, в окрестностях Гогенштейна и Надрау. В ночь с 28 на 29 августа Каширский полк 13 корпуса, отступая, организовывал засады, обрушивая внезапный огонь на противника из укрытий. Участник боев Каширского полка, оставленного в арьергарде, рассказывает: «Около 5–6 утра из леса вышла большая немецкая колонна. Колонна шла без охранения. Это была 37-я пех. дивизия. Когда голова колонны подошла шагов на 600–800, по ней был открыт ураганный картечный, пулеметный и ружейный огонь, доведенный до стрельбы почти в упор. Немцы не выдержали и обратились в бегство, оставив на поле груды убитых и раненых. Через час то же повторилось с колонной, вышедшей из леса северо-западнее (дивизия ген. Гольца). После этого наступление затихло до 11 часов»[156]. Этот частный успех вдохнул новые силы в измотанные до предела и голодные войска, не получавшие хлеба уже вторые сутки. Отход корпуса продолжался более организованно.
Но в это время, в ночь с 28 на 29 августа генерал Мартос со штабом 15 корпуса, направляясь в Нейденбург и не зная, что он уже в руках немцев, нарвался на войска противника. Его штаб был расстрелян из пулеметов, а сам он был захвачен в плен. Это событие имело крайне пагубные последствия для отступающих войск. Армия не просто лишилась самого доблестного и профессионального командующего корпусом, это был тяжелый психологический удар для всей армии. Когда утром 29 августа слухи о гибели или пленении Мартоса стали распространяться в войсках, многие пали духом – сопротивление им казалось бессмысленным. Руководить всем отходом 15, 13 и частей 23-го корпусов было возложено на Клюева, который хоть и был вполне способным командующим, но ему явно не хватало твердости и опыта, которые были у Мартоса.
Между тем, утром 29 августа немцы начали преследование и давление с неослабевающей силой на отходящие русские войска. Отступление 2-й армии сопровождалось ожесточенными арьергардными боями. За 15-м корпусом немцы шли по пятам, но опасались его решительно атаковать после полученного отпора в предыдущих боях. 13-й же корпус подвергся мощным атакам. На 143-й Дорогобужский полк, находившийся в арьергарде корпуса, обрушился чудовищный по своей силе огонь немецкой артиллерии. Под ее прикрытием немцы выдвинули на близкую дистанцию свои пулеметы и начали беспощадно косить дорогобужцев. Доблестный полковник Кабанов, бывший для дорогобужцев высшим авторитетом к тому моменту погиб. Командир 13-го корпуса Клюев писал: «Прикрывавший тыл 143-й пехотный Дорогобужский полк во главе с доблестным командиром полка, полковником Кабановым, имел славный бой с немецкой бригадой в 10 верстах к югу от Алленштайна. Целый день сдерживал он атаки немцев, три раза отбрасывая их штыками. Командир полка был убит, и остатки полка присоединились к корпусу лишь к ночи. На месте боя было похоронено 600 немцев, как значится на надгробном памятнике». Полк был отрезан от своих отступающих частей. Оставшиеся в живых офицеры понимали, что под таким смертоносным огнем они долго не продержатся, было принято решение прорываться на восток. Перед атакой они срезали с древка полотнище знамени своего полка. Неся в первых рядах тело своего погибшего командира, подобно знамени, остатки Дорогобужского полка бросились в свою последнюю атаку. Так описывает этот эпизод Богданович:
«Жутко-торжественное зрелище представляли собою ожесточенные атаки остатков этого несравненного батальона, шедшего в последние схватки в сопровождении полковой святыни – знамени и тела убитого командира – полковника Кабанова. Как будто из глубины веков вошел в этот день нашего, чуждого мистики XX столетия, забытый доисторический ритуал, когда воины шли в заключительный смертный бой, неся труп своего убитого вождя. Полковник Кабанов был мертв телом, принимавшим еще новые и новые посмертные раны, но неукротимый грозный дух его был жив, как никогда в его соратниках. После его физической, материальной смерти тела бессмертный дух командира целиком охватил Дорогобужцев»[157].
Те из дорогобужцев, кто уцелел под огнем 36-й немецкой дивизии и прорвался в первую линию противника, все полегли в отчаянной рукопашной схватке. Но две роты дорогобужцев, которые были прижаты со всех сторон к Вульпингскому озеру в районе Доротово, еще продолжали яростное сопротивление, казавшееся совершенно безнадежным, однако никто в плен не сдавался. Эти роты таяли с каждой минутой, но отбивались с отчаянием обреченных, нанося противнику не меньший урон. Бои происходили на топком берегу озера, заросшем густым камышом. В центре озера было несколько десятков островков, куда на лодках под артиллерийским и пулеметным огнем пытались добраться русские солдаты. Удалось это сделать лишь нескольким десяткам, которые через несколько дней были обнаружены немцами в совершенно изможденном от голода и бессознательном состоянии. Еще два десятка солдат и офицеров, не пожелав сдаваться, все же смогли переправиться вплавь на другой берег озера. Все остальные 500 бойцов 143-го Дорогобужского полка приняли геройскую смерть на берегу Вульпингского озера.
Этот эпизод сражения впоследствии оброс легендами, и основная рассказывала о том, что почти вся 2-я армия была истреблена и потоплена в болотах Восточной Пруссии благодаря гениальному немецкому командованию.
С полудня 37-я немецкая пехотная дивизия с запада и 1-я ландверная с северо-запада атаковали хвосты и обозы 13-го корпуса. Но на их пути встал арьергард из 144-го Каширского полка под командованием Каховского. Ему на некоторое время удалось остановить прорыв противника – в полной неразберихе две немецкие дивизии по ошибке поливали огнем друг друга. В это время Каширский полк удачно контратаковал 1-ю ландверную дивизию, она понесла большие потери. Части ландвера уже собирались отступать, когда немцы наконец разобрались и перенесли огонь орудий на Каширский полк. Как рассказывает участник боя: «Огонь был чрезвычайно сильный, стреляло не менее 100–150 орудий. Издали казалось, что каширцы вместе с землей приподняты в воздух. Спастись удалось немногим…»[158]. В этот момент Каховский приказал играть и бить «атаку» и с развернутым знаменем в руках первый бросился на врага. Каширцы с громовым «ура» обрушились на противника. Но силы были неравные. Последовал короткий, но жестокий штыковой бой, в котором геройски погиб полковник Каховский, а 144-й Каширский полк закончил свое существование. Не удалось установить, что стало со знаменем полка, но точно известно, что ни полотнище, ни древко германцам не досталось.
Немцы предприняли попытку отрезать и уничтожить 13-й корпус на перешейке у деревни Шведрих. После полудня они начали штурм перешейка, но русские арьергарды, несмотря на тяжелые потери все же держались из последних сил и даже переходили в атаку, вновь и вновь с отчаянной решимостью отбрасывая противника. Большая часть арьергарда погибла, не успев переправиться через горевшие мосты, но к этому времени ядро 13-го корпуса уже успело переправиться и пройти через объятый пламенем Шведрих. Немцы также понесли тяжелые потери.
К вечеру 29 августа кольцо вокруг центральных 15, 13-го и половины 23 корпусов все более сужалось, но оно еще не было замкнуто, оставалось немало коридоров в юго-восточном и восточном направлениях, которые немцы не успевали полностью перекрыть, несмотря на лихорадочные попытки покончить как можно скорее с Самсоновым, чтобы развернуться против шедшего ему на помощь Ренненкампфу. Германские заслоны еще были недостаточно сильны, чтобы остановить отступающие русские части. Но в то же время из-за отсутствия общего руководства, людьми начинает овладевать мысль о безнадежности своего положения. Однако эти настроения, несмотря на всю неимоверную тяжесть отступления, еще не стали преобладающими, и прорыв из окружения продолжается в ночь с 29 на 30 августа.
В районе Кальтенборна ночью 30 августа части 13-го корпуса наткнулись на немецкий заслон, освещавший дорогу прожектором и расстреливавший выходивших из леса русских солдат. Клюев принял решение пробиваться во что бы то ни стало. На острие прорыва выдвинули самую стойкую часть – 31-й Алексопольский полк во главе с решительным и неутомимым полковником Лебедевым. Капитан 13-го корпуса записывал: «По частному почину бывших здесь офицеров выкатили 2 орудия на шоссе, 2 других поставили на соседнюю просеку, рассыпали по обеим сторонам шоссе пехоту, затем подняли, и когда вновь заблистал прожектор, встретили его ураганным огнем, а затем дружно перешли в атаку. Немцы поспешно бежали, оставив раненых и убитых. Пулеметы и орудия успели увезти. Путь был свободен»[159].
Успешный прорыв из окружения совершил и подполковник Сухачевский. Он быстро дошел до Саддека, затем повернул на Пухаловен, где молниеносным ударом смял заслон немцев и ночью 30 августа вышел к своим в районе Прасныша, куда «привел 15 офицеров, 1250 солдат и 14 пулеметов со знаменем своего 31-го полка»[160].
А в это же время Самсонов, будучи тежело больным, находясь в крайне подавленном состоянии и не желая быть обузой для отступавших с ним по лесу офицеров штаба, застрелился…
Днем 30 августа немцы замкнули кольцо окружения, однако оно еще не было достаточно плотным и возможности для прорыва на отдельных участках оставались. Но в условиях потери командования, голода и крайнего измождения тащившихся из последних сил солдат, четверо суток не выходивших из боев, боевого духа уже не оставалось. Люди теряли последние силы.
Остатки корпуса Мартоса, полностью дезорганизованные, рассеялись и пробивались самостоятельно, кто как мог. Генерал Клюев кое-как наладил отход тремя колоннами своего 13-го корпуса, но в ожесточенных боях 30 августа у Валендорфа они стремительно таяли. К отходящим частям Клюева примыкали остатки корпуса Мартоса и продолжали отход в невероятно тяжелых условиях. Леса изобиловали просеками и мелкими речушками, где немцы устраивали засеки и заслоны с пулеметами и артиллерией. Каждый такой заслон приходилось пробивать, тратя время, силы, неся большие потери. И все же германские заслоны были сбиты и правая колонна, совершив стремительный бросок, пробилась из окружения, опрокинув германцев.
Центральная колонна во главе с Клюевым, сбив почти все заслоны и почти выйдя из окружения, сдалась в составе 20000 солдат, когда спасение было так близко[161]. Генералу Клюеву не хватило твердости духа, чтобы совершить последний рывок…
Левая колонна во главе с командиром Невского пехотного полка Первушином, увидев, что путь у Валендорфа прегражден и все просеки у поляны перекрыты пулеметами и артиллерией противника, испытывая желание несмотря ни на что прорваться, бросилась в отчаянную штыковую атаку. «Прорыв был настолько силен и неожидан для неприятеля, что немецкая бригада здесь не выдержала и, бросив орудия и пулеметы, бежала. Около 20-ти орудий, некоторые с полной запряжкой и большое количество пулеметов достались в руки атакующих»[162].
Но дальше продвинуться у нее не было никаких шансов, и здесь русские войска предпочли смерть плену. Полностью окруженные частями немецкого 17 корпуса, они бились с невиданным ожесточением, дорого отдавая свои жизни, пока не легли все до одного, сраженные немецким огнем и переколотые штыками, повторив тем самым подвиг дружины Евпатия Коловрата.
31 августа отдельные группы бойцов продолжали еще просачиваться и пробиваться, кто как может, и некоторым это удавалось. Командир 141-го пехотного Можайского полка, штабс-капитан Семячкин с остатками своего полка пробил заслоны 17-го германского корпуса и вышел из окружения после 6-ти дневных непрерывных боев, принеся замки 2-х германских пушек[163].
Из вышеописанных событий несложно сделать вывод: центральные корпуса 2-й армии попали в окружение вовсе не благодаря германскому военному искусству, а потому что Самсонов в период с 28 по 29 августа утратил управление и дезорганизовал планомерный намеченный отход войск. До начала этого хаотичного отступления все атаки германцев, несмотря на их перевес в силах, уверенно отражались с тяжелыми для них потерями.
Уже в самом начале сражения Гинденбургу пришлось отказаться от «идеи Канн» для 2-й армии.
Но виновниками поражения были также и командующие фланговыми корпусами Артамонов и Благовещенский, которые своими внезапными отходами образовали бреши в линии фронта и оголили фланги центральных корпусов, не сообщив об этом центральным корпусам, поставив их в исключительно тяжелое положение, из-за чего и стало возможным их окружение. Но окружить всю 2-ю армию немецкому командованию так и не удалось.
Германская пропагандистская машина триумфально трубила о «Каннах» XX века и полном сокрушении 2-й армии. После того как к русским пленным прибавили освобожденных немецких, ранее захваченных русскими и гражданских лиц, бывших при 2-й армии, общее число пленных составило, как говорилось сначала 70, а потом 90 тысяч и 350 захваченных орудий. Но в дальнейшем и этого германской пропаганде показалось мало, и она объявила о 160 тысячах потерь 2-й армии, из которых 130 тысяч пленными и 30 тысяч убитыми и 600 захваченных орудий. Получается, что немцы пленили и уничтожили больше, чем было солдат во всей 2-й армии, что, разумеется, совершенно невозможно, т. к. вся 2-я армия насчитывала, как уже было сказано, не более 125 тысяч человек. Из 5 корпусов 2-й армии в окружение попали 2: 15-й Мартоса, 13-й Клюева и некоторая часть 23-го корпуса Кондратовича. Остальные: 1-й, 6-й и большая часть 23-го корпуса с арьергардными боями отступили на русскую территорию. Численность 15 и 13 корпусов, 5 дивизий далеко не полностью укомплектованных никак не превышала 80 тысяч. Но из этой группировки часть раненых солдат была эвакуирована в тыл перед окружением. В само окружение, таким образом, попало до 70 тысяч человек. Из них некоторым удалось вырваться: до 10,5 тысяч из состава 15 и 13-го корпусов и 3 тысяч из состава 23-го корпуса[164]. Еще не менее 10 тысяч просочились из окружения после 31 августа. Всего смогли вырваться из «котла» около 23–24 тысяч солдат. Таким образом, число тех, кто был пленен и погиб в окружении, можно определить в пределах 46–47 тысяч.
Это совпадает с данными офицера штаба 2-й армии Богдановича, который был свидетелем многих боев центральных корпусов и хорошо знаком с документами армии. Он называет цифру потерь центральных корпусов в окружении – 47000 человек[165]. Из них 27 тысяч – убитые и раненые, захваченные на поле боя, большинство из которых умерло из-за отсутствия медицинской помощи. Еще 20 тысяч – это сдавшиеся в плен, половина из которых не строевые или второразрядные части. Фланговые корпуса 6-й и 1-й потеряли до 13 тысяч[166]. Прибавив к этому потери центральных корпусов – 47 тысяч мы получим число потерь 2-й армии за всю Восточно-Прусскую операцию в 60 тысяч солдат и офицеров. Как видим, эта цифра далека от пропагандистских. Потери орудий за всю операцию – 304, из которых 52 было выведено из строя[167]. Эти 304 орудия представляли половину всей артиллерии 2-й армии. В течение всего сражения ни одно русское знамя не было захвачено противником.
Что касается потерь противника, то можно сказать определенно – победа германцам досталась отнюдь не «малой кровью».
Официальная цифра Германского штаба в 13 тысяч потерь, судя по неоднократным случаям их занижения, не могут вызывать никакого доверия. Богданович приводит следующие данные германских потерь: «против 2-й пех. дивизии и лейб-гвардии Кексгольмского полка – 6000, против 13-го армейского корпуса – 17000, 16/29,17/30 и 18/31 августа – 10000; всего против центральной группы русских корпусов – около 34000 человек». Все это говорит о том, что результаты сражения под Танненбергом весьма сильно преувеличены в германской литературе.
Да, несомненно, 2-я армия потерпела серьезное поражение и отступила на российскую территорию с тяжелыми потерями, лишившись примерно от 45 до 50 % своего состава. Потери 2-й армии были велики, но с каких пор потеря 50 % армии является признаком ее «полного уничтожения»? Поэтому ни о каком уничтожении 2-й армии не может быть и речи. Доказательство? Уже через неделю после Танненберга 2-я армия под руководством Шейдемана быстро восстановила свои силы и вела активные боевые действия, чего разумеется никак нельзя было бы сделать с «полностью уничтоженной» армией. В действительности это поражение быстро затмила грандиозная победа в гораздо более крупном сражении в Галиции, где было взято в плен свыше 100000 австрийцев. Разумеется, никакой агонии и разложения русской армии после Танненберга не последовало. Это было поражение на отдельном, частном театре войны и потому не могло иметь таких катастрофических последствий, какие ему приписывают.
В Первой Мировой войне были примеры гораздо более тяжелых поражений, к примеру в катастрофе при Капоретто осенью 1917 года итальянская армия потеряло гораздо больше солдат и артиллерии (3152 орудия из 7138), при этом она, опираясь на техническую помощь союзников, успешно держалась до конца войны. Думаю, нельзя согласиться и с историком Керсновским, который полагает, что это поражение «наложило отпечаток подавленности, растерянности, уныния заранее побежденных…»[168]. Русская армия быстро отошла от этого психологического удара и смогла взять реванш в Варшавско-Ивангородском и Лодзинском сражениях, которые по своим масштабам значительно превосходили Танненберг. В то время как германскому командованию больше никогда не удастся в течении всей войны повторить успех по окружению таких сил русской армии как в Восточной Пруссии в 1914 года.
Но почему в таком случае именно победа в Восточной Пруссии была так сильно раздута немецкой пропагандой? Думаю, потому, что эта частная тактическая победа на отдельном участке фронта обернулась, как уже было сказано, громадным стратегическим поражением Германии, повлиявшим на весь ход Первой Мировой войны. Спасение Франции от разгрома в 14-м произошло именно благодаря русскому вторжению в Восточную Пруссию. Впоследствии как немцы, так и наши бывшие союзники попытались исказить, затушевать и оспорить этот факт. Союзникам по Антанте хотелось показать себя самостоятельными творцами победы на Марне, без причастности России. Сегодя и в России находятся псевдоисторики, которые заявляют, что наступление русских армий в 1914 г. в Восточной Пруссии никак не повлияло на победу на Марне. Все они пытаются не вспоминать крайне неудобные слова маршала Фоша, командующего 9-й французской армией, решившей исход битвы на Марне: «…Мы не можем забыть о наших союзниках на Восточном фронте, о русской армии, которая своим активным вмешательством отвлекла на себя значительную часть сил противника и тем позволила нам одержать победу на Марне»[169].
Богданович высказал мнение, что Первая Мировая война была выиграна уже осенью 1914 года в Восточной Пруссии союзниками только исключительно благодаря этой операции: «… Неудача же немцев на Марне предрешила их конечное поражение. Все, что немцы ни делали после Марны, все их блестящие тактические успехи на всех театрах войны, все нечеловеческое напряжение, которое проявил немецкий народ, и его достойный подражания героизм – все это было лишь мощными, но мало действенными ударами. Для немцев каждый месяц, каждая неделя была на счету, для союзников каждый лишний год был нарастанием новых сил. У первых все расчеты были на молниеносную войну, у вторых – все надежды на измор противника. И в деле переключения войны с молниеносной на затяжную, решающую роль сыграл русский удар по восточной Пруссии»[170].
Танненберг должен был также завуалировать крушение всех надежд Германии на молниеносную победу. В дальнейшем этот миф стал обрастать новыми легендами, где одни факты замалчивались, другие неумеренно приукрашивались, рождались невероятные вымыслы о сверх способностях немецких генералов и о том, как они при помощи гениального маневра утопили и истребили десятки тысяч русских солдат в болотах Восточной Пруссии. Затем добавлялись новые фантазии о том, как 2-я армия была окружена и уничтожена одним лишь немецким ополчением.
Все эти легенды получили широкое хождение среди российской общественности в период войны и, как это часто бывает, они преувеличивались, дополнялись новыми слухами о «невиданной катастрофе». Все это делалось как левой, так и либеральной общественностью для того, чтобы показать всю бездарность и гнилость царского режима и его неспособность вести войну. Что будто бы эти провалы на фронте привели в дальнейшем к революции, крушению царизма и поражению России в войне. Так считала либеральная эмиграция, которая задним числом стремилась оправдать себя перед судом истории за развал страны и армии при Временном Правительстве, заявляя, что война к тому моменту уже была проиграна царизмом. И эта пропаганда имела успех. Полный разгром и уничтожение 2-й армии считается сейчас непреложной истиной. На самом деле эти вымыслы никакого отношения к реальности не имеют.
Сейчас, накануне 100-летия этого сражения крайне важно не только разоблачить мифы, связанные с этим событием, но и восстановить историческую память о подвиге солдат 2-й армии. Последующие тяжелые битвы Мировой войны, революция, кровавый хаос гражданской войны, тяжести эмиграции – все это неизбежно заслонило в глазах современников и участников этих событий сражение в Восточной Пруссии в августе 1914 года. Как погибшие, так и выжившие солдаты многострадальной армии были преданы забвению. Они, в истинном смысле этого слова, обратились в «неизвестных солдат». Но нам необходимо вернуть их из забвения и помнить, что их подвиг и самопожертвование во многом решили участь всей Первой Мировой войны.
* * *
Мы приводим две главы, посвященные Первой мировой войне, из книги воспоминаний ротмистра Владимира Литтауэра, честно и искренне рассказавшего о годах учебы в Николаевском кавалеристском училище, о службе в русской императорской кавалерии, о том, как он воевал в Первую мировую и в Гражданскую против красных, о горечи эмиграции.
Владимир Литтауэр Боевое крещение Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии
Небольшой городок Сувалки, расположенный примерно в девятнадцати километрах от границы с Восточной Пруссией, являлся пунктом расквартирования двух кавалерийских полков. Когда 6 августа 1-я кавалерийская дивизия в полном составе собралась в городе, эти два кавалерийских полка уже ушли к границе. Их казармы пустовали, поэтому шесть дней наш полк жил в прекрасных условиях. В городе был первоклассный ресторан, и за эти дни мы, молодые офицеры, не обошли его своим вниманием. Не было ничего удивительного в том, что в маленьком городе был великолепный ресторан, ведь здесь стояли кавалерийские полки.
9 августа командир дивизии генерал Гурко отдал приказ: четыре эскадрона, по одному из четырех полков, должны пересечь границу и провести разведку по четырем направлениям. Кроме того, генерал очень рассчитывал, что разведчикам удастся взорвать участки железной дороги между немецкими городами Маркграбово и Гольдап. Командиры эскадронов, посовещавшись, решили, что основной задачей является повреждение железнодорожных путей. Понимая, что железная дорога тщательно охраняется, они, не подчинившись приказу командира дивизии, решили идти вместе, четырьмя эскадронами. В результате, столкнувшись с мощным сопротивлением противника, они вернулись, не выполнив ни одной из поставленных перед ними задач. За неподчинение приказу Гурко лишил офицерских званий командиров трех эскадронов. Не подвергся наказанию только командир 4-го эскадрона сумских гусар ротмистр Лазарев, поскольку он пошел по указанному в приказе маршруту, а остальные присоединились к нему. Вот с такого неприятного инцидента началась для нашей дивизии война.
На Лазарева было страшно смотреть; он был потрясен решением Гурко и сильно переживал за командиров эскадронов. Когда спустя три дня Лазарев погиб, мы решили, что его смерть в какой-то мере связана с тем нервным состоянием, в котором он пребывал после решения Гурко. Возможно, он решил показать командиру дивизии, чего стоит как офицер.
С 10 августа эскадроны нашей дивизии начали по очереди приступать к охране границы. Через два дня наступила наша очередь, и мы направились в деревню Бакаларжево. Проходившая через деревню дорога пересекала границу у холма, на котором стояла деревня. В месте пересечения дороги у границы, извилистого узкого рва, стояли заградительные барьеры и опустевшие помещения русской и немецкой пограничных застав. В траве валялись пограничные столбы, увенчанные немецким орлом; по всей видимости, русские разведчики уже были на территории Восточной Пруссии. По ту сторону границы, в опрятных немецких деревушках, не наблюдалось признаков жизни.
Ротмистр Меньшиков приказал поручику взять двенадцать солдат, перейти границу и выяснить, нет ли поблизости немецких частей. Поручик Снежков и я попросили разрешения пойти с разведчиками; сейчас для нас все было внове, и мы рвались в бой. Нам и в голову не приходило, что существует вероятность нарваться на вражескую засаду и погибнуть. Мы еще в полной мере не осознали, что война уже является абсолютной реальностью. Нам казалось, что наконец-то начинаются настоящие приключения. Мы были словно дети, играющие в прятки, но уверенные, что их в конце концов найдут. Мы передвигались с осторожностью, словно преследуя добычу, готовые при малейшем шуме выхватить шашки и револьверы.
Вскоре наши романтические иллюзии развеялись. Углубившись на 500 метров в глубь чужой страны, мы встретили русского солдата-пехотинца, беззаботно возвращавшегося на нашу территорию с украденными в немецкой деревне гусями. Эта картина вернула нас к действительности, и, быстро проскакав несколько деревень и не встретив ни одного немецкого отряда, мы вернулись в эскадрон.
Поздно вечером в эскадрон был доставлен запечатанный конверт, который следовало вскрыть в полночь. В нем содержался приказ относительно нашего завтрашнего участия в переходе границы. Из приказа мы поняли только одно: переходим в наступление; нам не сообщили, что это будет разведка боем, после чего мы должны вернуться на свою территорию, в Россию. Только позже нам стали известны планы Гурко. Он хотел попытаться захватить Маркграбово, немецкий город, находившийся примерно в десяти километрах от нашей деревни, просто чтобы понять, насколько сильное сопротивление окажут немцы. Эта была просто широкомасштабная разведывательная операция. В этой операции участвовала наша дивизия, в полном составе, и стрелковый полк. На границе в полной боевой готовности постоянно находились стрелковые и кавалерийские полки. В этом смысле у них было преимущество перед пехотными полками, которым требовалось время для того, чтобы перебросить сформированные из резервистов полки, практически вдвое увеличив их численность.
Наш эскадрон и два стрелковых взвода получили приказ защищать левый фланг наших войск, которые должны были перейти в наступление на широком фронте. Мы не должны были принимать непосредственное участие в наступлении на Маркграбово. Операция началась затемно. Гусары вскочили в седло, и ротмистр Меньшиков, занявший свое обычное место впереди эскадрона, осенил себя крестным знамением. Я никогда не был особенно религиозен и не привык креститься, но, оглянувшись вокруг и отметив, что все перекрестились, решил сделать то же самое.
Больше часа мы двигались в темноте; стрелки опережали нас метров на триста. Мы двигались колонной по узкой грязной дороге, в то время как пехота шла развернутым строем по полю. Время от времени пехотинцы останавливались, тревожно прислушиваясь, а затем продолжали двигаться вперед. В процессе наступления им удалось уничтожить небольшой немецкий пехотный отряд. Вместо привычных команд, раздавались условные сигналы – птичьи крики, странно звучавшие в ночной тишине. Действие стрелковых взводов вызвало такое уважение со стороны наших солдат, что, когда мы повернули налево, отделяясь от наших стрелков, некоторые гусары тревожным шепотом спрашивали:
– Мы делаем это ради их пользы? Потом мы опять объединимся с ними?
На рассвете нас обстреляло немецкое подразделение. Меньшиков приказал моему взводу спешиться и выбить немцев с занятой позиции. Я принял решение сделать небольшой крюк, чтобы пройти через рощу. Немцы, вероятно, заметили, как мы вошли в рощу, и, хотя не видели нас, принялись обстреливать вслепую. Воздух наполнился какими-то свистящими и чмокающими звуками. Я еще никогда не попадал под обстрел и не был знаком с этими звуками.
– Что это, ваша честь? – спросил ехавший рядом со мной унтер-офицер.
– Полагаю, что пули, – беззаботно ответил я.
Ни один из моих солдат не был ранен или убит, поэтому пули пока еще оставались каким-то абстрактным понятием. Когда мы подошли к позиции, с которой немцы вели огонь, там уже никого не было.
Вот так я впервые услышал «свист» пуль. В армии ходит шутка: солдата спрашивают, слышал ли он когда-нибудь свист пуль. «Дважды, – отвечает солдат. – Один раз – когда она пролетела мимо меня, а второй – когда я пролетел мимо нее».
В этот день наш эскадрон не столкнулся лицом к лицу с немецкими солдатами, поэтому Сидоровичу пришла в голову идея, что нас просто обстреляли «мирные жители». Кстати, вполне возможно. Некоторые гражданские лица по собственной инициативе обстреливали наши небольшие воинские подразделения.
В семь утра эскадрон подошел к большой немецкой ферме, расположенной на холме, с которого открывался отличный обзор. Наша дивизия двигалась в направлении Маркграбова; Сумской полк на левом фланге. Сейчас наш эскадрон был не более чем зритель; пока от нас не требовалось никаких действий.
Наступление на Маркграбово шло сначала по пересеченной местности, а затем по узким полоскам земли между многочисленных озер, лежащих перед городом. Это был единственно возможный способ подобраться к городу.
Мы наблюдали за происходящим с холма, и разворачивающаяся внизу картина удивительно напоминала хорошо знакомые нам живописные полотна с изображением баталий XIX века. Временами наши спешившиеся гусары маршировали так, словно они находились на учебном плацу. Гремела артиллерийская канонада. Рвалась шрапнель. Свистели пули. Но наши солдаты упорно шли вперед. Картина была столь завораживающе-прекрасной, что ни мой мозг, ни сердце не пронзала мысль, что мы являемся свидетелями действия, когда люди убивают друг друга.
К середине дня прибыл гусар с сообщением от Гротена. Он отдал честь рукой с зажатым в ней конвертом, поскольку другую руку прижимал к груди. Когда мы спросили, что с ним, он ответил, что ранен в грудь. Мы были в шоке.
– Кто-нибудь еще ранен в полку? – спросил Меньшиков.
– Несколько солдат, ваша честь, и кое-кто из офицеров. Подполковник Адамович тяжело ранен и не приходит в сознание. Корнет Хоружинский при смерти. Ротмистр Лазарев убит.
Только в этот момент я с полной очевидностью понял, что, подойдя к границе, мы попали на войну.
Позже мы узнали, что произошло с нашим полком в окрестностях Маркграбова. Наша кавалерийская дивизия с легкостью отбросила немецкие передовые части и подошла к озерам раньше пехоты. Три наших эскадрона перешли в наступление, а два оставались в резерве: 4-й эскадрон на левом фланге, 6-й на правом. Мой друг Язвин с двумя пулеметными расчетами находился на правом фланге. Подполковник Адамович командовал правофланговой группой. 4-й эскадрон под командованием ротмистра Лазарева наступал на город с юга. Гусары были встречены сильным огнем. Лазарев попросил перебросить к нему пулеметы, но командир бригады, генерал Нилов, отказал в его просьбе; он предпочел оставить пулеметы в резерве.
Первым из офицеров ранили Адамовича. Когда мы еще ехали на поезде к границе, Адамович сказал, что боится не смерти, а тяжелого ранения. С ним случилось то, чего он больше всего боялся. Он был тяжело ранен и уже не вернулся в полк.
Ротмистр Лазарев, пытаясь заставить перейти в атаку свой эскадрон, прижатый к земле немецким огнем, выскочил на лошади вперед. Он представлял отличную мишень для немецких стрелков и вскоре был убит. Мой друг с самого детства Константин Соколов, всего на год старше меня, принял командование эскадроном, и тут же ему сообщили, что смертельно ранен корнет Хоружинский. В «славной школе» Хоружинский был моим «зверем» и всего три дня назад прибыл в полк.
Маркграбово не был хорошо укрепленным городом; немцы, очевидно, и не стремились к этому. Они сконцентрировали весь огонь на левом фланге, где располагался наш полк, а на центр и правый фланг у них просто не хватало сил. Другие полки нашей дивизии вскоре проникли в город, и пехота вошла в Маркграбово без единого выстрела.
Операция закончилась. Поступил приказ отступить. На обратном пути 4-й эскадрон нашел только несколько своих лошадей на том месте, где им поступил приказ спешиться. Пока шел бой, напуганные артиллерийской канонадой лошади разбежались в разные стороны. На одной из оставшихся лошадей ехал гусар, прижимающий к себе раненого корнета Хоружинского. Большинство гусар возвращалось обратно пешком. Пройдя немногим больше двух километров, гусары увидели своих лошадей, бодрой рысью скачущих в их направлении. Впереди скакал Рахманинов, которому удалось собрать разбежавшихся лошадей.
Сражение у Маркграбова, короткое и не имевшее важного значения, стало для нашего полка боевым крещением. Результаты сражения произвели на нас удручающее впечатление. Мы, естественно, не знали, что это была просто разведка боем, и посчитали последующее отступление своим поражением. К тому же мы потеряли трех офицеров, двое из которых были для многих из нас давними друзьями. Лазарева и Хоружинского похоронили в Сувалках.
На обратном пути наш эскадрон находился на правом фланге, и Меньшиков отправил мой взвод охранять наш фланг. Таким образом, мы скакали практически вплотную к границе, вдоль пограничного рва. Неожиданно над головой засвистели пули, и мы услышали выстрелы, доносившиеся откуда-то справа.
– Они там! Смотрите, они там! – закричал один из моих солдат, указывая в сторону фермы.
Увидев пару человек, скрывшихся за домом, я приказал спешиться двадцати гусарам, и мы бросились к ферме. Над головой свистели пули, и тут я увидел канаву, ведущую к ферме. Я приказал солдатам использовать ее в качестве укрытия. Только на следующий день я понял, что канава была границей, и ферма находилась на русской земле. Но в этот момент у меня не было времени на размышления; мы наступали под огнем. Когда мы подбежали к ферме, все стихло, и мы не нашли тех, кто в нас стрелял. Тогда мы не придумали ничего лучше, как поджечь ферму, то, что потом наши войска делали ежедневно в подобных обстоятельствах. На немецкой стороне творилось нечто несусветное. На протяжении нескольких миль горели дома, сараи, стога сена. Позже некоторые апологеты, вроде генерала Гурко, пытались приписать эти пожары немцам.
Якобы с их помощью немцы отмечали продвижение наших войск. У меня подобные объяснения вызывают сильные сомнения, но, даже если в каких-то случаях это соответствует действительности, лично я знаю о многих случаях, когда мы выступали просто в качестве поджигателей.
Спустя два дня поджог русской фермы получил продолжение. Из штаба в полк прибыл адъютант, чтобы выяснить, кто из русских кавалеристов устроил пожар на ферме, расположенной на нашей территории. Мне пришлось объяснять, что мой взвод был обстрелян неизвестными, скрывавшимися на ферме. В течение нескольких дней я с подозрением оглядывал все канавы.
Бои, продолжавшиеся в течение шести месяцев в этом районе, избавили от необходимости решать вопрос в отношении точного местоположения границы; практически все строения по обе стороны границы были уничтожены.
Владимир Литтауэр Вторжение в Восточную Пруссию Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии
6 августа 1-я кавалерийская дивизия опять пересекла немецкую границу. Поступил приказ прикрывать левый фланг 4-го пехотного корпуса, который на следующий день должен был перейти в наступление.
Когда мы вошли в Восточную Пруссию, то первым городом на нашем пути был Мирунскен. В городе была фабрика по производству сыра, и в скором времени почти с каждого седла свисали гроздья сыров. В кавалерии были привычны к самым разным ароматам, но никогда ни до, ни после этого мы не издавали подобных запахов. Для наших солдат наступили «золотые времена». На протяжении двух, может, трех недель они ели самую изысканную пишу: немецкие сосиски, ветчину, свинину, цыплят и гусей. Сидорович не одобрял столь высокий уровень жизни; он предсказывал, что очень скоро наступит день, когда мы все дорого заплатим за все эти кулинарные изыски.
На левом фланге 4-го пехотного корпуса находился пехотный полк под командованием полковника Комарова. Он был старым другом нашей семьи и, зная, что из нашего полка к нему должны прислать офицера связи, попросил, чтобы прислали меня. Он несколько запоздал со своей просьбой: к нему уже выехал корнет Жуковский. Это был первый случай в цепи удач, которые сопутствовали мне на протяжении всей войны, а затем и во время революции. Через день полк Комарова принял участие в сражении, в котором понес жестокие потери. Сам Комаров был убит, а Жуковский ранен; на его месте мог оказаться я.
Спустя три дня меня послали в качестве офицера связи в пехотную дивизию того же пехотного корпуса, принимавшего участие в тяжелых боях у города Гумбинен.
За два часа до моего появления наша пехота полностью разгромила немецкую пехотную дивизию. Когда я прибыл в дивизию, немцы уже отступили. По полю боя ходили санитары, подбирая раненых, и русских и немцев. Поле боя было усеяно мертвыми и ранеными. Мне рассказали, что русские наступали под ураганным огнем противника, все ближе и ближе подходя к немцам, и, наконец, подойдя чуть ли не вплотную друг к другу, обе стороны поднялись, сомкнули ряды и бросились в атаку под музыку с развевающимися флагами. Большая, кровавая битва, в которую были вовлечены несколько дивизий с обеих сторон.
Зачастую из памяти выпадают значительные события, но остаются какие-то отдельные сцены, незначительные детали, незнакомые люди. Так и мне почему-то запомнился раненый немец, лежавший на носилках с сигарой в зубах. Я понимал, что это дешевые немецкие сигары, но они свидетельствовали о таком уровне жизни, о котором не имели понятия в русской армии. Еще одна картина запечатлелась в моей памяти. Мертвый русский солдат, большой, белобрысый; он погиб перед последней атакой. По всей видимости, он был храбрым солдатом, поскольку пуля сразила его в тот момент, когда он намного опередил своих товарищей по роте. Судя по большой куче гильз, он отстреливался до последнего. С тех пор я видел тысячи мертвых и раненых, но в памяти ярким воспоминанием остался именно этот русский солдат.
После поражения при Гумбинене немцы начали отступать таким образом, чтобы оторваться от 1-й русской армии, поскольку в это время с юга в Восточную Пруссию входила 2-я русская армия; немцы боялись попасть в клещи. Но 1-я армия все равно не могла преследовать отступающего противника; возникли проблемы с доставкой ресурсов. Стоило русской пехоте остановиться на несколько дней, как немцы тут же перебросили войска на юг Восточной Пруссии, где в течение недели разгромили 2-ю русскую армию. Это сражение вошло в историю Первой мировой войны как битва при Танненберге.
Наша дивизия проводила разведывательные операции на шестидесятикилометровом фронте. Разведывательные группы из двенадцати солдат под командованием офицеров или из шести солдат под командованием унтер-офицеров обычно уходили часов на сорок восемь, то есть на двое бессонных суток. Часто, отдохнув не более суток в полку, корнет опять уходил на разведку. Эти разведывательные группы, а иногда эскадроны удалялись от полка более чем на тридцать километров. В это время полк тоже не стоял на месте и совсем не обязательно двигался по заранее обговоренному маршруту. В свою очередь, разведчики не двигались по прямой. Если они попадали под обстрел, то, пытаясь уйти от наступающего врага, начинали кружить по лесу, заметая следы, словно зайцы, преследуемые сворой охотничьих собак. Даже при наличии карты им зачастую приходилось тратить какое-то время, чтобы сориентироваться на местности. За исключением унтер-офицера и парочки толковых разведчиков, все остальные были простыми солдатами, которых можно было использовать только в качестве связных.
Получив какое-то количество информации, командир разведывательной группы отправлял связного в полк. Как правило, солдат был неграмотный, и ему было бессмысленно показывать на карте, где находится группа, а где в данный момент может быть полк. Ему просто говорили:
– Доставь сообщение командиру полка.
На конверте командир группы проставлял время ухода. Удивительное дело: очень часто связные скакали напрямик и быстро оборачивались в обе стороны. Как они это делали? Каким инстинктом руководствовались эти деревенские парни, скакавшие по чужой территории?
Серьезной проблемой в разведывательных операциях являлась забота о раненых. В полку был один санитарный фургон, который, естественно, двигался вместе с полком. Один врач обслуживал весь полк. В каждом эскадроне был медбрат, который, как правило, оставался с эскадроном. У разведывательных групп были только комплекты для оказания первой медицинской помощи. Но даже если удавалось оказать помощь, то оставалась проблема, как доставить раненого в полк. Обычно раненого привязывали к седлу и кто-нибудь из гусаров доставлял его в полк. В этих случаях приходилось только уповать на удачу.
Проще решался вопрос с ранеными лошадьми, по крайней мере в первые дни вторжения в Восточную Пруссию. Наша кавалерия быстро продвигалась в глубь страны, и на пастбищах еще паслись немецкие лошади. Мы оставляли легкораненых или захромавших лошадей и седлали немецких. Зачастую, если это была верховая лошадь, обмен оказывался очень выгодным.
Находясь на немецкой территории всего несколько дней, мы как-то проехали племенную ферму. Смеркалось, и вскоре мы решили остановиться на ночлег. Гротен, вспомнив о породистых лошадях, которых мы увидели на ферме, приказал мне взять своих солдат и вернуться на ферму, чтобы отобрать несколько животных. С тридцатью солдатами мне бы не составило труда пригнать тридцать – сорок лошадей. Прискакав на ферму, мы отобрали лошадей. Солдаты окружили табун и, с помощью тупых концов пик направляя лошадей и не давая им убежать, двинулись в полк. К тому моменту почти стемнело. Неожиданно справа на холме появились силуэты немецких кавалеристов. Было довольно темно, но мы сразу поняли, что это немцы, по той простой причине, что не увидели за спиной винтовок (немцы крепили их на седлах) и разглядели форму пик (на немецких пиках были шарики, препятствующие глубокому проникновению пики в тело жертвы); шарики выделялись на фоне неба. Это была немецкая разведывательная группа из десяти – пятнадцати человек. Сомневаюсь, что в темноте они могли разглядеть, сколько нас было на самом деле; они вполне могли решить, что человек семьдесят.
– Немцы! – закричали мои солдаты. – В атаку!
– Ура! – крикнул я раньше, чем придумал, что делать дальше.
Мое «ура!» скорее напоминала «ату!», и мы кинулись в атаку, но немцы мгновенно скрылись. Нам ничего не оставалось, как остановиться: не могли же мы преследовать их в темноте. Все длилось не более пары минут, но за это время половина отобранных нами лошадей разбежалась. Я чувствовал себя полным дураком, когда привел Гротену всего пятнадцать лошадей, ни словом не обмолвившись о том, куда делись еще как минимум пятнадцать. Одну из лошадей Гротен отдал мне. Как было принято говорить в русской армии, эта лошадь была подарком «от благодарного населения». Хороших кровей, гнедая четырехлетка, с отвратительным нравом. Мой денщик Куровский ненавидел ее всеми фибрами души.
Моя более чем неуместная попытка атаковать противника была, вероятно, продиктована услышанной накануне историей о первой кавалерийской атаке нашей дивизии. Казачий взвод возвращался в полк из ночного дозора. Неожиданно появились немцы и разомкнутым строем пошли в атаку. После бессонной ночи казаки устали, хотели спать и не были расположены принимать бой, хотя их было вдвое больше, чем немцев. Немцы были на своей земле и, увидев, что казаки направляются к болоту, не спешили переходить в наступление. Когда казаки уткнулись в болото и поняли, что у них нет иного выхода, как принять бой, они развернулись и пошли в атаку. Немецкие взводы стояли на холме, с которого было видно болото. Казаки одолели подъем, пустили лошадей легким галопом, атаковали немцев и одержали полную победу.
Спустя пятнадцать минут наш эскадрон встретил на дороге двух казаков, которые скакали в полк, чтобы сообщить о схватке с немцами.
– Вы обязательно должны поехать туда, – сказали они. – Все поле усеяно мертвыми немцами и их лошадьми. Никому не удалось сбежать.
– А у вас есть потери? – спросил я, придя в невероятное возбуждение от их сообщения.
– Всего лишь несколько раненых.
Мое настроение повысилось с той же скоростью, как столбик ртути повышается в градуснике, всунутом под мышку человеку, мечущемуся в горячечном бреду. Если с такой легкостью можно напасть и победить немцев, то мне захотелось тут же ринуться в бой.
– А что с вашими офицерами? – спросил один из солдат.
– Оба офицера убиты, – ответил казак.
У меня резко испортилось настроение.
Свидетели, как обычно, несколько приукрасили события. На поле боя осталось тридцать семь убитых немцев; кое-кому удалось скрыться, хотя, как я думаю, многие из них были ранены. Казачьи офицеры, к счастью, были только ранены. Для меня это была первая новость непосредственно с места событий.
Спустя пару дней один взвод из нашего полка вошел в деревню, занятую небольшим пехотным подразделением противника, и попытался выбить его оттуда. На следующий день я принял участие в сражении, окончившемся полным провалом. Два эскадрона, 1-й и 6-й, под командованием Рахманинова, были остановлены ведущимся из деревни огнем. У нас был приказ продолжать наступление, поэтому Рахманинов приказал наступать развернутым строем. Немцы не собирались отдавать деревню, и нам пришлось отступить под ураганным огнем противника. Отступая, эскадроны повернули направо и поскакали по вспаханному полю. В этой стороне стреляли значительно меньше, однако ранение получил поручик Онгирский, который в свое время в лагерях заставлял меня бегать по утрам к Москве-реке. Кроме того, был ранен унтер-офицер 6-го эскадрона; его лошадь упала рядом со мной. Я остановился и попросил двух гусаров помочь мне. Я и один из гусар подсадили раненого унтер-офицера к сидевшему на лошади другому гусару. Пока мы занимались раненым, вокруг свистели пули, вздымая пыль в опасной близости от нас. Мне казалось, что мы страшно возимся. «Зачем я взялся помогать этому унтер-офицеру? Ведь я его едва знаю. Какое мне до него дело?» – пронеслось у меня в голове. На самом деле мы действовали очень быстро и слаженно, и в скором времени уже скакали за нашим эскадроном. Унтер-офицер выжил, как, впрочем, и Онгирский. Неделей раньше 1-й эскадрон потерял Жуковского, теперь был ранен Онгирский; Меньшиков пребывал в мрачном настроении.
– Остерегайтесь мирных жителей, – не уставал повторять Сидорович.
Словно в доказательство его словам, корнет Буцко был ранен, но не в бою, а выстрелом из леса. Полк потерял хорошего солдата. Впоследствии Буцко направили в Вашингтон в качестве помощника военного атташе.
Примерно в то же время я принимал участие в другой операции под командованием Рахманинова. Мы должны были устроить взрыв на железной дороге. В каждом эскадроне имелся ящик взрывчатки. Для проведения операции были взяты все шесть ящиков. Таким образом, от каждого эскадрона на операцию отправились верхом офицер, четыре солдата и лошадь, груженная ящиками с взрывчаткой. Я участвовал в операции от 1-го эскадрона. Мы без приключений доехали до железной дороги, но были уверены, что попадем под обстрел, как только поднимемся на насыпь. Пока мы находились под прикрытием насыпи, Рахманинов распорядился следующим образом:
– Мы распределимся вдоль насыпи, чтобы между группами было расстояние порядка двухсот метров. Как только заложите взрывчатку и будете готовы поджечь запал, поднимите вверх руку с платком. Я буду посередине между вами и все время буду держать в поднятой руке платок. Как только все поднимут руки, я опущу свою. В этот момент вы подожжете запалы.
В этом, вероятно, проявился артистизм его натуры; ему хотелось усилить эффект, одновременно взорвав пути в шести местах.
Вполне возможно, что он считал этот план операции более безопасным. Но, вне зависимости от того, что он считал, план не сработал. Стоило нам показаться над насыпью, как вокруг засвистели пули; о том, чтобы встать в полный рост, не могло быть речи. Мы быстро, не согласовав свои действия, поджигали запалы и скатывались вниз по насыпи. Все это время Рахманинов, выпрямившись во весь рост, стоял на путях; не понимаю, как его не убили.
В эти же дни произошел незначительный случай, когда мое незнание техники спасло положение. В самом начале нашего вторжения в Восточную Пруссию в нашей дивизии находились три грузовика, которые привозили нам продовольствие. Как-то ночью мой взвод находился на маленькой ферме у дороги, охраняя покой спящей дивизии. Грузовики не заметили, как переехали русскую линию фронта. В этом, впрочем, не было ничего странного, поскольку не существовало четкой линии фронта. Вскоре водители поняли, что ошиблись, и решили вернуться другим путем. Они поехали по дороге, за которой наблюдал мой взвод. Ночью я сидел в доме, когда вбежал часовой и сообщил, что по дороге в нашем направлении едут немецкие бронемашины. Я выскочил на улицу и услышал грохот приближающихся машин. В следующую секунду мой взвод залег на линии огня, а я попытался прикинуть, как проще всего вывести из строя бронемашины. Где их самое уязвимое место? Какая часть машины должна стать целью? Я ничего не знал об этих чертовых машинах и решил, что надо стрелять по колесам. Итак, я приказал стрелять по колесам. Когда бронемашины приблизились и можно было различить контуры головной машины, я крикнул:
– Взвод, пли!
После первого залпа со стороны машин раздался крик:
– Разворачивайся, здесь немцы!
Остальные слова я не берусь воспроизводить на страницах этой книги. К счастью, мы никого не подстрелили, поскольку целились в колеса.
23 августа дивизия подошла к Ангербургу, занятому немецкой кавалерией. В первых рядах были сумские гусары. Два наших эскадрона, наступая в пешем строю, вытеснили немцев из города. «Мирное население» принимало активное участие в схватке, и один гусар получил ранение в лицо. Превратившееся в кровавое месиво лицо товарища привело гусар в бешенство. Несколько мирных жителей поплатились жизнью, прежде чем в эскадронах удалось навести порядок.
К разговору об убийствах гражданского населения. Примерно в это время штаб армии выпустил крайне неудачный приказ. Он касался немецких велосипедистов. Понятно, что многие из них действительно были шпионами, но приказ был сформулирован таким образом, что все немцы на велосипедах оказывались шпионами. Кроме того, согласно приказу любой русский солдат имел право убить немецкого велосипедиста. И солдаты весьма активно пользовались этим правом. Я как-то услышал, как один из моих гусаров говорил другому:
– Я пристрелил его. Он упал, и у него подергивались ноги, как будто он продолжал ехать на велосипеде.
Многие офицеры выразили несогласие с этим приказом. Вполне возможно, что это сыграло свою роль в скорой отмене или пересмотре, я уже точно не помню, этого приказа.
Итак, мы заняли Ангенбург. Полковник Рахманинов шел по улице и увидел группу гусар у входа в магазин. Когда Рахманинов подошел ближе, гусары побежали. Внутри явно что-то происходило. Дверь магазина была сорвана с петель; в помещении царил страшный беспорядок. Рахманинов вошел и услышал доносившиеся откуда-то снизу голоса. Он понял, что магазин грабят. Спустившись по лестнице в подвал и громко ругаясь, Рахманинов приказал ворам выходить. Первым появился командир нашей бригады.
– Ну, и почему же вы ругаетесь, полковник? – спокойно спросил он.
Позже Рахманинов нашел огромный ржавый ключ и стал убеждать всех, что это ключ от города. Хотя мы скептически отнеслись к его находке, он сохранил ключ для музея. Рахманинов всегда оставался старательным хранителем музея.
Мы действовали, как любая армия в этом подлунном мире: грабили, разрушали, а потом очень сожалели, признавая содеянное. Однажды в небольшом немецком городке я вошел в пустой дом и увидел гусара из своего взвода, который, сидя у рояля, выдирал из него клавиши. Задача была непростой, и солдату приходилось прикладывать значительные усилия. Я окликнул его по имени. Он вскочил и вытянулся по стойке «смирно».
– Зачем ты ломаешь рояль?
Он посмотрел на меня с таким видом, словно я сказал невероятную глупость.
– Так он же немецкий!
Мой друг корнет Константин Соколов как-то застал одного из наших солдат за нелепым занятием: он с большим усердием, одну за другой, разбивал граммофонные пластинки. На вопрос, зачем он это делает, солдат ответил, что нет иголок, чтобы проиграть пластинки.
Немцы быстро отступали, и мы следовали за ними в том же темпе, чуть ли не наступая им на пятки. К примеру, 25 августа дивизия продвинулась вперед на двадцать семь километров. Накануне во время разведывательной операции был ранен корнет Георгиади. Он, как и убитый Хоружинский, появился в полку в Сувалках; удача отвернулась от него на десять дней позже, чем от Хоружинского.
Двигаясь в быстром темпе, мы иногда проходили деревни и маленькие городки, в которых шла обычная жизнь. Как-то моя разведывательная группа двигалась по длинной узкой улице, единственной в деревне. Мы остановились на углу, дожидаясь нашу вторую группу, которая должна была свернуть влево, в то время как мы собирались двинуться вперед. Вдруг за спиной раздался крик:
– Herr Leutnant!
Я обернулся. Ко мне в панике бежала женщина, выкрикивая по-немецки:
– Kosaken, Kosaken!
Подбежав ближе, она оглядела меня и моих солдат и, в ужасе всплеснув руками, бросилась бежать. Вероятно, на этом углу, где сейчас стояли мы, за несколько минут до этого находился немецкий кавалерийский отряд.
27 августа наша дивизия, в авангарде были уланы, успешно справилась с немецкой пехотой и захватила важный в стратегическом отношении железнодорожный узел, город Коршен. Поступил приказ взорвать станцию. Я принимал участие в этом «пикнике», а когда на станционном складе нашли вино, начался уже другой «пикник».
На следующий день мы двинулись дальше, и если все пойдет хорошо, то ночь мы должны были провести в небольшом городке под названием Сантопен. Дивизия приближалась к городу. Гусары впереди колонны. По бокам от колонны, на расстоянии в два километра, скакали взводы, прикрывающие фланги своего полка. Снежков со своим взводом ехал справа, я со своим взводом слева от нашего полка. Примерно в пятистах метрах за мной скакал казачий взвод. В какой-то момент сзади раздались выстрелы. Я отправил курьера с донесением в полк, а сам решил поехать назад, чтобы узнать, не нуждаются ли казаки в нашей помощи. Казаки, спешившись, обстреливали две фермы, стоявшие на расстоянии нескольких сотен метров от дороги. В ответ раздавались одиночные выстрелы. Тем временем подъехал еще один казачий взвод. Теперь нас в общей сложности было человек семьдесят пять – восемьдесят. Пару раз между фермами мелькнули немецкие кавалеристы. Мы решили, что на фермах может прятаться, самое большее, один эскадрон. Казаки, основываясь на недавнем опыте, заявили, что это не имеет никакого значения. Нам следовало доложить о положении дел. Мы не должны были проявлять инициативу, но уж очень удачно складывалась ситуация. Нам даже не могло прийти в голову, что кроме кавалерии там находится еще пехота, мало того, еще и артиллерия. На деле оказалось, что это была головная часть немецкой колонны, длиной в полторы мили, о чем наши разведчики немедленно доложили Гурко.
В доли секунды мы составили план атаки. Один из казачьих взводов должен был обойти справа одну ферму, а другой слева другую ферму. Я шел между ними. Мало того, что фермы находились от нас на значительном расстоянии, так они еще стояли на холме, поэтому мы решили идти на рысях с максимально возможной скоростью. Мы вскочили на лошадей и разомкнутым строем (расстояние между солдатами было от 2 до 5 метров) понеслись к холму. Немцы усилили огонь, из чего мы сделали вывод что на фермах гораздо больше солдат, чем мы предположили. На пути к фермам нам предстояло преодолеть пару небольших возвышенностей, и, преодолев одну, мы остановились, чтобы посовещаться. Не теряя времени даром, мы спешились и открыли огонь. Зато немцы почти прекратили стрелять. Уже потом я понял, что они играли с нами в кошки-мышки. Стрельба стихала, заставляя нас думать, что перед нами слабый противник, тем самым побуждая нас к наступлению. Одним словом, мы принимали желаемое за действительное, что естественно в подобных случаях. Теперь мы были намного ближе к цели и считали, что если перейти на галоп, то через пару минут вступим в бой с противником. Мы вскочили на лошадей и поскакали вперед. Две пары наблюдателей скакали немного впереди по правую и левую сторону от нашего растянутого строя. Внезапно левая пара развернулась с криком:
– Пехота!
Отпустив поводья и вскинув винтовки, они стали обстреливать ферму, продолжая выкрикивать:
– Пехота! Пехота!
Они успели сделать не более двух выстрелов, когда немцам надоело притворяться. Вот тут-то все и началось. Застрочили пулеметы; у нас над головой рвалась шрапнель. В первый момент мы остолбенели от неожиданности, а уже в следующую секунду все три взвода поскакали назад. Не помню, как я развернулся, как поскакал обратно. Я словно на мгновение потерял сознание. Я был в панике. Удивительно, но мой взвод понес незначительные потери, а вот о казаках ничего сказать не могу.
В то время когда мы неслись к фермам, наш полк входил в Сантопен. А когда начали рваться снаряды и наш полк подошел к площади, на которой стояла церковь, мы в панике отступали. Немцы открыли огонь одновременно по трем нашим взводам и основной колонне. Перед церковью стояло несколько местных жителей. Гротен, встревоженный точностью артобстрела, по-немецки спросил у стоявших рядом с церковью местных жителей, нет ли на колокольне наблюдателя. Они поклялись, что там никого нет. Однако Гротен отнесся к их словам с недоверием и приказал полковому трубачу Бондаровичу подняться на колокольню. Бондарович начал подниматься под клятвенные заверения немцев, что наверху никого нет. Вдруг сверху послышался выстрел. Судя по всему, Бондарович там кого-то обнаружил.
– Они все шпионы. Расстрелять! – не владея собой, закричал Гротен, указывая на немцев.
Приказ был тут же приведен в исполнение. В это время с колокольни спустился Бондарович и доложил, что наверху никого нет.
– Тогда зачем ты стрелял? – побледнев, спросил Гротен.
– Да это я сам случайно нажал на спуск, когда поднимался по лестнице, – ответил трубач.
Присутствие немецких армий в этом районе явилось полнейшей неожиданностью, и штаб нашей дивизии отказывался верить сообщениям. Какое-то время Гурко был уверен, что стреляет русская артиллерия. Он вызвал горнистов и приказал сыграть сигнал: «Прекратить боевые действия!» Снаряды продолжали рваться. Тогда Гурко послал офицера на эту предполагаемую русскую батарею с приказом прекратить дурацкую стрельбу. Офицер ускакал, но вскоре вернулся с невероятным известием: он видел немецкие шлемы! Тут уже дивизия развернулась к бою, и наша артиллерия открыла огонь. Немцы не приняли вызов и отступили.
Тем временем я и мои солдаты в состоянии невменяемости доскакали до леса, где на какое-то время потеряли друг друга. Я в полном одиночестве проехал через узкую лесополосу и выехал в поле, с которого был уже виден Сантопен. Понимая, что мои солдаты рано или поздно появятся из леса, я спешился, сел на большой камень и застыл в ожидании. Моя лошадь устала, и ей нужно было отдохнуть. Немецкие снаряды летели в сторону моего полка. Через несколько минут ответила наша батарея. Появилась разведывательная группа одного из наших полков. Офицер, удивленно посмотрев на меня, спросил:
– Что вы тут делаете в одиночестве? Поблизости рыщут немецкие разведгруппы.
Моя лошадь настолько выдохлась, что на нее сейчас не было никакой надежды; я не смог бы оторваться от преследования. Лучше застрелиться, чем попасть в плен! Взяв револьвер в правую руку, а поводья в левую, я продолжал сидеть на камне. Вскоре с робкими улыбками ко мне подошли два моих солдата.
– Рад видеть вас живыми, – сказал я.
Постепенно из леса стали подъезжать остальные солдаты. Скоро почти все были в сборе; ранены были всего три солдата. Мы направились в полк. Я ехал впереди и слышал, как за спиной тихо переговаривались солдаты. Постепенно их разговор перешел в жаркий спор.
– Почему мы сбежали?
– Я развернулся, когда увидел, что двое парней рванули назад.
– Заткнись! – раздалось сразу несколько голосов.
– Мы все повернули, и казаки, и «их благородие», все развернулись вместе! – закричали солдаты, перебивая друг друга. – Если бы там была только кавалерия, мы бы их там и положили, а вот пехота совсем другая история.
Рядовой Виленкин написал стихи, посвященные истории, случившейся с нами в Сантопене, и положил их на музыку. Иногда, после небольшого возлияния, мы любили вместе спеть эту песню. Во время войны Виленкин еще не раз писал стихи, прославлявшие наши «подвиги». Я, конечно, уже не помню всю песню, но начиналась она примерно так:
От дорожной пыли серые, Злые и усталые, С мыслями об отдыхе Ехали, и вдруг Над стогами сена, словно по заказу, Появился долгожданный Сантопен. Быстро квартирмейстеры Комнаты с кроватями, До которых сможем разве только доползти, Но судьба-злодейка думала иначе: Грохотом снарядов встретил Сантопен.Стихи могут показаться вам неказистыми, но в целом песня была хорошая, с юмором. Автор стихов Александр Виленкин, московский адвокат, в свои тридцать был очень образованным человеком. Когда объявили войну, он добровольцем пришел к нам в полк и служил рядовым. Сложность ситуации заключалась в том, что он был евреем, а в то время в русской армии еврей не мог быть даже унтер-офицером. Вот когда проявился независимый, свободолюбивый дух нашего полка. Было принято решение назначить Виленкина связным при командире полка, а питался и жил он вместе с офицерами.
Виленкин отличался невероятной храбростью и среди солдат имел наибольшее количество наград. У него их было семь из возможных восьми. Он несколько раз зарабатывал восьмую награду, но объяснял, что не хочет ее получать из-за своего привилегированного положения в полку. Он был храбрым не из-за отсутствия воображения, как в случае с моим вестовым Кауркиным. Его храбрость отличалась и от храбрости Гротена, в основе которой лежали фанатизм и вера. Виленкин обладал необыкновенной силой воли, хотя внешне это никак не выражалось. Он очень любил порисоваться; был романтиком и поэтом. Вот вам пример. Однажды спешившийся полк выходил из леса. Поджидая нас, немцы обстреливали край леса. Полковник Гротен прикидывал все за и против развития наступления. Адъютант Снежков, я и Виленкин стояли рядом с Гротеном. Рвались снаряды. Свистели пули. Но Гротен, глядя в бинокль, невозмутимо осматривал окрестности. Виленкин не упустил возможность продемонстрировать собственное самообладание.
– Не хотите ли кусочек шоколада, господин полковник? – вынимая из кармана плитку шоколада, спросил Виленкин.
– Иди к черту, – не отнимая от глаз бинокля, ответил Гротен.
А вот еще пример необычайной силы воли Виленкина. Его ранили, и, пока санитар, усадив его на поваленное дерево, делал перевязку, Виленкин написал стихи о том, как его ранили.
Как гласит старая армейская истина: «Во время боя бегут все, но только направление, в котором бежит герой, отличается от направления, в котором бежит трус».
Марианна Сорвина Варшава в кольце
В конце сентября 1914 года Варшаву с запада и с юга окружали германские войска. Они стояли в 20 километрах от города, но 4-му Сибирскому корпусу удалось отразить немецкое наступление. На фронте наступило затишье. Окопы были затоплены осенними дождями, немцы вели себя вяло, и в Варшаву ненадолго вернулась прежняя жизнь. Население приезжало из эвакуации, в столице возобновились праздники, посещение кофеен и театров. Торговцы на свой страх и риск продавали обывателям и военным запрещенный алкоголь, нарядные горожане заполняли ювелирные и антикварные салоны. Среди них было много военных. Возле Варшавы в то время располагалась 77-я пехотная дивизия из Ковно и бригада с дивизионом из Риго-Шавельского района, а в самой столице были расквартированы 4-я кавалерийская бригада, четыре бригады ополчения и бригада 68-й пехотной дивизии. Офицеры, очарованные польскими дамами полусвета, приглашали их в рестораны и театры, дарили украшения.
Осенью 1914 года Варшава все больше напоминала салонно-ярмарочный Харбин времен Русско-Японской войны. Люди жаждали передышки и развлечений, а хозяева охотно предоставляли им свои услуги. Обер-полицмейстер Варшавы, генерал Петр Мейер, находившийся на этом посту с 1905 года, начал принимать меры по наведению порядка в городе. Его поддержал начальник Двинского военного округа, князь Георгий Туманов. Они прикрыли публичные дома, деликатно называвшиеся «отдельными кабинетами», назначили штрафы за продажу спиртного, пригрозили трактирщикам высылкой и задерживали тех, кто болтался без дела.
К началу 1915 года жизнь в Варшаве стабилизировалась. Только ночная канонада напоминала о том, что фронт совсем близко – в 50 верстах от города. Но привыкшее к ней население не обращало внимания на орудийные залпы. Даже ночью в домах у варшавян горел свет. Люди жили политическими и городскими сплетнями, обсуждали победы на фронте и новости из русских окопов.
Это было время небывалого единения русских и поляков против общего врага, и, когда в сентябре фронт был отброшен на несколько километров, все считали это общей победой. Трудности варшавяне переносили стоически. Дома не отапливались из-за нехватки угля, не было сахара, мяса, молока, цены на продукты выросли. В школьных зданиях расположились госпитали, и учиться приходилось в вечернюю смену. Но варшавян не покидал оптимизм.
* * *
Поляки терпеть не могли долгие годы притеснявшую их Пруссию, при которой польский язык был запрещен даже в школах и костелах. Не изгладился из памяти Врёшенский инцидент июня 1901 года, когда школьники на уроке закона божьего отказались отвечать на немецком языке и были подвергнуты экзекуции. Тогда это вызвало международный резонанс. Но не доверяли поляки и «москалям», ведущим в Польше свою политику.
Теперь между двумя народами возникло взаимопонимание, и большинство жителей рассуждало, что лучше уж терпеть российские порядки, чем превратиться в немецкую казарму. Это рациональное решение не было связано с русской пропагандой, ведь большая часть поляков не читали газет.
Варшавяне готовы были сами идти на фронт и воевать вместе с русскими. Вслед за офицерами запаса поднялась молодежь. За одну неделю в Варшаве собралось три тысячи человек ополчения. И, когда прозвучало воззвание Верховного Главнокомандующего о мобилизации, это не только не лишило поляков жизнерадостности, но добавило им патриотизма и дружеских чувств. В знак признательности они хором исполняли российский гимн и ходили на демонстрации.
* * *
Отмежевание поляков от германо-австрийского лагеря и сближение с русскими происходило и на другой стороне фронта – в самом центре противоположного лагеря. В ноябре 1914 года в венском парламенте, одержимом поиском шпионов, была раскрыта «Восточно-галицийская секция польских легионеров» во главе с профессором Яном Заморским и графом Александром Скарбеком. Нескольким депутатам – Скарбеку, Заморскому, Биеге, Циенскому и Виерчаку – было предъявлено обвинение в предательстве.
Эта история имела весьма комичное продолжение в духе неразберихи и абсурда, царивших в австрийской политике военного времени. Задержанных приговорили к смертной казни, которая тут же была заменена тюремным заключением. Такая процедура была типична для Австрии 1914–1915 годов. Но даже после этого всем полякам, кроме Заморского, удалось уйти от преследования и скрыться в России. Арестованного профессора в наказание мобилизовали и отправили на австро-итальянский фронт, после чего он перебежал к итальянцам и разгласил им все сведения о военном положении австрийцев.
* * *
Были в Польше того времени и антирусские настроения, подогреваемые «людовцами» – движением, включавшим несколько националистических партий польского крестьянства. На стороне русских выступали их политические оппоненты «народовцы».
Славянско-патриотическое движение «народовцы» призывало к сближению всех сословий ради национальной идеи и устраивало для крестьян земледельческие кружки. Средства на них выделяло руководство центрального земледельческого общества. Деятельность «народовцев» была направлена против прусского влияния.
Девизом другого объединения, «людовцев» была идея «сам для себя»: они стремились отмежеваться от любой власти и добиваться своей цели «без ксендза и пана». Русские иронизировали, что без «ксендза» они обойдутся, но без «пана» никак невозможно: на место старых панов пришли новые – политические активисты, преследующие личные цели, вроде Максимилиана Малиновского и других польских прогрессистов. У «людовцев» тоже было около 120 кружков, но от субсидий они отказывались.
«Людовцы» осуждали русские порядки и русофильство поляков. Центр сторонников Австрии располагался в Галиции, частично занятой австрийцами. Там печатались прокламации, которые «людовцы» распространяли среди населения, пробираясь в Варшаву через русский фронт. Одним из ярких эпизодов стало появление в 1915 году в Варшаве группы «людовских» активисток, раздававших листовки. Политизированных девиц вместе с самим Малиновским арестовала польская охранная служба и препроводила в участок.
В начале войны это движение мало влияло на польское население, поскольку не смогло выработать достаточно ясную программу и сформулировать цели. Смущала поляков и австрийская ориентация Малиновского и его соратников.
Но в Польше существовали формирования более серьезные, чем «людовцы» – вооруженные отряды Юзефа Пилсудского, выступавшие на стороне Германии и Австрии. Пилсудский еще до войны начал создавать боевые курсы стрелков, и в них уже можно было заметить будущую силу государства.
* * *
Случалось, что причиной недоверия и обиды поляков становились русские поселенцы, не всегда отличавшиеся тактом. Национальные разногласия обычно начинаются с двух вопросов – топонимики и школьного образования. Первое недоразумение возникло, когда начальник Варшавско-Венской железной дороги вдруг распорядился заменить двуязычные топонимы русскими. После разбирательства выяснилось, что распоряжение исходило еще от его предшественника, а исполнение задним числом устаревшей резолюции было всего лишь бюрократической оплошностью чиновника.
Столь же анекдотично выглядело разрешение преподавать все дисциплины в школах на польском языке, но… без самих поляков: согласно прежним предписаниям все предметы должны были вести русские учителя. На таком положении настаивало министерство просвещения, и это вызвало возмущение. После переговоров местной администрации с министерством конфликт был улажен, а польские учителя допущены в школы. В этом случае причиной абсурдного распоряжения тоже оказались устаревшие законы.
Но даже в таких случаях многие поляки относились к ситуации с пониманием и не видели в ней злого умысла, поскольку причина недоразумений крылась в бюрократическом консерватизме и привычке следовать предписаниям.
* * *
Зимой 1915 года все активно обсуждали будущий строй польского государства. 23 декабря 1914 года был назначен новый генерал-губернатор Варшавы – князь Павел Енгалычев. Его задачей было проведение либерального курса, направленного на расширение прав поляков и сближение русского и польского народов. Приезд Енгалычева в Варшаву и его речь на официальном приеме в замке чинов гражданских учреждений, стали подтверждением того, что отношение России к Польше действительно изменилось. Политические реформы должны были устранить все разногласия. Впрочем, кое-что коренных жителей разочаровало. Они уже рассчитывали на создание автономии, а им был предложен всего лишь закон о городском самоуправлении. Поляки говорили, что раньше они бы этому порадовались, но не теперь, когда политическая ситуация изменилась. Муниципальные реформы казались ограниченными для городов, как и терпимое отношение к польскому языку. Но были реформы, принятые поляками с радостью: например, право поступления в высшие учебные заведения для выпускников частных польских гимназий.
* * *
Все происходящее в те дни было преждевременной надеждой на победу и свободу государства. Никто уже не допускал мысли, что Варшава может оказаться в руках немцев, а до этого оставались считаные дни. Поляки продолжали верить в помощь русских даже в то время, когда чиновники и их семьи, получив распоряжение сверху, начали упаковывать чемоданы. Роптали даже чиновничьи жены: им нравилось в Варшаве и совсем не хотелось отправляться в поход. Варшавянам же казалось, что никакой опасности нет: немцы, как и осенью 1914 года, постоят рядом с городом и уберутся восвояси.
Никто в тот момент не представлял, насколько ухудшилось положение на фронте. Северные и южные части германцев шли на соединение и вскоре замкнули Варшаву в кольцо, связанное с Российской империей лишь небольшим коридором в районе города Седлец.
Заметив движение в стане русского чиновничества, стали подумывать о бегстве и многие поляки, опасавшиеся преследования немцев. Полицейский департамент даже ввел бесплатные билеты на поезда и лишь позднее спохватился, что в городе остается все меньше защитников. Пресса начала публиковать призывы к исполнению гражданского долга и защите «польского характера».
«Только количеством и единством мы сильны. Если нас будет много, мы сумеем громадой дать отпор немецким притязаниям! – взывали газеты. – Будет легче, если вместе мы станем переживать беду. А на чужбине мы будем разобщены и никому не нужны».
К 25 июня 1915 года Варшаву покинули русские чиновники, а потом и некоторые поляки. Оживленная и нарядная столица обезлюдела.
В начале июля под руководством обер-полицмейстера Мейера началась эвакуация государственных учреждений – прежде всего заведений оборонной промышленности и складов с материалами военного назначения. То, что не могли вывезти, взорвали сразу после отъезда рабочих с семьями 22 июля, в последний день эвакуации.
В городе остались лишь жандармерия и канцелярия генерал-губернатора. Последней покинула город полиция, которой был дан приказ отступить вместе с воинскими частями и продвинуться в Седлец для получения дальнейших распоряжений штаба. Всего отряд полицейских состоял из 3 тысяч человек, в него входили 1200 человек городской охраны и 1 800 земских чиновников, многие из которых не осилили бы дальний поход. Для них снарядили обозы и отправили раньше остальных вместе с канцелярией обер-полицмейстера и документацией. Им выделили медные котлы для приготовления пищи и трехдневный запас крупы, хлеба и сала.
Этот план эвакуации был разработан Петром Мейером еще в сентябре 1914 года на случай поражения. В тот раз он не понадобился.
* * *
Несмотря на то, что город стремительно пустел, в православных соборах по настоянию фронтового уполномоченного Красного Креста А. И. Гучкова продолжались богослужения. Их проводили священники-миссионеры из Красного Креста.
Старинный Успенский собор на Медовой улице охранялся сторожем-католиком и парой нищих, решивших поддержать кормившую их православную обитель. Прихожан осталось мало, а молитва превратилась в их единственную надежду. Женщины и старики продавали желающим свечи и просфоры. Они были намерены и дальше присматривать за храмом, чтобы сохранить иконы святого Николая Угодника и Покрова Пресвятой Богородицы.
В Александро-Невском соборе, построенном сравнительно недавно, остались лишь стены с фресками и мозаикой. Церковную утварь, медный иконостас, иконы и облачения вывезли присланные из Москвы мастеровые.
Архитектор Петр Феддерс работал в Варшаве давно. Он проектировал церковь с колокольней в Творковском доме для душевнобольных, звонницу церкви Уланского полка, торговые дома Н. Шелехова, зал собраний в доме военного ведомства и многое другое. Коньком Феддерса была храмовая архитектура, колокольни, часовни, надгробные памятники. Поэтому именно ему поручили руководить спуском колоколов соборной колокольни. Девять небольших вывезли 22 июля, один 50-пудовый позднее забрала с собой полиция.
К эвакуации колоколов русское и польское население относилось по-разному. Если их снимали с костела, набожные польские крестьянки поднимали вой. Полиции приходилось ждать, когда разойдется толпа, и приниматься за дело. Утратив святыню, женщины бросались перед костелом на колени и в исступлении пели молебный канон «Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица».
* * *
В конце июля 1915 года в Варшаве остались только «комитеты обывателей», в которые входили лучшие жители города, и гражданская милиция, состоявшая из проверенных людей.
Польской милиции надлежало даже в этот роковой час поддерживать безопасность, предупреждать вылазки мародеров, а позднее – защищать горожан от притеснений захватчиков. Наказание за кражи и беспорядки в период безвластия выглядело несколько старомодно: задержанных нарушителей просто препровождали на пожарную конюшню и там подвергали порке. Даже в тех случаях, когда приговаривали к тюремному заключению, оно сразу же заменялось телесным наказанием. После этого виновного освобождали из-под стражи: такая мера была продиктована нестабильностью прифронтового города. Под арестом оставляли только уголовников, опасных для общества.
Было ясно, что, сохраняя порядок в период междувластия, при немцах милиция и обывательские комитеты уже при всем желании не смогли бы защищать права населения. В них самих немцы видели агентов русского влияния, и на них все бесправие обрушивалось в первую очередь. Комитеты, как и милиция, состояли из лучшей части населения, а новые хозяева стремились сразу же обезглавить город, сделать его безвольным и легко управляемым. Поэтому после захвата Варшавы члены комитетов нередко попадали в заложники, милиционеров заменяли немецкими жандармами – «шуцманами», а польских служителей порядка отправляли на рытье окопов.
Образованные незадолго до прихода немцев обывательские комитеты представляли собой хорошо организованную структуру, близкую по типу городскому и земскому самоуправлению. Во главе находился центральный комитет под руководством помощника генерал-губернатора Антона Оттовича Эссена, которого потом сменил сенатор Дмитрий Николаевич Любимов. Центральному комитету подчинялись губернские, уездные и городские комитеты, в которые входили польские общественные деятели и главы казенных учреждений, что позволяло осуществлять связь местного населения с администрацией.
Варшавский городской комитет возглавлял уроженец немецкой Прибалтики Александр Миллер, президент города с 1909 года. На российские благотворительные пожертвования комитетом была выделена ссуда в 10 миллионов рублей польским ремесленникам и крестьянам, хозяйства которых сильно пострадали от войны. На 23 миллиона были восстановлены разрушенные здания в Хомской и Люблинской губерниях. Организациям был выделен кредит в размере 50 миллионов. Получив еще 2 миллиона от генерал-губернатора Мейера, комитет обеспечил земледельцев лошадьми. Восстановлением края занимались и крестьянские присутствия, распределявшие пайки и ссуды.
Это устройство, направленное на спасение польской экономики, отчасти напоминало «государство в государстве». Помимо управления, в нем была исполнительная власть – комиссия под руководством князя Северина Святополк-Четвертинского и его заместителя Владислава Грабского, польского экономиста и будущего премьер-министра. Варшавскую исполнительную комиссию возглавлял князь Здислав Любомирский, будущий президент Варшавы.
Когда угроза захвата столицы стала особенно ощутимой, центральный комитет по стратегическим соображениям разделился: Любомирский остался осуществлять руководство в Варшаве, а Грабский возглавил центральный обывательский комитет в Петрограде – варшавское правительство в эмиграции.
Милиция была создана в начале июля 1915 года по решению городского комитета. Ее начальником избрали присяжного поверенного Поповского. Ему подчинялись 15 полицейских участков с комиссарами, которых всегда можно было узнать по бело-малиновым повязкам на левой руке. Пожарные тоже эвакуировались, и за неделю до захвата столицы была собрана добровольческая команда варшавян, которая сразу приступила к своим обязанностям, поскольку немецкая авиация уже бомбила город.
* * *
Перед сдачей Варшавы самолеты сбрасывали бомбы на мосты и жилые дома. Местные жители скоро заметили, что налеты происходят с трех до пяти часов дня. Такая педантичность немцев позволила сократить число жертв. К трем часам дня жители города собирались в Уяздовском парке и наблюдали, как вражеские самолеты обстреливаются снарядами. Их не пугала даже возможность обжечься падающей шрапнелью, от которой на небе то и дело вспыхивали облака красноватого дыма.
Позднее бомбардировщики стали прилетать и ранним утром, а 21 июля немцы использовали против поляков газ, от которого пострадали 20 человек.
Утром 22 июля во дворе ветеринарного института на московском шоссе был собран полицейский обоз. На этот раз военная обстановка складывалась неблагоприятно, и в половине одиннадцатого вечера был получен приказ выступать в сторону Новоминска.
Ночь с 22 на 23 июля прошла в тревожном ожидании. На следующее утро к вокзалу еще тянулись повозки с последними эвакуированными. На город упало несколько орудийных снарядов. Три разорвались на южной окраине, в районе Дворянской улицы. Один упал возле церкви на Мокотовском поле. Еще один ранил на железнодорожном переезде сопровождавшего обозы сапера.
К 10 часам канонада стихла, и варшавяне говорили, что атака на город была отражена, но в Вилянове идет бой, а вдоль московского шоссе продолжается артобстрел. Разрывы снарядов весь день были видны со стороны ветеринарного института. Возле станции «Варшава-Привислинская» местные жители растащили на топливо деревянный забор, а потом принялись за стоявшие рядом сараи.
Вечером началось минирование мостов и уничтожение промышленного оборудования. После взрыва на заводе «Ортвейн и Карслинский» начался пожар, и все постройки были уничтожены.
Без пяти 11-ти ночи обер-полицмейстеру позвонил по телефону военный губернатор Варшавы генерал-лейтенант Турбин: «Начался отход войск с позиций». Мейер сразу приказал полиции сдать охрану и собраться у здания ветеринарного института. Полицейские команды съезжались к институту до половины второго ночи, а потом двинулись в путь. Мимо них по Гроховской улице в сторону Московской заставы двигались военные обозы с артиллерией.
В оставленной полицейскими Варшаве принял вахту начальник милиции Поповский. Вместе со своими помощниками он вошел в ратушу, из которой было хорошо видно полыхавшее на юго-западе зарево: горели дома в Праге-Привислинской и Вавре.
За двадцать пять минут до полуночи генерал Мейер, его чиновники и сопровождавшая их конная сотня пересекли Александровский мост в направлении Праги. На другой стороне моста саперы снимали проволоку с трамвайных столбов…
* * *
После захвата Варшавы наметилось размежевание польских группировок. За «великую Польшу» выступали Дмовский и Грабский, придерживавшиеся русской ориентации. Малиновский и его соратники выступали за австрийское влияние. В конечном итоге польская политика раскололась на многочисленные кружки и группы. Тогда повсеместно входили в моду аббревиатуры, и никто уже не мог понять, какая партия и какое движение скрывается под тем или иным сокращением. Лишь в самом конце 1915 года началось движение, направленное на объединение этих кружков, но это уже было становление польского Сопротивления. Немцы относились к таким активным полякам как к заговорщикам и развернули против них борьбу на уровне разведки и контрразведки.
В середине декабря 1915 года в Варшаве и некоторых других городах действовали тайные организации, в которых проходили подготовку «стрельцы» и «соколы» Пилсудского. В организацию входило уже более полутора тысяч человек.
* * *
Осень 1914 года в прифронтовой Варшаве, несмотря на нехватку угля, оказалась настолько теплой и полной надежд, что захватившие столицу немцы и австрийцы не могли переломить ситуацию в свою пользу. Австрийский разведчик, полковник Максимилиан Ронге, работавший в Варшаве, отмечал, что тех, «которые мечтали об освобождении и присоединении к центральным державам» «были единицы, не имевшие никакого влияния на общую массу». Их, по словам Ронге, можно было «использовать только в разведывательной службе против России», а их пропаганда среди пленных никакого успеха не имела.
Большинство колонистов «были открыто враждебно настроены», военная диктатура пыталась подавлять выступления, но дискуссии о самоопределении государства продолжались. «Центральный национальный комитет» опубликовал воззвание, направленное против новой власти. Он требовал восстановить польскую государственность. Начиналась новая эра польской истории.
Марианна Сорвина Время шпионов
К лету 1914 года стало ясно, что Германия является для Великобритании одним из самых опасных противников. Американцы тоже относились к переселенцам из Германии с подозрением, и немцы, проживавшие в США, стали готовиться к отъезду в Германию.
Перед войной никому не приходило в голову оформлять паспорт и регистрироваться в полиции. Это не значит, что в Англии шпионов вовсе не задерживали, однако полиция паспортов не требовала. Британский разведчик Фердинанд Тохай называл немецких шпионов педантичными и недалекими, пенял им на дурную маскировку и отсутствие вдохновения. Его немецкий коллега Жюль Зильбер, посмеивался над сибаритствующими англичанами, которые перед войной «привыкли путешествовать свободно и с большим комфортом».
Теперь времена изменились. Разведчики обновляли свои знания и читали техническую литературу. Люди стали подозрительны и недоверчивы, а поездки по Европе уже не напоминали легкую прогулку. Суда перед заходом в европейские порты проверялись служащими Антанты. Подозреваемых в шпионаже отправляли в лагеря. Многие, не имевшие документов, предпочитали не сходить с судна и отбывать обратно, в таких случаях судно брало на себя оплату обратного рейса.
Типы шпионов
В начале века образ шпиона рисовался в стиле романтических сюжетов раннего кинематографа:
В груди доверчивой и слабой Ещё достаточно отваги Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба.Агенты 1910 года уже не напоминали мелодраматических персонажей «немой фильмы» из стихотворения Мандельштама. Если прибегнуть к типологии, то таких героев окажется три: «шпион-уголовник», «шпион-ученый» и «поставщик товара».
Первые соглашались работать в разведке за свободу и за деньги. Достаточно было поймать рецидивиста на грабеже, мошенничестве, воровстве или присвоении имущества, и его вербовка не составляла труда. Работа разведчика в те времена еще не была сопряжена со смертельной опасностью, преступным натурам она казалась авантюрой, спектаклем, при том неплохо оплачиваемым. Таким завербованным в шпионы рецидивистом был бельгиец Арсен Мари Веррю, известный под именем Фредерик Рю и псевдонимом U. Он встречал британских разведчиков, устраивал на новом месте и помогал с контактами. Рю владел мыловаренной фабрикой, но разорился и в 1907 году вынужден был наняться на пивоваренный завод в Гамбурге, где его и завербовал англичанин, хозяин завода. Вскоре Рю стал двойным агентом, снабжал сведениями и англичан, и французов.
Таких двойных и тройных агентов, падких на деньги, история знает немало. Одним из них, еще в Средние века, был легендарный Родриго де Бивар по прозвищу Сид – персонаж испанского эпоса «Песнь о Моем Сиде» и трагедии Корнеля «Сид», где он представал благородным и бесстрашным рыцарем «без страха и упрека». Литературные рыцари в жизни совсем не похожи на свой мифологизированный потомками образ.
* * *
Второй тип агентов – «ученый-исследователь». Такие шпионы напоминали героев приключенческой беллетристики прошлого. Литературная традиция второй половины XIX века отсылает нас к британским профессорам, познания которых, наряду с их же патологической рассеянностью, нередко спасали жизнь героям романов. Жюль Верн изобразил географа Паганеля и энтомолога Бенедикта с мягкой иронией, но именно они стали движущей силой сюжета. Артур Конан Дойл создал своего энтомолога – злодея Степлтона, бегающего по болотам с сачком, но охотящегося вовсе не на бабочек, а на английских баронетов.
Этот книжный образ ученого – чаще положительный, реже отрицательный – стал своего рода британской визитной карточкой. Нелепый и безобидный путешественник, рассеянный бродяга, на которого никто не обращает внимания. Именно он и был использован английской разведкой. И вот, в Германии первого десятилетия XX века появляются офицеры британской секретной службы, которые под видом энтомологов, ботаников, студентов бродят по территории чужой страны, делая зарисовки портов и крепостей. Рисунки и схемы в виде гербариев пересылались в Англию.
В начале XX века и немцы, и англичане позволяли шпионам беспрепятственно перемещаться со своими гербариями и альбомами фотографий по территории. Все они состояли на учете, и почти все их контакты с завербованными агентами были известны. Не арестовывали их по стратегическим соображениям: впоследствии шпиона можно было использовать для передачи противнику дезинформации или обменять на своих агентов. Отношение к шпионам стало меняться лишь с началом 1910-х годов, когда стало ясно, что конфликт неизбежен.
Одним из первых судебных процессов стало дело капитана военно-морского флота Бернарда Тренча и гидрографа, капитан-лейтенанта Вивьена Брендона из Адмиралтейства. Они называли себя «Джон Бёрч» и «Чарльз», а в их донесениях фигурировал адресат – «Реджи», оказавшийся капитаном Сайрусом Регнартом, представителем разведки Адмиралтейства.
Разведчики путешествовали по Германии, делая зарисовки укреплений в портах и на островах. Их внимание привлек нежилой район Вангероге, где наблюдалось оживленное движение в районе заброшенной колокольни. Разведчики не ошиблись: в пустом местечке строились военные батареи и прожекторная станция. Тренчу удалось исследовать район, не привлекая внимания, но Брендон, появившийся там уже после Тренча, был арестован. Номер отеля города Эмден, снятый Тренчем, подвергся обыску, и среди вещей капитана были найдены планы укреплений, которые стали главной уликой. На процессе судья спросил: «Что вас там заинтересовало?» И Тренч ответил: «Там была колокольня на оконечности острова, которая казалась странной, потому что эта часть острова вроде бы незаселенная».
Процесс Тренча и Брендона проходил в 1910–1911 годах в Лейпциге. Он открыто освещался в прессе, однако разведчики, несмотря на доказанность преступления, были осуждены всего на четыре года крепости и успели выйти из тюрьмы еще до начала войны.
Некоторые считали, что англичане стали жертвой немецкой шпиономании. Впрочем, оба были довольны приговором и перед отправкой в крепость держались бодро. Тренча содержали в Глаце, а Брендона в Кенигштейне, и пребывание в крепости среди студентов и дуэлянтов оказалось для них весьма комфортным.
Другим шпионом с громким именем стал юрист-доброволец из лондонского сити Бертрам Стюарт по кличке «Мартин», отправленный в Германию в июле 1911 года. Военного начальника Стюарта, сэра Макдонога интересовал «Флот Открытого моря» (Hochseeflotte), созданный в 1907 году. Подозревали, что этот загадочный германский флот станет форпостом нападения на Британию. Существовала версия, что хитроумный Макдоног еще до отправки Стюарта знал, где находится пропавший флот, и это задание было лишь прикрытием: предвидя провал, он хотел сделать Стюарта двойным агентом, чтобы тот вошел в доверие к немецкой разведке. Стюарт встретился с агентом Рю на голландской границе и посулил ему деньги за сведения о немецком флоте, а Рю сдал его немецкой полиции. Стюарт, желавший из патриотических соображений послужить своей стране, стал жертвой банальной глупости и сразу оказался за решеткой. В Лейпциге на суде он произносил превосходные убедительные речи, однако 31 декабря 1911 года его приговорили к трем годам и двум месяцам крепости, и он оказался там же, где и Тренч, но реакция на приговор была иная: дилетанту Стюарту сочувствовали и пытались вытащить его. Адвокат назвал его блестящим юристом и честным человеком и настаивал, что Стюарт не мог быть «каким-то жалким шпионом».
Весной 1913 года Тренч, Брендон и Стюарт были освобождены по амнистии в связи со свадьбой королевской дочери. Позднее патриотичный Стюарт погиб на войне в 1914 году.
Эта череда провалов не свидетельствовала о плохом состоянии британской разведки. Шпионаж в Англии находился на высоком уровне, и занимались им разные ведомства: сухопутная разведка, разведка Морского флота, Адмиралтейство. В тот момент служба вышла на новый уровень и даже обладала подробным справочником военных укреплений на побережье Германии – так называемым The Naval «Baedeker». Немцы не подозревали об этом до 1910 года, когда на процессе британских агентов эта новость была озвучена капитаном Тренчем: он попытался оправдаться тем, что они с Брендоном, как одержимые и амбициозные исследователи, намеревались лишь создать собственный справочник, похожий на The Naval «Baedeker», но оснащенный новыми данными о географии Германии. Тогда-то немцы и узнали о существовании в Англии этой книги. Газета The Press от 3 февраля 1911 года упоминала этот секретный справочник в контексте судебного процесса. Однако говорилось и о «неуклюжих методах шпионажа тех лет», и о том, что «большая часть разведывательной информации, добывавшейся всеми сторонами, была очень плохого качества: либо переписанной из технических журналов либо, еще хуже, полностью вымышленной».
* * *
Третьим типом агентов были простые обыватели, или «поставщики товара». Шпионы обеих сторон вербовали себе рядовых агентов среди населения и платили им как поставщикам молока, а сведения именовали «товаром».
Подобный сюжет с вербовкой алчного обывателя – и, надо сказать, очень правдоподобный – встречается у Конан Дойла в рассказе «Его прощальный поклон». Шерлок Холмс выдает себя за ирландца-англофоба, чтобы войти в доверие к германскому шпиону: ирландцы были слабым звеном Британии, и некоторые из них охотно шли на соглашательство с немцами за идею, но в большей степени – за деньги.
При встрече «наниматель» и «поставщик» совершенно не романтично торговались. Первый утверждал, что не заплатит, пока не поймет – стоит «товар» денег или нет, второй упирался, боясь оказаться обманутым. Но такие отношения никогда не перерастали в профессиональное сотрудничество и оставались на уровне «контрактной» формы.
Методы разведки
В задачу разведчиков входили внедрение дезинформации в стан противника, добывание военной, политической и экономической информации, вербовка новых агентов, разоблачение неприятельской агентуры, саботаж работы противника, борьба с вражеской пропагандой.
В связи с этим и методы работы были весьма разнообразны. Активно использовалась дезинформация, провоцирующая противника на активные действия. Например, Адмиралтейство с помощью своих агентов распространяло слух о готовящейся атаке британского флота, преследуя несколько целей – сбить с толку противника, обозначить его наиболее уязвимые географические пункты, выявить состояние его частей. Немцы начинали концентрироваться в портовых городах Германии, подтягивая туда свои лучшие силы. Так англичане узнавали состав германского флота и наиболее не защищенные географические пункты страны.
Немецкий агент Жюль Зильбер, проработавший всю войну почтовым цензором в Лондоне, не только находил в почте нужные ему сведения, но и саботировал работу британской контрразведки, путая корреспонденцию и смешивая с общим потоком заинтересовавшие его письма. Многие думают, что секретная информация содержится в основном в правительственной переписке, но это не так. Наиболее важные сведения можно обнаружить в частных письмах, газетной и банковской корреспонденции. Зильбер обращал внимание на письма восторженных девушек, откровенно рассказывавших в письмах подругам, где служат их приятели. Так, одна молодая особа, сообщая живущей в Канаде сестре о своем женихе, невольно подсказала Зильберу местоположение и параметры крупнейшей подводной лодки, на которой служил ее жених, награжденный отпуском за боевые заслуги. Зильбер, взяв выходной, отправился по назначению и засел с биноклем поблизости от лодки. Он наблюдал весь процесс погрузки и смог пересчитать и зарисовать укрепления корабля.
Второй «респонденткой» Зильбера стала газетная репортерша Молли. Довольно быстро он понял, что Молли – вымышленное имя, а девица на самом деле работает вовсе не журналисткой: свои обзоры она посылала тетке в Массачусетс, и они содержали секретную информацию. Молли и в голову не приходило, что все ее письма читает немецкий шпион.
Особое торжество испытал Зильбер, когда наткнулся в частном письме, отправленном в США, на упоминание секретной встречи руководителей центральных держав летом 1917 года. Проживавший в Нью-Йорке адресат письма оказался одним из директоров банка «Морган».
Немецкий шпион Карл Хайнц Лоди использовал другой метод получения информации: он проводил время в портовых барах, заводя беседы с морскими офицерами. Одна из его телеграмм «Вынужден отменить встречу; Джонсон серьезно заболел; потерял четыре дня. Скоро уеду. Чарльз» на самом деле означала, что четыре военных корабля стоят в доках на ремонте, а в порту есть еще несколько крупных кораблей, готовых выйти в море.
Средства связи
Эпоха Великой войны знает различные способы передачи информации – от привычных до совершенно невероятных. В 1914 году британские шпионы пользовались радиостанциями в тылу противника и получали инструкции из Северной Франции и Бельгии, но такой вид связи осложнялся из-за перебоев с бензином и навязчивого стрекота передатчика, который мог привлечь внимание врага. Армия уже имела в каждой дивизии пеленгаторы для выявления радиостанций – главное «ноу-хау» эпохи Великой войны. Участвовали в расшифровке кодовых сообщений и радиолюбители. Однажды энтузиасты смогли разгадать шифр, посланный радиостанцией в Науэне: немецкая какофония, передававшаяся по радио и записанная на грампластинку, была прокручена с другой скоростью оборотов и внезапно превратилась в кодированные сообщения от испанского резидента.
Поэтому агенты, сидевшие в тылу, порой пренебрегали передатчиками и прибегали к средствам оповещения, которые можно было счесть достоянием пещерного века. К примеру, весьма популярными были световые и дымовые сигналы. Рассказывали о голландских монахинях, пускавших клубы дыма из печной трубы каждый раз, когда союзники планировали переброску войск, и о хозяйках, развешивавших выстиранную одежду в разном порядке и разной цветовой гамме, чтобы с самолета эти послания были хорошо видны.
В таких условиях на приграничных территориях началась шпионская паранойя. Если кто-то играл на музыкальном инструменте, это считали маскировкой работы передатчика. Из города вызывали музыкального эксперта проверять звон колокольни: в незапланированных паузах между ударами могла скрываться азбука Морзе. Подозрительными казались часы на ратуше, стрелки которых все время отставали. Жители считали, что предатель – бургомистр, подающий сигналы перестановкой стрелок. Немецкая бомба положила конец сплетням, разрушив башню.
Английские контрразведчики боролись с ветряными мельницами, детскими воздушными шариками, настольными лампами. По их приказу сбивали воздушные шары, бумажных змеев, цепеллины, почтовых голубей и попугаев. Целыми днями офицеры искали замаскированные в кустах и оврагах телефонные линии, изучали следы на снегу и сигналы на полях. Невспаханное поле могло означать отсутствие перемен, а вспашка тигровыми полосами оповещала об атаке союзников. Англичане интересовались у крестьян методами вспахивания, вызывая у них удивление, и ежедневно вели аэрофотосъемку полей. Собак и рыб проверяли как возможных курьеров. Одним из мифов стала дрессированная полицейская овчарка из Армантьера, переходившая границу со сведениями в ошейнике и получавшая за это лакомство в виде куска мяса. Но умному псу повезло больше, чем тем контрразведчиками, которым приходилось изо дня в день потрошить выловленную сетями дохлую рыбу в поисках шпионских донесений.
Легендарные агенты
Фердинанд Тохай пишет, что резидентом обычно был мужчина, хорошо законспирированный респектабельный предприниматель, вербовавший агентуру: гувернантку из семьи генерала, служащего отеля, портового парикмахера, гастролирующую актрису, проигравшегося в карты солдата, агента пароходной компании, сотрудника Красного Креста. По словам британского разведчика, женщины ненадежны в шпионаже: они склонны к преувеличениям, дают волю воображению и годятся для исключительных авантюр, а не для повседневной работы. Мужчин губит корысть, женщин – тщеславие и эмоциональность. Он приводит в пример молодую датчанку, влюбившуюся в немецкого офицера, за которым она должна была следить.
При этом Великая война выявила немало женщин-агентов, на которых делалась высокая ставка.
Самым популярным шпионским скандалом войны 1914–1918 годов считается история МАТЫ ХАРИ, танцовщицы храма в Бирме, выдававшей себя за внучку индонезийского императора. На самом деле ее звали Маргарита Гертруда Зелле, родилась она в Голландии в семье шляпника из Лувардена и на острова попала позднее. Громкое дело артистки, соблазнявшей офицеров разведки под кодовым именем «агент Н21», превратило Мату Хари в героиню бестселлеров и боевиков. Ее экзотическая красота, жемчужные гирлянды, усыпанная камнями диадема, полуголое гибкое тело притягивали мужчин. В 1905 году Мата Хари была самой высокооплачиваемой танцовщицей Европы и выступала в салонах парижской аристократии, в доме барона Ротшильда, во дворце «Олимпия». Она привыкла жить расточительно, поэтому не вылезала из долгов и легко дала себя завербовать немецкой разведке. Ее впервые заподозрили в шпионаже, когда она работала в мадридском мюзик-холле в 1915 году. В 1916 произошло ее знакомство с немецким консулом в Нидерландах Карлом Крамером. После этого глава французской контрразведки Жорж Ладу приставил к ней двух агентов наружного наблюдения, которые писали в своих отчетах, что она ведет себя как куртизанка, посещает офицеров и живет на широкую ногу даже в тяжелые военные годы. Ладу предложил ей 25 тысяч франков за каждого сданного вражеского шпиона, и алчная артистка стала двойным агентом. Но вскоре в эфире радиостанции Эйфелевой башни в Париже была перехвачена радиограмма, в которой сообщалось о том, что немецкая разведка в Мадриде перечислила амстердамскому агенту «Н21» 15 тысяч марок за выполненную задачу. Это послужило причиной ареста Маты Хари. Ее поместили в тюрьму Сен-Лазар. Существует версия, что судебный процесс Маты Хари в 1917 году был чисто демонстративным, рассчитанным на ее громкое имя, поскольку толку от шпионки было немного. Мату Хари расстреляли 15 октября 1917 года под Парижем, возле замка Венсан. На расстрел она вышла в роскошном платье и помахала солдатам перчаткой. При этом адвокат разрыдался, а один из солдат расстрельной команды упал в обморок.
* * *
Тохай считал, что Мату Хари сгубила ее популярность: она была слишком заметной. Менее известной, но гораздо более успешной сотрудницей разведки стала ЭЛИЗАБЕТ МЮЛЛЕР ШРАГ. С 15 сентября 1914 года Мюллер, в совершенстве знавшая французский язык, работала, подобно Жюлю Зильберу, почтовым цензором, но не в Лондоне, а в оккупированном Брюсселе. Ее коньком были частные письма военных из Бельгии и Северной Франции, из которых можно было почерпнуть много ценных сведений. Однако Мюллер этим не ограничилась. Она сняла номер в отеле рядом с апартаментами генерал-губернатора и вошла к нему в доверие, а потом устроилась на работу к фельдмаршалу. Обаяние, усердие, такт и интуиция сделали Мюллер к 1915 году главным германским агентом во Франции. Она оставалась в тени, но именно поэтому была столь эффективным поставщиком информации. За боевые заслуги Элизабет Мюллер получила железный крест первого класса, но сопряженная с риском работа подорвала ее здоровье, и после войны шпионке пришлось долгие годы лечиться в госпиталях.
* * *
Автор мемуаров ЖЮЛЬ КРОУФОРД ЗИЛЬБЕР был военным врачом, участником англо-бурской войны. Еще в детстве он попал с родителями в Африку и говорил по-английски без акцента, а также знал язык буров. В начале войны Зильбер был направлен в Лондон, где снял небольшую квартиру в Черинг Кроссе и стал перлюстрировать почту для британской контрразведки Ml5. Ему повезло: хозяева тщательно готовили его заброску в тыл врага, британская контрразведка его прошляпила, работа в почтовом ведомстве Солсбери оказалась не столько рискованной, сколько требующей внимания и хорошей памяти. Поначалу Зильберу приходилось запоминать большие тексты, которые он не мог копировать у всех на глазах, позднее он оборудовал у себя в ванной лабораторию для проявки фотографий.
Немецкий педантизм, над которым иронизировал Тохай, очень помог Зильберу: он никогда не уходил из дома на тайную встречу, не заручившись заранее концертными и театральными билетами, обеспечивавшими ему алиби на случай провала. Зильбер оставался в британской контрразведке до конца июня 1919 года и ни разу не был заподозрен. От директора M15 он даже получил благодарность за честную службу. Многие высшие чиновники узнали о деятельности Зильбера лишь через 15 лет, когда он вышел в отставку.
«Зильбер шпион? – удивился руководитель почтового ведомства сэр Эдвард. – Да такого просто не может быть».
* * *
Трагичнее сложилась судьба известного разведчика КАРЛА ХАЙНЦА ЛОДИ: он родился в 1877 году в семье офицера и с детства был склонен к риску. Сведения о военном флоте, которые он добывал, оказались крайне важны для немцев. 5 сентября 1914 года был взорван флагманский крейсер «Пэсфайндер», окруженный эскортом катеров. Из 270 человек экипажа большая часть погибла. И эта атака, и взрывы в артиллерийских погребах были результатом донесений Лоди. Отправляя 6 сентября 1914 года свое второе донесение, Лоди в эйфории от первой удачи забыл зашифровать его. Донесение застряло в ведомстве почтового контроля, и за агентом установили наблюдение. Следующее донесение также было перехвачено. Заметив слежку, Лоди с фантастическим хладнокровием явился в полицию и пожаловался. Его спокойствие смутило полицейских, и перед ним извинились. Следующей рискованной ситуацией стала случайная встреча со знакомым американцем, который мог его выдать, и Лоди уехал в Лондон.
В сентябре 1914 года Лоди отправил в Стокгольм подробное описание оборонительных сооружений и вооружения британских кораблей в Северном море. 28 сентября он уехал на западное побережье Англии, где выяснил, что в ливерпульских доках крупные океанские пароходы переделывают в вооруженные крейсера. Его попросили предъявить документы, но и на этот раз не задержали. В последнем сообщении от 30 сентября 1914 года Лоди сообщил, что, возможно, его скоро арестуют. Агента задержали в конце октября в гостиничном ресторане. При обыске в номере нашли германские деньги, записную книжку с текстом первой телеграммы, адреса жителей Берлина, Гамбурга и Бергена. Несмотря на помощь лучшего лондонского адвоката, Лоди спастись не удалось, и он стал первым немецким шпионом, приговоренным в Лондоне к расстрелу. Он погиб 3 ноября 1914 года, на четвертый месяц войны.
* * *
Однако судьба Лоди и других профессиональных агентов, «спалившихся» в ходе войны, меркнет в сравнении с той чудовищной «охотой на ведьм», которая развернулась в первые дни войны. Летом 1914 года на приграничных территориях массово уничтожали случайных людей, принятых за шпионов. Их были сотни – женщины, отправившиеся в поле за картошкой; заблудившиеся старики; рабочие из соседнего городка; вышедший на прогулку священник; аббат, посылавший телеграмму на почте; отец с подростком, в воскресный день запускавшие голубей. Это были мирные люди, никому не причинявшие вреда, но их никто не выслушал и никто не пожалел. Подозрительных людей просто подводили к оврагу и расстреливали без суда и следствия. Именно тогда «трагедия» впервые стала «статистикой», потому что начиналась Великая война.
Владимир Булдаков Первая мировая война и российские иллюзии прогресса
Сто лет назад многие считали, что участие в мировой войне приведет к обновлению России. «Ослепление прогрессом» доминировало над опасениями. В современной России также все чаще вздыхают об «упущенной» или «украденной» победе. Так, высказывается точка зрения, что Россия, ее экономика успешно модернизировалась не только до войны, но и в ее ходе, а к началу 1917 года держава была готова нанести решающий удар противнику. Если так, то революцию подготовили «заговорщики» – и «свои», и «чужие».
С чем связано появление подобных иллюзий? Имели ли они под собой реальную основу?
Война, утопии, надежды
Не стоит думать, что мифологическое сознание неуклонно уходит в прошлое: каждая историческая эпоха порождает свои разновидности утопий. Обычно научные и технологические достижения умножают число «романтиков прогресса». Именно это случилось в Европе начала XX века. К этому времени в силу всеобщего «омоложения» в результате демографического бума уплотнившегося населения, одновременного усиления миграционных процессов, прогресса коммуникаций и mass media мир сделался «тесен» – разумеется, сравнительно с представлениями о «справедливости» существующего передела мира. Человечество вступало в глобальный период своего существования не только с наивными, но и агрессивными умонастроениями – сказывалась инерция имперского мышления, помноженная на «достижения цивилизации».
Как ни странно, с грядущей войной связывали радужные надежды. Европейские гуманисты высказывали уверенность, что нынешняя «освободительная» война призвана положить конец всем войнам на земле. Российские националисты вспомнили о «братьях-славянах» и об «исторической необходимости» завоевании Царьграда, либералы рассчитывали с помощью верноподданничества убедить власть даровать «конституцию» и гражданские свободы, левые силы надеялись, что война, так или и иначе, приблизит к идеалам не только демократии, но и социализма. Слишком многим казалось, что война способна разрубить гордиев узел бесчисленных проблем.
На этом фоне не могли не проявить себя любители делать из нужды добродетель. В России некоторые «оптимисты» убеждали, что, в отличие от передовых стран, ее «отсталый» хозяйственный организм «не может быть поколеблен в своих устоях бедствиями будущей войны». Предполагалось, что от длительной войны, губительной для передовых экономик, Россия только выиграет. Поражения русско-японской войны не отрезвили подобных авторов, хотя более умудренные деятели и указывали на «легкомысленный авантюризм войны» со стороны политиков.
Предостережения не помогали. Незадолго до войны тогдашний министр А. В. Кривошеин, сподвижник П. А. Столыпина, отмечал, что предыдущее развитие России «едва не завершилось общим экономическим кризисом» начала XX века. «Если все останется в прежнем положении, – предупреждал он, – …то кризис этот неизбежен в более или менее близком будущем». Он был не одинок. Начальник Военно-морского управления Ставки верховного главнокомандующего адмирал Д. В. Ненюков считал, что «в последние пятьдесят лет перед войной Россия была тяжким хроником, хотя казалась здоровой и сильной», а армия не была готова к войне по причине «громадности и тяжеловесности бюрократической машины мирного времени».
На надежды на обновление России упорно прорывались сквозь страхи перед будущим. Обратимся к авторитету И.Х. Озерова, известного экономиста, члена Государственного совета. Накануне войны (9 июня 1914 года), выступая перед сенаторами, он заявил: «…Наша промышленность… обставлена массами пут. У нас… совершается нередко промышленный маскарад…Русские предприятия конструируются не на русской территории… где-то в Берлине, во Франции или в Англии». При таких условиях, считал он, «развивать производительные силы страны просто невозможно».
Сходные мысли высказывались и ранее. «Россия должна очистить Авгиевы конюшни бюрократизма», избавиться от взяточничества и административной волокиты, писали еще в 1907 году, причем, отнюдь не либеральные деятели.
Озеров наделял войну экономически освободительным характером. Это соответствовало всеобщим лозунгам войны, как войны за свободу. Предполагалось, что Россия «очистится» войной, избавится от всевозможных врагов – в том числе и внутри ее. Возможно, это произносилось с отчаяния. Как бы то ни было, прогресс технологий убеждал во «всесилии» человека. Соответственно, возросли «авантюристичность» и «безрассудность» социальной среды. Избежать мирового конфликта становилось все труднее – тем более, что господствовала убежденность, что новейшие средства уничтожения гарантируют его скоротечность.
Причина «застоя», по мнению Озерова, была обусловлена тем, что российская бюрократия ориентировалась на текущую конъюнктуру, а не на будущее. Чиновники предпочитали стабильность, а не прогресс. Как результат, экономическая политика оставалась пассивно-охранительной, промышленность не была приспособлена к работе в экстремальных обстоятельствах. Победить в войне рассчитывали исключительно за счет запасов мирного времени.
Озеров приводил впечатляющие примеры хозяйственных нелепостей. Так, больше половины российского экспорта в 1913 года приходилось на Германию, в результате чего «мы своими деньгами питали германскую промышленность» и «тем самым давали деньги на вооружение Германии». Теперь, чтобы освободиться от заграницы, считал он, предстояло развивать новые производства (машиностроение, химическое производство и т. д.). «Нам должно быть стыдно перед Богом и людьми, что мы, обладая такими естественными ресурсами, остаемся в кабале у других стран», – заключал он.
Ситуация выглядела противоестественной. Академик В. А. Вернадский в 1916-м констатировал, что из 61 полезного химического элемента в России добывалось только 31 – даже алюминий приходилось ввозить из-за границы, поскольку запасы бокситов в России не исследованы.
В своих алармистских настроениях Озеров и Вернадский были не одиноки. Инженер-электрик Э. О. Бухгейм приводил свидетельства специалистов, видевших в Германии «роскошно оборудованные фармако-химические заводы-дворцы, построенные, по заявлению самих немцев, наполовину на русские деньги». Начальник Главного артиллерийского управления (ГАУ) генерал А. А. Маниковский утверждал, что поскольку на протяжении многих лет Германия обеспечивала Россию вооружениями, то становление немецкой военной промышленности в значительной степени осуществлялось на русские деньги. Многие вели себя так, как будто война оставалась последней надежной на модернизацию России.
Европейская война и российская экономика
Иностранные предприниматели действительно играли непропорционально большую роль в российской экономике. Рассчитывать на инновационный рывок на автохтонной социокультурной базе не приходилось, хотя по уровню развития фундаментальной науки Россия не отставала от Запада.
В. И. Вернадский упорно надеялся, что война создает новую инновационную ситуацию: решающее значение приобретет соперничество в области изучения и использования собственных природных богатств. В начале 1915 года он выступил с предложением о создании Комиссии по изучению естественных производительных сил страны – КЕПС. Вместе с тем, он призывал к мобилизации ученых-естественников и даже гуманитариев по примеру инженеров, химиков, врачей и бактериологов, работающих на нужды обороны. По-своему видел модернизацию России Бухгейм. Он предлагал масштабную «электрификацию страны и широко организованную кооперации». Как известно, первым из этих предложений воспользовались большевики с их планом ГОЭЛРО.
Но органичного соединения «капитала ума и капитала денег» не получалось. Российских предпринимателей сковывала не только своя бюрократии. В августе 1914-го их охватила паника: выяснилось, что зависимость России от промышленно-технологического импорта непомерно велика. Эту тенденцию следовало преодолеть. Однако протекционистские формы государственного индустриализма по-прежнему развращали российский бизнес. По мнению Озерова, сказывались российская пассивность, нерасторопность, лень – результаты затянувшегося крепостничества. Как результат, отмечал он, до сих пор «никакой мы политики не проводили: мы одно знали – выжимать деньги из населения, выжимать всеми средствами».
В создавшихся условиях правящие верхи главные надежды возлагали на казенную промышленность. Считалось, что ее продукция обходится дешевле. Но современные исследователи решительно возражают, указывая, что в себестоимость ее продукции следует включать и государственные расходы на поддержание ее жизнедеятельности. В любом случае, рассчитывать на инновационную активность госсектора экономики не приходилось. Так, на первый год войны внутри страны было заказано 8647 орудий, а произведено лишь 88, то есть 1 % требуемого. Частично это было связано с медленной перестройкой производства.
Между тем, в верхах разгорелся спор каким должен стать новый оружейный завод – казенным или частным? Естественно, частные предприниматели всячески отстаивали свои интересы. В результате согласованный план строительства новых военных заводов так и не был реализован, и власть по-прежнему ориентировалась на заграничные заказы.
При этом хозяйственные слабости России стали связываться со «злокозненностью» немцев. Газеты требовали сбросить немецкое экономическое иго. Либерал С. И. Гессен ставил задачу создания нации, как «духовно-экономического целого» через «очищение» войной. В низах подобные призывы воспринимали в чисто шовинистическом духе. Рабочие принялись выявлять немецких «вредителей» на производстве, а это вряд ли способствовало повышению его эффективности. Но на «спасительность» по-прежнему надеялись, ибо казалось, что мирная модернизация России уже невозможна.
Экономика России была многоукладной, но основная причина хозяйственных неурядиц состояла не в этом. Строго говоря, всякая экономика многоукладна, другое дело – связи между укладами. Если они блокируются либо бюрократией, замыкающей естественный продуктообмен на себя, если они сдерживаются хозяйственной замкнутостью наиболее архаичных укладов, если, наконец, в низах нет гражданского понимания общего хозяйственного блага, в экстремальных обстоятельствах многоукладность может обернуться «многоконфликтностью» – войной всех против всех. Как ни парадоксально, до известной степени связку между укладами обеспечивал импорт сельскохозяйственных машин и оборудования. Теперь на него рассчитывать не приходилось, хозяйственные уклады в годы войны неуклонно «разъезжались». Но этой опасности не замечали. На втором году войны сохранялась убежденность, что «в производстве фабрично-заводских изделий недостатка нет, так как мы работаем на своем сырье», сельские производители выиграли от «сухого закона» и повышения цен на свою продукцию, в общем «война открывает перспективы будущих успехов, будущего подъема народного хозяйства» – таким было самое распространенное мнение.
Легкомыслие апостолов прогрессов?
Предвоенный бездефицитный российский бюджет базировался на косвенном налогообложении. Жесткий «золотой стандарт» обеспечивал приток иностранных капиталов. С другой стороны, громадный сельскохозяйственный экспорт создавал положительное внешнеторговое сальдо. С его помощью создавался «золотой мост», по которому шли средства для индустриализации. Но он мог действовать только в мирных условиях. В экстремальных обстоятельствах империя становилась должником более развитых стран. Ситуацию усугубило введение сухого закона, вызвавшего резкое снижение поступлений в казну.
«Оптимизм» верхов базировался на представлении, что война окажется скоротечной и накоплений мирного времени окажется достаточно. Не случайно к мобилизации всех ресурсов страны правительство начало прибегать лишь спустя год. А пока оно продолжало интенсивно и нерасчетливо закупать материальные ресурсы заграницей. Так, в начале войны французы предложили закупить стальные каски по цене 11 франков. Мнения российских военных верхов на этот счет разошлись. В конечном счете, каски все же закупили, но уже по цене 25 франков за штуку, хотя скоро выяснилось, что в России их вполне можно было производить. И англичане, и немцы воевали в своих защитных касках. В России «французские» каски можно было увидеть преимущественно в 1917 году на так называемых ударниках, а в 1920-е годы – на красноармейцах.
Уже к осени 1914 года обнаружилась нехватка винтовок – в результате, более половины винтовок, которыми воевали русские солдаты, было произведено за границей. «Окончательно отдаемся в руки добрых союзников, – иронизировали в Совете министров в марте 1916 года. – Переходим из огня в полымя, из немецкого засилья экономического в английское».
Импортировалось не только то, что в России не могли или не успевали произвести. Закупалось за границей и то, что имелось в стране в изобилии, – например, серный колчедан, без которого был невозможно производство взрывчатых веществ. Возникали и «странные» нужды. Так, американский рынок получил из России заказ на производство 400 тысяч пехотных топоров, 600 тысяч киркомотыг, 2,5 тысяч пудов колючей проволоки…
В результате для заказов за рубежом требовались все более значительные суммы. В июне 1915 года министр финансов П.Л. Барк признал: «Надо ждать крушения финансовой системы». А. А. Маниковский, со своей стороны, пришел к выводу, что деньги, израсходованные на экспорт, эффективнее было потратить на развитие отечественной промышленности. В результат, затратив более 300 миллионов рублей на иностранные автомобили, в ноябре 1915-го решили развивать их отечественное производство.
Как вели себя в этих условиях российские промышленники? Известно, что многие жертвовали громадные суммы на нужды армии. Но обычно это было всего лишь частью верноподданнического ритуала, не исключавшего азарта наживы. Кое-кто при этом преуспел. Так К. И. Ярошинский, получивший 400-миллионный кредит в Государственном банке на организацию военной промышленности, потратил значительную часть этих средств на скупку прибыльных сахарных заводов. В правительственных верхах говорили: «Наши заводчики – шайка, с которой надо действовать решительно».
Тотальная война и продовольствие
Тотальная война легко превращается в войну на истощение. И здесь Россия проиграла. Причем вовсе не из-за недостатка продовольствия, как случилось в Германии.
Полная или частичная военная блокада любой страны обнажает слабые места ее народного хозяйства: зависимость от внешнего мира, управленческие изъяны, отраслевые диспропорции, технологические упущения, слабости инфраструктуры. Но при этом становятся ясны и пути преодоления недостатков системы с помощью скрытых внутренних резервов. В годы войны выяснилось, что российская власть предстает беспомощной в перестройке народного хозяйства. Особенно болезненно это сказалось на продовольственных поставках. Среднегодовой сбор хлебов в России в 1910–1913 годах составлял 4,5 миллиарда пудов, потребность населения и армии составляла 3 миллиарда. До войны ежегодно вывозилось до 680 миллионов пудов, то есть 15 % общего сбора. В 1915 году вывезли всего 31 миллиона пудов. Откуда же взялась продовольственная проблема?
Причина носила системный характер. Не было выработано общего, детально проработанного плана снабжения армии; запас жиров был израсходован в первые месяцы войны, а при эвакуации из западных губерний часть скота погибла или досталась неприятелю. Виной было управленческое безволие. К тому же теперь руки у правительства были связаны распоряжениями военных властей. 2 декабря 1915 года Кривошеин отметил в связи с этим: «Сплошное безумие, бедлам». Если такие «откровения» посещали преданных сторонников режима, то как могли повести себя низы?
Всякие ограничения в снабжении вызывали волну спекуляции, в том числе хлебом. Армейские снабженцы вынуждены были конкурировать не только друг с другом, но и с государственными закупщиками, многочисленными представителями земств и городов. Железные дороги не справлялись с продовольственными перевозками. В ноябре 1916-го командующий Юго-Западным фронтом А. А. Брусилов жаловался министру земледелия А. А. Риттиху, что «крайнее однообразие пищи действует угнетающе на людей». Но главная причина коллапса снабжения была в отсутствии понимания между властью и основной массой хлебопроизводителей – крестьянами.
Целей войны крестьяне не понимали, сдавать государству хлеб, не получая взамен «городских» товаров, не желали. Их следовало чем-то стимулировать, но чем? Как? Начальник Генерального штаба H. Н. Янушкевич в июле 1915 г. признавал: «Сказочные герои и альтруисты – единицы». Он предлагал «купить героев» из крестьян, пообещав им прирезать земли после войны. Совет министров отверг это предложение как невыполнимое. Государство неуклонно двигалось к реквизициям «излишков» продовольствия у его производителей.
Вместо качественного обновления экономики многократно возрастал выпуск старых видов вооружений – винтовок, пулеметов. О массовом производстве тяжелых артиллерийских орудий и, тем более, самолетов и танков, казалось, никто не помышлял. Тем не менее, к концу 1916 года в верхах появилось убеждение, что Россия может вести наступательную войну. Печальная сторона брусиловского прорыва, в результате которого русская армия понесла громадные потери (с начала наступления до конца 1916 года 262 764 человек только убитыми против 73 916 у неприятеля), не принимались во внимание. О том, что империи предпочтительнее обороняться, ибо она лишена новейших видов вооружений, не хотели думать. В тогдашней России верхи не задумывались ни о цене победы, ни, тем более, о человеческой цене прогресса в целом. Между тем, независимо от «объективных» обстоятельств и статистических данных, следовало бы учитывать, что к 1917 году народ устал от тягот войны и окончательно разуверился во власти. Ее организационные провалы пришлось смывать кровью.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что главная причина «нездоровья» российской экономики – в ее внутренней несбалансированности и слабости инфраструктуры. При этом в тотальной войне народ оказался отрезан от творческого участия в обновлении хозяйственной жизни страны. Более того, всякие «новшества» власти стали воспоминаться в низах подозрительно. При существующем уровне управленческой «расслабленности» участие России в мировом конфликте становилось для нее губительным.
На фоне былой панической неразберихи всякая производственно-экономическая стабилизация могла носить лишь временный характер. Этого не замечали, а потому к концу 1916 году в верхах и появилось убеждение, что Россия может успешно продолжать войну. Но какой ценой? Того, что империя может более или менее успешно лишь обороняться, ибо не располагает новейшими видами вооружений, не замечали. Не замечали и еще более опасного разрыва между индустриальным и аграрным секторами экономики.
Близорукость столетней давности поразила некоторых современных авторов, поразила утратой чувства реальной истории, власть упивалась манипуляциями с заведомо лукавыми цифрами или «дутыми» ведомственными показателями.
В чем же причина современных «модернизационных» иллюзий, связанных с Первой мировой войной? Понятно, людям, неспособным добраться до первопричин инновационных провалов в России, хочется все свалить на внешние факторы, указать на всевозможных «злоумышленников» и «врагов России». Сказывается и непреходящее угодничество перед властью всевозможных придворных «историографов». Со своей стороны, массовое сознание, развращенное поветрием конспирологии, легко принимает на веру все то, что подсовывается ему из «патриотических» соображений.
Но главное – в другом. До тех пор, пока российская власть будет воображать себя «самой умной», а народ видеть в ней единственную спасительницу от всевозможных напастей, вместо самостоятельного обновления России мы будем до бесконечности надеяться на неведомое «чудо спасения». С подлинной модернизацией эта вера не имеет ничего общего. Опыт Первой мировой войны это наглядно показал.
За безудержные иллюзии «государственных мужей» приходится расплачиваться массам. Еще дороже обходится забвение уроков истории. А потому, независимо от «объективных» обстоятельств, следует помнить, что к 1917 году народ устал от тягот войны и окончательно разуверился во власти, неспособной к социально осязаемой модернизации страны.
Юрий Жук Вступление России в Великую войну
После окончания Русско-японской войны 1904–1905 года, весь курс внешней политики Государя Императора Николая II был направлен на сохранение мира.
И поэтому, буквально, с самого начала Своего Царствования Государь всеми силами старался не допускать какой-либо войны. И уж, тем более, в мировом масштабе. Яркий пример этому – Гаагские инициативы Государя 1899 года, впервые поставившие на государственный уровень задачу ограничения вооружений армий всего мира и создавшие Гаагский Международный Суд. Но несмотря на их разумность, большинство стран встретило эти инициативы либо с иронией, либо с недоумением…
В ходе реформы, проходившей в Российской Императорской Армии в 1907 году, Государь Высочайше утвердил «Наказ Нижним чинам Русской Армии о законах и обычаях сухопутной войны», который раздавался русским солдатам во время Первой мировой войны, а на обратной стороне находился текст «Молитвы перед сражением»:
1. Воюешь с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями. Неприятелями могут быть и жители неприятельской страны, но лишь в том случае, когда видишь их с оружием в руках.
2. Безоружного врага, просящего пощады, не бей.
3. Уважай чужую веру и ее храмы.
4. Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущества сам не порти и не отымай, да и товарищей удерживай от этого. Жестокость с обывателями только увеличивает число наших недругов. Помни – что солдат – Христов и Государев воин, а потому и должен поступать как Христолюбивый воин.
5. Когда окончилось сражение, раненого жалей и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая – свой он или неприятельский. Раненый уже не враг твой.
6. С пленными обращайся человеколюбиво, не издевайся над его верою; не притесняй его.
7. Обобрание пленных, а еще хуже того раненых и убитых – величайший стыд для честного, солдата; польстившемуся на такое действие грозят тягчайшие наказания как за разбой.
8. Если приставлен будешь к пленным, охраняй их от приставания посторонних. При попытке пленного бежать, задерживай его, зови на помощь, в крайности действуй оружием.
9. Палатки и дома, где находятся раненые и больные, обозначены всегда белым флагом с красным крестом, – в эти места не стреляй и не ломись.
10. Не трогай людей, хотя бы и в неприятельской форме, у которых на рукаве белая повязка с красным крестом, – они ухаживают за больными и ранеными и лечат их.
11. Увидишь неприятеля с белым флагом – не стреляй в него, а направь к начальству – это переговорщик – лицо неприкосновенное.
В 1910-х годах на международной арене вновь обострились противоречия, в которые была вовлечена и Россия, выступавшая на стороне Антанты, противостоявшей Тройственному Союзу – Германии, Австро-Венгрии и Италии. И, в первую очередь, эти противоречия касались геополитических интересов этих промышленно развитых стран в Иране, Афганистане и на Дальнем Востоке. Прежде всего, – на Балканах, где сосредоточили своё внимание Германия, Англия, Франция, Австро-Венгрия и Россия. Для России же самым важным был вопрос об открытии проливов Босфор и Дарданеллы, по которым проходили российские суда, поскольку через эти проливы в начале XX века вывозилось до трети российского экспорта, и в том числе – 75 % экспорта хлеба.
Осенью 1913 года Председатель Совета министров граф В. Н. Коковцов, возвратившись из Германии, предупреждал Государя о том, что война окончится катастрофой для династии.
В 1913 году была принята «Большая программа по усилению армии», в соответствии с которой в течение 3-4-х лет следовало увеличить Российскую Императорскую Армию на 480 тыс. чел., то есть, на 39 %. При этом: пехоту – на 57 %, кавалерию – на 8 %, артиллерию – на 27 %, а технические войска (включая и воздухоплавательные части) – на 3 %. А также построить новые стратегически важные железные дороги и т. д.
Однако война началась гораздо раньше.
Летом 1914 года в Боснии проходили военные маневры, организованные Австро-Венгрией. На них в Сараево прибыл Наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд, которого в день открытия маневров 15 (28) июня убил вместе с супругой член революционной организации «Млада Босна», 19-ти летний Таврило (Габриэль) Принцип.
Это покушение стало прологом войны. Австро-Венгрия объявила Сербии жёсткий ультиматум и под предлогом защиты своих соотечественников, ввела войска на её территории. Австро-Венгрию поддержала Германия. В свою очередь, Россия попыталась удержать страны от военных действий, но все её попытки закончились неудачей.
14 (28) июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии.
15 (29) июля 1914 года Высочайшим Указом в России была объявлена Всеобщая Мобилизации.
Германия потребовала остановить её, но Россия не выполнила этого требования, и 16 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила России войну, которая к концу августа охватила не только Европу, но перекинулась на другие континенты и переросла в Первую мировую войну.
Прекрасно осознавая свою глубокую ответственность за судьбу России и за жизнь своих подданных, Государь также понимал, что эта европейская война может грозить самыми непредсказуемыми последствиям.
В своих воспоминаниях Великий Князь Александр Михайлович писал: «Император Николай II делал всё, что было в его силах, чтобы предотвратить военные действия, но не встретил никакой поддержки в своих миротворческих стремлениях у своих ближайших соратников – министра иностранных дел и начальника Генерального штаба».
Однако, вопреки воле Государя, война всё же началась. Причём, в отличие от всех остальных государств, в России она называлась не Первой мировой, а ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ.
(До 1941 года наименование «Великая война» было упразднено со страниц советских изданий по идеологическим соображениям, в которых Первая мировая война именовалась, не иначе как «Империалистическая война». С началом же войны между Германией и СССР таковая, по инициативе И. В. Сталина, стала называться «Великой Отечественной войной», где слово «Великая» было «позаимствовано от войны 1914 года, а слово «Отечественная» – от войны 1812.)
Эту всенародную трагедию Государь воспринял не только как тяжёлое испытание, ниспосланное России Господом, но и как угрозу её национальной независимости и свободы. Но Он также полагал, что в эти дни испытаний весь Русский Народ должен объединиться и дать отпор германскому натиску. И этими же чувствами пронизаны слова Высочайшего Манифеста:
«(…) Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих Держав.
Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все Наши подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепиться ещё сильнее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшись как один человек, дерзкий натиск врага».
Немалая часть русского общества во главе с «прогрессивной интеллигенцией» встретила начало войны с восторгом. Но если Государь и истинные патриоты Отечества ставили на первое место победу русского оружия, то «прогрессивные» представители российского общества – лишь победу русской «демократии», а точнее – перемену государственного строя.
И пока Государь совершал постоянные поездки между столицей и действующей армией и делал всё для приближения победы, часть российской общественности создавала всевозможные комитеты, «анализировала» неудачи на фронте, критиковала правительство, на все лады обвиняла «царя и правительство» во всех постигших страну неудачах. И чем далее немецкие войска продвигались вглубь Российской Империи, тем громче раздавались крики об «измене», «неспособности власти» и «бездарности командования».
И вот в этот, казалось бы, в самый критический для России момент, когда многие считали, что Россия уже проиграла войну, Государь летом 1915 года принял на себя Верховное Командование, после чего, казалось бы, бесконечное отступление было вдруг остановлено. И не только остановлено, но и закреплено серьёзными успехами, особо проявившимися в 1916 году, ярчайшим примером которых является Брусиловский прорыв.
Однако многие годы в сознании наших соотечественников был плотно укоренён миф об этом, якобы, «роковом шаге» Государя, по мнению многих ускорившем события Февральской революции и последовавшего за ней Октябрьского переворота.
Принятие же Государем главенства над войсками имело две причины: военную и политическую.
Первая из них заключалась в предшествующих этому времени военных поражениях и слабом руководстве войсками Великим Князем Николаем Николаевичем. А вторая, куда более серьёзная, в созревающей в недрах Государственной Думы прямой измены, имевшей конечной целью, «в худшем случае» – ограничение Верховной Власти Самодержца, а в «лучшем» – Его свержение.
Причины смещения Великого Князя Николая Николаевича с должности Верховного Главнокомандующего
К лету 1915 года над Русской Армией возникла угроза окончательной катастрофы, так как её успехи в Восточной Пруссии и Галиции в течение первого года войны не были развиты, что в конечном итоге привело к столь печальным итогам.
В указанное время германские войска под общим командованием Генерал-Фельдмаршала П. фон Гинденбурга, воспользовавшись своим подавляющим большинством в тяжёлой артиллерии, обрушили на русские войска ураганный огонь, в результате чего фронт в районе Горлицы был сметён, и немецкие части вторглись в пределы Царства Польского и Прибалтийских губерний. И уже к августу месяцу вся территория русской Польши была в руках противника, а после того, как был оставлен Брест-Литовск и Новогеоргиевск, враг вышел к территории Белорусских губерний.
В это же самое время, веря в Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича и его полководческие способности и твёрдость духа, русские люди с надеждой ждали от него каких-либо конкретных действий по исправлению сложившейся ситуации.
Но их, к сожалению, не последовало…
Однако, прежде чем продолжить наш рассказ, думается, следует сказать, хотя бы несколько слов о личности Великого Князя, жизнь которого люди того времени знали из светской и официальной хроники, породившей множество мифов, некоторые из которых дошли до наших дней.
Так кем же на самом деле был этот человек, сыгравший в судьбе династии не самую благовидную роль?
Великий Князь Николай Николаевич-младший родился 6 (18) ноября 1856 года и был первенцем в семье Великого Князя Николая Николаевича-старшего и Великой Княгини Александры Петровны (рожд. Принцесса Ольденбургская Александра-Фридерики-Вильгельмина). В династической иерархии Романовых Великий Князь Николай Николаевич-младший приходился племянником Императору Александру II и двоюродным дядей Императору Николаю II.
Вступил в службу 11 июля 1871 года, окончил Николаевское инженерное училище и Академию Генерального Штаба, в Русско-турецкой войне 1877–1878 года уже участвовал в чине полковника, состоя офицером по особым поручениям при своём отце – Главнокомандующем Российской Императорской Армией.
А далее его послужной список выглядел следующим образом:
С 6 мая 1884 года – Командир Лейб-Гвардии Гусарского полка.
С 10 ноября 1890 года – Командир 2-й бригады 2-й Гвардейской Кавалерийской дивизии.
С 11 декабря 1890 года – Командир 2-й Гвардейской Кавалерийской дивизии.
С 1893 года – Генерал-Лейтенант, с 1896 года – Генерал-Адъютант.
С 6 мая 1895 по 8 июня 1905 года – Генерал-Инспектор Кавалерии.
С 8 июня 1905 года по 26 июля 1908 года – Председатель Совета Государственной Обороны (СГО), который 5 мая 1905 года был создан по его инициативе.
С 26 августа 1905 года – Командующий войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного Округа.
Как и все члены Российского Императорского Дома Романовых Великий Князь получил прекрасное образование, был отличным наездником и хорошо знал кавалерийское дело. И по словам хорошо знавших его военачальников, именно при его деятельном участии был принят хорошо усовершенствованный «Строевой Кавалерийский Устав».
Но наряду с этим, подчинённые отмечали грубость, нетерпимость и мелочность Великого Князя Николая Николаевича, а также его огромное самомнение и стремление доминировать во всём. И именно эти его качества проявились в полной мере тогда, когда он стал активно вмешиваться во внутренние дела государства. И со временем со своими родственниками и лицами из числа их окружения даже составил некую оппозицию, которую Государыня Императрица Александра Феодоровна нарекла как «чёрные». (Это прозвище она получила по титулованию Черногорских принцесс – Станы Николаевны и Милицы Николаевны, вышедших замуж за Великого Князя Николая Николаевича и его родного брата Великого Князя Петра Николаевича.)
Следует также отметить, что эти вмешательства Великого Князя отражались на государственных делах самым негативным образом. И примером этому – Высочайший Манифест от 17 октября 1905 года, который Государь подписал, буквально, под давлением своего двоюродного дяди.
Так, к примеру, рассказывали, что Великий Князь Николай Николаевич пришёл на приём к Государю с текстом Манифеста в одной руке и револьвером в другой. И объявил, что немедленно застрелится, если Николай II сей же час не подпишет этот документ. И как впоследствии писал в своих воспоминаниях бывший глава Кабинета Министров Граф С. Ю. Витте «Николай II никогда бы не подписал октябрьского Манифеста, если бы на этом не настоял Великий Князь Николай Николаевич».
Пребывая в должности Председателя СГО, Великий Князь постоянно вмешивался в работу Военного и Морского Министерств, из-за чего эти учреждения постоянно лихорадило, и что создавало разнобой в управлении войсками.
Помимо этого, он предлагал полностью перестроить Армию, в частности, упразднить Резервные войска и ввести единообразие военной организации для всей Российской Императорской Армии. Но этого ему было мало. Будучи сторонником наступательной доктрины, Великий Князь предлагал нацелить всю армию на доктрину наступательной войны. И при этом Великий Князь был горячим сторонником союза с Англией и Францией, и ярым противником Германии. Но самое главное заключалось в том, что он все свои настроения переносил на вопросы политического курса России, что могло грозить самыми непредвиденными последствиями.
Поэтому отнюдь не случайно премьер-министр П. А. Столыпин так характеризовал Великого Князя Николая Николаевича:
«Удивительно он резок, упрям и бездарен. Все его стремления направлены только к войне, что при безграничной ненависти к Германии очень опасно. Понять, что нам нужен сейчас только мир и спокойствие, дружное строительство, он не желает и на все мои доводы отвечает грубостями. Не будь миролюбия Государя, он многое мог бы погубить».
Мало того, даже во время Русско-японской войны, в которой Германия выступала на стороне России, Великий Князь всё равно носился с идеей начала войны с Германией, что само по себе в то время было абсурдно.
По данному факту С. Ю. Витте также оставил свои комментарии, в которых прямо указывал на то, что: «Было решено, что Главнокомандующим Армией, которая должна будет идти против Германии, будет Великий Князь Николай Николаевич, а Главнокомандующим Армией, которая будет действовать против Австрии, будет Военный Министр Генерал-Адъютант Куропаткин. Между Великим Князем Николаем Николаевичем и Куропаткиным уже начали происходить всевозможные разногласия по вопросам этой войны. Куропаткин во многом не соглашался с Великим Князем, причём я несколько раз слышал от Куропаткина самые отрицательные отзывы относительно проектов Николая Николаевича и вообще относительно его различных способностей как военного. Что касается оценки Великого Князя как человека, очень мягко выражаясь, самоуверенного и неуравновешенного, с весьма малым запасом логики, я был в этом отношении совершенно согласен с Куропаткиным».
Забегая немного вперёд, предоставим также слово Морскому Министру И. К. Григоровичу, который даёт Великому Князю, не менее лестную оценку в своих воспоминаниях о 1912 годе, когда кризис на Балканах чуть-чуть не вовлёк Россию в войну:
«Я мечтал отдохнуть, даже заказал себе билеты на два-четыре месяца за границу, но меня не пустил Государь Император. В Чёрном море завязываются военные осложнения на Балканском полуострове. Его Величество просит обождать, так как военная партия требует вмешательства, это именно Великий Князь Николай Николаевич, которому всё равно, готов Флот или нет, лишь бы начать войну с неготовой Армией (без артиллерии и проч.)».
Не желая терпеть данную ситуацию, сложившуюся исключительно по вине своего Августейшего родственника, Государь своим Указом 28 февраля 1909 года назначает своего родственника на весьма почётную, но не столь ответственную должность Попечителя Офицерского Собрания Императорской Армии и Флота.
Однако при всей своей воинственности, Великий Князь Николай Николаевич не очень-то любил заниматься военным делом.
Так, ещё в 1887 году он купил пришедшее в упадок имение в селе Першино Алексинского уезда Тульской губернии, где основал Першинскую Великокняжескую Охоту, а также широкую продажу выращиваемых там же щенков русских псовых борзых. А под руководством его Управляющего Д. П. Вальцева была выведена такая широко известная порода, как русская пегая гончая. Сама же Першинская Великокняжеская Охота просуществовала до 1914 года.
Тем не менее, для тех, кто близко не знал Великого Князя Николая Николаевича, он казался олицетворением воинской доблести и решительности, чему в немалой степени способствовал его огромный рост и громогласный зычный голос. И, разумеется, его военному авторитету способствовала в немалой степени военная слава его отца – победителя турок в войне 1877–1878 года.
С началом Великой войны Великий Князь, тем не менее, был назначен Верховным Главнокомандующим, хотя с самого начала предполагалось, что Русскую Армию возглавит лично сам Государь. Однако этого не произошло из-за противостояния Совета Министров, члены которого были убеждены в необходимости присутствия Государя в столице на время войны.
«Я лично не ожидал ничего хорошего от этого назначения Его Императорского высочества Главнокомандующим», – писал в своих воспоминаниях «При Дворе последнего Императора» Начальник Канцелярии Министерства Императорского Двора и Уделов Генерал-Майор А. А. Мосолов.
И уже довольно скоро, из-за неприятия Государем Верховного Командования, между Государем и его двоюродным дядей возникли разногласия, которые в силу его чрезмерных амбиций со временем перешли в раздвоение власти, что в конечном итоге привело к военно-политическому кризису в ходе первых лет войны.
Однако всё по порядку.
После назначения Великого Князя Верховным Главнокомандующим, при нём были созданы Ставка и Штаб. Главная квартира Ставки Верховного Главнокомандующего располагалась в Барановичах. Генерал от Инфантерии H. Н. Янушкевич стал Начальником Штаба, а Генерал-Квартирмейстером – Генерал от Инфантерии Ю.Н. Данилов.
Одним из первых шагов Николая Николаевича на этом посту стало воззвание к полякам, в котором за содействие России им обещалось объединение Польши и её автономия. В этом документе, обнародованном 14 августа 1914 года, Великий Князь, в частности, гарантировал от своего имени предоставление полякам в будущем гражданских свобод – «вероисповедания, языка и самоуправления». И надо заметить, что это воззвание представляло собой весьма дальновидный политический и государственный ход России, так как ни Германия, ни Австро-Венгрия не могли ответить на него обещанием объединить все части Польши, не задевая, тем самым, интересов друг друга. В результате этого Великий Князь Николай Николаевич снискал себе симпатию не только польского общества, но и заложил первый камень в фундамент дружбы между славянским населением стран Германского блока и России, что уже в следующем году позволило из военнопленных Австро-Венгрии и Германии славянского происхождения сформировать Отдельный Чехословацкий и Польский Корпуса.
Впечатляющая победа Русских Армий в составе войск Юго-Западного фронта в грандиозной Галицийской битве (6 августа – 13 сентября 1914 года) лишний раз укрепила общественное мнение в полководческих талантах Великого Князя.
Однако неудачный исход Восточно-Прусской операции в августе 1914 года, проведенной войсками Северо-Западного фронта, показал, что Верховный Главнокомандующий и его Штаб были не готовы управлять крупными контингентами войск и военными действиями в стратегическом масштабе.
Мало того, прекрасно зная о колоссальной нехватке снарядов для тяжёлой артиллерии и полевой артиллерии, а также боеприпасов для стрелкового оружия, также имевшегося не в полном объёме, Великий Князь, тем не менее, окрылённый первым успехом, продолжат вводить в действие свой план «глубокого вторжения в Германию».
И когда обстановка требовала безотлагательного отвода войск, Великий Князь придерживался самой губительной на тот момент для войск тактики: «Ни шагу назад!» А когда та же самая обстановка требовала закрепления войск на прежних позициях, Верховный Главнокомандующий отдавал приказы о беспорядочных отступлениях и уничтожения по ходу имущества и запасов местного населения.
Но, как ни странно, Великий Князь Николаевич был готов обвинить в этом поражении кого угодно, но только не себя.
Сначала с поста Главнокомандующего Армиями Северо-Западного фронта был смещён Генерал от Кавалерии Я. Г. Жилинский, а затем командующий 1-й Армией Генерал от Кавалерии П.К. Ренненкампф.
Вместо них Верховный назначил более «удобных» генералов: во главе армий этого фронта встал будущий изменник Генерал от Инфантерии Н.В. Рузский, а Командующим 1-й Армией был назначен Генерал от Кавалерии А. И. Литвинов. А вместо покончившего с собой Генерала от Кавалерии А. В. Самсонова в командование 2-й Армией вступил Генерал от Кавалерии С. М. Шейдеман.
Чтобы поддержать Великого Князя, Государь лично прибыл в Ставку, где пробыл несколько дней, выслушивая доклады командующих армиями и представителей Ставки ВГК. А в последний день своего пребывания, объявил о своём решении «…в воздание мужества, решительности и непреклонной настойчивости в проведении планов военных действий, покрывших неувядаемой славой Русское Оружие» при проведении блестящей Галицийской операции, вручил Великому Князю Орден Св. Георгия 3-й степени, а генералам НН. Янушкевичу и Ю. Н. Данилову – Ордена Св. Георгия 4-й степени.
И, тем не менее, несмотря на одержанные победы на раннем этапе войны, таковые не являлись исключительной заслугой Верховного Главнокомандующего, а, исключительно, генералитета, входящего в состав его Штаба.
Поэтому не случайно в своей книге «На службе трёх Императоров» Генерал от Инфантерии Н. А. Епанчин прямо указывал на то, что: «Во время Мировой войны во главе славного Русского Воинства стоял не Великий Суворов, а ничтожный Великий Князь Николай Николаевич».
А большой почитатель Великого Князя протопресвитер и член Священного Правительственного Синода о. Георгий (Г. И Шавельский) в своей книге «Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота» писал: «При внимательном же наблюдении за ним нельзя было не заметить, что его решительность пропадала там, где ему начинала угрожать серьёзная опасность. Это сказывалось и в мелочах, и в крупном: Великий Князь до крайности оберегал свои покой и здоровье; на автомобиле он не делал более 25 вёрст в час, опасаясь несчастья; он ни разу не выехал на фронт дальше Ставок Главнокомандующих, боясь шальной пули; он ни за что не принял бы участия ни в каком перевороте или противодействии, если бы это предприятие угрожало бы его жизни и не имело абсолютных шансов на успех; при больших несчастьях он или впадал в панику, или бросался плыть по течению, как это не раз случалось во время войны или в начале революции».
Не являлся секретом и тот факт, что Великий Князь никогда не находился в зоне огня противника, прикрывая свою собственную трусость мотивировкой о том, что он-де из-за своего высокого роста является «крупной мишенью»…
Не менее, чем опасение за собственную жизнь, Николай Николаевич боялся всякого рода ответственности. Поэтому всегда находил крайних, на которых перекладывал вину за собственные ошибки. И ярчайший пример этому – дело полковника С. Н. Мясоедова, обвиняемого в шпионаже, которого даже Военно-Полевой Суд отказался признать виновным и который, тем не менее, был всё же повешен по личному распоряжению Великого Князя…
Однако продолжим.
Упустив шанс разгрома Австро-Венгерских войск в 1914 году, Великий Князь и возглавляемая им Ставка продолжали, нисколько не считаясь со сложившейся на фронте обстановкой, планировать глубокоэшелонированные наступательные операции вглубь Германии. А между тем, Император Николай II в тоже самое время предлагал совершенно иной план развития военных действий, который предполагал нанесение удара по Австро-Венгрии и Турции с одновременной высадкой морского десанта с целью захвата черноморских проливов. И глядя с высоты сегодняшнего дня, можно смело сказать, что если бы данный план был претворён в действие, то ход войны мог бы быть совершенно иным, равно как и весь ход дальнейших политических событий.
19 апреля 1915 года германская тяжёлая артиллерия нанесла удар сокрушительной силы по всему фронту Русской Армии. И, тем не менее, приказа на отвод войск вглубь территории не последовало, ибо Великий Князь не сомневался в своих «стратегических талантах». А когда Ставка всё же решилась отвести войска, Русская Армия находилась уже на грани катастрофы. Причём, в этом легко убедиться, если прибегнуть к некоторым цифрам. Так в летнюю кампанию 1915 года Русская Армия потеряла убитыми 1 410 000 человек, то есть в среднем 235 000 человек в месяц. Средняя же величина потерь для всей Русской Армии во время командования Великого Князя составила 140 000 человек в месяц. Пленными же в ту же кампанию Русская Армия потеряла 976 000 человек, то есть по 160 000 человек среднем в месяц. А если взять только май, июнь, июль и август, то для каждого из этих четырёх месяцев потеря пленными в среднем возрастает до 200 000 человек! Среднее же таковое число в месяц для этого периода войны исчислялось в 62 000 человек.
В этих условиях Великий Князь просто впал в депрессию, граничащую с паникой.
Уже упоминаемый священник Г. И. Шавельский так вспоминал о поведении Великого Князя в те тяжёлые дни весны-лета 1915 года:
«Ко мне в купе быстро вошёл Великий Князь Пётр Николаевич.
– Брат Вас зовёт, – тревожно сказал он…
Я тотчас пошёл за ним. Мы вошли в спальню Великого Князя Николая Николаевича. Великий Князь полулежал на кровати, спустивши ноги на пол, а голову уткнувши в подушки, и весь вздрагивал.
Услышавши мои слова:
– Ваше Высочество, что с Вами? – он поднял голову. По лицу его текли слёзы.
– Батюшки, ужас! – воскликнул он. – Ковно отдано без бою… Комендант бросил крепость и куда-то уехал… крепостные войска бежали… армия отступает… При таком положении, что можно сделать?! Ужас, ужас!..
И слёзы еще сильнее полились у него».
Последствием этих панических настроений командования стало отступление Русской Армии «по образцу 1812 года», а также абсолютно бездумная высылка приграничного еврейского населения вглубь России за имевшие место единичные случаи шпионажа в пользу немцев.
Историк Русской Армии А. А. Керсновский, рисуя сложившуюся к лету 1915 года картину, писал:
«В результате всех неудач Ставка потеряла дух. Растерявшись, она стала принимать решения явно несообразные. Одно из них – непродуманная эвакуация населения западных областей вглубь России – стоило стране сотен тысяч жизней и превратило военную неудачу в сильнейшее народное бедствие.
Ставка надеялась этим мероприятием “создать атмосферу 1812 года”, но добилась как раз противоположных результатов. По дорогам Литвы и Полесья потянулись бесконечными вереницами таборы сорванных с насиженных мест, доведённых до отчаяния людей. Они загромождали и забивали редкие здесь дороги, смешивались с войсками, деморализуя их и внося беспорядок».
В этой ситуации прежнее упорство Ставки – «Ни шагу назад!» сменилось другой крайностью – отступать, куда глаза глядят. Причём, без какого-либо плана… Мало того, Великий Князь уже не надеялся остановить врага западнее Днепра, поэтому вместе со своей Ставкой готовил предписания о возведении укреплений в районе Курска и Тулы…
Предоставленные самим себе войска несли огромные потери. Мало того, они бежали, бросая по дороге материальную часть, продовольствие и фураж, а также, сдавая без единого выстрела прекрасно укреплённые позиции. А тем временем уже были оставлены Ковель, Барановичи, Лида, Лунинец и прочие важные опорные пункты обороны.
А Ставка и её штабы продолжали вещать: «Назад и, как можно скорее и дальше назад!»
Над Россией нависла военная катастрофа, предотвратить которую теперь мог только Государь, который принял на себя всю ответственность за дальнейшую судьбу Отечества.
Ближайшая подруга Государыни Императрицы Александры Феодоровны – Анна Александровна Вырубова, вспоминая те дни, писала в своей книге воспоминаний «Страницы моей жизни»:
«Летом 1915 года Государь становился всё более и более недоволен действиями на фронте Великого Князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что Русскую Армию гонят вперёд, не закрепляя позиций и не имея достаточно боевых патронов. Как бы подтверждая слова Государя, началось поражение за поражением; одна крепость падала за другой, отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец, Варшаву. Я помню вечер, когда Императрица и я сидели на балконе в Царском Селе. Пришёл Государь с известием о падении Варшавы; на нём, как говорится, лица не было. Он почти потерял Своё всегдашнее самообладание. – «Так не может продолжаться, – воскликнул Он, ударив кулаком по столу, – я не могу сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромят Мою Армию; я вижу ошибки, – и должен молчать. Сегодня говорил мне Кривошеин, – продолжал Государь, – указывая на невозможность подобного положения». (…) После падения Варшавы Государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или Государыни, встать Самому во главе Армии; это было единственно его личным, непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побеждён».
А известный историк С. П. Мельгунов, так написал в своей книге «На путях к дворцовому перевороту (Заговор перед революцией 1917 года)»: «Царь будто бы сказал однажды: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет – наступать надо, а отступать нельзя».
За то, чтобы Государь встал во главе Действующей Армии, высказывались и в правительственных кругах. Так, член Кабинета Министров и Главноуправляющий Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу А. В. Кривошеин заявил, что: «Ставка ведёт Россию в бездну, к катастрофе, революции», и высказал мысль, что если бы Верховным Главнокомандующим был Государь, то это было бы благом, так как вся власть, военная и административная, сосредоточилась бы в одних руках.
Таким образом, безотлагательная необходимость смены высшего командования в лице Великого Князя Николая Николаевича и генералов его штаба осознавалась всеми слоями общества, ибо их неспособность управлять войсками в критической ситуации явилась главной причиной того, что Государь принял решение самому встать во главе Действующей Армии.
И надо сказать, что принятие этого решения в столь грозный для Родины час лишний раз свидетельствует о большом личном мужестве Государя и подтверждает Его беззаветную преданность Монаршему Долгу.
Однако, кроме главной, так сказать, «военной причины», была и другая, не менее важная, побудившая Государя принять это историческое решение.
Уже упоминаемая выше А. А. Вырубова писала: «Государь рассказывал, что Великий Князь Николай Николаевич постоянно, без ведома Государя, вызывал министров в Ставку, давая те или иные приказания, что создавало двоевластие в России».
Не менее интересную характеристику Великому Князю даёт в своей книге «Записки Белого Офицера» участник Первой мировой и Гражданской войны Подполковник Э. Н. Гиацинтов:
«Он не очень почтительно относился к Государю и хотел играть роль и как будто даже претендовал на то, что он может заменить Государя и быть Николаем III. Не знаю, насколько это верно, но твёрдо убеждён и знаю по источникам, которые я теперь прочёл, что он участвовал в заговоре дворцового переворота вместе с нашими левыми деятелями, среди которых главную роль играли Гучков, Милюков, Керенский, князь Львов и, к сожалению, наш генералитет, включая даже генерал-адъютанта Алексеева, хитрого, косоглазого генерала, очень умного, хорошего стратега, но абсолютно не верноподданного».
Конечно же, Великий Князь не участвовал в заговоре напрямую. Однако, на протяжении довольно длительного времени он всячески интриговал в его пользу, изображая из себя поклонника либерализма в России и «друга» Государственной Думы, что окончательно подтвердилось в период событий Февральской революции. И хотя тому нет прямых улик, но всё же имеется целый ряд косвенных доказательств того, что Великий Князь Николай Николаевич был замешан в каких-то действиях, прямо или косвенно направленных против Государя. (Достаточно вспомнить о том, что зная о «заговоре генералов» Великий Князь, затаив старые обиды, предпочёл ничего не сообщать Государю, видимо, рассчитывая на свой дальнейший политический успех, а точнее – на Большую Императорскую Корону!)
И подтверждением тому – слова величайшего сына Отечества генерал М.Д. Скобелева, который ещё в 1877 году так отозвался о Великом Князе:
«Если он долго проживёт, для всех станет очевидным его стремление сесть на Русский Престол. Это будет самый опасный человек для царствующего императора».
Человек и война
Николай Литвин Украинская проблема в годы Первой мировой войны
Великая война, как называли ее современники, стала катализатором новой волны национального духа и шовинистических настроений в Австро-Венгрии, России и Германии. Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд в первые дни войны написал: «Впервые за 30 лет я чувствую себя австрийцем». Наверное, под этой фразой могли бы подписаться многие и украинцы тоже, которые в формациях Австро-Венгрии и России стремились к полноценной национально-культурной жизни и возрождению собственного независимого государства.
В разное время и разные историки к этому относились по-разному. Советская историография оценивала все этнополитические процессы с классовых позиций, а предпосылки и следствия войны подчиняла, с одной стороны, обоснованию закономерностей победы Октябрьской социалистической революции, установлению власти большевиков на Украине и сохранению целостности многонационального Российского государства (впоследствии СССР), а с другой – намеревалась доказать реакционный характер украинского национально-освободительного движения и его руководства, которое изображалось сообщником международного империализма.
Западноукраинские авторы, участники и свидетели событий освещали хронику мировой войны с позиций борьбы украинцев за государственную независимость и воссоединение украинских земель. Уделялось также внимание и отношениям противоборствующих военно-политических блоков к украинско-польскому и украинско-российскому противостоянию. При этом наиболее важным считалось освещать боевой путь и культурно-просветительскую деятельность в составе австрийской армии легиона Украинских сечевых стрельцов (1914–1918), созданию на осколках империй Габсбургов и Романовых Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В 40–80-е годы советская историография освещала, с одной стороны, события 1914–1918 годов исключительно с позиций апологетики внешней политики России как освободительницы славянских народов; с другой – планы западноевропейских государств в Карпатском регионе рассматривала как имперские, экспансионистские. В то же время деятельность национально-демократических сил в Украине характеризовалась как контрреволюционная, антинародная. Как это ни парадоксально, но официальная советская наука «признавала» право поляков, чехов и венгров на национально-государственное самовыражение и выход из Австро-Венгерской империи.
К сожалению, сегодня украинская историческая наука еще только на пути создания научной версии новейшей истории Украины в ее национально-государственном измерении. Доминирующие же, или «великие» нации руками своих политиков, писателей и ученых давно и традиционно интегрировали истории «малых» или «младших» народов в свои национальные истории. В 2013 году Институт истории Украины НАН Украины издал фундаментальную работу «Великая война 1914–1918 гг. и Украина»[171].
Украинская политическая элита так и не смог консолидировать свои ряды и унифицировать политические программы в эту войну. Большинство надднепрянцев, в том числе депутаты Госдумы России, редактор московского журнала «Украинская жизнь» социал-демократ Симон Петлюра, поддержали планы правительства по защите Отечества. Правоцентристское Товарищество украинских поступовцев (Киев) заняло выжидательную, нейтральную позицию. Представители украинских политических партий Галиции и Буковины, создавшие в июле 1914 года во Львове Главную Украинскую Раду (председатель – опытный депутат Венского парламента и посол Галицийского сейма, национал-демократ Кость Левицкий), призвали «украинский народ стать единодушно против царской империи», пожелав создать на ее руинах независимую Украину. Аналогичную позицию занял внепартийный Союз освобождения Украины, созданный в 1914 году во Львове социалистами-политэмигрантами из Надднепрянщины (Владимир Дорошенко, Дмитрий Донцов, Андрей Жук, Марьян Миленевский, Александр Скоропис-Йолтуховский, Николай Зализняк). Согласно платформе Союза, тридцатимиллионная Украина после империалистической войны должна была стать конституционной монархией с демократическим устройством, однопалатной системой законодательства, общественными, языковыми и религиозными свободами для всех национальностей, самостоятельной украинской церковью[172].
Украинская парламентская репрезентация (создана 6 ноября 1916 года в Вене на базе Украинского парламентского клуба, председатель – львовский адвокат Юлиан Романчук) выступала против предоставления Галиции широкой автономии под польским владычеством. Венскую трибуну украинские депутаты использовали для популяризации лозунга создания федерации самостоятельных национальных государств Австрии. При этом главные надежды возлагались на органы власти Вены, согласие цесаря. Ноябрьское вооруженное восстание 1918 года во Львове и большинстве населенных пунктов Восточной Галиции, в ходе которого власть перешла к Украинской Национальной Раде (создана 18–19 октября 1918 года) и была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, фактически инициировали молодые офицеры-украинцы австрийской армии, в частности полка Украинских сечевых стрельцов (в октябре полк дислоцировался в Черновцах). Руководителем вооруженного (но бескровного!) восстания был молодой сотник полка УСС Дмитрий Витовский, до войны он был педагогом народной школы. Действенную помощь на местах ему оказали общественные деятели – руководители «Просвит», члены национально-демократической и радикальной партий, активисты довоенных парамилитарных обществ – «Сечевые Стрельцы», «Сокол», «Пласт», спортивного общества «Украина».
Как известно, территория Прикарпатья и Волыни стала эпицентром этой страшной войны, послужившей причиной огромных материальных и человеческих жертв, которые понесла среди других участников и Украина, защищая чужие геополитические интересы. В частности, Россия особо нуждалась в прикарпатской нефти, более дешевой и качественной по сравнению с бакинской, а также в контроле железнодорожных путей в Европу, которые переделывали под российский стандарт. После вступления российской армии в Галицию в сентябре 14 года с целью инвестиций были открыты филиалы российских банков, в частности, Русско-Азиатского Коммерческого. Для создания атмосферы лояльности к власти среди населения только в начале 1915 года во Львове было организовано 67 бесплатных столовых для бедноты, выдавались и специальные продуктовые талоны. Информационную политику новой администрации, которая провозгласила «освобождение “братьев-славян”» и воссоздание «Великой Руси», проводили редакции газет «Львовский вестник», «Прикарпатская Русь», «Голос народа», «Львовское военное слово». Украинские газеты и культурно-просветительские общества были временно закрыты. На оккупированной территории введено московское время.
Мало, кто знает, но украинцы составляли около трети солдат и офицеров царской армии. В начале 1917 года среди 6,8 миллионов действующей армии и 2,3 миллионов запасных частей украинцев было около 3,5 миллионов. В то же время свыше 300 тысяч украинцев Галиции, Буковины и Закарпатья служили в австрийской армии. Трагизм ситуации состоял в том, что западным украинцам на 600-километровом Юго-Западном фронте – от реки Припять до Румынии – нередко противостояли этнические побратимы – надднепрянские украинцы, казаки кубанских полков.
Участие солдат Юго-Западного и Румынского фронтов в общественно-политическом движении, антивоенных акциях, процессе украинизации российской армии в 1917 год раскрывают материалы фондов Украинского военного комитета при Центральной Раде, Министерства военных дел Украинской Державы П. Скоропадского, Военного министерства УНР Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины. Заметим, что летом 1917 года в украинизированных частях российской армии насчитывалось свыше 1,7 миллионов украинцев. Однако Украинской Центральной Раде (создана в марте 1917 в Киеве под руководством Михаила Грушевского. До войны он – профессор истории Львовского университета и председатель Научного общества имени Шевченко) – революционному парламенту Украины так и не удалось приобщить их к национально-демократической революции. Украинские политики вместо регулярной национальной армии ошибочно решили создать народную милицию. Все это, а также большевистская экспансия на Надднепрянщину привели к падению Центральной Рады и ликвидации независимой Украинской Народной Республики, провозглашенной в январе 1918 года.
Об этих печальных событиях рассказывается в двухтомном сборнике документов и материалов «Украинская Центральная Рада», изданном в 1996–1997 годах. Группа киевских историков под руководством Владислава Верстюка в 2003 году издала сборник «Украинское национально-освободительное движение. Март-ноябрь 1917», раскрывающий деятельность не только Центральной Рады, но и влиятельных партий и общественно-политических групп – Украинской социал-демократической партии, Украинской радикально-демократической партии, Товарищества украинских поступовцев, «Просвиты»; там же опубликованы материалы украинских военных веч и съездов, Украинского военного клуба им. гетьмана Павла Полуботка, Всеукраинского совета военных депутатов, Всеукраинского юнкерского союза, Вольного казачества, украинских структур Черноморского флота. К сожалению, в книге практически отсутствуют материалы об украинском движении 1917 года на Северном и Западном фронтах (там служило 960 тысяч украинцев), питерском гарнизоне (250 тысяч).
Вне серьезных научных исследований осталась тема церковно-религиозной жизни, государственно-церковных отношений в годы войны. Не секрет, что новая российская военная администрация стремилась нейтрализовать в Карпатском крае иерархию и клир Греко-католической церкви, большинство представителей которой симпатизировали и даже сотрудничали с Украинской национально-демократической партией (создана 1899 году во Львове), политическим лозунгом которой было создание независимого соборного (единого) украинского государства. Поэтому не случайно царизм накануне войны активно морально и финансово поддерживал москвофилов – немногочисленные православные приходы, «Народный Дом» во Львове, Общество им. М. Качковского (создано в 1874 году) и его читальни. В москвофильское движение активно втягивали греко-католическое духовенство, осуждавшее латинизацию и полонизацию края. В годы войны многие греко-католические священники были депортированы на восток, а их приходы передали новым православным священникам. Об этом рассказывается в сборнике «Москвофильство: Документи и материалы» (Львов, 2001), который составил львовский историк Алексей Сухой[173]. Основу книги составляют документы Архива внешней политики Российской империи, в частности материалы имперских российских посольств в Вене и Праге, консульства во Львове, коллекция документов, изъятых у 49-летнего митрополита Андрея Шептицкого во время ареста 15 сентября 1914 года. К сожалению, часть архива митрополита была уничтожена во Львове летом 1944 года – солдаты Советской армии сожгли их, часть спецфонд архива сдал на макулатуру.
В ходе Первой мировой войны российская администрация арестовала сотни неугодных священников Греко-католической церкви. За «измену Синодальной российской церкви» Митрополит Андрей Шептицкий до марта 1917 года был интернирован в Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь. Поводом к задержанию послужил донос министра внутренних дел России Штюрмерга о находке в Митрополичьих палатах «Меморандума к австрийскому правительству о будущем устройстве Украинского государства», в котором А. Шептицкий предлагал вывести украинские православные епархии из подчинения Святейшего Синода, запретил поминать российского царя, внести изменения в церковные календари. После Февральской революции глава церкви продолжил общественно-политическую и миротворческую деятельность. А. Шептицкий был оппонентом политического устоя сперва царской России, а в последствии большевистской, однако он никогда не чувствовал себя врагом русского народа. Он считал русских, как и украинцев «народами жизнестойкими, трезвого мышления». 29–31 мая 1917 года под его руководством в Петроградской мужской гимназии при церкви св. Екатерины состоялся архиепархиальный собор, который провозгласил создание Русской греко-католической церкви во главе с Леонидом Федоровым. Собор призвал почитать русских святых, разрешил крещение дома, запретил священникам курение табака, использование причесок, духов, посещение театров, цирка, кино, увеселительных кафе и садов, появление с женщинами в общественных местах. О том, как навязывались контакты между украинской и русской духовной интеллигенцией и создавалась Русская греко-католическая церковь, читатель может прочитать в сборнике документов «Митрополит Андрей Шептицкий и греко-католики в России. Кн. 1. Док. и мат. 1899–1917» (Львов, 2004). Его составители Юрий Аввакумов и Оксана Гаевая собрали в новой книге уникальные неопубликованные документы Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге, Архива постуляции митрополита А. Шептицкого в Риме, Центрального государственного исторического архива Украины во Львове.
В скором времени следовало бы опубликовать оригинальные коллекции материалов украинских политических партий, легиона УСС и Галицкой армии, отдельных украинских политических деятелей в других иностранных архивах. Издательско-археографическую деятельность в Украине следует координировать с историками-архивистами России, Польши, Австрии, Германии, Франции, США, Канады, Ватикана. Есть необходимость также в восстановлении и благоустройстве военных мемориалов противоборствующих сторон на территории западных областей Украины.
Мировая война изменила судьбы государств, народов и отдельных людей. С одной стороны, она привела к большим человеческим жертвам, обнищанию многих европейских стран, с другой – результатом войны стал развал империй и образование новых славянских государств. В этом смысле, она стала одновременно трагедией (для одних) и триумфом (для других). Масштабные боевые действия были мощнейшим импульсом для развития техники (в частности, военных технологий). Одновременно война уничтожила множество культурных ценностей, а, самое главное, создала новую мораль – мораль человека, для которого смерть других людей стала обыденным делом. И в этом смысле ментальность нового, «утерянного», искалеченного войной поколения стала через два десятилетия импульсом к новому мировому противостоянию, гораздо более страшному и кровопролитному.
Олег Будницкий Евреи и война
С началом Первой мировой войны все еврейское население было взято Главным командованием под подозрение. Евреи априори были сочтены нелояльными, склонными к измене и шпионажу в пользу противника. Шпиономания приобрела поистине патологический характер. Евреев обвиняли в том, что они «сносятся с неприятелем при помощи подземных телефонов и аэропланов и снабжают его золотом и съестными припасами». По одной из версий евреи привязывали золото под гусиные перья, и птицы уносили его к противнику, по другой – золотом наполнялись внутренности битой птицы, которая отправлялась в Германию». В Березницах Волынской губернии священник сообщил народу с церковного амвона, что евреи – шпионы, и что в животе коровы найден телефон, приспособленный ими для связи с неприятелем. Властям поступали доносы об отправке евреями депеш в Германию «в яйцах кур ценных пород» или о заготовке евреями г. Вильно «в подземельях и трущобах» кастрюль для выплавки снарядов для противника. Евреи якобы пытались переправить немцам полтора миллиона рублей золотом, спрятав их в гробу; еврей-мельник связывался с австрийцами посредством телефона, установленного в подвале; другие, наоборот, перерезали русские телефонные линии и соединяли провода с австрийскими; евреи использовали костры и световые сигналы для передачи информации противнику; они подавали сигналы из окон собственных домов, с деревьев и крыш домов, раскрывая врагу расположение русских войск; евреи строили планы об организации мятежа в Кронштадте и пытались переправить план восстания немцам в Данциг, опустив запечатанную бутылку в море, и т. д. и т. п. В Петрограде были проведены обыски в хоральной синагоге и в квартире председателя ее правления И. А. Варшавского. Охотники за шпионами искали «аппарат для сношений с неприятелем по беспроволочному телеграфу».
Политика преследования евреев явилась не только – и не столько – результатом личного антисемитизма главнокомандующего – великого князя Николая Николаевича, и в особенности начальника его штаба генерала H. Н. Янушкевича. Эта политика предусматривалась военной теорией; сведения о вредных и полезных элементах населения офицеры получали в военных училищах и академиях[174]. Теория подтверждала предубеждения, впитываемые большинством православного населения России с детства. Евреи были иноверцами, отринувшими Христа; они были эксплуататорами, не пахавшими и не сеявшими, но умудрявшимися извлекать прибыль как будто из воздуха; они были смутьянами, подрывавшими власть царя и основы русской жизни. Они были воплощением всего чуждого и враждебного. В Черте оседлости, где никогда ранее не бывало большинство мобилизованных, это особенно бросалось в глаза. Евреи говорили на другом языке, были по-особому одеты, их обычаи были странными и внушавшими подозрения. Они очень подходили на роль виновников военных неудач и материальных неурядиц. В то же время они были совершенно беззащитны. Начальство объясняло поражения еврейской «изменой» и санкционировало насилия по отношению к евреям. Каков был предел этих насилий – определялось в каждом конкретном случае.
Насилия против евреев начались с первых же дней Первой мировой войны, причем начались снизу, еще до официальной санкции военных властей. Период мобилизации, когда войска скапливались на железнодорожных узлах, ознаменовался рядом нападений на евреев. Случались нападения на евреев и позднее, например, во время призыва в армию запасных в августе 1915 года Херсонский губернатор доносил о «незначительных» беспорядках во время призыва. К ним были отнесены избиения призывниками «прохожих евреев», «причинение» еврею Варшавскому двух легких ножевых ран, наряду с бросанием камней в окна домов, принадлежащих евреям. Впрочем, по сравнению с творившимся к тому времени в прифронтовой полосе это были в самом деле пустяки.
По распоряжению российского командования в качестве превентивной меры против еврейского шпионажа и измены были предприняты массовые депортации еврейского населения из прифронтовой полосы. Депортировано было около 250 тысяч человек, еще около 350 тысяч бежало во внутренние районы, спасаясь от наступающих немецких войск. Высылали не только евреев, но также немцев, цыган, венгров, турок.
Депортации нередко сопровождались насилиями, грабежами и погромами. Грабежи часто производились под прикрытием «реквизиций» и фактически санкционировались сверху. Штаб 4-й армии Юго-Западного фронта разъяснил в ответ на запрос о «порядке проведения реквизиций на театре военных действий и в угрожаемых районах»: «У жидов забирать все».
Подозрения евреев в сочувствии к противнику и в шпионаже приводили к скоротечным военно-полевым судам, приговоры которых были предрешены. Впрочем, чаще всего дело до суда не доходило. Как говорил кн. Павлу Долгорукову один из военных судей, ему «не пришлось подписать ни одного смертного приговора (по делам о «еврейском шпионстве» – О. Б.), так как каждый ротный и батальонный командир вешают без суда тех, кто кажется им шпионами». По немецким данным, в первые недели войны по подозрению в шпионаже было казнено свыше ста евреев. Вполне вероятно, что общее число казненных было гораздо выше. По сведениям сотрудника Красного креста, только в Ивангороде было повешено несколько десятков евреев, но, как он записал в дневнике, «по-видимому, шпионство среди них все еще процветает».
Каковы были основания для обвинений евреев в шпионаже и измене? Стояло ли за ними что-нибудь еще, кроме предубеждений? Понятно, что обвинение в шпионаже и сотрудничестве с противником всего еврейского населения чохом, превентивные выселения сотен тысяч людей, включая женщин и детей, было нелепостью, но имела ли, тем не менее, эта нелепая и исключительно вредная для внутренней стабильности империи политика какие-либо реальные основания? Вряд ли можно сомневаться, что среди еврейского населения, особенно в приграничных районах, были агенты противника, также как в том, что значительная часть евреев не испытывала патриотических чувств по отношению к своему неласковому отечеству. Но от нелюбви до службы противнику – дистанция огромного размера. Сколько человек в действительности ее преодолело? Об этом достаточно трудно судить, поскольку, во-первых, заподозренных в шпионаже нередко казнили без каких-либо юридических процедур, во-вторых, если обвинительные приговоры выносились военно-полевыми судами, без участия защитников, причем обвиняемые часто не знали русского языка и не понимали, в чем именно их обвиняют, то такого рода данные также мало о чем говорят. Если же дела по обвинению евреев рассматривались корпусными судами с участием защитников, то они почти всегда заканчивались оправдательными приговорами за отсутствием серьезных улик.
Хроника разгрома еврейского населения Литвы и Белоруссии летом и осенью 1915 года мало чем отличается от материалов о еврейских погромах периода Гражданской войны. В погромах и грабежах принимали участие преимущественно казаки и драгуны. В Ковенской губернии в июле 1915 года от погромов пострадало 15 населенных пунктов. Недалеко от местечка Оникшты драгуны убили еврея-мельника с сыном за отказ выдать им жену и дочь, в местечке Вольники изнасиловали 14-летнюю Алту Шмидт. В Виленской губернии в августе-сентябре 1915 года были разгромлены 19 населенных пунктов. Особенно пострадала Сморгонь. Казаки насиловали женщин в синагоге, несколько человек было убито. Насилия прекратились после столкновения с солдатами-евреями. Во время выселения Лейба Соболь сказал казачьему офицеру, что не может оставить больного и дряхлого отца. Тогда офицер застрелил на месте старика Соболя и заявил, что сын теперь свободен и может покинуть Сморгонь. Казаки поджигали дома как в Сморгони, так и в других местах. Некоторые евреи сгорели заживо.
Погромы прокатились по Минской, Волынской, Гродненской губерниям. В грабежах имущества евреев принимали участие окрестные крестьяне точно так же, как и в 1919 года на Украине. «Отличались» опять-таки в основном казаки. Массовый характер приняли изнасилования, нередки были и убийства. В Лемешевичах (Пинского уезда) были изнасилованы трое 12-летних и одна 11-летняя девочка, в Лебедеве (Виленской губернии) большинство изнасилованных были старухи, в том числе те, кому перевалило за семьдесят лет. В деревне Березновка Борисовского уезда десять казаков изнасиловали 72-летнюю старуху. Иногда изнасилованных убивали. По агентурным сведениям Департамента полиции в сентябре 1915 года в западной части Борисовского уезда Минской губернии все местечки и почти все деревни, в которых жили евреи, подверглись разграблению. В основном грабили казаки, принимали участие в погромах и уланы. Самое активное участие в грабежах и в подстрекательстве к ним принимали местные крестьяне. Войска накладывали «контрибуции», требовали, под угрозой смертной казни, доставить им табак и папиросы.
В Гродно во время боев с немцами население попряталось в погребах. Казаки принялись рыскать по городу и, втыкая пики в подвалы, разыскивали спрятавшихся там людей. Рассказчица (Бронислава Брженковская) была ранена казацкой пикой. Ее вытащили из подвала и привели к офицеру с рапортом: «жиды прячутся в подвалах и стреляют в наших». Офицер приказал вытаскивать и убивать всех скрывающихся в подвалах евреев, что и было сделано. Когда выяснилось, что раненая женщина – полька, ее освободили.
Насилия русской армии по отношению к галицийским евреям, этим «чужим жидам», намного превзошли по степени жестокости то, что пришлось претерпеть российским евреям. После вторжения русской армии в Галицию в августе 1914 года погромы – разной степени разрушительности и жестокости – состоялись в Бродах, Радзивиллове, Львове, Сокале и других городах и местечках. «Отличались» прежде всего казаки. После установления «нормального» оккупационного режима насилия, как правило, прекращались.
Описания еврейских местечек, через которые прошла русская армия во время Брусиловского прорыва весной и летом 1916 года, мало чем отличаются от погромных хроник 1919 года. В Бучаче еврею, солдату русской армии, пришлось наблюдать 10-летнего мальчика с переломанными руками, лежащего возле матери с разбитым черепом и отрубленными ногами, труп изнасилованной, а затем забитой до смерти женщины, мужчин с разбитыми головами и вытекшими глазами, удавленных и сожженных мертвецов.
Из местечка Монастыржиск, куда русская армия пришла во второй раз, бежали все евреи, кроме трех помешанных и одного парализованного. Последний, старик лет шестидесяти, владел несколькими имениями. Когда казаки в первый раз ворвались в Монастыржиск, они, заявив: «ты жид, тебе при австрийцах разрешено было иметь землю, а при русских ты грызи землю», заставили старика, подгоняя его ударами нагайки, ползать на четвереньках и рыть носом землю. На следующий день его разбил паралич.
Насилия сопровождались глумлением. В Бучаче были выброшены свитки торы из 23 синагог. Всего же мемуарист подобрал в 15 разгромленных русскими войсками городах Галиции и Буковины четыре пуда свитков торы. В Монастыржиске в одной синагоге устроили военный лазарет, а другую отвели для нечистот. Было разгромлено еврейское кладбище: разрыты могилы, разбиты мраморные памятники, а также уничтожена ограда, окружавшую братскую могилу немецких солдат-евреев.
Антисемитская пропаганда военного времени успешно формировала образ врага; насилия по отношению к еврейскому населению были фактически узаконены. Антиеврейское насилие стало обычной практикой для армии. «Модель» военных погромов эпохи Гражданской войны была опробована задолго до ее начала. Гражданская война в России, точнее, на территории бывшей Российской империи, ознаменовалась беспрецедентными по числу жертв и жестокости еврейскими погромами. В 1918–1920 годах только на Украине приблизительно в 1300 населенных пунктах произошло свыше 1500 еврейских погромов. Было убито и умерло от ран, по разным оценкам, от 50–60 до 200 тысяч евреев. Около 200 тысяч было ранено и искалечено. Были изнасилованы тысячи женщин. Около 50 тыс. женщин стали вдовами, около 300 тысяч детей остались сиротами. Погромы происходили в основном в пределах бывшей черты еврейской оседлости, однако имели место и в городах, ранее не входивших в черту в случае проживания там даже небольшого еврейского меньшинства. Сведения о погромах и погибших стали более или менее систематически собираться с мая 1919 года, однако точное число жертв вряд ли когда-нибудь будет установлено.
Образ евреев как предателей и шпионов прочно утвердился в сознании обывателей и в особенности военнослужащих. «Архетип» предательского удара в спину материализовывался в воспаленном и примитивном сознании в виде выстрелов в спину, которые «слышали», в зависимости от обстоятельств, петлюровцы, белые или даже красные. Евреи, опять-таки в зависимости от обстоятельств, могли трактоваться как большевики или контрреволюционеры, буржуи или комиссары.
Поводом к началу погромов в Галиции, в период Первой мировой войны служил, как правило, выстрел в российских военных, якобы произведенный еврейкой. В Бродах в казаков якобы стреляла девушка – дочь владельца гостиницы. Девушка и еще четверо евреев были убиты, часть города сожжена. Впоследствии выяснилось, что никто не стрелял и никто из казаков (о чем говорилось поначалу как о несомненном факте) не был ни убит, ни ранен. Во Львове в ответ на «выстрел еврейки из окна» было убито 18 евреев и разграблен еврейский квартал. Подобные «выстрелы» послужили сигналом к началу погромов едва ли не в десятке других населенных пунктов. Член Государственной думы и организатор санитарного отряда, действовавшего в прифронтовой полосе, И. П. Демидов говорил С. А. Анскому, что в каждом городе некая еврейская девушка стреляет в русских, причем «выстрел еврейки» всегда раздается из окна того дома, в котором помещается лучший магазин в городе. Демидов намекал на то, что «выстрел в спину» служил поводом для начала грабежа. На наш взгляд, дело обстояло и проще, и сложнее. Выстрел в спину – это «материализация» ожидаемого предательства; выстрел, произведенный женщиной – олицетворение коварства вдвойне. Это «бродячий» сюжет, всплывающий в разное время при разных обстоятельствах.
Чтобы далеко не ходить, напомню, что легенды о женщинах – снайперах были широко распространены в период чеченской войны и стали даже сюжетом российского фильма «Блокпост». Чеченская девушка предлагает сексуальные услуги своей сестры, ранее «испорченной» (изнасилованной) русскими солдатами военнослужащим, охраняющим блокпост. Те расплачиваются самой твердой валютой на Кавказе – патронами. Эти патроны юная сутенерша, оказавшаяся снайпером, использует затем для убийства своих клиентов. Еще более поразительна легенда о так называемых «белых колготках» – девушках-снайперах из Прибалтики, сражавшихся на стороне чеченских сепаратистов в период первой чеченской войны. Конечно, никто никогда ни одной снайперши из Прибалтики в Чечне не видел, однако некоторые российские газеты писали об их существовании как о несомненном факте.
Однако вернемся к евреям. «Еврейские выстрелы» продолжали слышаться участникам различных вооруженных формирований и в период Гражданской войны. Отступавшие в панике весной 1918 года под натиском германских войск красноармейцы, учинившие в северных уездах Черниговской губернии несколько погромов, утверждали, что «жиды расстреливают красную армию», что они «все контрреволюционеры» и встречают немцев с хлебом-солью. Тогда же инструктор Военного комиссариата в Курске Фомин сообщил в Москву, что бойцы еврейской самообороны стреляли в отступающих красноармейцев. 5 апреля 1919 года в Пинске польскими легионерами были арестованы участники собрания местных сионистов, обсуждавших вопрос о распределении полученной из США помощи. Почти все собравшиеся (37, по др. данным – 35 человек) были отведены на рынок и расстреляны из пулемета. По официальной версии, распространенной польским телеграфным агентством, еще «при оккупации города в разных частях его из окон еврейских домов, в сумерки, сыпались выстрелы на вступавших улан». Собрание было якобы сборищем большевиков, и поляки обнаружили «громадные склады оружия». Петлюровские солдаты в начале 1919 года, напротив, уверяли, что евреи «создали свои особые полки, что они стоят за старый режим и дерутся за панов, что они стреляли из окон по восставшему народу и даже обливали кипятком восставший народ из окон».
В октябре 1919 года во время боев добровольцев с красными за Киев в стане как будто более цивилизованных, чем украинские крестьяне, составлявшие основу петлюровского воинства, белых стали распространяться слухи о евреях, обливающих серной кислотой и кипятком «наших сестер милосердия». Офицер «с университетским значком на груди» говорил:
«– Жиды режут наших солдат, обливают кипятком и горящей (так!) смолой сестер милосердия и помогают большевикам».
В киевской газете «Вечерние огни» сразу после возвращения белых в город был напечатан список домов и квартир, откуда евреи стреляли в отступавших добровольцев и обливали их серной кислотой и кипятком. Специально созданной комиссией были проверены указанные адреса и сведения газеты опровергнуты. Для любого трезвомыслящего человека вздорность информации должна была, казалось, быть ясна и без всякой проверки: дело все-таки происходило не в средневековой крепости и не в эпоху монголо-татарского нашествия. Выстрелы из окон собственных квартир по регулярным войскам могли свидетельствовать разве что о психической неадекватности стрелков. Среди прочего выяснилось, что дымки, якобы от выстрелов из окон квартир евреев в Киеве, были вызваны рикошетами от пуль, попадавших в стены домов, то есть ситуация интерпретировалась «с точностью до наоборот»; аналогичного происхождения были рассказы о выстрелах в спину добровольцам и в других городах и местечках.
Начальник одной из дивизий Красной армии, пробивавшейся через занятый польскими войсками Белосток в конце августа 1920 года докладывал, что ему «пришлось вести бой больше с населением Белостока, чем с польскими войсками, причем во враждебных действиях деятельное участие принимало также еврейское население». Скорее всего дал себя знать стереотип, прочно утвердившийся в сознании значительной части российских военных, какую бы форму они ни носили, о еврейских «выстрелах в спину». Ибо во всех политических сводках периода советско-польской войны отмечалось, что лишь еврейское население поддерживает красных. Говоря о «выстрелах в спину», Деникин признавал, что «наряду с действительными фактами имела место не раз и симуляция – в оправдание содеянных насилий; что выстрелы в тыл иной раз носили происхождение «христианское», а то и вовсе мифическое. Но взаимная ненависть туманила головы, всякое враждебное выступление со стороны евреев было объективно возможно, и все обвинения их – правдивые и ложные – воспринимались массой с непреложной верой».
Возможное, если дело касалось евреев, часто трактовалось встретившимися им в недобрый час военными как действительное. Петлюровцам встретился еврей-портной с двумя дочерьми четырнадцати и одиннадцати лет. Заметив у старшей ножницы, они обвинили девочек в порче телеграфных проводов, вырезали им языки, выкололи глаза и затем убили. Какие-то белые офицеры убили студента-еврея и его жену «за шпионаж», поскольку обнаружили у него записную книжку с адресами. Студент был сотрудником одной из киевских газет, ушедшим из захваченного большевиками Киева. Когда студент с женой спешили в «освобожденный» Киев, по дороге им встретились «добровольцы».
Бойцы Первой Конной армии в известном рассказе Бабеля «Берестечко» также убивают еврея за «шпионаж». Вряд ли можно сомневаться, что описанная в рассказе сцена являлась художественным обобщением виденного автором в реальности. Alter ego Исаака Бабеля, военный корреспондент Лютов из «Конармии» хладнокровно наблюдает убийство: «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись».
Говоря о причинах еврейских погромов в период Гражданской войны, разумеется, не следует забывать и о социально-экономических противоречиях евреев с местным населением, и об использовании антисемитизма как козырной карты в антибольшевистской пропаганде, и об искренней уверенности многих противников большевиков, что большевизм – порождение еврейства, и о возможности пограбить, как одном из стимулов части антибольшевистских сил, в особенности казаков. Но следует помнить и о другом – о глубоко укорененном в православной культуре образе евреев, как коварного племени, предавшего Христа, готового при случае предать Россию и вступить в сговор с иноверцами и инородцами. Этот образ предателей был расцвечен дополнительными красками в период Первой мировой войны. Армия в годы войны в наибольшей степени подверглась антисемитской пропаганде и впервые фактически получила санкцию на насилия специально против евреев. Не удивительно, что полученные уроки не прошли даром. Еврейские погромы 1918–1920 годов были кульминацией и прямым продолжением анти-еврейского насилия, начавшегося в августе 1914 года.
Анна Хорошкевич Российская империя в «Дневнике» 1915 года Алексея Васильевича Орешникова
Начало третьего тысячелетия от Рождества Христова в Российской федерации – время мемуаров и генеалогических изысканий – профессиональных и любительских. Несмотря на отсутствие свободы прессы, идет вал публикаций воспоминаний, писем, дневников. Страна словно торопится передать вечности образы дорогих родственников и друзей, воскресить их для следующих поколений, а утописты пытаются опытом предков предостеречь их далеких потомков.
И теперь выходит к читателю то, что десятилетиями пролежало в архивах, зачастую под грифом «секретно». Среди гор этих публикаций выделяется огромный двухтомный дневник великого российского нумизмата и знатока искусства Алексея Васильевича Орешникова (1855–1933). Он охватывает время с 1915 года вплоть до начала 1933. Текст к печати был подготовлен Н. Л. Зубовой[175].
Сын московского торговца юфтью, автор дневника вынужден был до 30 лет помогать отцу, и лишь после его смерти бросил торговлю, чтобы заняться любимым, но отнюдь не доходным делом – нумизматикой. Интерес к ней пробудила мать, подарив ему еще в детстве рубль Петра Первого. Пристрастие укрепилось во время итальянской поездки, предпринятой ради лечения туберкулеза, болезни, безжалостно косившей и молодых, и старых. Из Италии будущий ученый привез коллекцию античных монет. В своем увлечении он не был одинок. Многие отпрыски первых российских буржуа проделывали сходный путь. Алексею Васильевичу повезло. В то самое время, когда он освободился от отцовского «бизнеса» и болезни, в Исторический музей Александра III, набирали сотрудников. Занимался этим Иван Егорович Забелин[176]. Орешников оказался одним из первых служащих еще не существовавшего музея. И. Е. Забелин поручил молодому человеку вести инвентарную книгу новых поступлений в музей, чем тот и занимался вплоть до смерти. Привыкший к аккуратности в торговых делах, он так же тщательно вел и научную летопись музея, а заодно и собственный дневник.
«Дневник» огромен и чрезвычайно интересен, но я ограничусь попыткой взглянуть на записи А.В Орешникова, посвященных военным действиям на Восточном фронте (преимущественно в Юго-Западном конце)[177] и реакции «общества» на эти действия.
Первая из сохранившихся тетрадей орешниковского дневника начинается 1 января 1915 года[178] с сообщения, что «в Закавказье разбили турок»[179]. Военные и связанные с войной известия в январе еще не очень часты, они тонут в описании впечатлений мирных – от выставок, разных спектаклей (драматических и оперных, особенно любимых автором) и различных происшествий на службе. Однако уже 15 января известие о смерти знакомого корнета Сумского полка заставляет Алексея Васильевича воскликнуть: «Сколько знакомых имен убито!»[180], а 16-ого он записал: «Мнение всех военных, что война скоро не кончится». 22 января в музее хранитель рассматривал «предметы, относящиеся до войны: лубочные картины, немецкие воззвания, предметы немецкого вооружения – ружья, каски, иностранные военные ордена и т. п. воспоминания об ужасной войне».
20 января автор пересказывает газетные новости: «нас немцы попятили из Восточной Пруссии. Многие носы повесили, видя в этом неуспех». 4, 6–7 и 9 февраля Орешников ограничивается фиксацией слухов: «на прусском фронте наши дела плохи, будто бы нас окружают немцы»; «Тревожные слухи с прусского фронта, говорят, из Гродны бегут»; «говорят, полкорпуса наших попали в плен, а тяжелые пушки мы потопили».
В марте дом Орешниковых стали посещать участники войны: 4 марта был П. П. Муратов, который на вопрос хозяина дома «победим ли мы врага, ответил, что теснить их можем, но разбить германцев трудно». На следующий день сестра милосердия О. Н. Рохманова, освобожденная от немецкого плена и получившая медаль на георгиевской ленте, рассказывала, что «немцы всех санитаров ограбили». 8 марта в дневнике появилось сетование на то, что «в изданиях «Петроградский телефон», «Вечерние известия» постоянно печатается ложь о военных событиях, фабрикуемая в редакциях». Наконец, 9 марта «разнесся слух, что Перемышль взят [царскими войсками – А. Х.], по-видимому справедливый[181]: Москва, по распоряжению полиции, украсилась флагами… На улицах шли толпы манифестантов с пением «Спаси, Господи». Торжества продолжались и на следующий день: «В Москве шумные манифестации по случаю взятия Перемышля; жаль, что местами появляется хулиганство». 20 марта пришла печатная информация «об истреблении и пленении нескольких австрийских батальонов, перешедших границу близ Хотина». В тот же день «через Москву вели австрийских пленных, взятых в Перемышле; народ добродушно к ним отнесся, угощали папиросами. Но к чему устраивать такие триумфы победителей? Я не пошел» – 21 марта признается Алексей Васильевич, до мозга костей гражданский человек. Тем не менее, думается, он не мог не знать того, что город окружен крепостью протяженностью 45 километров[182].
Захват Перемышля долго оставался поводом для торжества. Очень оперативно был создан фильм, который Орешников увидел в кинематографе 7 апреля. Там были «виды Перемышля через час после взятия, окопы перед Перемышлем; масса пленных поражает. Любопытен доклад Янушевича (начальник штаба) Главнокомандующему (великому князю, Николаю Николаевичу – А. Х.) в его ставке о взятии Переемышля; доклад перед домиком Главнокомандующего; великий князь после доклада его поцеловал». В Москве появились и более основательные вещественные доказательства перемышльской виктории; 22 апреля Алексей Васильевич «смотрел 2 австрийские пушки, взятые в Перемышле; стоят у кремлевских казарм». Однако атмосферу на австрийско-российском фронте запечатлевали не только официозные киношники, но и частные люди. Так, Михаил Езучевский прислал своей жене полтора десятка рисунков, которые она показала Алексею Васильевичу. Вопреки собственному неприятию новых художественных течений 16 апреля гость оценил их по достоинству. «Несмотря на импрессионистский характер, фигуры и группы очень жизненны. Хороши пленные австрийцы, раненые пленные, трупы на поле битвы (Грабово)».
В марте, почти одновременно с боями за Перемышль происходили военные действия и на Черном море. Под датой 16 марта в понедельник Страстной недели появилась запись: «Наш флот бомбардировал со стороны Черного моря турецкие форта у Босфора. По-видимому, готовятся решительные операции на этом фронте». На северо-западе дела обстояли хуже: «Приезжие из Либавы[183] говорят о панике, охватившей город, ввиду ожидающегося там десанта. По слухам, десант немцев потоплен» Однако уже 18 марта нумизмату стало известно: «Бомбардировалась Либава». Она была взята немецкими войсками после боев 19–26 апреля. 16 же марта Алексей Васильевич записал и слух, «будто бы у союзных держав подписано оставить Константинополь и прилегающую зону за Россией». 24 марта он узнал, что «под Одессой взорвался на наших минах небольшой турецкий крейсер «Меджидие». В Великую субботу наши суда под Севастополем встретились с «Гебеном» и «Бреслау», последние уклонились от боя».
В апреле 1915 года Алексей Васильевич по-прежнему записывал по преимуществу народную молву: 6 апреля – «будто бы в Царском селе было заседание у Государя 4 дня тому назад: Австрия предложила мир, соглашаясь отдать Галицию, Боснию и Герцеговину России (последние не Сербии), но вопрос остановился из-за требования России пропустить наши войска к границе Силезии. Правда ли это?» – сомневался он. Однако уже 28 апреля пришлось признаться: «В Австрии мы терпим местами неудачу», более того 3 мая: В Австрии мы отступили от Карпат, неприятель подходил к Перемышлю», а 7 мая «разнесся слух, что Перемышль у нас отнят, хотя подтверждения в газетах нет». Слух оказался ложным, что 15 мая подтвердил и Ф. А. Уваров, хорунжий во 2-м Сунженско-Владикавказском казачьем конном полку. По его словам, «положение Южного фронта хорошо, Северного – плохо; положение Перемышля опасное. Галиция – крайне неинтересное приобретение, почва плохая, народ некультурный». Тем не менее, 18 мая Орешников пишет с облегчением, «дела наши в Галиции как будто лучше». Однако уже 20 мая записывает очередной устрашивший его слух: «Говорят, при отступлении с Карпат мы потеряли убитыми и ранеными 150000 человек. Ужас!», а 22 мая – «Ужасное известие! Перемышль у нас отобран», добавляя официально опубликованную оценку ситуации: «Судя по газетам, положение наше в Галиции очень плохо» и 26–27 мая снова передает слухи: «Дела наши на войне неважны; слышно из разных кругов, что в этом году война не кончится». К 6 июню Москвы достигли «тревожные известия о положении Львова», а 7-го – Варшавы, Риги, даже Петербурга. Оставалось утешаться высказанным 9 июня мнением кн. Э. Н. Щербатова, чиновника по особым поручениям при председателе Исторического музея, сына управляющего Министерством внутренних дел России (с 5 июня по 29 сентября 1915 г.), будто «если Львов возьмут, беда не велика! Он нам не нужен и не важен» В отличие от Львова, по его же словам, «Киев в опасности от немцев», в связи с чем он советовал «древности из Киевского музея перевезти в Москву»[184]. Уже 17–19 июня Алексею Васильевичу стало ясно, что «мы из Галиции вытеснены». А 6 июля он уже констатировал, что положение наше на германском фронте тяжелое; немцы теснят и к Риге и к Варшаве», в связи с чем 8 июля «было всенародное молебствие о даровании победы».
За неделю до годовщины начала «ужасной войны», Орешников пишет: «в настоящий момент идет решающая битва на всем нашем австро-германском фронте». Паника распространялась: 14 июля «Кочубей из Царского села перевозит свои картины из опасения бомбардировки с аэропланов немцами…» 16 июля «Правительство подготовляет общество, что Варшава должна быть сдана». Алексей Васильевич внимательно следит за деятельностью Государственной думы; «немало горькой правды и справедливой критики сказано по адресу нашего плохого правительства. Хороша речь Милюкова, которой аплодировал новый военный министр Поливанов. Чиновников Военного министерства обозвали прямо казнокрадами. Правильно», – с несвойственной ему резкостью пишет автор дневника 20 июля. Через 3 дня после того, как была сдана Варшава (24 июля), «от германцев было предложение о мире чрез датского короля, отклоненное нами». Алексей Васильевич, убежденный кадет, его не комментирует, видимо, он еще не созрел для принятия подобного предложения, несмотря на ситуацию… Некоторые вскоре воспоследовавшие события (подрыв германского крейсера и 2 миноносцев в Рижском заливе, успехи на кавказском фронте, взрыв англичанами турецкого броненосца – записи 28–29 июля), казалось бы, внушали некие надежды. Однако автор излагает телеграмму лидера октябристов и председателя 4-й Госдумы М. В. Родзянко Главнокомандующему, т. е. тому же великому князю Николаю Николаевичу, «по поводу воспрещения начальником штаба Киевского [выделено автором дневника – А. Х.] военного округа печатать в газетах речи левых партий Государственной думы; такое воспрещение названо крупной государственной ошибкой» и дает свою оценку: «Наше правительство толстолобо, не поймет». 30 июля он вносит запись об инициативе военного министра по расследованию «непорядков, поставивших армию в тяжелое положение» и, не веря себе, удивляется: «Неужели наше правительство решится само себя высечь?» Об «ужасных беспорядках в администрации, об изменах в военных кругах, недостатке снарядов» Орешников слышал уже 9 июня от коллег нумизматов П. В. Зубова и С. И. Чижова. 6 августа прошел слух, что «все непорядки по артиллерии бывший военный министр Сухомлинов слагает на главного начальника артиллерии великого князя Сергея Михайловича, узел затягивается».
В тылу по разному разбирались с причинами военных неудач и по разному к этим разборкам относился Орешников. С толпы громил, еще в конце мая расправившихся с предпринимателями немцами в центре города – на Красной площади (Верхние ряды), на Варварке, на Кузнецком мосту, на Мясницкой, Покровке и т. д., ответственность за это он почти снял, увидев опытную руку организатора «беспорядков». С некоторым удовлетворением он, женатый на полу-немке, полу-итальянке, воспринял известия о казни немцев, поставлявших оружие в армию «По-видимому, – пишет он 4 августа, – русским немцам нанесен жестокий удар, едва ли они будут проявлять ту наглость, какую мы видели и чувствовали до сих пор». Казни евреев, занимавшихся теми же поставками, он не прокомментировал, но несколько позднее – 13 августа выразил надежду на то, что «вопрос о повсеместном разрешении жительства евреев, кажется, благополучно будет разрешен. Давно пора уничтожить этот позор».
Между тем поражения по-прежнему преследовали российскую армию на всех фронтах. Бомбардировки Ковна (Каунаса), захваченного германскими войсками 7 августа, как и северных фортов Новогеоргиевска, эвакуация Белостока и Вильны (Вильнюса) привели Алексея Васильевича к выводу: «Плохи наши военные (и внутренние) дела».
Особо следует остановиться на судьбе Новогеоргиевска, о захвате северных фортов которого Алексей Васильевич писал 8 августа. История падения этой крепости – «символа Российской имперской власти в Польше» до сих пор будоражит умы. А. И. Уткин назвал ее самой крупной, неожиданной и позорной потерей Первой мировой войны. Того же мнения придерживается А. А. Смирнов. Порт-Артуром на Висле назвали свое исследование о сдаче крепости И. М. Афонасенко и М.А. Бахтурин[185]. Неоднократно обращался к этой теме известный польский (?) военный историк эмигрант А. А. Керсновский.
У этой крепости долгая и запутанная история. Во время шведского «потопа» в устье Нарева при его впадении в Вислу была сооружена основательная крепость (Bugskansen). После поражения шведов в 1660 году ее снесли, и в течение 150 лет устье Нарева оставалось незащищенным. Лишь в конце XVIII века этот регион перешел в состав России, и датский инженер на русской службе Я. П. Сухтелен сделал план новой крепости, названной Закрочим, как и ближайший польский город. Он расположил ее в полутора верстах от реки на левом берегу Вислы, с тем, чтобы она служила защитой с запада. Построить ее он не успел, задуманное строительство перешло в руки французских инженеров, поскольку созданное после Тильзитского мира 1807 года Варшавское герцогство находилось под протекторатом Наполеона. Ф. Шассу Лоба перенес место строительства «Модлины» на правый берег Вислы между ней и Наревом, на так называемый Шведский остров. На строительстве в 1811 году было занято до 20000 рабочих, однако оно не было закончено. От французского начинания остались полукруглые валы внутри существующей ныне крепости, которая была создана уже российскими силами.
Возникновение и судьбы крепости в Российской империи изучены довольно подробно. Наиболее доступным для неспециалиста является сочинение С Дроздова, обобщившего многочисленные публикации на эту тему[186]: Автор воздает должное не только Наполеону, оценившему важность стратегического положения крепости Модлин на Висле в устье Нарева, где его войска сумели продержаться до 25 декабря 1813 года, но и польским повстанцам 1831 года, сделавшим ее своим центром, что в том же году было использовано императором Николаем I, душителем этого восстания, поручившим своему брату Михаилу создать более совершенное сооружение, которое 25 февраля 1834 года было переименовано в крепость св. Георгия, а 14 марта – в Новогеоргиевск. Стоимость этого сооружения стала предметом превратившегося в анекдот разговора двух императоров Вильгельма и Николая I. Российский со смехом сообщил австрийскому, что ни Бог, ни начальник инженеров Варшавского округа И. И. Ден, знающие эти данные, тайну не выдают.
Польским повстанцам 1863 года во главе с Я. Домбровским уже не удалось воспользоваться модернизированным укреплением, усовершенствование которого продолжалось и позднее. В 1874 году во Франции были приобретены электрические прожекторы для освещения окружающей территории. После визита в Новогеоргиевск Александра III в 1884 в условиях осложнения российско-германских отношений внутри крепости были возведены новые укрепления. Она же, подобно балтийским портам, служила перевалочным пунктом для экспорта из России зерна, для чего внутри крепости было проложено 26 километров железнодорожных путей[187]. Однако незадолго до войны судьба крепости висела на ниточке. Военный министр генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов в 1910 г. предложил снести все западные крепости, как устарелые, и на их месте возвести новые. Некоторая нехватка денег и неожиданно разумная позиция императора, настаивавшего лишь на усилении крепостей[188], спасла большую часть этих оборонительных сооружений (к началу войны были взорваны лишь боевые казематы в фортах Варшавы). Гарнизон крепости имел в достатке и оружия и продовольствия. Однако комендант крепости – с 1907 года кавалерист, а по призванию географ, ботаник и альпинист, не имевший абсолютно никакого военного опыта. Н. П. Бобырь сначала сделал противнику подарок – сдал те самые передовые форты Новогеоргиевска, о которых писал А. В. Орешников, в ночь с 19 на 20 августа бежал сам, а затем распорядился сдаться всему гарнизону, что тот за небольшим исключением и произвел. 90 тысяч человек сдались в плен. Противнику достались 1200 пушек, некоторые доныне стоят в Париже на Эспланаде инвалидов. Победу над Российской империей праздновали и в другой империи – Османской. В честь нее весь Стамбул был увешан турецкими флагами.
Поражение российской армии на этом этапе войны, очевидно, было психологически связано с неготовностью военного руководства страны к ведению войны нового типа. Кавалеристы предвоенного времени еще не умели координировать действия разных родов войск – наземных (прежде всего мощной артиллерии) и воздушных (небо над воюющими на фронте сторонами полностью принадлежало противникам России). Ситуация несколько напоминает ту, что сложилась в начале Великой Отечественной войны в 1941. Слабость верховной власти, прибегавшей в основном к непрофессиональным услугам собственных родственников, имеет зеркальное отражение в 1941 году. Верховный главнокомандующий во время войны, а в канун ее Первый секретарь ЦК КПСС Сталин полностью полагался на проверенных людей – руководителей НКВД и верных друзей кавалеристов, с удовольствием истреблявших умников, которые толковали о войне нового технологического типа, и 21 июня в 8 часов вечера, как это сделал Л.М. Берия, успокаивали Сталина, что Гитлер на нас не нападет. Непрофессионализм руководителей Российской империи и СССР стоил народу 2, 25 миллиона жизней защитников страны и – 11, 45 миллиона[189].
Дневник Орешникова рисует безотрадную картину дезинформации сограждан. Главным источником новостей о войне для него были слухи и личное общение с участниками войны. Здесь полного соответствия с 1941-42 годами нет.
Любопытна эволюция настроения автора дневника. Постепенно законопослушный, хотя и член кадетской партии, становится критиком – еще не самого государя, но всего его правящего окружения. Поучительный урок для любителей военного метода разрешения споров. Впрочем, в наше время этот метод абсолютно неприемлем, потому что у человечества в целом, независимо от национальной, государственной и религиозной принадлежности в XXI столетии есть только одна задача – сохранить возможности собственной жизни на земле. Она может быть решена только в мире и всем миром.
Но вернемся на 99 лет назад. 8 августа автор дневника заносит в него очередной слух: «Слышал – Киев сильно укрепляют окопами, проволочными заграждениями» Из-за угрозы потери Риги оттуда были привезены три медные пушки, одна 1600 года, две 1639 рижской отливки с немецкими надписями. Их А. В. осматривал 9 августа. Из ревельского архива в РИМ были привезены документы. 10-го более радостные известия с Балтики: по словам Родзянко в Государственной думе, выбиты из строя германский сверхдредноут, 3 крейсера, 9 миноносцев. Остальные известия с фронта были неутешительны. 12 августа стало известно о потере Осовца (Крепость Осовец мы отдали немцам», 15 – ого – потеряли Брест-Литовск («укрепления и мосты нами взорваны»). Обе эти записи по тону спокойны. Это констатация факта. Тогда еще Алексею Васильевичу, видимо, не были известны детали этих потерь. А детали таковы, что приводят в содрогание людей, помнящих и Великую Отечественную, и обе чеченские… В особенности страшны подробности обороны Осовца, крепости, расположенной в стратегически важном месте в окруженном болотами, поросшими осинами, коридоре между реками Висла, Нарев, Буг и Бобры-Неман, откуда шли дороги на Питер и из Восточной Пруссии (Берлина) и из Австрии (Вены). А «в обществе, больше между дамами, тревожно говорят о возможности взятия Москвы немцами» – 14 августа, 15-го тревожные опасения распространились еще шире: «разговоры только о военных событиях, боятся за Москву и Петербург». 18 августа утешительное сообщение: «Князь Щербатов говорил, будто из Америки доставлено 3000000 ружей», 19-го еще одна аналогичная запись: «Вести с войны повеселее, кое-где поколотили немцев, взяли пленных (3000), орудия, пулеметы. Тем не менее, эти мелкие радости не изменили общее настроение москвичей: «Городская дума высказалась за необходимость образования правительства, пользующегося доверием общества». Царь в ответ 23 августа вынужден был заявить о предоставлении исключительно широких полномочий «избранникам законодательных и общественных учреждений».
А на восточном фронте дела шли все хуже и хуже. 24 августа: «Рассказывают, что на галицийском фронте стали часты сдачи в плен наших воинов, причина этому – утомление войной и неудачи. Сдача Киева возможна, немцы в 200 с небольшим верстах от него, а защищать его – нет или мало снарядов»[190]. 26 августа «потрясен был утром, прочтя газеты… о принятии государем на себя звания Главнокомандующего! Ужасно то, что около этого бездарного человека будет находиться вся та сволочь, которая дрожит за уходящую из рук бюрократов власть». 25 августа «всеобщий голос говорит, что перемена сделана крайне неудачно»[191]. Настроение автора дневника не подняли даже известия с фронта: «Под Тарнополем мы разбили 2 германских дивизии, взято в плен 200 офицеров, 8000 рядовых, 30 орудий, пулеметы».
Бедному кадету уже стал являться призрак новых внутренних потрясений, и, кажется, он уже с ними смирился, что явствует из текста 30 августа: «Настроение общества революционное; по-видимому, в недалеком будущем революция произойдет, но лишь бы бескровная». В ту же копилку народного недовольства пошли новые действия власти: «По высочайшему повелению приостановлены заседания Думы до начала ноября, не позднее. Впечатление произвело на всех тягостное. В обществе много разговоров не особенно лестных по адресу начальства; поговаривают об однодневной забастовке в знак протеста». Если этот слух не вызвал у Алексея Васильевича протеста, то другой – о забастовке железных дорог он встретил с негодованием» это было бы для раненых бесчеловечным поступком». Трехдневную забастовку трамваев в Москве 5–7 сентября «в знак протеста против приостановки заседания Государственной Думы», как заявили ее рабочие депутаты, он воспринял крайне спокойно, даже не откомментировав. Зато назвал «замечательными» резолюции двух съездов – городского и земского, в которых «говорится, что мысли и чувства всех граждан слиты в стремлении к победе и в желании помочь воинам, но этому препятствует безответственность власти, ее оторванность от страны, ее глубокое расстройство и бессилие; требуется решительный поворот на новый путь», выделено автором дневника.
11 сентября вновь жалобы: «У всех какой-то сумбур в голове. Настроение тяжелое благодаря неудачам на войне и тревожному внутреннему политическому состоянию». Даже возвращение Луцка (под 12 сентября) настроения не подняло. Обрадовало лишь сообщение о том, что атаки под Двинском (ныне Даугавпилсом) отбиты ураганным огнем, «следовательно, снаряды у нас подвезли». И это уже достижение[192]… Слух о введение предварительной цензуры («с точки зрения полезности для войны») напугал – «опять будут большие стеснения для литературы и науки»; к счастью для этих видов культуры предложение не было одобрено Госдумой.
Конец сентября ознаменовался прорывом австро-германского фронта в Галиции на Стрыпе (притоке Днестра)[193], что, впрочем, не изменило общественных настроений в стране. «В обществе большое недовольство против правительства, правые элементы начинают леветь. Открыто говорят о влиянии на царя такого прохвоста, как Григорий Распутин». Начались и экономические трудности – «страшная дороговизна на все продукты 1-й необходимости в тылу. Кроме того, – перемены психики солдат на фронте. После захвата Чарторыйска «в сильном ожесточении против немцев наши солдаты перекололи весь 2-й гренадерский германский полк». После некоторого затишья в начале ноября партизаны совершили дерзкий налет «в глубь германских войск юго-западнее Пинска (у Невеля) и захватили штаб 82-й германской дивизии (2-х генералов, доктора, 3-х офицеров и нижних чинов) в плен, уничтожив гранатами прикрытие; наши потери: 2 убитых, 9 раненых». Разумеется, это общей картины не изменило. Настроение приехавшего с фронта 26 ноября главного библиотекаря РИМа К. С. Кузьминского «самое безотрадное; в успехе войны сомневается». Видимо, с этими настроениями были связаны и некоторые признаки, свидетельствовавшие о склонности к завершению войны… Фрейлина императрицы М.В Васильчикова хлопотала о заключении сепаратного мира России с Германией, за что, однако, подверглась опале и ссылке в имение сестры. Сам император в речи Георгиевским кавалерам 20 декабря объявил о готовности продолжать войну – «Я не заключю мира, пока не изгоним из пределов наших последнего неприятельского воина» и «Заключю лишь в полном согласии с нашими союзниками». Воинственные настроения Верховного главнокомандующего поддерживались известиями о сильных боях у Припяти -19 декабря, на Буковине, на галицийском фронте, где они начались 17 декабря и к 27-му увенчались некоторыми успехами.
29-го Алексей Васильевич пишет: «Бои в Буковине, по-видимому, были колоссальны, судя по газетам, у противника одних раненых 100 000 человек! Сколько же мы потеряли?»
В тылу по-прежнему пытались собирать деньги – то Сибирское общество помощи больным и раненым («на улицах давали мало»), то «в пользу русских солдат, находившихся в плену». Однако благотворительные общества оказались не на высоте: в Красном кресте обнаружилось воровство: «выкрали в одном из здешних отделений прошлогодние подарки на Рождество солдатам в окопы! В числе воров какой-то князь, поп и др.!!» На Рождество же в доме Орешникова появились торт и колбасы, закупленные вместе с преданным ему дворником, впоследствии уже после революции поддерживавшим и подкармливавшим своего бывшего хозяина.
На этом обзор записей А. В. Орешникова за «тяжелый» 1915 год завершен. Можно подвести итоги. Источником сведений нумизмата о военных действиях на Восточном фронте в малой степени были газеты, единственный вид СМИ, существовавший в то время. Достоверность их сообщений он часто подвергал сомнению. Более конкретные сведения Алексей Васильевич получал от своих знакомых, возвращавшихся с фронта, имена которых он тщательно записывал. Общие настроения фиксировали «слухи», к сожалению, дневник зачастую лишен сообщений о том, кто их передавал. Осторожный ученый часто ограничивался формулировкой «общество», читателю предоставляется возможность реконструировать круг входивших в него лиц. В силу рода своих занятий он поддерживал отношения, как с представителями «высшего света» (как некогда с фрейлиной императрицы М. В. Васильчиковой), так и с многочисленными деятелями отечественной культуры – театра, литературы и т. д. «Общество», на мнение которого ссылается порой автор, было разноликим. Сторонник конституционно-демократической партии был прежде всего гуманистом, и его оценки ситуации по преимуществу беспартийны. Поэтому они более достоверны, чем официальные. Он отчетливо видел нараставшее недовольство царской властью в разных слоях общества. Уже на протяжении второго года войны он отчетливо прозревал будущее страны и в душе уже принял революцию, мечтая лишь о том, чтобы она была бескровной.
Марианна Сорвина Время разбрасывать камни
Прошло 100 лет с начала Великой войны. Ее можно называть как угодно – Великой (с 10-х годов), Первой мировой (с конца 30-х годов), Неизвестной, но факт остается фактом: эта война еще 100 лет назад породила те процессы, которые мы наблюдаем сегодня. Вековая война и полувековая интеграция, которые уже содержали в себе семена будущей дезинтеграции, которая – хотим мы этого или не хотим – обозначила собой начало нового столетия.
В 1992 году произошел распад бывшего СССР. В 2006 и 2008 на руинах бывшей Югославии выделились в качестве самостоятельных субъектов Черногория и Косово. И наконец – столетие Великой войны, началось столь стремительно и неотвратимо, что мир обомлел.
Некоторые этнические образования вели себя не столь заметно, однако тихо и кропотливо трудились над бумагами – готовили документы к референдуму. К числу последних можно отнести Шотландию и Венецию. Другие в стремлении к отделению и самоопределению давно и настойчиво заявляли, просили, умоляли и заклинали мировое сообщество. Безуспешно взывал к справедливости итальянский Южный Тироль. Заявляла о себе испанская Каталония.
Осенью 2013 года (19–21 ноября) в австрийском Инсбруке проходила международная конференция по межрегиональным проблемам (Regionalism (s) Lessons from Europe and the Americas). Выступали известные историки и политологи из Австрии, Италии, Франции, США, Бразилии и других стран. В тот момент уже было очевидно, что в мире назревают крупные политические перемены, и 2014 год обещает много неожиданностей.
Однако мало кто из участников заметил небольшой спонтанный диалог, возникший между выступлениями. Представитель Шотландии в некоторой растерянности спрашивал только что закончившую свой доклад Анну Гампер, правоведа из Инсбрукского университета, как же Шотландии решать свои проблемы в контексте того, о чем говорила Гампер.
Небольшое пояснение. Анна Гампер – весьма успешная женщина, перспективный ученый. Однажды Клаудиус Моллинг, политический активист из Инсбрука, принимавший участие в национально-освободительной борьбе Южного Тироля в 1960-х годах, с горечью сказал, что «венцы никогда не заботились о Тироле». Но если тогда, в 1960-е годы, жители Инсбрука, такие как искусствовед Моллинг, еще отличались от «венцев» своим неравнодушием и чувством братской взаимопомощи, то сегодня эти слова Моллинга можно отнести и к Инсбруку. Несмотря на большое количество исторической литературы, лишь немногие здесь вспоминают прошлое, немногие способны прочувствовать историю многолетней борьбы бывшего австрийского региона за свою свободу и отчаянные призывы, воплотившиеся в лозунгах и транспарантах: «Австрия, помоги!» и «Южный Тироль – Австрии!»
В своем докладе доктор Гампер говорила о разном понимании слова «регион»: «Сегодня регионализм предполагает множество различных значений. А сам термин «регион» может /…/ варьироваться от небольшой территории к макрорегиону мира». Доклад подводил к мысли, что централизация лучше, чем децентрализация, поскольку «регионы крупные» (то есть объединения стран под эгидой ЕС) «лучше регионов небольших», стремящихся к отделению: «Несмотря на трудности, возникающие у отдельных автономий при соприкосновении с законами целостного государства, стремящегося к централизованной власти, /…/ позитивное видится в сотрудничестве друг с другом на уровне ЕС через национальные границы – в преодолении, а не создании новых границ».
Именно это вызвало вопросы у шотландского ученого, пытавшегося уже вне регламента добиться от доктора Гампер ее отношения к шотландскому вопросу самоопределения. Она, довольная произнесенным докладом, отвечала рассеянно, что сложные вопросы в государстве могут решаться с помощью федерализма. Шотландца этот ответ явно не удовлетворил, если не сказать – обескуражил, поскольку процесс дезинтеграции в ноябре 2013 года уже шел полным ходом и не заметить его мог только слепой.
Но не стоит забывать, что доктор Гампер – специалист по федерализму и праву, а международное право достаточно сурово по отношению к сепаратизму и смене официальных границ. И все-таки – нельзя же вовсе не признавать того факта, что столетние границы могли оказаться исторической и дипломатической ошибкой, могли устареть, а кроме того появление новых обстоятельств могло заставить этнические меньшинства пойти на столь решительный шаг.
Радикальным, но и самым эффективным обстоятельством для самоопределения считается война, избавляющая этнические меньшинства от необходимости в дополнительных аргументах. Именно так случилось с Черногорией и Косово. Однако можно избежать крайностей и жертв и пойти по бюрократическому пути – то есть сочинить много правовых, экономических, социальных документов, закидать весь мир бумагами, отчетами, конституционными проектами. Метод утомительный, но, в общем, безошибочный.
Именно шотландцы стали авторами такого продуманного плана отделения от Великобритании, по сути – бюрократического шедевра, перед которым бессильно даже международное право. Он получил традиционное в англоязычных странах название «Белая книга» (White paper). Шотландский документ занимает почти тысячу страниц и знакомит мировое сообщество со своими ресурсами, планами и программами вплоть до мельчайших деталей. Дабы вопросов о возможности и необходимости самоопределения Шотландии у мирового сообщества больше не осталось. В первой главе говорится: «Независимость означает, что в будущем Шотландия окажется в наших собственных руках. Решения, в настоящее время принимаемые за Шотландию в Вестминстере, теперь будут приниматься народом Шотландии./…/В случае обретения независимости центральными являются принципы демократии, процветания и справедливости…». Ключевыми пунктами этого документа стали контроль над собственными ресурсами, самостоятельные экономические решения, благополучная социальная база. Поскольку главной опасностью любого самоопределения является кризис и последующая за ним миграция населения в соседние страны, область, заявившая об отделении, в первую очередь должна убедить мир в том, что она достаточно обеспечена и не нуждается в посторонней помощи. Шотландия выходит на референдум 18 сентября 2014 года, и у нее в этом отношении самые большие шансы.
Еще раньше о референдуме объявила Венеция, считающая, что для нее государственный симбиоз с Римом убыточен, поскольку вливания в казну превышают дотации.
Но ни Венеция, ни Шотландия не знают жестокого пути унижения, который прошел Южный Тироль в XX веке, утраченных надежд и сломанных судеб.
* * *
Южный Тироль стал жертвой дипломатической несправедливости сто лет назад. Можно ли считать круглую дату достаточным основанием для отделения?
В 1946 году канцлер Австрийской республики Леопольд Фигл считал, что Южный Тироль может еще подождать – лет двадцать: «Двадцать лет – ничто в жизни нации, французы же вернули себе Эльзас-Лотарингию через пятьдесят лет. А в промежуточное время федеральное правительство граждан Южного Тироля может знать, что они до сих пор считаются австрийцами». С тех пор, как он это сказал, прошло пятьдесят восемь лет.
Южно-тирольский немецкоязычный этнос, имевший древнюю историю, свою культуру и аграрные традиции, искусственно отторгли от Австрийской империи в 1919 году и отдали Италии, не спрашивая желания самих жителей. Решение Сен-Жерменской конференции тогда представлялось ошибкой даже самим дипломатам. Представителям стран Антанты не хотелось отдавать воинственной Италии эти территории, но руки у них были связаны 16-ю пунктами Лондонского договора: Италия еще до войны потребовала эти территории в обмен за выход из Тройственного Союза и присоединение к Антанте. Об этом чувстве вины дипломатов, решивших судьбу Тироля, писал представитель британской делегации Гарольд Николсон: «Для итальянцев было неудобно, что их требования распространялись на те части бывшей вражеской территории, население которых вызывало теплые чувства в сердцах представителей присоединившихся и союзных государств. Тирольцы нравились всем. Г-н Ллойд Джордж, как сообщали, испытывал своего рода благоговение перед памятью Андреаса Хофера».
Всего через пару лет в Италии пришел к власти фашистский режим Муссолини. Название «Южный Тироль» было запрещено, как и немецкий язык. За попытку учить детей немецкому языку арестовывали и ссылали. Немецкая культура переместилась в катакомбные школы. Теперь эта земля стала провинцией Альто Адидже, а ее жители обязаны были говорить по-итальянски, регистрироваться под итальянскими именами и даже перебивать таблички на кладбище на итальянский язык. Регион стали искусственно заселять итальянскими безработными из других областей страны, чтобы уничтожить немецкий этнос. Тирольцы ощутили на себе и такое малознакомое в то время понятие, как «рейдерство»: ухоженные фермерские хозяйства привлекали итальянских люмпенов, и они с помощью шантажа и угроз выживали крестьян с их участков и даже похищали фермеров при попустительстве итальянских карабинеров, ставших представителями власти в регионе.
Пройдя этот жестокий путь в 1920–1930 годы, тирольцы надеялись хотя бы в конце Второй мировой войны, после падения режима Муссолини, получить свободу. Пусть даже ценой превращения в оккупационную зону союзных войск. Ставший журналистом узник концлагеря Фридл Фолгер вспоминал: «… В конце 1945 года нас осадили оккупационные войска союзников. Любая другая область в Европе была бы рада избавиться от оккупации. Только мы, южные тирольцы, были рады их присутствию. Как бы мы были счастливы стать британской колонией! Но они так быстро ушли. Что принесет 1946 год?»
1946 год принес переговоры в Париже итальянского премьера Альчиде Де Гаспери и австрийского министра иностранных дел Карла Грубера. После них надежды сменились отчаяньем. По словам Фолгера, тирольцы слишком поздно узнали, что неутешительное для них решение было принято уже на конференции министров иностранных дел, проходившей в Лондоне с 11 по 14 сентября 1945 года. Жители провинции, ни о чем не подозревая, собирались на митинги и пели песни. 1 мая 1946 года Фолгер встретил на мосту председателя Народной партии Южного Тироля Эриха Амонна: «Обычно спокойный Амонн не мог сдержать слезы. “Что же нам теперь делать?” – спросил он в отчаянье».
5 мая 1946 года на холмах перед замком «Зигмундскрон», на восточной окраине тирольской столицы Больцано, собрались 20 тысяч человек. Эрих Амонн воздел руки к небесам и воскликнул: «Мы все взываем сегодня к тому, кто вершит судьбы народов, с горячей мольбой: Господи! Сделай нас свободными!»
В 1948 году правительством Италии был предпринят еще один шаг: объединение регионов Альто Адидже и Трентино в одну провинцию, что привело к утрате этническими немцами избирательных мандатов и нарушению баланса национального представительства.
Мотивация всех этих действий содержалась в выступлениях членов итальянского парламента и правительства: выступавшие ссылались на «беспокойство, связанное с природной отсталостью немецкого этноса Южного Тироля», его «неспособность адаптироваться к современности, участвовать в процессах индустриализации». Особенно этим настроениям способствовал доклад в парламенте итальянского эксперта по Южно-тирольскому региону Ренато Баллардини: «Немецкоязычное население провинции Больцано на целых 74 % занято в сельском хозяйстве. Такого настораживающего процента аграрной занятости невозможно увидеть ни в одной стране, он свидетельствует об отставании в развитии».
Эти лицемерные заявления привели к варварскому уничтожению традиционно аграрного, фермерского региона с высоким уровнем крестьянского хозяйства. К первому десятилетию XXI века аграрный сектор Южного Тироля с 74 % занятости, которые «беспокоили» эксперта Баллардини, снизился до отметки 12 %. Таким образом, исторический аграрный, плодородный край в течение полувека был преобразован в туристический придаток Италии, занятый в сфере обслуживания более чем на 60 %.
* * *
Ведущая партия Южного Тироля к концу 50-х годов превратилась в беспомощное формирование, которые уже не могло защищать интересы своих сограждан. Тогда ее председателем был избран человек совершенно иного типа – юрист Сильвиус Маньяго. Другого такого лидера Южный Тироль не знал и, скорее всего, никогда не узнает. Маньяго был ровесником Первой мировой войны и ветераном Второй, на которой он потерял ногу. Этот человек вызывал безусловное доверие сограждан и обладал огромной волей. Когда его спрашивали, с чем связан его успех в политике, Маньяго отвечал: «Во-первых – с моим своеобразным происхождением; во-вторых – с тем, что я никогда не обещаю того, чего не могу выполнить; в-третьих – с тем, что я одноногий».
Маньяго был сыном итальянца и немки. Уже одно это делало его уникальным явлением в Тироле – представителем двух ведущих национальных меньшинств. Целью, которую поставил перед собой Маньяго, был статус автономии для Южного Тироля – то единственное, что он мог обещать и чего мог добиться. Иное было в то время просто невозможно.
Титаническая деятельность этого человека, связанная с разработкой и проведением в жизнь «Пакета Южного Тироля» совпала с трагическими событиями 60-х годов, когда подпольщики предприняли свои собственные радикальные шаги, чтобы привлечь внимание европейской общественности к проблеме их земли. За эти действия была заплачена непомерно высокая цена: многие были приговорены к большим срокам заключения, некоторые погибли. Маньяго опасался, что раздражение правительства отбросит утверждение автономии на долгие годы, он шел на переговоры с итальянцами, проявляя чудеса дипломатичности и терпения. По сути, на достижение своей цели он положил все силы и всю жизнь. Создается впечатление, что даже в долголетии (Маньяго умер в 96-летнем возрасте) проявилась его исключительная рациональность: это было связано с необходимостью силой своего авторитета контролировать и поддерживать обстановку в автономии, статут которой был окончательно принят лишь в 1992 году.
* * *
Современный итальянский журналист и издатель Фабрицио Расера в процессе анализа тех давних событий сделал умозаключение: «История и общественная память идут не только с разной скоростью, но и в разных направлениях». К этому хочется добавить, что общественная память и международное право идут не только в разных, но порой в совершенно противоположных направлениях. Но можно ли считать цивилизованным общество, в котором человек и даже целый народ играют лишь эпизодическую роль в тени глобальных мировых интересов небольшой группы стран, считающих себя избранными? Это риторический вопрос.
Для международного права все это, возможно, эмоции. И побои в итальянских школах за любое немецкое слово; и убийства на полицейских допросах молодых людей, повреждавших фашистские памятники уже в 60-е годы – когда с фашизмом официально было покончено; и смерть в тюрьме народного вождя Зеппа Кершбаумера; и гибель подпольщика Луиса Амплаца, застреленного провокатором из итальянской секретной службы.
Политика устранения символики, связанной с исторической государственностью региона, доходила до абсурда: были запрещены национальные флаги, предписывалось перекрасить рамы и наличники в сельских жилищах, если в них присутствовали красно-белые цвета австрийского государственного флага. Конечно, все это – тоже эмоции, и кто-то скажет: «Какая вам разница – иметь эти красно-белые наличники или не иметь, держать дома национальный флаг или нет. Ведь от этого вы не умрете с голоду». Но не хлебом единым жив человек.
* * *
В настоящий момент Южный Тироль тоже предпринимает шаги к референдуму. Некоторые ученые из Северного Тироля принимают активное участие в начавшемся государственном строительстве своих исторических собратьев, оказавшихся по ту сторону границы. Одним из таких заинтересованных ученых стал профессор Инсбрукского университета Петер Пернталер, представивший два года назад свой проект конституции будущего «Свободного государства “Южный Тироль”» Столь необычное добавление к названию – «Свободное государство» – далеко не случайно: оно обусловлено главной целью и главным чаяньем этой земли – обретением свободы.
В проекте конституции говорится: «Свободное государство защищает равенство немецких, итальянских и ладинско-говорящих групп, как неотъемлемых частей населения государства. Им принадлежит право сохранять свою самобытность и поддерживать свой язык, экономическое и социальное развитие, культуру и традиции, обеспеченное принципами Конституции». С этническим своеобразием Южного Тироля связано и такое положение: «На первые тридцать месяцев деятельности государственного парламента президент избирается депутатами немецко-язычной группы, на следующий период президента избирают депутаты итальянской языковой группы. С одобрения большинства членов немецкой и итальянской групп на следующий срок может быть избран президентом депутат ладинской группы».
Остается лишь сожалеть о том, что никто из самоотверженных людей прошлого – ни доктор Маньяго, ни народные лидеры Зепп Кершбаумер, Георг Клотц, Луис Амплатц, ни политики Эрих Амонн и Фридл Фолгер – не дожил до нашего времени, когда в Южном Тироле вновь появилась робкая надежда на долгожданную свободу. И надеяться, что все эти демократические преобразования, построенные на равенстве и взаимопонимании, однажды станут реальностью.
Марианна Сорвина «Дзюк»[194] и его товарищи
Рано. Не время. Никто не ответит, Чем тебе было стать суждено. То ли ты ветвь, и унес тебя ветер, То ли ты – камень, упавший на дно. Ярослав Ивашкевич«Большое ограбление поезда»26 сентября 1908 года польско-литовский городок Безданы, известный до этого лишь старинным костелом и грибными местами, вошел в историю. Почтовый состав, направлявшийся в Санкт-Петербург, внезапно подвергся нападению группы неизвестных.
Вагоны покачивало на перегоне, в окно влетал легкий ветерок. Один из пассажиров, чернобородый красавец, севший на поезд еще в Варшаве, всю дорогу читал книгу. Рядом с Безданами он отложил чтение, достал из-под лавки что-то завернутое в вощеную бумагу и тихо вышел из купе. Пройдя пару вагонов, бородач встретил двоих пассажиров, которым передал сверток.
Дальнейшее напоминало модный вестерн. Поезд миновал семафор перед Безданами и начал торможение. На платформе уже стояла группа людей, не похожая на обычных пассажиров. Это был боевой отряд Томаша Арцишевского. Ян Балага и Эдуард Гибальский вскочили на подножку. Арцишевский и Влодек Моментович были уже в вагоне. Балага попытался разбить стекло. Жандарм эскорта сопровождения Борисов выскочил из вагона и бросился к налетчикам, целясь в Гибальского.
– Franek, uwaga! (Франек, берегись!) – это Моментович крикнул с подножки.
Гибальский отскочил, Борисов промахнулся и сам был ранен в ногу. Ян Балага, коварно улыбаясь, медленно опускал бомбу через разбитое окно. Через пару секунд прозвучал взрыв. Стоявшего рядом с поездом Гибальского шарахнуло волной о забор. Балага ухмыльнулся и покачал головой. В поезде начался беспорядок. Через несколько секунд Гибальский через то же отверстие в стекле закинул вторую бомбу. На этот раз вылетели все окна в машинном отделении, и погас свет. Одна группа пыталась нейтрализовать эскорт, вторая направилась к зданию железнодорожной станции выводить из строя телеграф. Третьей предстояло проникнуть в почтовый вагон.
Вахтенные, дрожа от ужаса, закрылись за бронированной дверью вагона, в котором перевозились деньги. Мрачного вида тип, очевидно главарь банды, которого подельники называли Мстиславом, забарабанил в дверь и крикнул по-русски с сильным акцентом:
– Открывайте! Если нет – бомбу бросим!
На самом деле бомбы у него не было, но блеф удался, и дверь открылась. Уже через минуту налетчики упаковывали пачки купюр в мешки.
В это же время коренастый круглолицый мужчина колотил в дверь телеграфного отделения прикладом винтовки (именно она и была в том свертке, переданном бородачом в тамбуре).
Усатый щеголь – ни дать ни взять завсегдатай варшавских салонов или какой-нибудь брачный аферист – с кошачьей ловкостью закинул на крышу вокзала две гранаты, которыми были ранены несколько солдат и почтовый служащий. С таким же проворством щеголь проник в здание и вывел из строя телеграф: явно разбирался в механике.
Ошеломленные внезапным налетом служащие пребывали в полном шоке и не смогли вызвать жандармерию, даже когда вся эта пестрая компания удалилась.
Деньги были мгновенно упакованы в мешки, после чего террористы направились в сторону реки Нерис, где их ждали лодки. Доплыв до городка Янов, участники ограбления разошлись в разных направлениях, что лишило полицейских возможности обнаружить группу по свежим следам. При этом сами налетчики обошлись без потерь и благополучно «обнесли» Российскую империю на сумму 200812 рублей 61 копейка.
Похищенных денег никто больше не видел. Они пошли на содержание польской военной организации Zwiqzek Walki Czynnej («Союз вооруженной борьбы»), а также – на поддержку арестованных товарищей и их семей.
Акцию под Безданами называли одной из самых дерзких и зрелищных экспроприаций XX века, но историческим «большое ограбление поезда» стало значительно позднее: в основном из-за состава его участников, имена которых в то далекое время еще мало что говорили польскому обывателю. Десятки лет спустя эти имена знала уже вся Европа.
Главарем по кличке «Мстислав» был будущий польский лидер Юзеф Пилсудский. Бородач, передавший подельникам оружие и похожий на разбойника из сказки, был экономистом Валерием Славеком. Коренастого и круглолицего с винтовкой звали Александр Пристор. А усатый щеголь Людвик, смахивающий на брачного афериста, был 30-летним механиком и бомбистом Томашем Арцишевским.
Бандитский налет на поезд получил авантюрное название «Акция четырех премьеров»: в число нападавших вошли сразу четыре будущих премьер-министра Польши – Пилсудский, Славек, Пристор и Арцишевский.
Их сообщниками были революционеры-террористы Ежи Сава-Савицки, Юзеф Кобялко, Бронислав Горголь, Влодзимеж Моментович, Александр Луце-Бирк, Эдвард Гибальский, Чеслав Свирский, Ян Балага, Ян Фиалковский, Влодзимеж Хеллман.
Дамское танго
В подготовке ограбления участвовала и женщина – Александра Щербиньска по кличке «товарищ Оля», любовница и будущая жена Юзефа Пилсудского. Ради такой боевой подруги он готов был развестись с первой женой Марией Юшкевич: целенаправленной натуре военного лидера даже в частной жизни необходимы были плечо преданного друга и романтика общей идеи. Впрочем, Маршалу и его возлюбленной пришлось ждать еще 13 лет: Мария не соглашалась на развод, и они поженились с Александрой Щербиньской только после смерти Марии – в 1921 году.
Мария Юшкевич была дамой очень эффектной. Пилсудский встретил ее в Литве в начале своей революционной деятельности и три года соперничал из-за нее с главой Польского Национального Конгресса Романом Дмовским. Знакомые с ней революционеры, члены PPS (Польской социалистической партии), называли Марию – «PPS без S» или просто «РР», что расшифровывалось как «Piçkna Pani» – «Прекрасная Дама».
Пилсудский не был верным мужем, но мог ради любви поддаться внезапному порыву и из католика превратиться в протестанта: Мария Юшкевич до него была замужем и по католическому закону не могла вступить во второй брак, поэтому они венчались в протестантской церкви. Уже имея фактически две семьи, он разрывался между двумя женщинами: живя с Александрой, писал письма Марии, а возвращаясь к Марии, писал такие же послания Александре. Даже свою первую дочь от Александры он назвал Вандой – в честь своей падчерицы, дочери Марии от первого брака.
Женившись на Марии Юшкевич, Пилсудский Ванду удочерил. Он был очень привязан к падчерице.
Встретив в доме Пилсудского 15-летнюю Ванду Юшкевич, разбойник-бородач Валерий Славек потерял голову. Состоялась их помолвка. Но в 1908 году 19-летняя Ванда неожиданно умерла от перитонита. Славек пережил ее на 30 лет, но больше за всю свою жизнь ни на кого не посмотрел. Он не был праведником, но, в отличие от своего боевого командира, был однолюбом.
Пороховой букварь Дзюка
Целью дерзкой акции Пилсудского был захват денег для развития движения за независимость Польши и погашение долгов организации. Примечательно, что сам он мог бы остаться в тени и руководить налетом на расстоянии, однако предпочел лично участвовать в акции, тем самым продемонстрировав бойцам свою храбрость.
К началу Великой войны Пилсудский связывал судьбу Польши с Австрией и Германией, поскольку делал ставку на победу стран Тройственного союза. Он рассчитывал, что после этого Польша пойдет по одному из двух возможных путей: либо обретет независимость, либо объединится с Галицией и станет частью триады под эгидой Габсбургской монархии. В отличие от Дмовского, лидера «народовцев» и почетного доктора Кембриджского университета, Пилсудский был военным, а не политиком: он явно не осознавал в тот момент, что ориентация на Габсбургов даже в случае их победы не решит вопрос польской независимости и подвергнет Польшу опасности новой аннексии – теперь уже со стороны Германии.
В 1913 году Пилсудский продолжал тренировать на полях Галиции своих «соколов», и в этом проявилась его дальновидность: кто имеет силу, тот потом имеет власть. Но у будущего лидера Польши не было своей политической партии, как не было и представления о положении в Варшаве. Он искренне полагал, что его добровольческую армию соотечественники встретят с восторгом и фанфарами и тут же совершат переворот, чтобы возвести его на трон. Его отряды вошли в Польшу через пять дней после начала войны – 6 августа 1914 года. Однако их появления там никто не ждал, и никакого восторга оно не вызвало. Варшава, опасаясь немцев, была ориентирована на русских, защищавших ее с оружием в руках, а проавстрийские «людовцы» боязливо отсиживались в Галиции, где и произошло объединение добровольческих формирований в польский легион.
* * *
Польские легионы, воевавшие в 1914–1915 годах на Волыни и в Карпатах, еще не были серьезной силой. Их истинная мощь и боевой опыт проявились значительно позже – уже в 1920-е годы.
В такой легион, переброшенный в район Волыни, попал и один из участников ограбления 1908 года, социалист Эдвард Гибальский – тот самый «товарищ Франек», стрелявший в жандарма Борисова и бросивший бомбу в окно поезда. Гибальский ушел на войну добровольцем в чине лейтенанта уланского полка. 13 сентября 1915 года его отряд попал в засаду в поселке Столбыхов под Волынью, и в ходе боевых действий Гибальский погиб. За год до своего 30-летия и ровно через 10 лет после своего первого боевого крещения – покушения на полицейского в Любляне.
Его товарищу Влодеку Хеллману по кличке «Юстин» повезло остаться в живых. Вступив в польский легион в том же 1914 году, он руководил бригадой саперов и оказался в австрийском плену. Жизнь Хеллмана была сумбурна и непредсказуема. С началом Второй мировой войны он попал в Венгрию, а оттуда – в Париж и в Лондон. Но Хеллман отовсюду возвращался в Варшаву. Там он и встретил свой конец в 1964 году. Хеллман был болен и жил на пенсию: в военном пособии ему отказали.
* * *
В ходе войны национально-освободительное движение представляли двое – Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский. Они были противниками и конкурентами, но часто высказывали похожие идеи – например, о создании польского государства из Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Идея принадлежала Дмовскому, но к ней склонялся и Пилсудский: летом 1917 года он уже понимал, что германцы и австрийцы войну проиграли и ориентироваться на них бессмысленно. За отказ от присяги Пилсудский и еще несколько легионеров были посажены в крепость как дезертиры. Это вернуло ему популярность, а его политическая недальновидность и опрометчивый союз с немцами были забыты.
Между тем его конкурент Дмовский энергично продвигался вверх по политической лестнице. После создания Польского Национального Комитета его признали как официального политика даже в ведущих странах Европы, и теперь Дмовский боролся за независимость Польши на дипломатическом поприще. Однако в деятельности Дмовского оказалось много декоративного пафоса, а его заседавший в Париже комитет с самого начала был марионеточной организацией, не имевшей влияния на родине. Осенью 1917 года Польша ощущала сильное влияние левых организаций, которые и создали правительство во главе с галицийским социалистом Игнацием Дашиньским. Призыв к национализации земельных угодий, лесов, промышленности нравился крестьянам, но не землевладельцам.
Пилсудского выпустили из крепости 10 ноября 1917 года – через три дня после официального утверждения левого правительства, и недавнему арестанту очень пригодилось его революционное прошлое с «эксами» почтовых поездов и убийствами полицейских чиновников. За короткое время он прошел путь до политического лидера страны.
Развивалось все по известному сценарию. На смену Дашиньскому пришло новое правительство Анджея Морачевского, мало отличавшееся от предыдущего. Оно назначило Пилсудского временным главой государства и главнокомандующим армией. Теперь ему оставалось только устроить заговор и сместить левых демократов, которые никого уже не устраивали. Ночью 6 января была предпринята попытка такого переворота, но безуспешно. Пилсудский от неудачи не пострадал и даже стал начальником Польского государства с широкими полномочиями. Теперь руки у него были развязаны, и он уже в середине января отправил в отставку левый кабинет. Но в это время началась война с Россией, но уже не николаевской, а ленинской.
Советское государство видело в Польше объект своих геополитических интересов и стремилось к захвату Польши и Германии, за счет которых предполагалось расширить социалистический лагерь. Для этих целей использовались и находящиеся в России польские коммунисты, вроде Юлиана Мархлевского и Феликса Дзержинского. В свою очередь Пилсудский желал восстановления Польши в границах Речи Посполитой от 1772 года. Города переходили из рук в руки. Уже к концу лета Польша сдала Красной Армии Киев, Минск, Вильно, Гродно, Белосток и Брест. Осталось только потерять Варшаву, куда стремилось ленинское правительство, чтобы сместить Пилсудского и установить советскую власть. Полякам тогда помогло наступление Деникина на юге весной 1919 года, которое отвлекло силы Красной Армии.
Большой вклад в победу польской армии внес сам Пилсудский. Глава Польши подключил все свои европейские контакты и стал получать донесения от французов и англичан. Деятельность разведчиков не бросалась в глаза, но была не менее важной, чем фронтовые операции.
Главы европейских государств опасались экспансии, и лорд Керзон посылал ноты главе советского иностранного ведомства Георгию Чичерину с предложением начать русско-польские переговоры и определить границы. Такая граница («Линия Керзона») была установлена 8 декабря 1919 года. Она закрепила территорию Польши по месту проживания польского этноса. Наступило долгожданное перемирие.
Политические маневры
Когда Пилсудский в начале 1919 года занялся государственным строительством, ему понадобилась фигура премьер-министра, которого можно использовать в популистских целях – для США и Европы. Таким «парадным» премьером стал очень активный, но не разбиравшийся в политике пианист и меценат Игнаций Падеревский – рыцарь ордена Британской империи и личный друг Вудро Вильсона и Клемансо. Кандидатуру пианиста предложил знавший его Валерий Славек: они с Падеревским были троюродными братьями.
Теперь Польшей управляли Пилсудский и Дмовский. Это всех устраивало, тем более что они наконец-то пришли к взаимопониманию. За США и Европу тоже можно было не беспокоиться: они были околдованы магическим обаянием Падеревского. Президент Вильсон признал новое государство уже в конце января, а вслед за ним это сделали и ведущие страны Европы.
Подверженного депрессиям Падеревского хватило всего на год. Потом он из политики сбежал, догадавшись, что ничего не понимает. Пилсудский его отставке не препятствовал, полагая, что «мавр сделал свое дело». Пройдет еще шесть лет, и Падеревский станет противником Пилсудского и, сидя в своей швейцарской усадьбе, будет подписывать петиции против Маршала. Но случилось это уже после организованного Пилсудским Майского переворота 1926 года, закончившегося установлением военной диктатуры…
Польские дороги
Но вернемся к товарищам Юзефа Пилсудского и посмотрим, что же с ними случилось после того, как они разошлись в разные стороны.
27-летний Янек Балага по кличке «Стефан» был застрелен всего через несколько месяцев после ограбления поезда в результате другой акции – нападения на начальника охранного отделения.
Через полгода после акции в Безданах российским властям удалось задержать в городе Ландварове Яна Фиалковского. Он попался случайно. Подозрения вызвал хозяин дома Игнаций Грабовский, у которого скрывался бомбист. Жестоко избитый Фиалковский быстро начал говорить. К показаниям Грабовского и Фиалковского добавились сведения, полученные от предателя Эдмунда Тарановича.
Так жандармерия вышла на след еще одного участника ограбления Чеслава Свирского по кличке «Адриан». Позднее задержали двух готовивших преступление членов организации – Чеслава Закржевского и Цесарину Козакевич. Фиалковского осудили на 12 лет каторги, которые 9 сентября 1909 года были заменены смертным приговором. Свирский и Закржевский были приговорены к пожизненной каторге, а Грабовский и Козакевич к нескольким годам каторжных работ. Однако в результате вмешательства «Французской лиги прав человека» смертная казнь Фиалковскому была заменена содержанием в Бутырской тюрьме.
Февральская революция застала Фиалковского в Москве, он был освобожден из Бутырки и работал на московском заводе, а в декабре 1918 года вернулся в Варшаву. Но главным наказанием для него стало презрение боевых товарищей, осудивших его за слабость на допросах. Все отвернулись от него, и впоследствии, в годы польской безработицы 1930-х годов, над ним сжалился лишь один человек. По иронии судьбы это был выданный им на допросе Чеслав Свирский. Он предложил «несчастному Фиалке» место швейцара в кафе, чтобы тот просто не умер с голоду. Впрочем, Фиалковский уже был болен и скончался в 1938 году, так и не получив именного Креста за боевые заслуги.
Ежи Сава-Савицкий вступил в легион стрелков Пилсудского и участвовал в сражениях Первой мировой войны, а потом – Польско-большевистской войны. Он прошел путь от лейтенанта до подполковника, был ранен, но не погиб. Такова судьба: она подстерегает не там, где ее ждешь. Профессиональный военный Сава-Савицкий умер в 38 лет от сердечного приступа.
Бронек Горголь («Эдмунд») был известен тем, что впервые подвергся аресту еще в девятилетием возрасте – за распространение листовок против коронации Николая II. После акции в Безданах он окончил военную школу и стал боевым инструктором. Он много раз подвергался аресту, участвовал в боевых действиях, рисковал, а умер тоже своей смертью – в сорокалетием возрасте в 1925 году.
Сапожник Юзеф Кобялко («Франтишек») участвовал во многих акциях польских социалистов. О нем говорили, что он опытен и умен, никогда не попадается, как будто заколдован. В 1920 году Кобялке доверили готовить на советско-польском фронте диверсионные войска, а позднее, уже в конце 1930-х, – обучение диверсантов польского Генштаба. С началом германской оккупации 57-летний Кобялко возглавил одну из организаций польского Сопротивления, и впервые ему изменила судьба. Организацию раскрыли, и он был арестован. В ноябре 1941 года после двухнедельных допросов Кобялко был расстрелян гитлеровцами в концлагере Освенцим.
* * *
Кому-то из них повезло больше. Боевую страницу польской истории начала XX века закрыли два участника ограбления поезда – Чеслав Свирский и Александр Луце-Бирк.
Свирский («Адриан») перед Второй мировой войной, в 1939 году, уехал в Бразилию, где благополучно дожил до самой своей кончины в 1973 году.
Луце-Бирк, участник обороны Львова в 1918 году, стал дипломатом, чиновником и предпринимателем. Польские бомбисты дали ему эксцентричное прозвище в русском былинном стиле «Динамит Пираксилинович» за любовь к взрывчатым веществам, но не только за это. Взрывчатый, темпераментный Луце-Бирк отличался вольномыслием и любовью к спорам. Уже в 1960-х годах престарелого бомбиста можно было застать в польских дискуссионных клубах, где он вел с молодыми весьма острые дебаты. Очевидно, Луце-Бирку предстояло всем своим существованием опровергнуть мысль о том, что спорщики и оппозиционеры долго не живут: он прожил 96 лет и умер в Варшаве в 1974 году, через год после Чеслава Свирского. «Динамит Параксилинович» был последним из остававшихся в живых лихих экспроприаторов денежного поезда.
…Камень, упавший на дно
В половине девятого вечера 2 апреля 1939 года в доме № 16 на Аллее Яна Христиана Шуха горел свет. Уставший от жизни политик сел за стол и задумался. Он оставил себе эти пять минут, чтобы вспомнить все в последний раз.
Чей-то тихий голос долетел издалека: «Walek! Nie rób tego!» Ему показалось, что это Ванда. Но Славек забыл ее голос, ведь прошло много лет.
Он не был ни ангелом, ни праведником. В юности он грабил поезда и нападал на жандармов. Став государственным деятелем, лгал на пресс-конференциях. Конечно, он знал о нарушении прав человека в тюрьме Брест-Литовска после восстания на украинских землях и ареста восставших в 1930 году, но отвечал другое: «Вас интересует, почему люди в Бресте были задержаны без соблюдения процессуальных норм? И почему в Брест-Литовске тяжелые тюремные правила? Однако те, кто воевал за Польшу, а не против нее, прошел через гораздо более жестокие тюрьмы, – он имел в виду себя и своих товарищей, боровшихся против Российской империи. – Мне хотелось бы вас успокоить. Я рассмотрел этот вопрос и могу сказать, что никакого садизма и насилия там нет. Но следует понять, как и в любой тюрьме, там действуют жесткие правила в случае сопротивления».
Эти волнения в Бресте против польских властей случились ровно через сто лет после польского восстания против Российской империи – того самого восстания 1830 года, которое развело Пушкина и Мицкевича по разные стороны баррикад. Такова жизнь: через сто лет все зеркально повторяется. Они против нас, мы против них, и этому не видно конца.
Славек подумал о том, что вот сейчас он поставит последнюю точку, и хоть что-то в этом мире будет иметь конец, пусть даже это что-то всего лишь его жизнь.
Он смертельно устал. Дзюка уже четыре года как не было на свете. Товарищей разбросало в разные стороны, а ему, Валерию Славеку, надоело все время отбиваться от клеветы и обвинений. У него не осталось сил.
В его послании говорилось: «Я сам распорядился своей жизнью. Пожалуйста, не вините никого. 2.IV.1939».
Подумав, он приписал внизу: «Я сжег документы частного характера и все оставленные мне конфиденциальные бумаги. Если окажется, что не все, то заранее прошу извинения у пострадавших. Быть может, Бог простит мне мои грехи, и этот последний – тоже».
Он оставил письмо на столе, чтобы нашли, и посмотрел на часы. Без пятнадцати девять вечера: в этот же час умер Дзюк.
Славек перекрестился и выстрелил себе в рот.
Через пять месяцев гитлеровские войска вошли в Польшу, и началась Вторая мировая война.
Иван Бертени младший Две войны венгров
По итогам первой мировой войны наибольшие потери понесла Венгрия: в результате Трианонского мирного договора территория страны, некогда составлявшая 325 тысяч квадратных километров, сократилась до 93 тысяч квадратных километров, страна потеряла более половины своего населения, в том числе и несколько миллионов венгров. Уничтожение исторического государства стало для венгров трагедией, возможность которой могла являться им лишь в кошмарных снах. Эта трагедия стала прежде всего следствием поражения в мировой войне, поэтому можно с полным правом поставить вопрос: стоило ли вступать в борьбу, имевшую столь ужасный исход?
Как известно, являясь частью Габсбургской империи, Венгрия не могла вести самостоятельную внешнюю политику, поэтому можно было бы утверждать, что Вена принудила венгров принять участие в трагически закончившейся мировой войне силой, не спрашивая их мнения, и в этом гипотетическом случае поставленный нами выше вопрос, конечно, потерял бы всякий смысл. Значительная часть венгерского общественного мнения военных лет действительно думала, что в результате деятельности венгерских политиков, обслуживавших властные устремления Вены и пренебрегавших национальными интересами, мнения венгерской нации действительно не спросили, вследствие чего война, начатая без учета пожеланий венгров, велась во имя не венгерских, а чужих интересов. Но неужели война велась только исключительно во имя чужих интересов? За что же воевали сами венгры? Что могла бы выиграть Венгрия, если бы она не потерпела поражение, а одержала победу в войне? Каковы были военные цели венгров в первой мировой войне? Попытаемся дать ответ на эти вопросы.
Национальные цели Венгрии в эпоху дуализма
Хотя система дуализма действительно делала невозможным ведение независимой венгерской внешней политики, венгерское правительство все же вполне могло влиять на великодержавную политику Австро-Венгерской монархии. Таким образом, не соответствует действительности мнение, что Франц Иосиф вовлек Венгрию в мировую войну без ведома или вопреки желанию венгерского руководства. Однако для того, чтобы хотя бы конспективно ответить на вопрос, как же все-таки это произошло, необходимо коротко остановиться на предпосылках, иначе говоря, на том, как венгерская политическая элита представляла себе национальные интересы Венгрии в начале XX века.
Общеизвестно, что историческое венгерское королевство было многонациональным государством, в котором, однако, венграм, благодаря их экономическому, политическому и культурному весу, удалось добиться влияния, намного превышавшего долю венгров в населении страны, вследствие чего Венгрией – особенно после австро-венгерского соглашения 1867 года – по существу управляли венгры. (Конечно, за исключением Хорватии, располагавшей значительной автономией). Это означало, что национальные цели венгерского этноса реализовывались несравненно лучше, чем политические устремления остальных народов Венгрии. В результате доминирующего положения венгров воля людей других национальностей (румын, словаков, сербов и т. д.) была полностью оттеснена на задний план и, если и учитывалась, то лишь временно и частично (как, например, пожелания румын на инициированных Иштваном Тисой переговорах 1910 г.) Несмотря на то, что руководители национальных меньшинств, внешние и внутренние враги венгров объясняли этот факт осуществляемым венграми национальным угнетением, имеет смысл указать на то, что в эпоху национализма XIX века влияние, участие в политической жизни этнических меньшинств (находившихся на различных стадиях развития) практически ни в одном из многонациональных государств того времени не соответствовало их процентной доле в населении данной страны. Подобно тому, как в большой политике вильгельмовской Германии не проявлялись интересы поляков или датчан, а в политике Англии – интересы ирландцев, никто не удивлялся и тому, что в царской России устремления польского, татарского и других этносов, которые, по данным переписи 1897 года, вместе с украинцами и белорусами составляли в совокупности более половины населения страны, совершенно не находили выражения по сравнению с властными интересами русских. Похожим было и положение в Венгрии, где, вопреки разнородному этническому составу населения, венгерская элита была склонна управлять страной как национальным государством, то есть считала, что в Венгрии государство должно было прежде всего и в растущей степени служить венгерским национальным интересам.
Такое положение называлось в то время венгерской супремацией, с необходимостью поддержания которой полностью соглашались все венгерские парламентские силы. Различия существовали самое большее в методах обеспечения супремации. Некоторые (главным образом те, кто стоял на стороне правительства) были готовы проявить определенную умеренность, руководствуясь отчасти внешнеполитическими соображениями, а отчасти – стремлением обеспечить себе лояльность национальных меньшинств. В противовес им оппозиция, почти всегда настроенная более националистически, чем правительственная партия, настаивала на меньшем количестве компромиссов и проведении последовательной венгерской национальной политики.
Наряду с соотношением сил внутри страны (то есть экономическим, культурным и политическим перевесом венгерского и в большинстве случаев солидарного с ним немецкого этноса), большую роль в поддержании венгерской супремации сыграла и сама система дуализма, предоставлявшая Венгрии практически полную самостоятельность во внутренних делах. Иначе говоря, в отличие от периода, предшествовавшего 1867 году, национальности не могли рассчитывать на помощь Вены, династии Габсбургов против венгров. Для Франца Иосифа стабильность империи была гораздо важнее «справедливости», поэтому он оказывал примирительное влияние на иногда горячие споры между венграми и проживавшими в Венгрии меньшинствами лишь в тех случаях, когда эти споры уже начинали угрожать великодержавному престижу и боеспособности Австро-Венгерской монархии. Однако национальные меньшинства не могли рассчитывать на его защиту или поддержку им своих национальных устремлений.
Помимо этого, в австро-венгерском соглашении предусматривался паритет, то есть полное равноправие венгерских и австрийских интересов, а также подчеркивалось, что за общую внешнюю политику, наряду с австрийским, ответственен и венгерский премьер-министр, который, таким образом, естественно, получал и право влиять на нее. Правда, в самом законе, оформившем соглашение, содержалась довольно туманная формулировка – «дипломатическое и торговое представительство империи за границей, а также распоряжения, необходимые для заключения международных договоров, относятся к ведению общего министра иностранных дел, действующего в согласии с министерствами обеих сторон и с их одобрения», – однако права и ответственность венгерского премьер-министра в области определения общей внешней политики были общепризнанными и реализовывались на практике. Как писал ведущий проправительственный публицист того времени, «…Венгрия не только обладает титулом, провозглашающим ее государственность, но и посредством своего парламента может влиять на ход дел в мире. Она не располагает собственным представительством и собственным министром иностранных дел; но может требовать отчета о руководстве внешними сношениями не только с помощью делегации (имеется в виду венгерское представительство в общем Совете министров Австро-Венгрии, включавшем в себя общих министров иностранных дел, обороны, финансов, а также премьер-министров обеих половин дуалистической монархии – Ред.), но и в парламенте. В делегации за это руководство ответственен общий министр иностранных дел, а в парламенте – премьер-министр». Из этого следует, что поддержание дуализма входило в круг венгерских национальных интересов, так как принцип паритета обеспечивал существование Венгрии как (в первую очередь) страны венгров.
Хотя система дуализма оказалась прочной, у нее было много противников как в Австрии, так и в Венгрии. За Лейтой многие видели наиболее логичный способ укрепления Габсбургской империи в изменении соглашения 1867 года, которое, по их мнению, предоставило венграм слишком большую власть и самостоятельность. Венские централисты и часто сотрудничавшие с ними на почве антивенгерских настроений славянские (по преимуществу) федералистские группы одинаково стремились к сокращению венгерского влияния, политического веса Венгрии. Интересно, что в Венгрии значительная часть общественного мнения также считала австро-венгерское соглашение плохим компромиссом. Для этих людей, опиравшихся на романтические воспоминания о национально-освободительном движении 1848-49 годов, соглашение с Францом Иосифом было равносильно отказу от принципов; в программе оппозиции от Партии независимости выдвигалась цель ликвидации дуализма и введения чистой персональной унии. Однако поскольку эта программа была невыполнима на практике, на передний план все в большей степени выступало мнение о том, что необходимо повышать роль Венгрии в управлении империей оставаясь в рамках дуализма. В популярной формулировке это звучало так: из Австро-Венгерской монархии нужно сделать Венгерско-Австрийскую монархию.
Таким образом, венгерские национальные цели в эпоху дуализма можно обобщить в трех пунктах. 1. Само собой разумеющейся считалась неприкосновенность территориальной целостности и самостоятельности страны, а также венгерской супремации. 2. Для достижения этой цели руководство страны настаивало на сохранении дуализма. 3. Существовало стремление по возможности увеличить политическое влияние Венгрии в рамках Австро-Венгерской монархии.
Следовательно, можно видеть, что цели венгерской политики имели явную внутреннеполитическую направленность, и во внешней политике Австро-Венгрии венгры стремились отнюдь не к экспансии и завоеванию новых территорий. По мнению известного проправительственного публициста Густава Бекшича, после создания политического государства венгерская национальная идея должна быть нацелена на создание венгерского национального культурного государства, которое должно означать единый венгерский национальный характер интеллигенции и культуры, а не полную языковую ассимиляцию. «Пока венгерская нация еще не готова, нельзя проводить национальную политику, направленную ВОВНЕ. До тех пор наши цели и устремления не должны выходить за границы нашего отечества», – заявил он.
В то время, когда венгры занимались созданием венгерского национального государства, было бы преждевременным и опасным присоединять к стране новые невенгерские территории. Но венгерским интересам не соответствовало и значительное территориальное расширение Австрии, так как в этом случае было бы нарушено равновесие между Венгрией и Австрией, что поставило бы под вопрос важный для венгров дуалистический паритет. Кажется, что соглашение 1867 года, открывшее двери венгерскому влиянию, действительно связало Габсбургам руки: венгры не были заинтересованы ни в каких завоеваниях, вследствие чего Австро-Венгерская монархия была обречена на пассивную или, если выразиться благожелательнее, миролюбивую внешнюю политику, поскольку не сумела справиться с противодействием венгров более активной политике.
Во многих отношениях это соответствовало и имперским интересам. После 1866 года экспансия в западном направлении стала уже невозможной, а в связи с будущим слабевшей Османской империи существовали сильные аргументы в пользу необходимости до последней возможности поддерживать ее существование. Это отвечало и интересам Англии, которая опасалась угрозы со стороны России, интересовавшейся проливами. Венгерский национализм также был сильно заинтересован в продлении существования слабых и безопасных турецких соседей, однако в том случае, если это уже стало бы невозможным из-за дряхлости Османской империи, венгры считали меньшим злом возникновение независимых государств освободившихся балканских народов и не поддерживали завоевательные планы определенных кругов Австро-Венгрии на Балканах. Однако националисты балканских народов, несмотря на то, что их маленькие, завоевывавшие независимость государства не принадлежали к одной весовой категории с Австро-Венгрией, выдвигали в перспективе цель этнического объединения, то есть создания национальных государств, в которые вошли бы румыны, сербы и – шире – южные славяне, жившие в границах Австро-Венгерской монархии. Правда, у них не было шансов добиться этого своими силами, однако, пользуясь поддержкой Российской империи, традиционно интересовавшейся этим регионом, они уже представляли собой опасность.
Таким образом, Российская империя была серьезной угрозой для Австро-Венгрии, обеспечивавшей благоприятные условия для достижения венгерских национальных целей. Венгерские либералы уже с 1830-х годов считали царскую Россию опасной державой, которая подавляет свободу народов своим тираническим государственным строем. Поэтому они даже были готовы умерить свои требования по отношению к Габсбургам. Лучшим примером этого был «величайший венгр», граф Иштван Сечени. Но и более решительный оппозиционер, Ференц Деак, либеральный политик, заключивший с венгерской стороны соглашение 1867 года, уже в 1836 году считал, что венское правительство «всегда может рассчитывать на большую, рассудительную часть Государственного собрания, которая уже хотя бы из-за России проникнута чувством необходимости крепкого единения с Австрией».
Подавление национально-освободительного движения 1848-49 годов лишь усилило эти антирусские опасения, которые казались тогда вполне естественными всем европейским либералам. К тому же венгры – тогда еще без достаточных оснований – боялись и того, что царь намерен под знаком панславизма распространить свое влияние на славянское население Габсбургской монархии, иначе говоря, Россия внушала опасения даже в отношении минимума венгерских национальных целей, т. е. сохранения территориальной целостности страны. Перед лицом угрозы со стороны России Венгрия нуждалась в сильных союзниках, так как царская империя и лишь складывавшееся венгерское национальное государство безусловно принадлежали к разным весовым категориям. Эта русофобия в значительной мере способствовала заключению компромисса 1867 года. Это хорошо демонстрировало мнение наиболее значительной в то время венгерской газеты «Пешти напло», опубликованное в 1866: «По нашему мнению, тот, кто не считает Россию главной угрозой для Венгрии и видит естественных союзников Венгрии не в естественных противниках России, не заслуживает названия венгерского политика». Конечно, нельзя считать случайностью и то, что именно первый венгр, ставший общим министром иностранных дел, граф Дюла Андраши, добился заключения Двойственного союза с Германией, обеспечившего эффективную защиту против русской угрозы, так как, будучи сильнейшей державой континента, Германия была для венгров достаточной гарантией против России. С этого времени необходимость дружественных отношений с Германией логично стала почти аксиомой во внешнеполитическом мышлении практически всех политических сил Венгрии, поскольку в данном регионе лишь Германия была способна гарантировать территориальную целостность Австро-Венгрии в случае нападения России. Лишь в качестве обособленного явления можно назвать венгерских политиков, которые не были убеждены в важности дружбы с Германией. К их числу относился руководитель одной из фракций оппозиции сторонников независимости, франкофил Габор Угрон, считавший, что союз с Германией требует слишком больших жертв и поэтому опасен, а в период длительного мира к тому же и не нужен. Неоднократно критиковал абсолютистские устремления немецкого руководства, а также агрессивные выступления Вильгельма II и Вильмош Важони, лидер и единственный парламентский представитель Демократической партии, которую поддерживали прежде всего будапештские буржуа еврейского происхождения. Критиком германского милитаризма стала и Социал-демократическая партия Венгрии, особенно после революции 1905 года, когда появилась надежда на демократические преобразования в России, однако с угасанием этой надежды критика социал-демократов тоже ослабла.
В общем же в предвоенные годы все руководители партий, доминировавших в венгерском парламенте, были германофилами, включая и лидеров умеренной оппозиции, Дюлу Андраши мл., Альберта Аппони и Ференца Кошута. «Горе было тому, кто тогда не одобрял официальной немецкой политики, основанной на Тройственном союзе», – вспоминал граф Тивадар Батяни, один из немногих антигермански настроенных представителей сторонников независимости.
Было единственное казавшееся серьезным исключение из всеобщего германофильства и русофобства: небольшая, радикально оппозиционная парламентская группировка графа Михая Каройи, сочетавшего национализм, ориентированный на 1848 год, с демократическими лозунгами, но тогда еще совершенно невосприимчивого по отношению к устремлениям национальных меньшинств. Каройи считал, что наибольшую опасность для независимости Венгрии представляют гнет Габсбургов и многократно усиливающие его империалистические цели Германии. Поэтому он сделал все возможное для того, чтобы предотвратить победную для Германии войну и даже был готов пересмотреть ради этого вековую антирусскую позицию венгров, однако в этом отношении он был совершенно одинок в венгерском общественном мнении.
Обобщая, можно сделать вывод, что на пути реализации венгерских национальных целей стояли три противника различной силы. 1). Те представлявшие национальные меньшинства политики, которые не собирались мирно склонить голову перед венгерским национализмом и не желали способствовать построению единого венгерского национального культурного государства. 2.) Соседние балканские страны, Сербия и Румыния, которые, оказывая культурное и политическое влияние на родственные им по языку национальные меньшинства, в благоприятной ситуации охотно аннексировали бы населенные этими меньшинствами территории. 3.) Россия, чьи завоевательные устремления и балканская политика, осуществляемая при поддержке южных соседей Австро-Венгерской монархии и тем самым Венгрии, могли привести к такому значительному ослаблению Австро-Венгрии, которое поставило бы под угрозу и территориальную целостность Венгрии. Наиболее опасной из перечисленных угроз была угроза со стороны России, даже учитывая то, что официальная русская политика не предусматривала в любом случае претензий на венгерские территории. (Хотя существовало несколько проектов присоединения к царской империи земель закарпатских русинов, считавшихся русскими). Достаточно сильным ударом по территориальной целостности Венгрии был бы и возможный разгром Россией Австро-Венгрии с последующей передачей некоторых ее территорий южнославянским и румынским сателлитам России.
В то же время венгры нашли и казавшуюся достаточной защиту против всех трех противников. 1. Венгры чувствовали себя достаточно сильными для оказания противодействия нелояльным руководителям национальных меньшинств и нуждались лишь в том, чтобы Габсбурги не вступали с этими руководителями в союз за спиной венгров. При жизни Франца Иосифа система дуализма позволяла предотвратить такой союз. 2. Габсбургская империя как великая держава была настолько сильнее Румынии и Сербии, что это заведомо исключало нападение на Венгрию ее южных соседей. 3. Нападение России принудило бы Австро-Венгрию вести борьбу за существование, но защиту от такого нападения обеспечивал союзник, казавшийся сильнее России, – Германия.
Однако эта ситуация таила в себе и крупные противоречия, а также факторы неопределенности. Прежде всего нельзя было с уверенностью рассчитывать на сохранение системы дуализма после смерти Франца Иосифа, так как было известно, что наследник престола Франц Фердинанд смотрит на этот вопрос совершенно иначе. В начале XX века именно планы наследника престола представляли наибольшую опасность для венгерской национальной политики, поскольку смена монарха повлекла бы за собой оказание поддержки национальным меньшинствам, а может быть и преобразование системы дуализма. Как известно, эта проблема была «решена» сербским студентом из Боснии, и после сараевского убийства лишь немногие венгерские политики искренно оплакивали эрцгерцога…
В то же время, наряду с постоянной озабоченностью в связи с предстоявшим правлением Франца Фердинанда, существовала и еще более глубокая проблема. Как мы уже упомянули, для противодействия южным соседям требовался великодержавный статус, авторитет, устрашающая сила Австро-Венгрии. Однако в то время как остальные великие державы набирали силы, Австро-Венгрия начала отставать. Это проявилось в несостоявшейся модернизации армии, ответственность за которую можно было возложить на венгерскую оппозицию, а также в несостоявшихся завоеваниях. В венских военных кругах экспансия на Балканах отнюдь не являлась запретной темой, ведь Габсбургская династия была способна включить в свою наднациональную империю южных славян и/или румын, в крайнем случае пришлось бы преобразовать ее на федеративной или триалистической основе. Однако венгры, будучи решительными защитниками дуализма, отвергали подобные проекты и выступали против экспансии на Балканах.
В то же время и им пришлось признать, что влияние Австро-Венгрии на Балканах совершенно необходимо в целях поддержания великодержавного статуса империи, ведь при отсутствии австро-венгерского влияния на южных соседей последние ориентировались бы на Российскую империю, родственную им по религии и отчасти по языку. А это, само собой разумеется, было бы невыгодно венграм, не желавшим появления русских на своих южных границах. Поэтому венграм приходилось идти на компромисс в вопросе балканской политики, чтобы позже продолжать прежнюю политику, но уже на измененной (причем по возможности минимально измененной) основе.
Именно поэтому Венгрия – ценой огромных внутриполитических бурь и «полупадения» правительства – пошла на оккупацию Боснии и Герцоговины в 1878 году, поскольку, как объяснял позже Бекшич, «ее толкнула на это не страсть к завоеваниям, a horror vacui: было невозможно опереть границу страны на эти две провинции, находившиеся в состоянии постоянной анархии». По той же причине венгерское правительство, между прочим состоявшее отчасти из политиков Партии независимости, – уже при значительно меньшем сопротивлении – пошло и на аннексию Боснии и Герцоговины в 1908 году. Те же соображения стояли, наконец, и за согласием Иштвана Тисы на объявление войны Сербии в 1914.
Венгрия и мировая война
Как мы уже упоминали, при системе дуализма для вынесения внешнеполитических решений требовалось и согласие венгерского премьер-министра, следовательно, и объявление войны Сербии в июле 1914 г., положившее начало мировой войне, не могло состояться без согласия графа Иштвана Тисы, бывшего тогда главой правительства. Известно, что в течение двух недель после сараевского покушения венгерский премьер-министр выступал против войны и лишь с трудом переменил свое мнение. С тех пор было высказано много предположений о том, какие факторы побудили его изменить свою позицию, но несомненно, что к числу этих факторов нужно отнести и немецкое влияние. Поначалу Тиса доказывал, что для преподнесения урока Сербии война не нужна, поскольку сложившаяся в то время ситуация на Балканах явно не благоприятствовала войне: Румыния, отвернувшись от Австро-Венгрии, перешла к русофильской политике, а выбранная для нейтрализации Румынии Болгария еще не приобрела боеспособность после поражения во второй балканской войне. Поэтому, будучи ответственным руководителем Венгрии, Тиса в то время не считал развязывание войны правильным решением, однако ему пришлось согласиться с тем, что Сербии необходимо преподнести урок, ведь южная соседка в течение многих лет методически подрывала великодержавный статус, престиж Австро-Венгрии. Уже 15 марта 1914 года Тиса изложил на бумаге свои соображения о том, что более благоприятного для Австро-Венгерской монархии соотношения сил на Балканах можно было бы добиться путем заключения тесного союза с Болгарией, что было бы более медленным, но зато мирным решением вопроса. Однако в июле 1914 года из Берлина поступили недвусмысленные сигналы относительно того, что немцы не только окажут поддержку, но и прямо ожидают жестких шагов со стороны Австро-Венгрии.
Тиса вынужден был продумать возможные последствия отдаления Германии от Австро-Венгрии. Учитывая, что противоречия между Австро-Венгрией и Россией были гораздо острее противоречий между Берлином и Петербургом, такой поворот в политике Германии мог привести к германо-российскому сближению. Для предотвращения этой возможности необходимо было доказать, что Австро-Венгрия – сильная и жизнеспособная великая держава, являющаяся не просто прислужницей, а достойной союзницей Германской империи. Для этого, конечно, нужно было, прежде всего, восстановить великодержавный престиж, то есть дать отпор провокациям сербов.
Вместе с тем Тиса хотел добиться этого по возможности без большого риска. Несмотря на то, что под давлением немцев приходилось действовать без промедлений, он все же постарался сделать все возможное, чтобы акция Австро-Венгрии осталась локализованным конфликтом. Для этого в конце июля Тиса уже стремился ужесточить требования ультиматума, который должен был быть послан в Белград, чтобы сербы смогли принять его только с большим уроном для своего престижа. Он просил военное руководство начать наступление сразу же после вероятного отклонения ультиматума, надеясь поставить тем самым Россию, медленно мобилизующую свои силы, перед свершившимся фактом и избежать большой войны. Кроме того, и это, быть может, наиболее важно с нашей точки зрения, Тиса неоднократно подчеркивал, что Австро-Венгрия не ставит своей целью полное уничтожение Сербии. Он опасался того, что царь не будет пассивно наблюдать за столь радикальным – и насильственным – изменением соотношения сил на Балканах, зато, получив обещание о сохранении существования Сербии, он, возможно, мог бы согласиться на урегулирование конфликта путем переговоров.
Мы знаем, что практически ни одно из намерений Тисы не осуществилось, и вместо быстротечной карательной экспедиции вспыхнула ужаснейшая за всю предыдущую мировую историю, долгая война. В качестве премьер-министра Тиса в 1914 году был по существу единственным венгерским политиком, который мог оказывать влияние на развитие событий, остальные политические силы могли лишь следить за новостями, оставаясь на заднем плане. Тем не менее граф Альберт Аппони, авторитетный руководитель умеренной оппозиции, выразил мнение большинства венгерской политической элиты, завершив свою непривычно краткую парламентскую речь по поводу известия об объявлении войны словами: «Ну, наконец-то»! Всем уже надоели издевательские, провокативные действия маленькой Сербии, поэтому считавшаяся совершенно справедливой карательная акция пользовалась восторженным одобрением общественного мнения.
Защита дуализма или добровольный отказ от него?
Итак, как мы видели, с венгерской стороны нападение на Сербию считалось в конечном итоге превентивной войной, целью которой было лишь изменение соотношения сил на Балканах, а не завоевание новых территорий. Тиса со всей очевидностью подчеркивал, что война не должна привести к аннексии Сербии, и всегда настаивал на этом и позже во всех случаях, когда поднимался этот вопрос. Когда осенью 1915 года центральные державы в конце концов заняли Сербию, а несколько месяцев спустя – Черногорию и большую часть Албании, венгерский премьер-министр предпочел согласиться на утоление сербскими территориями безмерного аппетита болгар, чтобы не допустить присоединения слишком больших территорий к Австро-Венгрии. При этом он старался отложить окончательное решение вопроса о военной оккупации, поскольку постоянно чувствовал, как крепнут великохорватские планы перехода к триализму, то есть замыслы объединения Хорватии, Боснии и Сербии под руководством хорватов. Для предотвращения такого поворота событий Тиса в начале 1916 добился назначения гражданским комиссаром Сербии Лайоша Талоци, прекрасного эксперта по балканским делам, заместителя общего министра финансов. Более того, Тисе удалось настолько расширить юрисдикцию Талоци, что это уже само по себе предотвратило реализацию триалистических замыслов.
Принципиальное возражение Тисы против аннексий проявилось и в его польской политике. В 1915 году центральные державы изгнали русских с большей части территории бывшей конгрессовой Польши, в результате чего практически все земли, населенные поляками, перешли под власть немцев и Австро-Венгрии. Хотя после этого немедленно появились различные планы объединения отвоеванных у русских территорий с Галицией, Тиса, как и остальные министры, выступали против такого решения. Более того, на заседании венгерского Совета министров 2 октября 1915 года многие его участники выразили мнение, что лучше было бы вернуть завоеванные территории русским в интересах заключения сепаратного мира, чем присоединить их к Австро-Венгрии. Министр по делам религии и народного образования даже пожертвовал бы ради этого частью Галиции! Тем не менее, в качестве официальной позиции правительства было принято решение согласиться на аннексию польских земель лишь в том случае, если они перейдут к Австрии при сохранении дуализма и паритета. Для того, чтобы с приобретением польских территорий Австрия не получила перевеса, было предложено взамен присоединить Далмацию к Хорватии, а Боснию – к венгерским коронным землям. Однако на основании подробностей этого дела было очевидно, что данное решение явилось вынужденным и должно было лишь спасти дуализм и паритет, в то время как на самом деле венгерские руководители не были рады даже возможному приобретению южнославянских территорий. (Они считали необходимым длительное сохранение там временной военной администрации и намеревались управлять этими территориями так же, как и Хорватией, но в качестве обособленной от нее области.)
Однако в польском вопросе мнение венгерского правительства уже не отражало мнение всего спектра венгерских политических сил. Наиболее авторитетный лидер умеренной оппозиции, граф Дюла Андраши мл. публично поддерживал в печати объединение польских земель под властью Габсбургов, более того, не исключал и перехода к триализму. Однако план Андраши нужно рассматривать не как особое мнение по вопросу о венгерских национальных целях. Андраши желал осуществления тех же целей, что и Тиса, но другими средствами. Как и в случае борьбы с парламентской обструкцией, обсуждения вопроса военных реформ или позже – дискуссии о расширении избирательного права, позиции Андраши и Тисы могут быть в целом охарактеризованы так, что, если Тиса намеревался защищать выгодное для венгров положение путем категорического отказа от всяких изменений, то Андраши надеялся с помощью мелких уступок и добровольного осуществления умеренных реформ избежать более крупных перемен. Именно об этом шла речь и в польском вопросе: в то время как Тиса всеми силами боролся за неизменное сохранение дуалистического status quo, Андраши понял, что мировая война привела к таким большим изменениям, что, вероятно, придется примириться с тем, что в случае победного или компромиссного завершения войны Австро-Венгрия подвергнется значительной структурной перестройке. По сути дела Андраши старался упредить неизбежное и считал, что после печального падения системы дуализма меньшим злом было бы такое триалистическое государственное устройство, в котором третьим элементом стали бы поляки, не враждебные по отношению к венграм, а не чехи или южные славяне. Его замыслы, однако, не были осуществлены сначала из-за противодействия венгерского правительства, а позже – из-за растущих немецких претензий на польские земли, поэтому план, серьезно угрожавший системе дуализма, был временно снят с повестки дня.
Затянувшаяся война, умножение признаков слабости Австро-Венгрии, а также тот факт, что без помощи немцев она все в меньшей степени сохраняла способность к сопротивлению, в определенной степени изменили ситуацию. С каждым новым немецким успехом становилось все яснее, что, став частью руководимой немцами Mitteleuropa, Австро-Венгрия безвозвратно скатилась бы на уровень второстепенной державы. Поэтому венгерская политическая элита (прежде всего Тиса) с 1915 года была вынуждена с растущей энергией защищать самостоятельность Австро-Венгрии, а также Венгрии внутри дуалистической монархии. Слишком большой перевес Германии вызвал у венгерских политиков болезненное раздвоение сознания. В то время как со все большей очевидностью выяснялось, что без немцев Австро-Венгрия бессильна, приходилось и каким-то образом противодействовать этому гнетущему превосходству Германии. Лидер радикальной оппозиции граф Михай Каройи, enfant terrible, заведомо бросивший вызов истеблишменту, пытался вырваться из этого заколдованного круга с помощью растущей германофобии и пацифизма и в конце концов стал сторонником Антанты. Однако подавляющее большинство венгерской политической элиты по-прежнему оставалось на стороне немцев, поскольку превосходство Германии было все же меньшим злом по сравнению с поражением в войне. Средства и в этом случае были различными. Тиса видел выход в упрямой и неуступчивой защите старого порядка и вежливо, но решительно отвергал немецкие планы установления господства в центрально-европейском регионе. Другие, особенно Андраши, предпочитали опередить события: умеренный оппозиционный политик, и без того располагавший прекрасными связями в немецких кругах, был готов сам инициировать углубление союза с немцами, надеясь избежать, ссылаясь на договор, еще более крупных жертв после ожидаемой (и желаемой) победы Германии и отклонить чрезмерные требования Германской империи, которая станет еще сильнее в результате военной победы.
В то же время затянувшаяся война все чаще наводила венгров на страшную мысль о том, что мир можно будет заключить лишь ценой территориальных потерь. Впервые эта проблема возникла в ходе переговоров с итальянцами. Поначалу венгры резко возражали против уступки Трентино, опасаясь того, что уступчивость создаст прецедент, и следующую жертву, необходимую для удержания Румынии от войны против центральных держав, должна будет принести именно Венгрия. Позже в результате ухудшения военного положения Тиса дал свое согласие, однако к тому времени итальянское правительство уже решило вступить в войну. Если военные цели итальянцев непосредственно затрагивали интересы Венгрии только в отношении Фиуме, то русские и румыны, не говоря уж о побежденных осенью 1915 года сербах, стремились к отторжению венгерских территорий. Чтобы избежать вступления Румынии в войну, Тиса готов был пойти на уступки, но он не желал купить нейтралитет Румынии ценой передачи ей венгерских территорий. Во время войны были сделаны небольшие уступки проживавшему в Венгрии румынскому меньшинству, однако эта политика, заведомо столкнувшаяся с противодействием националистического общественного мнения, не могла получить продолжения. Тиса не хотел дать слишком много, чтобы это не было воспринято признаком слабости и не повлекло за собой нападения Румынии. Он ясно понимал, что позиция Румынии зависела в первую очередь от военных успехов Австро-Венгрии.
Хотя тогда уже были более или менее известны намерения Антанты оплатить услуги мелких союзников с помощью венгерских территорий, венгерская политическая элита поначалу не приняла эти намерения всерьез. С одной стороны, она верила в то, что война в худшем случае окончится компромиссным миром, и центральные державы сохранят достаточно сил для того, чтобы избежать столь тяжелых потерь. С другой стороны, сохранялась уверенность и в том, что, имея возможность заключить хороший мир, страны Антанты не будут продолжать борьбу только для того, чтобы выполнить данные союзникам обещания. Никто не рассчитывал на такую затяжную войну, а также на то, что эта война приведет к гибели некоторых великих держав, поэтому в планах на ближайшее будущее серьезно учитывалась роль России и, конечно, все более усиливавшейся Германии. И подобно тому, как в планах венгерских политиков не предусматривался распад России, так они исходили и из того, что Австро-Венгерская монархия и Венгрия в ее рамках сохранят свое существование даже в случае поражения в мировой войне.
Осенью 1916 года умер Франц Иосиф. Однако новый монарх, Карл, не тронул системы дуализма – во время войны было бы неразумно вступать в конфликт с венграми, доблестно сражавшимися на фронтах войны. Однако доблесть венгров подняла вопрос о награде, который стал излюбленной темой венгерской оппозиции. Поскольку венгры не желали завоевания новых территорий, их устремления были направлены на укрепление самостоятельности Венгрии в рамках дуалистической монархии и усиление венгерского влияния внутри Габсбургской империи. Между прочим, последнее большей частью осуществилось само собой из-за диспропорций в производстве продовольствия, к тому же решительный Иштван Тиса, как правило, результативно проводил волю венгерской стороны в противовес своим менее талантливым и твердым австрийским партнерам по переговорам. Так случилось и в 1915 году при создании общего герба монархии в соответствии с венгерскими запросами, что было давним пожеланием венгров, восприимчивых к символической политике. Также давним требованием венгерской оппозиции было введение в венгерских частях общей армии военных команд на венгерском языке, а также венгерской эмблематики. В начале 1918 года король Карл дал обещание выполнить это требование, правда, только после войны.
К 1917 году силы Австро-Венгрии начали иссякать, поэтому ее миролюбивый монарх поставил перед собой главную цель, как можно скорее заключить мир. Обычно Карл не посвящал венгерских политиков в свои тайные попытки, но можно сказать, что в принципе они не выступили бы против заключения мира, если бы оно не было связано с отказом от венгерских национальных целей. Принимая во внимание, что в число этих целей не входили завоевания, венгры не помешали бы заключению мира. Однако, с другой стороны, они вряд ли согласились бы на такой вариант, при котором выход Австро-Венгрии из кровавой войны достигался бы ценой сепаратного мира и разрыва с Германией. Как мы уже упоминали, компромиссный мир означал бы небольшую коррекцию довоенного положения и, таким образом, предполагал наличие по-прежнему сильного соседа, портить отношения с которым было нецелесообразно, а с точки зрения венгерских национальных целей – просто гибельно, так как Антанта не могла, да, возможно, и не хотела бы дать венграм ту же гарантию, которую им давал Берлин. Немцы же не желали заключения мира, так как лучше переносили тяготы войны, да и рисковали меньшим, чем их союзница. Поэтому Австро-Венгрия была вынуждена продолжать войну, так как Карл, по понятным причинам, не решался повернуть против немцев.
К тому же война принесла и значительные успехи. К 1917 году Австро-Венгрия – правда, всегда с немецкой помощью – справилась с румынским нападением, нанесла тяжелый удар итальянцам, а к концу года развалился и ее главный противник, Россия. Весной 1918 года восточного фронта уже не существовало, и это создало новую ситуацию. Несмотря на то, что в войну вступили США, немецкое наступление на западном фронте, начатое в марте 1918 на некоторое время пробудило веру в возможность победы и убеждение в том, что (как, например, заявил в марте 1918 общий военный министр) «на самом деле война на Востоке для нас уже закончилась».
Закончилась, причем полной победой центральных держав. Россия разрушилась, Румыния потерпела поражение, Балканы находились под властью центральных держав. Однако у победителей возникли разногласия относительно способа и пропорций реализации этих успехов. В ходе переговоров о заключении Брест-Литовского и особенно Бухарестского мира, затрагивавшего прежде всего Австро-Венгрию, выяснилось, насколько агрессивным и эгоистичным партнером является торжествующая Германия. В то же время в качестве второго по силе члена коалиции центральных держав, получившего абсолютную власть в регионе, Австро-Венгрия также смогла осуществить часть своих военных целей.
Поскольку немцы претендовали практически на все восточные завоевания, весной 1917 года они были готовы передать Австро-Венгрии Румынию и Балканы, а после победы над Румынией – уже только Балканы. На заседании общего Совета министров Австро-Венгрии 22 марта 1917 года Тиса остался в одиночестве со своим мнением о том, что был бы выгоден и мир, заключенный на основе принципа status quo ante bellum, вследствие чего он вынужден был согласиться на передачу Валахии Австро-Венгрии. Больше того, он настаивал и на том, чтобы Венгрия получила румынские территории, предложив взамен Австрии Боснию-Герцеговину.
Казалось бы, тем самым Тиса отказался от тех принципов, которых он придерживался ранее, и превратился в сторонника аннексионистской политики. Однако на самом деле речь шла скорее о том, что Тиса уступил лишь по тактическим соображениям и надеялся на то, что завоевание не состоится. Его расчет оправдался, поскольку австрийцы не приняли менее ценной балканской провинции, а вскоре изменилась и позиция Германии: в начале 1918-го она уже желала власти и над Румынией. При заключении Бухарестского договора у кормила Венгрии – после ухода Тисы и кратковременной деятельности правительства Эстерхази – уже стоял испытанный друг немцев, Шандор Векерле. Поскольку его правительство управляло страной в меньшинстве, опираясь, прежде всего, на лозунг демократизации избирательного права, он оказался в зависимости от возглавляемой Тисой консервативной Партии труда, и бывший премьер-министр сохранил свое влияние.
Спорным был вопрос об аннексии и масштабах извлечения экономических выгод из достигнутого успеха. Несмотря на то, что необходимость гарантий против мести и ответного удара румын требовала жестких условий мира и аннексии значительных территорий, единственным из венгерской политической элиты, кто выступал с серьезным требованием аннексий, был граф Иштван Бетлен (будущий премьер-министр), принимавший близко к сердцу венгерские интересы в Трансильвании. В своей парламентской речи 3 марта 1917 года он выразил желание, чтобы, помимо значительных румынских территорий, к Венгрии была присоединена и Сербия, которая получила бы особый статус, подобный статусу Хорватии. Однако за этой единственной венгерской аннексионистской позицией стояло в первую очередь не стремление к завоеваниям, а убеждение, что румынское или сербское государство никогда не отказались бы от своих ирредентистских целей, поэтому было бы целесообразнее уничтожить саму базу ирредентизма, получив, таким образом, гарантии защиты венгерских национальных целей. То есть, позиция Бетлена также может считаться выражением превентивной политики, хотя, конечно, в крайней форме. К тому же в сентябре 1917 года Бетлен пересмотрел ее и предлагал присоединить к Венгрии лишь приграничные румынские территории.
Обособленная точка зрения Бетлена может считаться лишь интересным эпизодом, ведь, даже обладая политическим весом, Бетлен не располагал позицией, позволявшей оказывать серьезное влияние на принятие решений. Король, именно стремясь предотвратить полный срыв своих планов заключения сепаратного договора, был противником предъявления слишком жестких условий, однко венгерские политики не желали остаться с пустыми руками после вероломного нападения Румынии. Достигнутый компромисс и на этот раз соответствовал соображениям венгров: от Румынии была отторгнута стратегически важная, но по возможности ненаселенная территориальная полоса, которая, естественно, перешла к Венгрии, но не нарушила существенно этнический баланс в стране.
В 1918 году изменились и проекты относительно Балкан. Так как немцы сообщили о своем согласии признать эти территории исключительной сферой интересов Австро-Венгрии, для решения проблемы нужно было «лишь» преодолеть сложное сплетение интересов в самой дуалистической монархии. Венское руководство предлагало объединить южнославянские территории, стараясь предложить конкурентоспособную альтернативу концепции Югославии, выдвинутой южнославянской эмиграцией. Однако венгры, настаивая на сохранении дуализма, отвергли это предложение и поддержали тот вариант, при котором различные южнославянские территории перешли бы в зависимость от венгерской короны по отдельности, как corpus separatum. Это был план премьер-министра Векерле, но чувствуется, что в данном случае цель венгров состояла в первую очередь в сохранении дуализма и предотвращении угрозы триалистической перестройки, а не в захвате боснийских, далматинских или сербских территорий. Той же концепции, хотя и несколько умереннее, придерживался и Тиса.
Конечно, все эти проекты уже в тот момент считались анахронизмом, однако венгерское руководство, принеся огромные жертвы, не собиралось делать добровольных уступок и надеялось на победу немцев во Франции.
Весной 1918 года стало ясно, что австро-венгерские попытки заключения сепаратного мира провалились, но после побед на Востоке это в первое время казалось не столь важным. Все внимание тогда сконцентрировалось на западном фронте. От победы или поражения немцев зависело и будущее Габсбургской монархии, а также Венгрии, так как весной 1918 у Австро-Венгрии уже почти не осталось средств для оказания серьезного влияния на свою собственную судьбу. Это относилось и к Венгрии: крупномасштабный союз, хорошо функционировавший в течение десятилетий, на этот раз обернулся оборотной стороной медали. Судьба венгерской нации оказалась неразрывно связанной с судьбой Германии. И хотя эта война лишь опосредованно была войной венгров, выйти из нее было невозможно.
Президент США, вступивших в войну в 1917 году, Вудро Вильсон провозгласил новые принципы, в том числе принцип самоопределения народов. До весны 1918 года он был нацелен лишь на федерализацию Австро-Венгрии на этнической основе, то есть на сохранение целостности Габсбургской империи. Однако венгерские политики под влиянием сознательного самогипноза считали, что вильсонизм по существу означает принятие неделимой Венгрии, а отчасти даже и венгерской супремации, ведь в Венгрии существовала лишь венгерская (политическая) нация. Этим фальшивым аргументом особенно охотно пользовалась антигерманская партия Каройи, по-прежнему старавшаяся доказать бессмысленность войны. Есть ли смысл продлевать страдания, если в случае победы американцев станет не хуже, а лучше, и Венгрия получит право на самоопределение?! Правда, властная элита понимала новые принципы не столь превратно, но не объяснила в доступной форме их значения общественному мнению. Принципы Вильсона могли перенести европейскую политику, покоившуюся до тех пор, как правило, на фундаменте политического равновесия, на этническую основу, что ставило в особенно опасное положение многонациональную Габсбургскую империю, а также Венгрию.
Для внешних наблюдателей гражданская война, вспыхнувшая после прихода большевиков к власти, и Брест-Литовский сепаратный мирный договор были однозначны распаду России. Однако, тем самым была разрушена вся система европейского равновесия, и западные державы больше не нуждались в традиционной уравновешивающей роли Австро-Венгрии. К тому же, чтобы сломить сопротивление немцев, одержавших слишком крупную победу на Востоке, необходимо было разгромить слабую Австро-Венгрию. Поэтому весной 1918 года Антанта поддержала этнический принцип и включила в число своих военных целей отделение народов Габсбургской империи и создание независимого единого южнославянского государства и Чехословакии, признав летом того же года воюющей стороной югославское и чехословацкое эмигрантские правительства. Тем самым участь Габсбургской монархии, а в том числе и Венгрии, была решена. В том случае, если бы немцам не удалось выиграть войну на Западе, самое позднее к 1919 году центральные державы потерпели бы поражение в результате истощения сил Австро-Венгрии и волнений национальных меньшинств. Как известно, немцы не смогли победить.
Крах: вторая проигранная война Венгрии
В октябре 1918 года Австро-Венгрия совершенно потеряла силы, необходимые для продолжения борьбы. Как на фронтах, так и в тылу чувствовалось, что дальнейшее сопротивление невозможно. Опережая события, император Карл принял этнический принцип применительно к Австрии и примирился с тем, что следствием этого будет отделение по-прежнему казавшейся более сплоченной Венгрии и ослабление связи с ней до персональной унии. Венгры старались покинуть тонущий корабль, надеясь перенести бурю, цепляясь за неправильно понятый вильсонизм. Несмотря на крах дуализма, ставшее независимым венгерское государство по-прежнему стремилось защитить свою территориальную целостность, больше того, венгерскую супремацию в ее максимально полной форме. Из довоенных противников удалось победить Румынию, Сербию, больше того, даже и Россию, поэтому по сути дела оставалось «лишь» достичь соглашения с национальными меньшинствами. В принципе персональная уния составляла максимум национальных целей – до поражения в войне. Теперь же она означала, что Венгрии придется в одиночестве столкнуться лицом к лицу с национальностями, располагавшими поддержкой извне. Венгрия должна была сохранить венгерскую супремацию на своих исторических землях одна, без помощи Австрии, больше того, в условиях вероятных антивенгерских настроений в этнических образованиях, которые должны были возникнуть на территории Австрии. Теоретически Венгрия, возможно, могла бы рассчитывать на поддержку немцев, однако они потерпели полное поражение, и было неясно, будут ли они вообще иметь влияние в данном регионе после окончания войны. Поскольку поначалу казалось вероятным, что будут, венгры не спешили порывать с ними отношения, однако после поражений Германии, во время недолгого пребывания Андраши младшего на посту общего министра иностранных дел, был сделан решающий шаг и в этом направлении.
Между тем, в конце октября 1918 года в Венгрии царили правительственный кризис и полная неразбериха. С ними не удалось справиться, так как оказалось невозможным прийти к согласию с Каройи, опиравшимся на внепарламентские левые силы, относительно создания правительства национального единства, поскольку Каройи претендовал на всю полноту власти. В качестве альтернативного решения можно было, ориентируясь исключительно на правые силы, разрушить замыслы Каройи и его сторонников, теперь уже открыто симпатизировавших Антанте (то есть официально все еще считавшихся изменниками родине), но на это не решились. Так как венгерская политическая элита не могла верить ни в способности Каройи, ни в то, что Антанта пощадит правительство Каройи, в течение нескольких дней она оставалась в нерешительности. Наконец, уличная революция в Будапеште, почти единственной жертвой которой стал Иштван Тиса, привела к власти Каройи, что старая элита вынуждена была принять с хорошей миной на лице.
В начале ноября 1918 года Каройи отказался повиноваться королю, и 16 ноября его правительство социал-демократического толка провозгласило создание народной республики. Сутью его пацифистской концепции была надежда на то, что в случае одностороннего разоружения Антанта будет рассматривать его правительство не как побежденную сторону, а как партнера. В условиях разрушенного порядка правительство и не решилось сохранить оружие вернувшейся домой армии, поэтому Венгрия оказалась беззащитной именно тогда, когда началась наиболее ожесточенная борьба. Теперь приходилось защищать не дуализм и паритет и даже не венгерскую супремацию, от которых уже пришлось отказаться; на карту были поставлены первостепенные национальные интересы, территориальная целостность страны. Это была настоящая борьба не на жизнь, а на смерть, без оружия…
Каройи – и его министр по делам национальностей Оскар Яси – предложили национальным меньшинствам демократическую республику, земельную реформу и кантональное право на самоопределение. Однако они знали, что смогут добиться гораздо большего от победившей Антанты, поэтому даже подбадриваемые румынами и чехами словаки отклонили венгерские предложения. Напрасной оказалась и поддержка, оказанная в этом бедственном положении Каройи правыми, даже общими усилиями не удалось защитить венгерское королевство от вторжения чешских, сербских и румынских войск. Все большие территории Венгрии оккупировались на юге, наряду с французскими вооруженными силами на Балканах, сербской, на востоке – реорганизованной румынской армией, а на севере – вооруженными отрядами чехов. По мере отступления – без боя! – сохранившихся венгерских войск росло недовольство правительством. Политическая жизнь снова поляризовалась, однако в противовес сложившейся в условиях национальных неудач правой оппозиции Каройи проявлял большую уступчивость по отношению к коммунистам, демагогически пользовавшимся социальными бедствиями. Когда 20 марта 1919 года по условиям новой ноты Антанты возникла необходимость эвакуировать войска уже и с венгерских этнических территорий, Каройи ушел в отставку и передал власть социал-демократам, которые немедленно объединились с коммунистами и провозгласили Венгерскую Советскую Республику. Большевистская диктатура пролетариата стояла на позиции интернационализма и классовой борьбы, но с оружием в руках оборонялась от нападения румынской «буржуазии», а в мае достигла кратковременных успехов в военных действиях против чехов. В то же время Бела Кун и другие руководители диктатуры пролетариата ясно продемонстрировали, что не придерживаются принципа территориальной целостности, и, как и большевики на переговорах в Брест-Литовске, ставят своей целью выиграть время. Они были готовы отказаться даже от огромных территорий, чтобы спасти свой режим. Однако к концу июля Красная армия развалилась, и 4 августа румынские войска заняли Будапешт. О быстроте поражения Венгрии свидетельствует то, что всего годом раньше венгерские войска находились в Бухаресте.
Несмотря на то, что весной 1918 года еще казалось, что все противники побеждены, Венгрия потерпела полное поражение. Австро-Венгерская монархия проиграла мировую войну, и Венгрия выделилась из монархии побежденной, теперь уже стараясь защитить свое национальное государство. Однако в 1918–1919 годах в этой смертельной борьбе ее лозунгами стали пацифизм и интернационализм, поэтому истощенная и дезориентированная страна потерпела поражение и в этой второй войне, которая велась уже не ради чужих целей и не по принудительной логике союзнической системы, в которую входила Венгрия. Эта борьба велась уже исключительно в интересах национальной самообороны. Эта война бесспорно была войной венгров, но и она была проиграна.
Александр Стыкалин Эволюция взглядов венгерского философа Дьёрдя Лукача
Имя Дьёрдя (Георга) Лукача (1885–1971 гг.) принадлежит истории духовной культуры нескольких европейских стран. Уроженец Венгрии, он получил философское образование в Берлине и Гейдельберге, входил в круг Макса Вебера. Его ранние эссе имели немалый отклик в Германии кануна первой мировой войны, и все последующее, громадное по объему, теоретическое наследие Лукача стало неотъемлемой частью немецкой философской культуры XX века. В 1920-е годы, живя в Вене, Лукач был в числе людей, определявших своим творчеством неповторимый духовный климат австрийской столицы на левом фланге ее интеллектуальной жизни тех лет. Опубликованная в 1923 году книга «История и классовое сознание» на многие десятилетия вперед стала Библией западного неомарксизма, от которой в 1920-е-1930-е годы во многом отталкивались представители франкфуртской школы и к которой уже в конце 1960-х годов обращались идеологи «новых левых». Живя в 1933–1945 годах в эмиграции в СССР, Георг Лукач активно участвовал в литературной жизни, его статьи неоднократно вызывали оживленные дискуссии.
Томас Манн, не разделяя политических взглядов венгерского философа, высоко ценил его интеллект, отзывался о Лукаче как об одном из выдающихся критиков современной эпохи. Известный философ становился прототипом героев его романов. «Самым умным и интересным, наиболее самостоятельным из коммунистических писателей» назвал Лукача в 1935 году Николай Бердяев. Михаил Бахтин, познакомившись в 1920-е годы с работой Д. Лукача «Теория романа», отметил сходство многих ее идей с собственными построениями и пытался завести переписку с автором, который к этому времени не только считал «Теорию романа» пройденным этапом своей творческой биографии, но был всецело сосредоточен на конспиративной революционной работе и не мог вступить в полноценный диалог.
Парадоксы длительной духовной эволюции Д. Лукача уже несколько десятилетий не перестают удивлять исследователей новейшей философии, посвятивших ему не одну тысячу работ, опубликованных во многих странах мира. И особенно нелегкие вопросы вызывает ранний период творчества венгерского мыслителя, относящийся ко времени кануна первой мировой войны и четырем годам самой войны. Почему, в самом деле, сын богатейшего будапештского банкира, выходец из буржуазной элиты венгерской столицы, да к тому же столь многообещающий, известный за пределами своей родины, молодой эссеист навсегда связал свою судьбу с мировым коммунистическим движением?
Дьёрдь Лукач родился в Будапеште 13 апреля 1885 в семье очень состоятельного банковского служащего, впоследствии директора Венгерского кредитного банка. Его отец Йожеф Лукач (Лёвингер), уроженец города Сегеда, еврей, уже в зрелом возрасте принявший христианство и сменивший фамилию на венгерский лад, был сыном небогатого ремесленника, едва умевшего написать свое имя, и сделал головокружительную карьеру исключительно собственными усилиями. Со временем он не только получил дворянский титул, но и вошел в число приближенных премьер-министра И. Тисы.
У будущего философа никогда не было духовной близости с отцом. Между тем Й. Лукач рано оценил незаурядные способности сына. Отбросив с огорчением свою заветную мечту, сделать из Дьердя политика правящей партии, он, однако, благосклонно отнесся к его творческим пристрастиям, гордился его успехами на литературном и научном поприще, финансировал поездки за рубеж, выступал меценатом начинаний молодого Д. Лукача и его друзей в театральной жизни.
Мать Д. Лукача, урожденная Вертхаймер, была уроженкой Вены, происходила из богатой еврейской буржуазной семьи. Впитанный с молоком матери, язык Гегеля и Гетё стал первым родным языком Лукача, тогда как венгерский был языком ранних уличных впечатлений, общения с прислугой и друзьями детства.
Детство и юность философа прошли в одном из фешенебельных районов Будапешта. На склоне лет он вспоминал о царившей в семье атмосфере обязательных ритуалов, этикета и «протокола», буржуазной респектабельности и благовоспитанности, когда десятилетнего ребенка вопреки его воле чуть ли не ежедневно принуждали воздавать почести посещавшим родительский дом гостям из благородных аристократических фамилий или состоятельных бюргерских семей. Не меньшее внутреннее отторжение вызывала в нем и обстановка в престижной будапештской гимназии с господствовавшим там духом «добропорядочной» верноподданности престарелому императору Францу Иосифу Габсбургу и стоявшей за его спиной венской камарилье. Сразу остро не приняв системы ценностей, при которой главным мерилом достоинства считался жизненный успех, юный нон-конформист находил убежище в книгах, где его влекли, в первую очередь, образы бунтарей, маргиналов, изгоев.
Литературный дебют Лукача состоялся в 1902 года в роли театрального критика. Вскоре, не удовлетворившись импрессионистическим стилем своих ранних эссе, будущий философ на три года перестал писать для прессы, обратившись к более углубленному изучению мировой культуры. Эти штудии через несколько лет принесли свои плоды. Изданный на двух языках сборник эссе «Душа и формы» (1910), вызвавший немалый резонанс и в Германии, был, по отзыву одного из рецензентов, насквозь пронизан «трагическим отчаянием современной души, стремящейся к цели, содержание которой потеряно».
Болезненно переживая отсутствие в Венгрии глубокой и самостоятельной национальной философской традиции, Лукач, получивший на родине диплом юриста, изучал философию в германских университетах. В среде немецких интеллектуалов он пытался найти убежище от удушливой духовной атмосферы современной Венгрии. В ранних работах Лукача преломился духовный опыт многих школ и направлений от немецкой классической философии через Шопенгауэра и Кьеркегора до современного неокантианства. Из современников наибольшее воздействие на него оказали двое – представитель «философии жизни», известный также как историк культуры, Георг Зиммель и классик неокантианской социологии Макс Вебер. У них обоих Лукач учился в Берлине, в Грге. Но наряду с европейской философской традицией духовный мир молодого Лукача питал и другой источник – литература и искусство разных времен и народов. В эссеистике 1900-х годов глубоко волновавшие Лукача «вечные», экзистенциальные философские проблемы (в частности, проблема отчуждения) осмыслялись по преимуществу на материале художественной литературы от Л. Стерна и Новалиса до современных ему авторов. Дьёрдь Лукач начал свой путь в философии в годы, когда Европа жила ожиданием глубоких потрясений, смертельно угрожавших завоеваниям культуры. Эсхатологические предчувствия, пронизывавшие духовную атмосферу предвоенного времени и нашедшие многообразное выражение в европейской культуре тех лет, отразились и в раннем творчестве венгерского мыслителя. В своем неприятии венгерской отсталости, полуфеодальных экономических устоев и несовершенной политической системы страны молодой Лукач сходился с ведущими мыслителями радикального направления (О. Яси и др.). Но в отличие от большинства своих современников он не склонен был идеализировать западные модели демократии и совершенно не питал иллюзий в отношении вестернизации Венгрии как основного средства разрешения социальных противоречий. Ему мало импонировала и модная среди венгерских прогрессистов начала века философия спенсеровского позитивизма с ее унылым рационализмом, плоским прагматизмом. Трагическое мировосприятие молодого Лукача определялось настроениями безысходности, а глубокая духовная неудовлетворенность философией позитивизма стимулировала метафизические искания, в которых и застал его в Гейдельберге август 1914-го.
Первая мировая война вначале вызвала прилив энтузиазма, настоящий душевный подъем среди интеллигенции всех воюющих стран, включая людей последовательно либеральных убеждений, чуждых крайностям национализма. В числе тех, кто ее активно поддержал, были европейски известные интеллектуалы А. Бергсон, Э. Дюркгейм, З. Фрейд, Т. Манн и др. Великий французский поэт Г. Аполлинер пошел добровольцем на фронт, где был тяжело ранен в голову. Истоки подобного, в своей основе романтического ощущения лежали в пресыщении «пошлым» мещанским укладом жизни, жажде неизведанного, ожидании грядущих социальных перемен, рождения нового, очищенного в горниле фронтовых лишений, более справедливого и гуманного, чем прокламировавшаяся правящими кругами идея священного единения во имя победы своей родины находила бескорыстных поборников среди интеллигентов, увидевших во фронтовом братстве путь к преодолению духовной изоляции, модель новых, идеальных, лишенных отчуждения межчеловеческих отношений. Этому способствовала и общность переживаемых страданий, разрушавшая привычные социальные перегородки. «Людей охватило какое-то пылкое стремление к единению друг с другом», – так жена М. Вебера вспоминала впоследствии настроения в гейдельбергском окружении своего мужа. Д. Лукач не склонен был разделять пафоса своих коллег, за что подвергся остракизму с их стороны. Лукач упорно продолжает видеть милитаризм там, где «для меня речь идет именно об освобождении от милитаризма», то есть об утрате милитаризмом своей прежней самоцельности и бессмысленности, – замечал в этой связи философ Г. Зиммель.
По мнению же Лукача, война не только не преодолевала отчуждения в межчеловеческих отношениях, но обостряла его в грандиозной степени. Войну он воспринял как предельное выражение абсолютной иррациональности, бесчеловечности и греховности современной цивилизации, пока не видя при этом реальной силы, которая смогла бы вызволить человечество из такого состояния. Укреплению в подобном отношении к всемирной бойне способствовал и личный жизненный опыт – потеря друзей. В омском госпитале для военнопленных скончался высоко ценимый Лукачем философ Б. Залай, предвосхитивший ряд положений теории систем. На фронте погиб молодой гейдельбергский философ Э. Ласк. Духовная встряска 1914 поставила Лукача в оппозицию не только существующему порядку вещей, но в известной мере и той освященной авторитетом Гегеля немецкой интеллектуальной традиции, которая считала разумным этот порядок. Как писал Лукач П. Эрнсту в 1915 году: «мы должны вновь и вновь подчеркивать, что единственно существенным являемся мы сами, наша душа, и даже ее вечно-априорные объективации являются… лишь бумажными купюрами, чья ценность зависит от обмениваемости на золото. Реальную власть этих творений, правда, нельзя опровергнуть, но смертным грехом духа является то, что наполняет немецкую мысль со времен Гегеля, когда любую власть наделяют метафизическим освящением».
Ощущение ненадежности опор, тоска по «устойчивости, мере и норме», стремление найти духовные и нравственные абсолюты, необходимые для постижения мира во всей его целостности и обретения внутренней душевной гармонии были главными мотивами предвоенной эссеистики Лукача. Преодолеть хаотичность, бесформенность, расплывчатость, неопределенность, царящие в повседневной действительности, способно было, по Лукачу, только искусство в его классических образцах. Лишь через искусство, всегда стоящее выше непосредственных проявлений жизни, можно приобщиться к сути вещей, постигнуть смысл существования. Вслед за своим учителем Зиммелем Лукач утверждал активную, организующую, жизнетворческую роль художественной формы, ее способность в противовес повседневности и эмпирии создать свой собственный, автономный, неразобщенный и неотчужденный мир. Личная драма, пережитая Лукачем незадолго до войны, самоубийство любимой женщины И. Зайдлер, обострила в нем чувствительность к этическим проблемам. Постепенно он приходил к мнению, что искусство должно выполнять скорее не метафизическую, а моральную функцию – создавать образ (микрокосм) нового мира, находящуюся в резком контрасте со старым миром некую утопическую целостность, способную вдохновить людей на ее воплощение в реальности. Присущее искусству люциферово начало позволяет ему восстать против мира, созданного Богом, во имя другого, более совершенного. Конфронтация между миром отчуждения и миром утопии должна в идеале завершиться победой последнего; радикальное уничтожение мира отчуждения сможет сделать утопическую тотальность реальной, эмпирической тотальностью. Таким образом, в духовной эволюции Лукача стал намечаться, а с началом войны ускорился поворот от трагического видения мира к утопическому, от чувства безысходности к мессианизму и апокалиптической надежде, которая смогла бы вознаградить все ожидания. Отныне он уже не считал отчуждение конечным человеческим состоянием. Реальность, какой бы она ни была – отнюдь не «тюрьма», а результат собственного выбора. Бог покинул мир, но возможно второе пришествие Христа. Духовный путь Лукача шел к принятию наиболее еретической версии христианской религии – признанию возможности установить Царство Божие на Земле. Книга «Душа и формы» еще продолжала находить отклик в прессе, но уже стала глубоко чуждой автору. В работах времен войны и прежде всего в наиболее известной из них, «Теории романа», преобладал уже не трагизм мироощущения, а утопические надежды.
Любая утопия, сколь ни была бы она оторвана от жизни, не может ограничиться идеальным проектом, «моделью» будущего, она предполагает для своего осуществления «новых людей», носителей утопического сознания. И размышляя над тем, есть ли в реальности социально-политическая сила, способная обнаружить выход из глубокого кризиса и нравственного тупика современной западной цивилизации, молодой Лукач не мог обойти вопроса об отношении к современному социализму. «Надежда может быть только на пролетариат и социализм, – писал он еще до войны, – Надежда, что придут варвары и грубыми руками отбросят в сторону всю эту презренную утонченность; надежда, что революционный дух, который всегда разоблачал любую идеологию, повсюду видел свежие силы революции, и здесь сможет ясно все увидеть и почувствовать, сметая на своем пути все второстепенное и возвращаясь к существу дела». Но далее следовало весьма пессимистическое заключение: современный социализм «не обладает религиозной силой, затрагивающей душу целиком – какой владело первоначальное христианство». Идеология II Интернационала, делавшая упор на эволюционное, органическое развитие общества, ориентировавшая людей не на борьбу, а на приспособление к существующему порядку вещей, явно не отвечала радикальным мессианистским устремлениям молодого Лукача, исключительной бескомпромиссности его романтического антикапитализма. Как и многим другим охваченным революционным нетерпением интеллектуалам его поколения, Лукачу виделась в социал-демократических доктринах недооценка активного, субъективного фактора в истории. Более мессианский социализм, способный привести ко второму пришествию Христа и «новых христиан» и составить реальную альтернативу лишенной духовных абсолютов современной западной цивилизации, венгерский философ увидел в России. Он глубоко интересовался русской литературой, ее нравственными исканиями, писал (к неудовольствию М. Вебера, не одобрявшего увлечения Лукача эссеистикой, отвлекавшей его от академической философии) так и оставшуюся незаконченной работу о Ф. М. Достоевском, с творчеством которого связывал не только обновление жанра романа (наиболее адекватной, по его мнению, формы художественного выражения современной эпохи тотальной греховности), но и попытку художественного воспроизведения другой, более глубокой, чем кантовская, этики, утверждающей моральную ответственность индивида не только за свои собственные поступки, но за все зло, совершаемое на земле. Этические нормы, господствующие в современном обществе, есть не более, чем одна из сил отчуждения. Мир героев Достоевского – выше мира социальных форм и обычных этических норм, отношения между людьми определяются не их социальным статусом – это общение обнаженных душ, преодолевающее социальные узы.
С вниманием к русской литературе перекликался глубокий интерес Лукача к революционному движению в России. Одно из характерных проявлений «второй» этики Лукач видел в присущей русским революционерам готовности пожертвовать во имя общих интересов не только жизнью, но и собственным душевным комфортом и даже моральной чистотой. Первая жена Д. Лукача Елена Грабенко была русской политэмигранткой, в которой венгерский философ увидел реальное воплощение не только России Достоевского, но и современной революционной России. Близко знавший Лукача, выдающийся немецкий философ Эрнст Блох, как-то заметил, что его друг женился на «России Достоевского», которая никогда не существовала в реальности.
Вернувшись (как военнообязанный) из Германии в Венгрию, Лукач окунулся в среду, где сначала доминировали те же провоенные настроения. Венгерское общественное мнение, хранившее в исторической памяти участие армии фельдмаршала И. Ф. Паскевича в подавлении венгерской революции 1848–1849 годов, всецело поддержало войну с Россией, тем более что официальный Петербург (Петроград) традиционно воспринимался как покровитель венгерских славян, оплот панславизма – главной угрозы для Венгрии. «Европейская культура вступает в борьбу с российским варварством… Падение России означает победу более высокой культуры и большей свободы», – писала 3 сентября 1914 г. социал-демократическая газета «Népszava». Духовно близкий в то время Лукачу поэт, драматург и философ Бела Балаж ушел добровольцем на фронт. В статье «Париж или Веймар?», опубликованной в журнале «Nyugat», он попытался увидеть в начавшейся войне столкновение двух культур, проявление соперничества между стагнирующим французским (латинским) и более свежим, здоровым немецким духом. Войну поддержали писатели последовательно демократического направления – Ж. Мориц, Д. Юхас. Лишь немногие имели смелость идти против течения. Среди них – поэты Э. Ади и М. Бабич, социолог и политик О. Яси. Писатель Д. Костолани воспринял начало войны как «конец поэзии, конец европейской образованности».
Вопреки чересчур оптимистическим прогнозам прессы, полагавшейся, в первую очередь, на мощь германского союзника, ожидавшейся легкой прогулки на Восток не получилось, война приобрела затяжной и изнурительный характер. Уже с осени 1914 года усилились пацифистские настроения в обществе, стало заметным разочарование в целях войны. Поумеряет свой прежний шовинистический тон пресса.
Столкновение с суровой реальностью не проходило бесследно для интеллигенции. Ход войны, постоянно напоминавший о цене побед, разительное противоречие между патриотическими и гуманистическими ценностями вновь и вновь подвергали испытанию ее нравственную позицию. В литературе и публицистике все более явно звучит антимилитаристский протест (Л. Кашшак и его журналы «Tett» и «Ma»). Только наиболее консервативное крыло литераторов принимало и дальше участие в военной пропаганде.
Не только в Венгрии, но по всей воюющей Европе действительность на каждом шагу давала основания для глобальной переоценки ценностей. Терпел крах устоявшийся десятилетиями жизненный уклад миллионов людей, привычный для всех живущих поколений. То, что до войны не мыслилось возможным, становилось реальностью. Первоначальная эйфория сменялась острым разочарованием. Растянувшись на целые годы и принося все больше страданий и разрушений, война в огромной мере способствовала радикализации умов. Отбросив саму идею прогресса, многие европейские интеллектуалы вставали на путь нигилизма и апокалиптизма, обращались к ультралевым социальным доктринам.
Подолгу живя в эти годы в Будапеште (проходя альтернативную военную службу сначала в больнице, а затем в цензурном ведомстве), Д. Лукач собрал вокруг себя талантливых молодых интеллектуалов (некоторые из них – социолог К. Манхейм, эстетик А. Хаузер, теоретик кино Б. Балаж, получили впоследствии всемирную известность). В ходе еженедельных дискуссий обсуждались отнюдь не конкретно-политические, а философские, этические, эстетические вопросы. «Мы занимаемся абстракциями, записал в 1917 году в дневнике Б. Балаж, в то время, как мир перевернулся». Участников так называемого Воскресного общества глубоко заботила проблема выживания духовности в условиях еще невиданной в мировой истории по своим масштабам войны. Главная из дилемм, стоявших перед Лукачем и его единомышленниками, заключалась в этическом выборе: что предпочтительнее в моральном плане – бегство от общества или прямой вызов? В ходе дискуссий обсуждалась даже идея создания небольшой коммуны близ Гейдельберга.
В Гейдельберге Лукач, готовясь занять университетскую кафедру, работал над фундаментальным трудом по эстетике. Этот труд, не только синтезировавший феноменологию Гуссерля с неокантианством, но и впервые обозначивший интерес автора к Гегелю, а также внесший в философию искусства органичное Лукачу в те годы экзистенциально-трагическое мироощущение, остался незавершенным – перед одним из своих последних отъездов в Будапешт философ положил незаконченную рукопись на хранение в один из сейфов гейдельбергского банка. По символическому совпадению это случилось 7 ноября 1917 года. Впоследствии, перейдя на марксистские позиции, Лукач, никогда не боявшийся сжигать за собой все мосты, старался всячески принизить значение раннего, домарксистского этапа в своем творчестве, считал его пройденным этапом собственной философской биографии. Поэтому его так называемые «Гейдельбергская философия искусств» и «Гейдельбергская эстетика» были изъяты из сейфов и подготовлены к публикации учениками философа лишь после смерти Лукача, в 1970-е годы, вызвав немалый резонанс.
Революция, произошедшая в России, произвела на Лукача тем большее впечатление, что не была для него неожиданной в свете всех его предшествующих духовных исканий. Февраль, а затем, в еще большей степени, октябрь 1917-го не только указывали путь выхода из войны. Они явились наилучшим подтверждением давно вынашивавшейся Лукачем мысли о более мессианском характере российского социализма в сравнении с западноевропейским. Задачи коренного обновления современного общества, казавшиеся прежде утопическими, были поставлены русской революцией на повестку дня, перенесены из абстрактной сферы в плоскость непосредственной политической практики. Будучи и теперь уверенным в превосходстве моральной революции над социальной и политической (способной изменить, по его мнению, лишь только внешние параметры человеческого существования) философ и критик, прежде чуравшийся практической политики, в первую очередь именно под влиянием российского опыта стал проявлять к ней несомненный интерес. «Социалистом меня сделали российская революция и последовавшие за ней события в Венгрии», – вспоминал Лукач впоследствии в одном из интервью.
В конце октября 1918 Д. Лукач стал свидетелем демократической революции, положившей конец многовековому господству Габсбургов не только в Венгрии, но и во всей Центральной Европе. В сложнейшей экономической ситуации, вызванной военным поражением, демократическое правительство Михая Каройи оказалось неспособным решить стоявшие перед страной социальные проблемы. Не смогло оно должным образом защитить и национальные интересы венгров – в условиях, когда руины полиэтничной Габсбургской монархии стали полем столкновения национальных амбиций, подстрекаемых с разных сторон державами-победительницами. Все сильнее становилось давление на правительство слева: с первых же недель существования республики установление советской власти по российскому образцу рассматривалось как возможная альтернатива режиму Каройи.
Соотнося венгерскую действительность с тем, что происходило тогда в России, и задумываясь над будущим венгерской революции, Лукач в декабре 1918 года публикует статью «Большевизм как моральная проблема», отразившую не столько его воодушевление в связи с обозначившейся перспективой, сколько глубокие сомнения. Марксистское учение о классовой борьбе как движущей силе исторического развития и неизбежном в этой борьбе применении террора и диктаторских методов вступает, по мнению Лукача, в известное противоречие с марксовым утопическим видением социализма как бесклассового, лишенного всякого принуждения общества. Весь большевизм, писал венгерский философ, в этическом смысле зиждется на том метафизическом допущении, что зло способно породить добро, что именно через ложь пролегает дорога к истине, и что искоренить путем насилия угнетение во имя будущего бесклассового общества – более нравственный выбор, чем увековечить несправедливость классового строя. Мессианские представления большевиков о миссии пролетариата основаны прежде всего не на разуме, а на вере – в то, что с достижением конечной цели мир избавится от зла. По Лукачу, это частный случай того, что выразил своей емкой формулой Тертуллиан: credo quia absurdum est (верую, ибо нелепо). Венгерский философ заявил о своей неспособности принять эту веру, расходящуюся с волей большей части человечества.
Но забрезжившая перед Лукачем возможность коренного обновления была настолько притягательна, что вскоре начисто смела все поспешно сооруженные на пути ее реализации рассудочные построения. Мы увидели, «что – наконец-то, наконец-то! – перед человечеством открылся путь выхода из войны и из капитализма». В этих условиях, вспоминал потом Лукач, я «пережил короткий переходный период: мои последние колебания перед окончательно сделанным правильным выбором», сопровождавшиеся выискиванием абстрактных аргументов по большей части филистерского свойства, были вскоре преодолены.
Через считанные дни после публикации статьи «Большевизм как моральная проблема» Лукач вступил в незадолго перед этим созданную венгерскую компартию. Его духовный поворот отразил ряд статей, относящихся к началу 1919 года. Все, кто пришел в коммунистическое движение, писал Лукач в статье «Тактика и этика», принимают на себя личную моральную ответственность за каждую жертву революционной борьбы. Однако, тот, кто встает на сторону противников коммунизма (или даже уклоняется от выбора), ответственен за продолжение войны и классового угнетения, за неминуемые новые жертвы. Выбор, сделанный Лукачем, был однозначен при том, что для него, как многократно вспоминал он позже, оставалась неясной «научная обоснованность» идеи коммунизма.
Переход Д. Лукача на позиции пролетарского мессианизма и – как логическое следствие – его вступление в венгерскую компартию вызвали немалое удивление венгерской, а затем и немецкой интеллектуальной элиты. Духовно близкая философу писательница Анна Леснаи вспоминала, что обращение Лукача в новую веру произошло буквально в промежутке между двумя воскресеньями (в связи с этим можно было бы привести и свидетельство А. Хаузера о том, что на заседаниях Воскресного общества в течение трех лет Лукач ни разу не упомянул Маркса). С другой стороны, в рядах самих коммунистов появление Лукача было встречено с немалым недоверием и подозрением. Писатель и художник Л. Кашшак (на протяжении многих десятилетий мэтр венгерского авангарда в искусстве, а по партийной принадлежности левый социал-демократ) передавал в своей автобиографии то большое удивление, с которым было воспринято в ультралевых политических кругах подключение к работе редакции коммунистической газеты «Vörös Újság» человека, всего несколькими днями ранее «с философским пафосом писавшего, что коммунистическое движение не имеет под собой никакой этической базы и в силу этого не отвечает задачам создания нового мира. Позавчера он писал именно так, а сегодня восседает за столом в редакции «Красной газеты»».
Но какова бы ни была реакция современников на произошедший переворот в мировоззрении Лукача, он доказал всей своей последующей политической, философской, научной деятельностью, что его тренд к идее коммунизма не был случайным, кратковременным увлечением. Отношения философа с коммунистическим движением, хотя временами были отнюдь не безоблачными, продолжались более полувека, до самой смерти Лукача. Однако, это уже предмет другого разговора.
Об авторах
Иван Бертени – PhD, доцент Католического Университета (Венгрия).
Олег Будницкий – доктор исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики».
Владимир Булдаков – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.
Юрий Жук – доктор юридических наук, писатель.
Светлана Князева – кандидат исторических наук, доцент Российского Государственного гуманитарного университета.
Николай Литвин – доктор исторических наук, профессор Украинского института украиноведения им. И. Крипякевича во Львове.
Владимир Литтауэр – ротмистр, офицер императорской Кавалерии, автор книги воспоминаний «Русские гусары».
Виктор Мальков – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник института Всеобщей истории РАН, заслуженный деятель науки РФ.
Марианна Сорвина – историк, искусствовед, писатель.
Александр Стыкалин – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.
Анна Хорошкевич – доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института славяноведения РАН.
Сергей Храмков – кандидат исторических наук.
Примечания
1
Король Умберто I (1878–1900), прозванный в народе карликом – Nano – за маленький рост. Убит в июле 1900 г. анархистом Гаэтано Бреши.
(обратно)2
Американский президент Уильям Мак-Кинли смертельно ранен анархистом из семьи польских иммигрантов венгерского происхождения Леоном Чолгошем в сентябре 1901 г.
(обратно)3
Путь далёкий до Типперери – маршевая песня британской армии, появилась впервые в 1912 г.
(обратно)4
Шустовы – русский дворянский род, восходящий к началу XVII века и записанный в VI часть родословной книги Курской губернии. Занялись предпринимательством и стали успешными. Построили коньячные заводы в Армении, на Украине (Одесса), в Москве.
(обратно)5
Плотин – философ, создавший в Египте в III в. философскую школу и учение – неоплатонизм. Идеи Плотина вдохновляли средневековых мистиков, художников Возрождения и поэтов Серебряного века, а его философия нацелена на поиск красоты.
(обратно)6
Анри Бергсон (1859–1941), выдающийся французский философ, психолог, писатель, издал в 1907 г. нашумевшую книгу «Творческая эволюция».
(обратно)7
В. Я. Брюсов. Творчество.
(обратно)8
Hobsbowm Е. The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991. New York, 1994. P. 5, 6.
(обратно)9
Манн T. Письма. M., 1975. C. 25.
(обратно)10
Гиппиус З. Дневники. Воспоминания. Мемуары. Минск, 2004. С. 5.
(обратно)11
Цит. по Брюсов В.Я. Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 698.
(обратно)12
Уэллс Г. Россия во мгле. М., 1958. С. 10.
(обратно)13
Чернов В. М. Перед бурей. Воспоминания. Мемуары, Минск, 2004. С. 332, 333.
(обратно)14
Ключевский В. О. Афоризмы… С. 61.
(обратно)15
Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума. Воспоминание современника. М., 2006. С. 140.
(обратно)16
Чернов В.М. Перед бурей. Воспоминания. Мемуары. Минск. 2004. С. 389.
(обратно)17
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 234.
(обратно)18
Арцыбашев М.Н. Заметки писателя // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Т. 2. 1926–1930. М., 1991. С. 451.
(обратно)19
Джунковский В.Ф. Воспоминания. В двух томах. Т. 2. М., 1997. С. 282, 283.
(обратно)20
Кризис монархии в России – особая, большая тема. Ее здесь касаться не будем. Скажем только, что бывший министр юстиции И.Г. Щегловитый в своем качестве председателя Совещания монархистов в столице высказался весьма откровенно: «В монархии монархистов только небольшая кучка». О запущенности всех государственных дел в годы войны предельно ясно сказано в воспоминаниях В.Н. Коковцева, до января 1914 г. работавшего на посту председателя совета министров. «Не хочется вспоминать (однако Коковцеву, как видим, пришлось это сделать. – В.М.) и всего того, что произошло в делах внутреннего управления, того развала власти, который мне пришлось наблюдать. Об этом так много написано, столько появилось личных воспоминаний, частью правдивых, частью окрашенных предвзятостью, настолько все это блекнет теперь перед последствиями катастрофы, сгубившей Россию, что не хочется вносить и мою личную оценку в рассказ о том, что пережито и передумано, чего не изменишь и с чем никогда не примиришься» (Коковцев В.Н. Из моего прошлого 1903–1919. Минск, 2004. С. 776).
(обратно)21
Книга воспоминаний Г.К. Гинса написана по свежим впечатлениями пережитого в 1920 г. и впервые издана в 1921 г. в Харбине (см. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории 1918–1920 гг. Впечатления и мысли члена Омского правительства. М., 2013. С. 506).
(обратно)22
Там же. С. 499.
(обратно)23
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 1919 – март 1920. Минск, 2004, С. 28.
(обратно)24
Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. С. 414.
(обратно)25
Сорокин П. Современное состояние России. Прага, 1923; см. также Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Санкт-Петербург, 2000. С. 595, 596.
(обратно)26
Питирим Сорокин был беспощадным критиком большевизма и Советской России. Его слово ценилось и пользовалось большим влиянием, хотя оно и вызывало возражение многих хорошо знакомых с большевистским экспериментом русских интеллектуалов его же класса. Они отмечали, что Сорокиным осталась незамеченной главная черта революции – «колоссальная встряска масс», которая, по убеждению П.А. Кропоткина, в конечном итоге способна была, вызволив Россию из сна, пробудить в ней витальную силу, необходимую для начала масштабной реконструкции.
(обратно)27
Меньшевики в 1917 году. В 3-х томах. Под общей ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хаимсона. Т. 2. М., 1995. С. 159, 160.
(обратно)28
Миноносцы – «Бедовый», «Безупречный», «Блестящий», «Бодрый», «Бравый», «Бурный», «Быстрый», «Грозный» и «Громкий».
(обратно)29
Василий Васильевич Игнациус (21 июня 1854-14 мая 1905) – русский морской офицер и художник, капитан 1-го ранга, погиб в Цусимского сражении, находясь на средней батарее броненосца.
(обратно)30
АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 57. Л. 156–156 об.
(обратно)31
Извольский А.П. Воспоминания. Петербург-Москва, 1924, с.31.
(обратно)32
Крейсеры «Изумруд», «Олег» и «Урал».
(обратно)33
Миноносцы «Грозный», «Громкий», «Пронзительный» и «Резвый».
(обратно)34
«Петропавловск» подорвался на японской мине 31 марта 1904 года под Порт-Артуром. На нем погиб вице-адмирал Степан Осипович Макаров (27 декабря 1848-31 марта 1904), не только военный моряк, но талантливый океанограф и изобретатель.
(обратно)35
Исторический архив. 1994. № 3. С. 17–18.
(обратно)36
Hallgarten G.W.E Imperialismus vor 1914. Bd. I. S. 488.
(обратно)37
Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. – Л.: Судпромгиз, 1955.
(обратно)38
Тайная война против России. Из документов русской контрразведки 1904–1905 годов /собрано Д.Б. Павловым. – «Исторический архив», 1994, № 3. С.29.
(обратно)39
Klado N. The Russian navy in the Russo-Japanese war. – London: G. Bell, 1905. C. 153–154.
(обратно)40
Rußlands diplomatische Vertreter. – Die Woche, 1904, № 46. S. 2049
(обратно)41
Альберт Баллин (1857–1918) – немецкий промышленник, владелец судоходных компаний и кораблей немецкого военного флота. В день капитуляции Германии 9 ноября 1918 года покончил с собой, не в силах пережить потерю большей части своих судов.
(обратно)42
История дипломатии в 6 тт. T.IL М.: Политиздат, 1963. С. 562–563
(обратно)43
Там же. С. 715.
(обратно)44
Rußlands diplomatische Vertreter. – Die Woche, 1904, № 46. S. 2049
(обратно)45
Никольсон. Г. Дипломатия. – М.: Политиздат, 1941. С. 90.
(обратно)46
Камбон Жюль. Дипломат. – М.: Политиздат, 1946. С. 36.
(обратно)47
International commissions of inquiry /Incident in the North Sea (The Dogger Bank Case): Report of the Commissioners, drawn up in accordance with Article VI of the declaration of St. Petersburgh of the 12th (25th) November, 1904 // 26 February 1905. PP. 931-936
(обратно)48
EAiFaire de Hull. – La Commission D’Enquête. – 1904, 26 Nov. Pg. 2. Avec: L’Incident de Hull. – L’Express du Midi, 1-er Fevier 1905. Pg. 2.
(обратно)49
Кравченко В. Через три океана. СПб, 1910. С. 69.
(обратно)50
Ссылка на материал: ЦГАВМФ, ф. 763, on. 1, д. 17, л. 16.
(обратно)51
Цит. по ст.: Шабуцкая Н.В. Вице-адмирал Рожественский – «обесславленный герой одного из величайших сражений в истории флота». – Научные ведомости Белгородского государственного университета / История. Политология. Экономика. Информатика. Т.2, вып. 3. 2007.
(обратно)52
Eva М. Bauer. Camerati, commilitoni е complici: struttura organizzativa del movimento studentesco italiano nella monarchia asburgica all’inizio del Novecento // Università e nazionalismi Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. – Museo storico del Trentino, 2004. P. 119.
(обратно)53
II Popolo. 2 Nov. 1904. P. 1.
(обратно)54
Eröffnung der italien. Rechtsfakultät. – Innsbrucker Nachrichten, 1904,3. Nov., № 253.
(обратно)55
Michael Gehler. Il contesto politico della monarchia asburgica nel 1904… P. 26.
(обратно)56
«У Золотой Розы» («Zur Goldene Rose») – один из старейших отелей города, впервые упоминается в 1329 году, расположен на углу улицы Герцога Фридриха и Штифтгассе.
(обратно)57
Michael Gehler. Il contesto politico della monarchia asburgica nel 1904…, P. 29.
(обратно)58
«Во славу божью! Смерть немецким тварям!» (итал.)
(обратно)59
Stolz Luise. Ihr habts gewollt! – Der Scherer, № 22 (176). S. 2 – Перевод M.C.
(обратно)60
Wallpach Arthur. Wir sind Deutschlands Grenzsoldaten. – Перевод M.C.
(обратно)61
Michael Gehler. Il contesto politico della monarchia asburgica nel 1904.. P. 44.
(обратно)62
Капоретто. – М.: Воениздат, 1938. С. 17.
(обратно)63
Капоретто. – М.: Воениздат, 1938. С.5.
(обратно)64
W.W. Gottlieb. Studies in Secret Diplomacy during the First World War. – London: George Allen & Unwin, 1957. P. 135.
(обратно)65
Arthur James May. The Hapsburg Monarchy 1867–1914. Harvard U.P., 1951. P. 437.
(обратно)66
Luigi Maglione. Il pericolo tedesco, 1907.
(обратно)67
Виллари Л. Война на Итальянском фронте… С. 20.
(обратно)68
Виллари Л. Война на Итальянском фронте… С. 19–20.
(обратно)69
Isabella Bossi Fedrigotti. La città che non taspetti è «Tridentum». – Corriere della Sera, 22 guigno 2012.
(обратно)70
Виллари Л. Война на Итальянском фронте… С. 28
(обратно)71
Готлиб В. Тайная дипломатия во время Первой Мировой войны. – М.: Соцэкгиз, 1960. С. 505.
(обратно)72
«Священный эгоизм» (итал.)
(обратно)73
Джованни Джолитти (Giovanni Giolitti) (27 октября 1842 – 17 июля 1928) – политик, премьер министр Италии в 1893-95, 1903-05, 1906-09, 1911-14, 1920-21 годах.
(обратно)74
Salandra A. Italy and the Great War. From Neutrality to Intervention. – London: E.Arnold and Co., 1932. P. 46.
(обратно)75
Fumagalli G. Chi Fha detto? – Hoepli, 1921. P. 610.
(обратно)76
Витторио Италико Цупелли (Vittorio Italiko Cupelli) (1859–1945) – военный министр, ставленник начальника Генштаба Луиджи Кадорны.
(обратно)77
Паоло Каркано (Paolo Carcano) (1843–1918) – политик, член гарибальдийской «тысячи» и походов Гарибальди. С 1881 – депутат, член радикальной партии. В 1898 на посту министра финансов; в 1900–1901 министр земледелия, в 1901–1904 министр финансов. С 1914 – главный казначей.
(обратно)78
Фердинандо Мартини (Ferdinando Martini) (30 июля 1841-24 апреля 1928) – выходец из актерской среды, драматург и мемуарист, в правительствах Саландры и Джолитти – министр колоний.
(обратно)79
Salandra A. Italy and the Great War. From Neutrality to Intervention. – London: E.Arnold and Co., 1932. P. 73.
(обратно)80
W.W. Gottlieb. Studies in Secret Diplomacy during the First World War. – London: George Allen & Unwin, 1957. P. 233.
(обратно)81
Fumagalli G. Chi l’ha detto? – Hoepli, 1921. P. 666–667.
(обратно)82
Джузеппе Аварна ди Гуалтиери (Giuseppe Avarna di Gualtieri) (17 марта 1843 – 31 марта 1916) – герцог, политический деятель, итальянский посол в Австрии с 1904 по 1915 год. Состоял в браке с русской княжной Марией Долгорукой и имел трех детей.
(обратно)83
Риккардо Боллати (Riccardo Bollati) (15 января 1858-12 октября 1939) – политик, сенатор, посол в Германии с 1912 по 1915 год.
(обратно)84
Восьмидесяти шестилетний император Австрии не дожил до конца этой войны, он скончался 21 ноября 1916 года.
(обратно)85
Irredenta («неосвобожденная», итал.) – национал-патриотический союз, основанный сыном Джузеппе Гарибальди Менотти в 1878 году. Своей целью он считал присоединение к Италии пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением – Триеста и Трентино-Альто Адидже.
(обратно)86
Karl V. Grabmayr. Erinnerungen eines Tiroler Politikers 1892–1920. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1955. S. 66.
(обратно)87
Vincenzo Cali. L’Università della diaspora (1866–1918) // Université e nazionalismi Innsbruck 1904 e lassalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. – Museo storico del Trentino, 2004. P. 149
(обратно)88
Reichsrat, Stenographische Protokolle, XXL Session, 24.10.1911, S. 1124.
(обратно)89
Ibid, S. 1125.
(обратно)90
Ibid.
(обратно)91
Речь идет о законе Канта, предписывающем соответствие общим моделям поведения. – Reichsrat, Stenographische Protokolle, XXL Session, 25.10.1911, S. 1173.
(обратно)92
Reichsrat, Stenographische Protokolle, XXL Session, 25.10.1911, S. 1173.
(обратно)93
Джованни Педротти (Giovanni Pedrotti) (1867–1938) – уроженец Трентино, географ и ботаник, альпинист, ирредентист, автор научных исследований и основатель архива компании Società Alpinisti Tridentini (SAT), с 1925 по 1928 – президент компании.
(обратно)94
Battisti lettera a Pedrotti. 28.9.1914. – Cesare Battisti. Epistolario, Bd.l / Prod. Renato Monteleone, Paolo Alatri. Florenz, 1966. P. 343.
(обратно)95
Michael Fölckl. Das Deutschenbild Alcide De Gasperis (1881–1954): Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen Deutschenwahrnehmung / Inaugural-Dissertation. München. Ludwig-Maximilians-Universität, 2004. S. 123.
(обратно)96
Rutkowski Ernst. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreicisch-ungarischen Monarchie. 2 Bd.. Linz: Oldenburg-Verl., 1991.S. 26.
(обратно)97
Луиджи Лукени (Luigi Lucheni) (22 апреля 1873-19 октября 1910) – итальянский анархист и убийца.
(обратно)98
Unglückliches Österreich // Wie geschah es wirklich? – Stuttgart: Verlag das Beste GmbH, 1990. S. 138
(обратно)99
Tragödie in Mayerling // Wie geschah es wirklich? – Stuttgart: Verlag das Beste GmbH, 1990. S. 132-138
(обратно)100
Fabrizio Rasera. I veleni della memoria… – Questotrentino, 11 settembre 2010.
(обратно)101
Claus Gatterer. Tagebücher 1974–1984. / Hrg. T.Hanifle. – Bozen: Raetia, 2011. S. 222.
(обратно)102
Die Schwarze Hand: Attentat von Saraevo //Im Buch: Wie geschah es wirklich. Stuttgart, Verlag das Beste GmbH, 1990. S. 369–372.
(обратно)103
Die Fackel. 10. Juli 1914.
(обратно)104
Данило Илич – член общества «Молодая Босния», журналист и переводчик. Редактор социалистической газеты Звоно («Колокол»). Переводил с русского на сербский язык произведения М. Горького.
(обратно)105
Оскар Потиорек (Oskar Potiorek) (20 ноября 1853-17 декабря 1933) – австро-венгерский военачальник, с 1911 по 1914 годы – австро-венгерский наместник Боснии и Герцеговины, участник Первой мировой войны на сербском фронте. Был смещен за неумелые действия, и вместо него (27 декабря 1914 года) назначен эрцгерцог Ойген Габсбург-Австрийский.
(обратно)106
Die Schwarze Hand: Attentat von Saraevo Him Buch: Wie geschah es wirklich. Stuttgart, Verlag das Beste GmbH, 1990. S. 372
(обратно)107
Ibid.
(обратно)108
Фридрих фон Визнер (Wisner Friedrich von) (27 октября 1871-5 ноября 1951) – австрийский дипломат, советник австрийского правительства.
(обратно)109
Леопольд фон Берхтольд (граф Леопольд Антон Иоганн Сигизмунд Йозеф Корзин Фердинанд Берхтольд фон унд цу Унгаршиц, Фраттлинг унд Пюллюц) (Graf Leopold Anton Johann Sigismund Josef Korsinus Ferdinand Berchtold von und zu Ungarschitz, Frättling, und Püllütz) (18 апреля 1863-21 ноября 1942) – австровенгерский политик, министр иностранных дел Австро-Венгрии с 17 февраля 1912 по 13 января 1915 года.
(обратно)110
Оскар Потиорек (Oskar Potiorek) (20 ноября 1853 – 17 декабря 1933) – уроженец Каринтии, губернатор Боснии и Герцеговины, полковник.
(обратно)111
Мухамед Мехмедбашич (Muhamed Mehmedbasic) (1886 – 29 мая 1943) – боснийский революционер, член общества «Млада Босна», один из участников заговора в Сараево.
(обратно)112
Миленко Веснич (Vesnic Milenko) (13 февраля 1862 – 15 мая 1921) – сербский дипломат и политический деятель, один из лидеров партии радикалов, чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Париже.
(обратно)113
Мирослав Спалайкович (Мирослав Спалајковић) (18 апреля 1869 – 4 февраля 1951) – сербский дипломат, политик. В 1913–1919 годах – посланник Сербии в России.
(обратно)114
Иован Иованович – (1869 —?) – сербский дипломат и государственный деятель. С 1912 посланник в Вене. С начала первой мировой войны – заместитель министра иностранных дел. С 1916 – посланник в Лондоне.
(обратно)115
Славко Груич (Slavko Grujic) – генеральный секретарь министерства иностранных дел Сербии в 1914 году, ближайший соратник Н. Пашича.
(обратно)116
Франц Конрад фон Хётцендорф (Гётцендорф) (Franz Conrad von Hötzendorf) (11 ноября 1852 – 25 августа 1925) – австро-венгерский генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба австро-венгерских войск во время Первой мировой войны.
(обратно)117
Александр фон Ойос ((Ludwig) Alexander (Georg) Graf von Hoyos, Freiherr zu Stichsenstein) (13 мая 1876 – 20 октября 1937) – австро-венгерский дипломат, начальник канцелярии министра иностранных дел.
(обратно)118
Артур Циммерман (Arthur Zimmermann) (5 октября 1864 – 6 июня 1940) – немецкий дипломат и политический деятель, министр иностранных дел Германии в 1916–1917 годах.
(обратно)119
Сегени-Марич Ласло (Szogyeny-Marich Laszlo) (12 ноября 1841 – 11 июня 1916) – австро-венгерский политический деятель и дипломат. В 1892–1914 гг. – посол Австро-Венгрии в Германии.
(обратно)120
Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des Oesterreich-Ungarischen Ministeriums des Aeussern. – Wien-Leipzig: Ausg. Von L. Bittner u.a. Bd. VIII, N 9984. S. 250–252.
(обратно)121
Теобальд фон Бетман-Гольвег (Theobald von Bethmann Hollweg) (29 ноября 1856-2 января 1921) – германский политический деятель, рейхсканцлер Германской империи, министр-президент Пруссии в 1909–1917 годах.
(обратно)122
Готлиб фон Ягов (Gottlieb von Jagow) (22 июня 1863 – 1 января 1935) – немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии с января 1913 по 1916 год.
(обратно)123
Эдвард Грей (Грей оф Фаллодон) (Edward Grey of Fallodon) (25 апреля 1862 – 7 сентября 1933) – виконт, английский государственный деятель, в 1905–1916 министр иностранных дел.
(обратно)124
Александр Константинович Бенкендорф (1 августа 1849 – 29 декабря 1916) – барон, русский дипломат, гофмейстер. В 1902–1916 годах – чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании. Скончался в Лондоне.
(обратно)125
Deutschland im ersten Weltkrieg. Bd. 1. S. 255.
(обратно)126
«История дипломатии» в 3 тт., т.2. – М.: 1963. С. 789.
(обратно)127
Сазонов Сергей Дмитриевич (29 июля 1860 – 24 декабря 1927) – министр иностранных дел России в 1910–1916 годах.
(обратно)128
Оттокар Чернин фон унд цу Худениц (Ottokar Theobald Otto Maria Graf Czernin von und zu Chudenitz) (26 сентября 1872-4 апреля 1932) – австровенгерский дипломат, государственный деятель, австрийский посол в России.
(обратно)129
Тиса Иштван (Штефан) (Tissa Stefan, нем., Tisza Istvân, венг.) (22 апреля 1861 – 31 октября 1918) – граф, политический деятель Венгрии, премьер-министр. Стремился противодействовать росту русского влияния на Балканах и созданию союза балканских государств. Один из главных виновников II Балканской войны и Первой мировой войны. Активизировал австро-венгерские позиции на Балканах.
(обратно)130
«Народна Одбрана» («Народная защита», сербс.) – это общество также имело неформальное название «Черная рука».
(обратно)131
Войя (Воислав) Танкосич (16 октября 1881 – 2 ноября 1915) – майор сербской армии, соратник Драгутина Димитриевича (Аписа), вместе с которым участвовал в убийстве короля Александра Обреновича в 1903 году. Позднее участвовал в сараевском убийстве и организовал партизанскую школу для диверсантов. В годы Первой мировой войны командовал батальоном и был смертельно ранен 31 октября 1915 года.
(обратно)132
Ерусалимский А.С. Германский империализм: история и современность. – М: 1964. С. 169
(обратно)133
Владимир Александрович Сухомлинов (4 августа 1848 – 2 февраля 1926) – генерал от кавалерии, военный министр, генерал-адъютант. С 1908 – начальник Генштаба, с 1909 – военный министр.
(обратно)134
Сухомлинов В. Воспоминания. М.: Государственное изд-во, 1926. С. 233.
(обратно)135
Владимир Гизль фон Гизлинген (Vladimir Giesl von Gieslingen) (18 февраля 1860 – 20 апреля 1936) – австрийский дипломат, занимал пост посла в Турции, Греции, Черногории, Сербии.
(обратно)136
Deutschland im ersten Weltkrieg. – Berlin, 1969–1969. Bd. 1. S. 232.
(обратно)137
Интересно, что аналогичный случай в истории произошел в 1978 году после похищения в Италии Альдо Моро: когда в правительство от населения поступили данные, что Моро содержится на улице Градоли, министр внутренних дел Франческо Кссига заявил, что такой улицы в Риме нет. Обычно подобные нелепости свидетельствуют о том, что следствие является профанацией. – Прим. М.С.
(обратно)138
Фридрих фон Пурталес (Friedrich von Pourtalès) (24 октября 1853 – 3 мая 1928) – граф, германский дипломат. Посол в России с 1907 по 1914 год.
(обратно)139
McCormick R.R. With the Russian Army. Being the Experience of a National Guardsman. N.Y., The Macmillan Company, 1915.
(обратно)140
Цит. по Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. М. Алгоритм. 2002. С. 80.
(обратно)141
Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г. Воспоминания офицера генерального штаба армии генерала Самсонова. Буэнос-Айрес. 1964. С. 49.
(обратно)142
Там же. С. 49–50.
(обратно)143
Там же. С 50–51.
(обратно)144
Керсновский А.А. История Русской армии. Т.З. 1881–1915 г. М. «Голос». 1994. С.190.
(обратно)145
Храмов Ф. Восточно-Прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический очерк. М. 1940. С. 38.
(обратно)146
Бунинский Ю.Ф. Танненбергская катастрофа. София. 1939. С. 19.
(обратно)147
Евсеев Н. Августовское сражение в Восточной Пруссии в 1914 г. М. 1936. С. 158.
(обратно)148
Цит по Богданович П.Н. Указ. соч. С. 163.
(обратно)149
Желондковский В.Е. Воспоминания полковника Желондковского об участии в действиях XV корпуса во время операции армии ген. Самсонова. // Военный Сборник общества ревнителей военных знаний. Белград. 1926. кн.7. С 294.
(обратно)150
Цит. по Богданович П.Н. Указ соч. С. 165.
(обратно)151
Там же. С. 167.
(обратно)152
Там же. С. 191.
(обратно)153
Цит. по Богданович П.Н. Указ соч. С. 176.
(обратно)154
Там же. С. 178.
(обратно)155
Цит. по Шамбаров В.Е. За веру, царя и Отечество! М. Алгоритм. 2003. С. 177.
(обратно)156
Цит. по Яковлев Н.Н. Указ. соч. С. 84.
(обратно)157
Богданович П.Н. Указ соч. С. 213–214.
(обратно)158
Цит по Яковлев Н.Н. Указ. соч. С. 84.
(обратно)159
Там же. С. 84.
(обратно)160
Богданович П.Н. Указ соч. С. 231.
(обратно)161
Керсновский А.А. Указ соч. С. 194.
(обратно)162
Цит по Яковлев Н.Н. Указ соч. С. 85.
(обратно)163
Керсновский А.А. Указ. соч. С. 194.
(обратно)164
Вацетис И.И. Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и начале сентября 1914 г. Стратегический очерк. Действия 1-й и 2-й русских армий и 8-й германской армии. М. 1923. С. 213.
(обратно)165
Богданович П.Н. Указ соч. С. 254.
(обратно)166
Восточно-Прусская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914–1917). М. 1939. С. 320.
(обратно)167
Богданович П.Н. Указ соч. С. 254.
(обратно)168
Керсновский А.А. Указ соч. С. 195.
(обратно)169
Цит по Яковлев Н.Н. Указ соч. С. 87–88.
(обратно)170
Там же. С. 12.
(обратно)171
Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – Київ, 2013. – 784 с.
(обратно)172
Патер І.Г. Союз визволення України. – Львів, 2002. – С. 73–112.
(обратно)173
Москвофільство: Документи і матеріали. – Львів: Львів, нац. ун-т ім. І.Франка, 2001. – 236 с.
(обратно)174
Holquist Р. То Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. Ed. by R. G. Suny, T. Martin. Oxford, 2001. P. 115.
(обратно)175
Алексей Васильевич Орешников. Дневник. 1915–1933. Кн.1. 1915–1924. Кн.2. 1925–1933. Отв. ред. П.Г. Гайдуков. Составители и авторы комментариев П.Г. Гайдуков, Н.Л. Зубова, М.В. Катагощина, Н.Б. Стрижова, А.Г. Юшко. М., Наука. 2010, 2011. Психологическое напряжение, сопровождавшее набор текста, не могло не сказаться на здоровье Н.Л. Зубовой. Плодов своей работы она уже не увидела, но благодарность читателей стяжала.
(обратно)176
А.А. Формозов. Иван Егорович Забелин. М., 1984.
(обратно)177
Российские войска сражались на территории Царства Польского, этот анклав Российской империи был сформирован после Венского конгресса 1815 г. Александром I на землях Речи Посполитой, которая до того в свою очередь занимала просторы собственно Польши, будущей Беларуси и Украины. За пределами нового «Царства» остались Краков и Познань, ставшие столицами республики (1815–1846) и Великого княжества, уцелевшего до 1919 г.), Пестрота населения, частая смена государственного подчинения препятствуют изолированному рассмотрению судеб современной Польши, Белоруссии и Украины.
(обратно)178
Все даты, как, естественно, и в дневнике, даются по старому стилю.
(обратно)179
Османская империя вступила в войну на стороне центральных держав в начале ноября 1914 г., однако еще в конце октября турецкий и немецкий крейсеры «Гебен» и «Бреслау» обстреляли Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск. Вскоре турки перекрыли пролив Дарданеллы, изолировав Россию от стран Южной и Западной Европы., что препятствовало экспорту российского хлеба и импорту вооружения в Россию. Однако неспособность турок вести современные войны и жестокий геноцид армян, религиозно близких православию давала преимущество российским войскам.
(обратно)180
Неловкая стилистика этого восклицания передает душевное состояние писавшего, подобными огрехами вообще не отличавшегося.
(обратно)181
В этот день 120-ти тысячный осажденный австро-венгерский гарнизон города действительно капитулировал.
(обратно)182
После шведского потопа, когда войскам знаменитого польского полководца Стефана Чарнецкого удалось снять осаду города шведами во главе с генералом Дугласом (что оказалось поворотным пунктом шведско-польской войны), стала очевидной необходимость возведения новой крепости, что и было сделано в 1670 г. усилиями Анджея Максимилиана Фредро (герба Бонча) в 1670 г.
(обратно)183
Либава с 1795 г. находилась в составе Российской империи. Первое упоминание поселения на берегу Балтийского моря в устье р. Лива (Либа) на территории Ливонского ордена относится к 1253 г. Городские права Лива (Либа) получила от курляндского герцога Готтхарда Кеттлера в 1625 г. К концу XIX в. относится быстрый рост промышленности города, носившего название Либава. В настоящее время Лиепайя (Латвия).
(обратно)184
«Из действующей армии присланы в Музей взятые, вероятно, в Галиции, 9 гобеленов (века XVII), 11 портретов королей польских, деятелей того края, неважной работы, все в рост» – запись 11 августа.
(обратно)185
Афонасенко И.М., Бахтурин М.А. Порт-Артур на Висле. Крепость Новогеоргиевск в годы Первой мировой войны. М., 2009. Цит. по: Дроздов С.
(обратно)186
Дроздов С. Слава и позор императорской армии, (www/prosa.ru/2010/11/15/423)
(обратно)187
Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX в. Военно-экономический потенциал России. М., 1973.
(обратно)188
Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918 гг. Факты. Документы. М., 2003.
(обратно)189
Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. Под редакцией Г.Ф. Кривошеева. М., 2001.
(обратно)190
Утомление войной стало заметно и в Москве: 31 августа «Поток беженцев на Москву велик, у массы погибло все, их здесь кормят, дают кров; сегодня по городу кружечный сбор, едва ли много соберут, слишком часты сборы».
(обратно)191
Резкую реакцию 17 и 18 сентября вызвало требование всем не местным выехать из Калуги в связи с перенесением туда ставки Главнокомандующего. «Сильное недовольство, много бедствия из-за эвакуации из Калуги беженцев и т. д. Какое бесправие и произвол!»
(обратно)192
Впрочем, кратковременное. Генерал В.И. Соколов, «приехавший с австрийского фронта, жалуется, мало снарядов у них…. недостаток в ружьях» Если бы только это… Он же «критиковал способ ведения войны нашим штабом; говорил, что наступление «кулаком», как у германцев, целесообразнее, чем у нас фронтом, говорит, что наши летчики (на австрийском фронте) неважны, неприятельские смелее». Единственно, что он хвалил – «пищу нашу и одеяние; к зиме мы хорошо подготовились».
(обратно)193
За этим последовало взятие Чарторыйска на Волыни «с 9 орудиями и 700 пленными.» Вплоть до 22 октября ситуация не менялась: «на австро-германском фронте наши дела недурны».
(обратно)194
«Дзюк» – революционная кличка Юзефа Пилсудского.
(обратно)



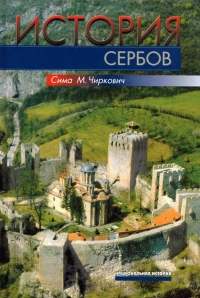
Комментарии к книге «Неизвестная война. Правда о Первой мировой. Часть 1», Галина Петровна Бельская
Всего 0 комментариев