Лев Остерман РИМСКАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ISBN 5-900241-46-7
© Л. Остерман. Москва, 1997
© «О.Г.И.», Москва, 1997
Редактор Р.Харламова
Художественное редактирование и дизайн Г.Лесскис
Технический редактор Л. Подберезин
Корректор Т. Крастошевская
Компьютерный набор Т.Донскова
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
ЛР № 061109 от 23.04.92. Сдано в набор 22.02.96. Подписано в печать 18.02.97. Формат 84x108/16. Гарнитура Гарамонд. Печать офсетная. Бумага мелованная Принтере Матт Арт. Объем 65,52 усл. печ. л. Тираж 7000 экз. Заказ № 4112.
Издательство «О. Г. И.», 121117 Москва, Кутузовский проезд, 10. Тел./факс: 290-29-17; e-mail: iz@glas.apc.org.
АООТ «Тверской полиграфический комбинат» 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.
=================================
Скан: Янко Слава (, , );
OCR&FB2: asd66
ТОМ I РЕСПУБЛИКА
Глава I Ромул (предыстория Республики) (753-509 гг. до Р.Х.)
Был ли мальчик?
Вопрос вполне серьезен и касается именно Ромула. Ну, конечно, и его незадачливого брата — Рема. Позвольте напомнить из раннего школьного детства:
На склонах невысоких Альбанских гор, километрах в двадцати пяти южнее будущего Рима, в VIII веке до рождества Христова располагался городок Альба-Лонга. Он был центром Лациума — небольшой прибрежной области средней Италии, примыкавшей с юга к нижнему течению полноводной в те времена реки Тибр. По площади область немногим превышала нынешнюю Москву. Населяло ее племя латинян, пришедших сюда, как полагают историки, из центральной Европы где-то в конце второго тысячелетия до Р.Х.
Так вот. Царствовал в Альба-Лонге некий Нумитор. В древности правитель каждого городка без лишней скромности именовал себя царем. Был у него младший брат, Амулий — порядочный злодей. Брат отнял у Нумитора царский престол, сына его извел, а дочь, Рею Сильвию, отдал в весталки и таким образом обрек на безбрачие. То ли согрешила новоявленная весталка, то ли и впрямь, как утверждает легенда, был к этому самым непосредственным образом причастен бог Марс, но только родила она пару отменно крепких мальчишек-близнецов, Ромула и Рема. Разгневанный Амулий повелел утопить их в Тибре, как раз бушевавшем обильным паводком. Слуга царский, как полагается, не решился взять грех на душу — посадил близнецов в корыто и пустил на волю судьбы. Паводок сошел, корыто благополучно причалило к берегу на склоне прибрежного холма, именовавшегося Палатин. Пробегавшая мимо волчица пожалела орущих от голода человеческих детенышей и подставила им полные молока сосцы. Тут же оказался и царский свинопас. Он забрал близнецов к себе, вырастил среди пастухов, а когда они возмужали, открыл тайну их рождения. Братья во главе шайки сорвиголов — своих сверстников — пробрались в город, убили Амулия и вернули знаки царского достоинства своему деду.
До сих пор история довольно банальна, но далее она сходит с накатанной многими мифами колеи. Казалось бы, отчего не наслаждаться положением наследных принцев, ожидая, пока старик Нумитор не отправится к праотцам? Но нет! Ромул и Рем решают основать свой, новый город и выбирают для него место на берегу Тибра, на том самом Палатинском холме, куда их — разумеется, по воле божества — некогда доставила река. Кому из братьев быть в городе царем? Запрашивают богов. Ответ ожидается в виде знамения. Каждый очерчивает посохом в небе священный квадрат для наблюдения и ждет. Вот к Рему с правой стороны — счастливый знак! — летят шесть коршунов. Ему царствовать? Но тут в квадрат Ромула, тоже справа, влетают двенадцать коршунов. Видимо, его божественный покровитель выше рангом. А это важно!
Ромул запрягает в плуг быка и корову, ведет глубокую борозду вокруг Палатинского холма. Вдоль нее будет проходить городская стена. Прорезанная под аккомпанемент соответствующих молитв и заклинаний, эта борозда не простая. Она открывает дорогу духам преисподней. Всякий, кто в попытке подняться на стену пересечет священную борозду, обречен на гибель. Там, где будут городские ворота, Ромул приподнимает плуг. Обиженный Рем смеется над суеверием брата и перепрыгивает через борозду. Деваться некуда — во исполнение заклятия Ромулу приходится его убить. Эти события римская легенда (традиция) относит к 753-му году до Р.Х. Подробное изложение легенды об основании Рима дошло до нас в сочинении римского историка I века до Р.Х. Тита Ливия. Любопытно будет процитировать из его многотомного труда описание первых деяний молодого царя:
«Воздав должное богам, Ромул созвал толпу на собрание и дал ей законы — ничем, кроме законов, он не мог сплотить ее в единый народ. Понимая, что для неотесанного люда законы его будут святы лишь тогда, когда сам он внешними знаками власти внушит почтение к себе, Ромул стал и во всем прочем держаться более важно и, главное, завел двенадцать ликторов». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, I, 8)
Ликторы — царские телохранители. У каждого на плече «фаски» — перевязанный ремнями пучок розог, из которого торчит лезвие секиры. Это символ права на принуждение и права казнить ослушников. Ликторы выступают впереди царя, расчищая ему дорогу. И ликторы, и фаски заимствованы у этрусков, чьи владения начинаются рядом — на правом, северном берегу Тибра. Несколько позже у них будут скопированы и прочие атрибуты царской власти: пурпурный плащ, золотая диадема, скипетр с орлом, кресло из слоновой кости (курульное кресло). Кстати, обычай начинать закладку города с проведения священной борозды тоже заимствован у этрусков. Заметим это до поры, а пока продолжим цитату из Тита Ливия:
«Город между тем рос, занимая укреплениями все новые места, так как укрепляли город в расчете скорей на будущее многолюдство, чем сообразно тогдашнему числу жителей. А потом, чтобы огромный город не пустовал, Ромул... открыл убежище в том месте, что теперь отгорожено, — по левую руку от спуска меж двумя рощами (речь идет о спуске с Капитолийского холма. — Л.О.). Туда от соседних народов сбежались все жаждущие перемен — свободные и рабы без разбора, — и тем была заложена первая основа великой мощи». (Там же)
Это весьма примечательное сообщение о происхождении первых поселенцев Рима тоже следует взять на заметку. Кстати, такого рода храмы — убежища для беглых рабов, под покровительством особого божества — существовали и в Греции. Свое мнение о «достоинствах» первых римлян Тит Ливий невольно выражает в продолжении цитированного отрывка:
«Когда о силах тревожиться было уже нечего, Ромул сообщает силе мудрость и утверждает сенат, избрав сто старейшин, — потому ли, что в большем числе не было нужды, потому ли, что всего-то набралось сто человек, которых можно было избрать в отцы. Отцами их прозвали, разумеется, по оказанной им чести — потомство их получило имя патрициев». (Там же)
Однако надо было позаботиться о том, чтобы это потомство появилось. Население города состояло из одних мужчин, в основном молодых. Ромул рассылает в соседние городки посольства с предложением породниться, но тщетно — темное происхождение и буйный нрав первых римлян не внушают доверия окрестным поселянам. Многие с насмешкой спрашивают, отчего бы римлянам не открыть убежище для беглых рабынь — вот бы и были супруги как раз под пару. Оскорбленные римляне задумывают и успешно осуществляют знаменитое похищение сабинянок.
Готовятся знатные игры в честь Нептуна. Разосланы приглашения. Соседям любопытно посмотреть новый город. Ближайшие из них, многочисленное племя сабинян, являются с женами и детьми. Римляне встречают радушно, приглашают в дома. Но вот начинаются состязания. Гости сгрудились на склоне холма за городской стеной. Все внимание приковано к атлетам. Условный сигнал... Римские юноши бросаются к девицам, хватают без разбора, несут в город. Смятение родителей... они безоружны... Проклиная римлян, поправших законы гостеприимства, сабиняне удаляются, грозя жестокой местью.
Между тем похитители не хотят насильно воспользоваться своей добычей — в семье они ищут согласия. Для понимания психологии римлян это момент немаловажный. Поэтому послушаем еще Тита Ливия:
«И у похищенных не слабее было отчаяние, не меньше негодование. Но сам Ромул обращался к каждой в отдельности и объяснял, что всему виной высокомерие их отцов, которые отказали соседям в брачных связях; что они будут жить в законном браке, общим с мужьями будет имущество, гражданство и — что всего дороже роду людскому — дети; пусть лишь смягчат свой гнев и тем, кому жребий отдал их тела, отдадут души. Со временем из обиды часто родится привязанность, а мужья у них будут тем лучше, что каждый будет стараться не только исполнить свои обязанности, но и успокоить тоску жены по родителям и отечеству. Присоединились к таким речам и вкрадчивые уговоры мужчин, извинявших свой поступок любовью и страстью, а на женскую природу это действует всего сильнее». (Там же. 1, 9)
Надо полагать, что мужья действительно старались, да и женская природа испокон века уж такова... Короче, когда эдак через год (уже появились дети) сабиняне во главе с царем Титом Тацием приступили войском к Риму, и у стен его завязалось сражение, из ворот города вдруг высыпала толпа женщин. Они «...распустив волосы и разорвав одежды, позабывши в беде женский страх, отважно бросились прямо под копья и стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя, унять гнев враждующих, обращаясь с мольбой то к отцам, то к мужьям». (Там же. 1, 13)
Мужчины были тронуты. Начались переговоры. Поладили так, что даже решили объединиться в одно государство. Столицей был объявлен Рим, где Ромул и Таций будут царствовать совместно. Зато все граждане объединенного народа согласились именовать себя квиритами — по названию сабинского города, родины Тация. К ста римским сенаторам добавилось сто сабинских. Удвоилось и войско.
Оба царя сосуществовали мирно, но недолго. При неясных обстоятельствах, во время визита в соседний город Таций был убит. Ромул не выказал никаких намерений к отмщению и до конца дней своих царствовал над объединенным римским народом единолично.
Воевали с соседями. Во-первых, потому, что склонны были пограбить, а во-вторых, потому, что те, наблюдая рост опасного соседа, пытались его обуздать. Римляне были молоды и отважны, военное счастье им улыбалось. Соседей побили, часть земель у них отобрали — возможно, вместе с земледельцами, которые влились в римскую общину, охотно принимавшую чужих. Город усилился и разросся. Ромула народ боготворил!.. Наступил самый подходящий момент для царя превратиться в подлинного бога — надо лишь чудесным образом покинуть землю. Так оно и случилось. Тит Ливий ярко живописует этот момент:
«По свершении бессмертных этих трудов, когда Ромул, созвав сходку на поле у Козьего болота, производил смотр войску, внезапно с громом и грохотом поднялась буря, которая окутала царя густым облаком, скрыв его от глаз сходки, и с той поры не было Ромула на земле. Когда же непроглядная мгла вновь сменилась мирным сиянием дня и общий ужас наконец улегся, все римляне увидели царское кресло пустым. Хотя они и поверили отцам, ближайшим очевидцам, что царь был унесен вихрем, все же, будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание.
Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу — богу, богом рожденному царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы благой и милостливый, всегда хранил он свое потомство». (Там же. 1, 16)
В качестве бога Ромул получил имя Квирин. Культ его сохранялся в Риме в течение всей многовековой истории Города.
Нельзя не заметить, что в приведенном описании Тита Ливия проскальзывает тень сомнения — народ не видел вознесения царя, пришлось поверить «отцам». Более того, чуть ниже добросовестный историк, хотя и с осуждением, упоминает совсем другую версию смерти Ромула:
«Но и в ту пору, я уверен, — пишет он, — кое-кто втихомолку говорил, что царь был растерзан руками отцов — распространилась ведь и такая, хоть очень глухая молва». (Там же)
Столетие спустя в биографии Ромула о том же повествует и Плутарх. Он даже приводит довольно жуткие подробности: сенаторы-де убили Ромула в храме, тело его разрубили на куски и вынесли под одеждой, объявив народу о чудесном исчезновении царя. Объясняет он это тем, что последние годы жизни Ромул правил тиранически и вовсе не считался со своими «советниками», чем они, надо полагать, были весьма уязвлены.
Легендарная история основания Рима знакома практически всем. Менее широко известна его предыстория, хотя она в начале I века от Р.Х. была подробно описана Вергилием в «Энеиде». Так вот. Нумитор и Амулий, согласно Вергилию, замыкали цепь из доброй дюжины альбанских царей, родоначальником которых был Юл, сын Энея. Юла стоит назвать потому что род Юлиев (а, значит, и Юлий Цезарь, и Август) будет вести от него свою родословную. Эней же был сыном самой богини Венеры, подарившей своей благосклонностью троянца Анхиза. После падения Трои Эней с домочадцами, престарелым отцом и отрядом уцелевших троянских воинов бежал на кораблях. Воля богов долго мотала троянцев по всем морям. Забросила, в частности, и в Карфаген, где царствовала прекрасная Дидона. Случился у Энея с ней трогательный и трагически окончившийся роман, которому Вергилий посвятил самые прекрасные песни своей поэмы, а английский композитор XVII века Генри Перселл — оперу.
Было еще много приключений, в том числе и сошествие Энея в загробный мир для свидания с духом умершего в пути отца... В конце концов троянцы высадились в Италии, близ устья Тибра. Эней женился на дочери местного царя, Лавинии, и выстроил город, названный ее именем. А его сын, Юл, отойдя немного вглубь от берега моря, основал город Альба-Лонгу.
Легендарная предыстория Рима унесла нас к Троянской войне, в XII век до Р.Х. Насколько этому можно верить? Обратимся к первоисточникам. С документальными дело обстоит довольно скверно, ведь письменность принесли в Рим те же этруски где-то в конце VII века до Р.Х. Первые хронологические записи римские жрецы начали вести лишь в III веке, в конце того же века жил первый римский историк (анналист) Фабий Пиктор. Столетие спустя по годичным записям жрецов была составлена «Великая летопись». Ни она, ни труды Пиктора не сохранились, но, вероятно, были известны Цицерону и Титу Ливию. Цицерон в свой трактат «О государстве» включил довольно подробное описание основания Рима Ромулом. Тит Ливий посвятил раннему «царскому» периоду первую книгу своей обширной «Римской истории». Цицерон писал в середине, а Ливий — в конце I века до Р.Х.
Таким образом, мы вправе считать, что, хотя и опосредованно, но письменные источники III века до нас дошли. А вот разрыв в пятьсот лет между VIII и III веками заполнить нечем, кроме предполагаемых устных преданий. Но может быть, в распоряжении Тита Ливия были какие-то письменные источники, хотя бы V и IV веков, нам неизвестные? Похоже, что нет. Он сам в конце восьмой книги своей истории, где описаны события конца IV века до Р.Х., делает следующее замечание: «И нет к тому же ни одного писателя, современника тех событий, на свидетельства которого мы могли бы положиться со спокойной душой». Так не слишком ли велик этот разрыв, чтобы надеяться на достоверность преданий? Однако вспомним, что Гомер создавал «Илиаду» в VII веке до Р.Х., то есть тоже через пять столетий после Троянской войны, записана она была еще двумя столетиями позже, и, тем не менее, Шлиман в XIX веке нашей эры по описанию Гомера нашел останки древней Трои. Похоже, что сказители той поры заучивали свои рассказы слово в слово.
Но Троя Троей, а в отношении основания Рима сомнения в достоверности описаний Цицерона и Тита Ливия оставались. Что, если римские рассказчики были не столь добросовестны, как их греческие коллеги? И за дело взялись археологи. Результаты исследований и сделанные уже в наши дни выводы археологов можно назвать обескураживающими.
Не то что в середине VIII века, но и вплоть до VI века до Р.Х. никакого города на Палатинском холме не было. На нем и на близлежащих шести холмах (Авентин и Целий — к югу от Палатина, Капитолий — к северу Эсквилин — к востоку, Виминал и Квиринал — чуть подальше, к северо-востоку. Между холмами — заболоченные долинки.) расположено было с полдюжины деревень. Хижины округлой формы из ветвей, обмазанных глиной, соломенная крыша с опорой на центральный столб. Вот и все. Похоже, что в конце VII века эти деревни объединились в некий союз (семихолмие) — появилось общее кладбище. Был ли у них вождь, которого звали Ромул, или мальчика вовсе не было? К истории Рима это имеет отношение довольно слабое.
Первые признаки возникновения города археологи датируют лишь началом VI века до Р.Х. В восточной части будущего форума появилась грубая мостовая. Обозначились две дороги. На их скрещении стоял древнейший храм богини — хранительницы очага Весты, тоже круглый. К востоку от форума, еще позже, появилось множество хижин и первые дома с каменной кладкой. Рядом с храмом Весты — каменное здание прямоугольной формы. Полагают, что это была «Регия» — жилище первых царей.
Короче говоря, остатки настоящего города, с каменными постройками, мощеным форумом, городской стеной и святилищем богов на Капитолийском холме археологи согласны датировать лишь концом VI века до Р.Х., а начало его строительства — серединой того же века. Расхождение с «традицией» в двести лет! Но мало того. Насчет основателей города безжалостные ученые тоже готовы усомниться. Латинский ли это город?
К началу VI века относятся явные свидетельства (захоронения, утварь) пребывания в районе семихолмия этрусков. Легендарная история Рима тоже утверждает, что три последних римских царя, чье царствование приходится как раз на VI век, были этрусками. Сделаем небольшое отступление и скажем несколько слов об этом загадочном народе.
Ученые полагают, что этруски мигрировали на север Италии в XI—X веке до Р.Х. из Малой Азии. Они не вытеснили местное население, «италиотов», а слились с ним. Плодородие Тосканской долины, обилие лесов и полезных ископаемых способствовали процветанию Этрурии. Пришельцы принесли в Италию более высокую культуру земледелия, ремесел и каменного строительства. А также своеобразное искусство и довольно мрачную религию, в которой связь загробного мира с миром живых играла ключевую роль. Наконец — царскую власть с ее пышными атрибутами, которые, как уже упоминалось, римляне у них заимствовали. Равно как и многие религиозные обряды, а также веру в гадания по полету птиц и внешнему виду внутренностей жертвенных животных.
В VI веке этрусское присутствие, а быть может, и владычество, распространилось на юг вдоль всего западного побережья Италии. В самой Этрурии в ту пору существовала лига двенадцати городов, в которой был и город Тарквиний, откуда происходили последние римские цари. Однако в начале V века этруски были вытеснены с юга Италии греками-переселенцами и сицилийцами. Им пришлось снова уйти за Тибр.
Ввиду всех этих данных большинство современных ученых считает, что город Рим был заложен этрусками как предмостное укрепление перед переправой через Тибр, в первой половине VI века до Р.Х. Действительно, лучшего места, чем группа невысоких, но скалистых холмов, тесно сгрудившихся у самого берега реки, для такого укрепления трудно и отыскать. Прежде всего, по мнению ученых, на ближайшем к переправе Капитолийском холме была сооружена крепость. Низина у подножья холма — будущий форум — служила рыночной площадью. Сюда из расположенных на окрестных холмах латинских и сабинских деревень селяне несли свои продукты для обмена. Этруски их, надо полагать, себе подчинили, что и отражено, как мы увидим дальше, в именах последних римских царей, быть может, просто этрусских комендантов крепости. Так начал создаваться город, и название его, возможно, происходит от слова Rumon — город на реке.
Ученые считают, что этруски ушли из Рима лишь в начале V века до Р.Х. Не исключено, что этрусский гарнизон оставался в крепости еще некоторое время, и это потом трансформировалось в легенду о городе, основанном одними мужчинами. Впрочем, как это совсем недавно отметил французский исследователь Понсэ (J. Роncet. J. Les origines de Rome: tradition et histoire. Paris, 1985), многие ученые еще и сейчас склонны доверять легендарной истории основания Рима в пересказе Тита Ливия и ожидают, что ее археологические подтверждения еще будут найдены.
Не стоит и нам пренебрегать римской традицией. И вот по какой причине. В дальнейшем я буду подробно анализировать достоверные, подтвержденные документально периоды Римской истории, начиная хотя бы с Пунических войн. Мы убедимся, что одним из важнейших факторов формирования общественного сознания римлян, а, следовательно, и мотивации их поступков, было представление об обстоятельствах, связанных с основанием Рима, и о его ранней истории. К III веку до Р.Х. легенда уже «отстоялась» и сомнений не вызывала. Если она и была вымыслом, то можно сказать, что для римлян той поры и всех последующих веков легенда была большей реальностью, чем подлинная история их Города. Возможно, что легенда не вызывала сомнения уже в V веке до Р.Х., когда была изваяна (явно этрусским мастером) знаменитая волчица, доныне занимающая отдельную залу в музее на Капитолийском холме в Риме. Под набухшими сосцами волчицы — фигурки двух мальчиков. Правда, созданы они были в эпоху Возрождения, и неизвестно, существовали ли изначально, впрочем, на римских монетах III века до Р.Х. изображение волчицы с младенцами уже появляется. Во всяком случае, благоговейное отношение римлян к своему прошлому было столь существенным обстоятельством всей их истории, что мы обязаны отнестись к римской традиции с подобающим уважением. Прежде чем вернуться к продолжению легенды, отметим некоторые любопытные особенности того, что было уже пересказано выше.
Сначала о дате основания города. 753-й год до Р.Х. или двумя столетиями позже? Пожалуй, это не очень существенно. Тот «классический» период Римской истории, который нас будет особенно интересовать, удален от этой даты по меньшей мере на три столетия. Существенно другое. И легенда, и современная научная гипотеза сходятся в том, что город возник как военное поселение. Будь то воинственные пастухи и молодые альбанцы, пошедшие за Ромулом, или воины этрусского гарнизона, они воздвигали и обносили стеной свой город не для того, чтобы мирно заниматься примитивным земледелием и скотоводством, а для того, чтобы безнаказанно совершать набеги на соседей, угонять их скот, короче — промышлять грабежом. Ориентация на «внешнюю экспансию» должна была наложить своеобразный отпечаток на характер взаимоотношений и всю систему нравственных ценностей сообщества первых римлян. Их было мало, и, чтобы противостоять соседям, пришлось выработать жесткие нормы поведения. Такие нормы существуют в любом автономном формировании. Это, во-первых, строгая дисциплина, безусловное подчинение главарю, уважение старших — более опытных. Во-вторых, непреложность ими же самими установленных законов, регламентирующих иерархию подчинения, права и обязанности всех членов сообщества, отношения собственности, гарантию сохранности и наследования добытого в военных походах имущества.
Высоко ценился у первых римлян весь комплекс соответствующих личных качеств: храбрость, суровая стойкость в бою и походе, взаимная выручка, а главное — преданность сообществу. Здесь она трансформировалась в преданность городу Риму. У тех, кто с честью прошел испытания битвой, возникало и укреплялось своеобразное чувство собственного достоинства. Подчиняясь дисциплине и царю, первые римляне не склонны были к слепой покорности, дорожили своими правами, которые защищал закон. В частности, правом участвовать в обсуждении военных планов и проблем Города, правом выбирать царя и, если надо, советовать ему. Последнюю функцию, естественно, брало на себя собрание наиболее опытных воинов, названное сенатом. Суверенные же права римского народа в целом защищало общее собрание граждан-воинов.
Еще вглядимся. И в легенде, и в научной концепции первоначальное становление города связывается с объединением его воинственных основателей и мирных соседей-селян. В легенде это сабиняне, у ученых — латиняне семихолмия. Некоторые из них, надо полагать, вливались в состав разбойного отряда, другие продолжали свои обычные занятия на земле.
Особый интерес представляет собой утверждение легенды о пополнении населения города за счет беглых. Поздних римских историков оно, видимо, смущало. Цицерон об этом не упоминает вовсе, а писавший чуть позже Дионисий Галикарнасский старается приукрасить ситуацию, утверждая, что беглецы были людьми свободными, жертвами гонения тиранов. Однако Плутарх столетие спустя не только поддерживает версию Тита Ливия, но и еще усиливает нелестную характеристику первого пополнения римских граждан. Он пишет:
«...едва только поднялись первые здания нового города, граждане немедленно учредили священное убежище для беглецов и нарекли его именем бога Асила; в этом убежище они укрывали всех подряд, не выдавая ни раба его господину, ни должника заимодавцу, ни убийцу властям...». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ромул, IX)
Но все-таки. Если беглецы и не были гонимыми поборниками свободы, они, конечно же, были людьми сильными, смелыми и даже отчаянными. Без этих качеств не уйти бы им от погони по редким дорогам, безоружными через густые в те времена леса, обильные диким зверем. Те из беглецов, кто умел владеть мечом и копьем, пополняли военный отряд, а те, для кого был более привычен и привлекателен труд земледельца, получали надел из пустовавшей в окрестностях города или отнятой у побежденных врагов земли.
Таким образом, и через слияние с соседями-поселенцами, и за счет беглых шло пополнение двух категорий граждан раннего Рима: воинственных и мобильных, всегда готовых препоясаться мечом и выступить в поход, и более мирных — пастухов и землепашцев. Естественно, что верховодили граждане первой категории — из их среды избирали жрецов, судей, не говоря уже о сенаторах и самом царе. Кстати, и история с похищением девушек кажется правдоподобной для города, основанного воинственными молодыми мужчинами. Она вписывается как в ткань легенды, так и в гипотезу о предмостном укреплении этрусков. Но это означает, что первые поколения потомков основателей города были представлены почти однолетками. Надо полагать, что они держались друг друга, сохраняли приверженность «военной профессии» и ревниво оберегали от посягательства остальных римлян свое привилегированное положение. Себя они называли «патрициями», что означало «дети отцов», имея в виду «отцов» — основателей Города.
Прочие же, главным образом пришлые или военным путем присоединенные жители Рима, хотя и находились под защитой римских законов, ни на какие привилегии претендовать не могли. Они полупрезрительно именовались «плебеями», что означает «многие». Поначалу плебеи были лишены почти всех прав: даже права голоса в Народном собрании, даже права на семейный религиозный культ, да и сами семьи их законными не признавались. Браки между гражданами двух сословий были запрещены.
Но римляне последующих, даже отдаленных поколений знали, что среди глубоко почитаемых предков — основателей Города (патрициев и плебеев) были и беглые рабы, и чужеземцы. Поэтому во все времена римляне не питали презрения к рабам. Слово «раб» означало лишь социальное положение человека, а не его более низменную природу. Раба можно было заставить работать, но измываться над ним считалось недостойным. Нередко рабы становились фактически членами семьи и даже друзьями своих владельцев. Очень часто хозяин отпускал некоторых своих рабов на волю — по завещанию или еще при жизни, за умеренный выкуп. Вольноотпущенники пользовались ограниченными римскими правами. Нередко они бывали богаты и влиятельны. Их дети становились уже полноправными римскими гражданами.
Так же терпимо относились римляне к поселению в их городе выходцев из других стран, сравнительно легко предоставляли им римское гражданство, а позднее не возражали против распространения прав этого гражданства на жителей отдаленных городов, областей и даже на целые народы.
Наконец, еще один элемент легенды об основании Рима наложил отпечаток на психологию римлян последующих эпох. Я имею в виду эпизод со спасительным вмешательством жен-сабинянок в битву своих родичей с мужьями-похитителями. Хотя, как и повсюду в древнем мире, римская женщина в раннюю эпоху была совершенно бесправна, римляне с самого начала культивировали в домашнем быту глубокое уважение, даже почитание матери семейства — «матроны». В доме она, как правило, была полновластной хозяйкой. Кстати, домашних рабов, да и вообще рабов в раннем Риме было очень немного — главным образом проданные в рабство должники.
Цари — преемники Ромула
Легенда утверждает, что после смерти Ромула, процарствовавшего сорок лет, в течение последующих двух веков в Риме сменилось шесть царей. Первые три из них — сабиняне. Нума Помпилий — миролюбив и благочестив. При нем не было войн, он приохотил римлян к земледелию, а главное — основал и канонизировал римскую религию. Тулл Гостилий, напротив, воинственен. Он разрушил Альба-Лонгу, а ее население «депортировал» в Рим. Анк Марций воевал с прочими латинянами и, по примеру своего предшественника, побежденных переселял в Рим, на Авентинский холм. Он построил гавань Остию в устье Тибра и тюрьму на склоне Капитолийского холма. Туристы до сих пор почтительно осматривают ее глухое подземелье.
Следующие три царя были из этрусского города Тарквиния, о чем свидетельствуют их имена. Тарквиний Древний построил Форум и Большой цирк для конных состязаний, а воду из болот междухолмия отвел в Тибр с помощью сточной канавы. Он тоже повоевал с соседями. Сервий Туллий — сын одного из племенных царей, выросший в семье Тарквиния и женившийся на его дочери, согласно легенде, установил имущественный ценз, реформировал римское войско да и само общество. Ему приписывается также строительство новой стены, включившей в состав города все семь холмов. Остатки этой Сервиевой стены сохранились до наших дней. Тарквиний Гордый, зять Сервия, убил тестя, захватил царский трон, правил тиранически и был изгнан. Поводом для народного возмущения послужило насилие, совершенное сыном Тарквиния над женой одного из знатных римлян, Лукрецией. Обесчещенная женщина поведала о своем унижении мужу и заколола себя на его глазах. Тарквиний Гордый закончил дело осушки Форума и соседних с ним долин. Сточную канаву он убрал под землю и перекрыл сводом. С тех пор ее стали называть «Большая клоака». Он же начал и почти закончил строительство храма Юпитера на Капитолии, заложенного еще Тарквинием Древним.
Изгнание последнего царя легенда относит к 509-му году до Р.Х., с этого года начиная историю Римской республики. Уже упоминалось, что царствование этрусков в Риме современная наука считает вполне вероятным, хотя и предполагает, что их изгнание произошло позже, быть может, лишь в середине V века.
Изложение ранней истории Рима у Тита Ливия заполнено подробными описаниями многочисленных войн, которые вели римские цари. Нам они кажутся длинными и скучными, но воинственному народу римлян, видимо, были интересны. Вполне возможно, что многое в них — плод воображения историка или древних сказителей. Но уже было отмечено, что легенда об основании Города интересна нам, в частности, своим влиянием на мировоззрение римлян в последующие века. В свете этого интереса уместно процитировать из Тита Ливия описание одного знаменитого эпизода, относящегося ко времени войны римлян против жителей Альба-Лонги.
В этом эпизоде сошедшиеся для битвы войска римлян и альбанцев договорились, во избежание большого кровопролития решить судьбу сражения единоборством трех римлян, братьев-близнецов Горациев, и трех близнецов-альбанцев из рода Куриациев. Вот как описывает Тит Ливий их поединок
«Когда заключили договор, близнецы, как было условлено, берутся за оружие. С обеих сторон ободряют своих: на их оружие, на их руки смотрят сейчас отеческие боги, отечество и родители, все сограждане — и дома, и в войске. Бойцы, и от природы воинственные, и ободряемые криками, выступают на середину меж двумя ратями...
Подают знак, и шесть юношей с оружием наготове, по трое, как два строя, сходятся, вобрав в себя весь пыл двух больших ратей. И те и другие думают не об опасности, грозящей им самим, но о господстве или рабстве, ожидающем весь народ, о грядущей судьбе своего отечества, находящейся теперь в их собственных руках. Едва только в первой сшибке стукнули щиты, сверкнули блистающие мечи, глубокий трепет охватывает всех, и, покуда ничто не обнаруживает ни одну из сторон, голос и дыхание застывают в горле...
Когда бойцы сошлись грудь на грудь и уже можно было видеть не только движение тел и мелькание клинков и щитов, но и раны и кровь, трое альбанцев были ранены, а двое римлян пали. Их гибель исторгла крик радости у альбанского войска, а римские легионы оставила уже всякая надежда, но еще не тревога: они сокрушались об участи последнего, которого обступили трое Куриациев. Волею случая он был невредим, и если против всех вместе бессилен, то каждому порознь грозен. Чтобы разъединить противников, он обращается в бегство, рассчитав, что преследователи бежать будут так, как позволит каждому рана...» (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, I, 25)
Маневр удался: преследователи растянулись и, остановившись, Гораций убивает одного за другим всех троих. Согласно обычаю, он снимает с них доспехи и во главе торжествующего римского войска возвращается в город. Но тут случается еще одно неожиданное и трагическое происшествие:
«Первым шел Гораций, неся тройной доспех. Перед Капенскими воротами его встретила сестра-девица, которая была просватана за одного из Куриациев; узнав на плечах брата женихов плащ, вытканный ею самою, она распускает волосы и, плача, окликает жениха по имени. Свирепую душу юноши возмутили сестрины вопли, омрачившие его победу и великую радость всего народа. Выхватив меч, он заколол девушку, воскликнув при этом: «Отправляйся к жениху с твоею не в пору пришедшей любовью! Ты забыла о братьях — о мертвых и о живом — забыла об отечестве. Так да погибнет всякая римлянка, что станет оплакивать неприятеля!» (Там же. 1, 26) Жестоко, но что поделаешь — героическая эпоха.
Гораций схвачен и приведен на суд к царю. За убийство сестры ему грозит казнь. Суд будет вершиться перед собранием граждан. Закон разрешает осужденному просить помилования у народа. Но к народу обращается не он, а его отец:
«На суде, — повествует далее Ливий, — особенно сильно тронул собравшихся Публий Гораций — отец, объявивший, что дочь свою он считает убитой по праву: случись по-иному, он сам наказал бы сына отцовской властью. Потом он просил всех, чтобы его, который так - недавно был обилен потомством, не оставляли вовсе бездетным...» (Там же)
Обняв сына и указывая на доспехи Куриациев, старик обращается к ликтору царя, уже получившему распоряжения о казни:
«Ступай, ликтор, свяжи руки, которые совсем недавно, вооруженные, принесли римскому народу господство. Обмотай голову освободителя нашего города, подвесь его к зловещему дереву, секи его, хоть внутри городской черты — но непременно меж этими копьями и вражескими доспехами, хоть вне городской черты — но непременно меж могил Куриациев. Куда ни уведете вы этого юношу, повсюду почетные отличия будут защищать его от позора казни!» Народ, — продолжает Тит Ливий, — не вынес ни слез отца, ни равного перед любой опасностью спокойствия духа самого Горация — его оправдали скорее из восхищения доблестью, нежели по справедливости». (Там же)
Так из древней легенды (или истинного происшествия?) на многие века перешло в римское законодательство право «провокации» — обращения осужденного к собранию римского народа с просьбой о помиловании.
Теперь расстанемся на время с Титом Ливием и кратко рассмотрим те сведения о дореспубликанском Риме, которые можно считать более или менее достоверными.
Начнем с понятий рода и семьи. Через всю римскую историю будут проходить почтительные упоминания: «...такой-то из древнего рода Юлиев, или Клавдиев, или Семпрониев» и т.д. Роды, по-видимому, складывались еще в пору основания Города. Быть может, самые древние из них — это семьи тех римлян, кому достались похищенные сабинянки. Наверное, их было не менее сотни. Ведь легенда утверждает, что первый сенат Ромула насчитывал сто человек. Скорее всего, это был совет наиболее влиятельных членов мужской общины основателей Рима. Естественно предположить, что им и достались первые жены. Первые захваченные земли Ромул, вероятно, поделил между этими семьями.
Семьи разрастались, оставаясь под властью своих основателей. Власть была закреплена не только обычаем, но и исключительным правом этих патриархов совершать семейные религиозные обряды. Поначалу, наверно, они не были строго определены и со временем изменялись до тех пор, пока в каждой семье не были канонизированы традицией, передававшейся от отца к старшему сыну. Семья ветвилась, превращаясь в род, возглавляемый патриархом старшей ветви. Род сплачивала общность не только религиозная, но и имущественная — общая земля подвергалась время от времени переделам, но оставалась собственностью рода. Общеродовым было и кладбище.
Однако постепенно ветви рода удалялись друг от друга, между тем в результате войн с соседями общие земельные владения увеличивались. Появились достаточно сильные младшие ветви, добивавшиеся независимости. Роды стали распадаться снова на семьи; землю поделили между ними. Однако в интересах взаимопомощи новые семьи не забывали общности своего происхождения, сохраняли родовую религиозную традицию, хоронили своих мертвецов на родовом кладбище, а основателя рода почитали как общего предка. Семьи увеличивались и за счет приема в них пришельцев из других городов, приобщавшихся к семейному культу на правах «клиентов». Клиенты были связаны с главой семьи отношениями преданности и покровительства. Нередко клиенты получали в дар от своих «патронов» землю, а затем и права римского гражданина. Что, впрочем, не уменьшало их материальной и моральной зависимости от патронов, например, при защите их интересов в суде. Клиенты все же оставались гражданами второго сорта.
Те, кто мог доказать свое законное происхождение по мужской линии от основателя рода, продолжали именовать себя патрициями. Они сохраняли за собой исключительное право совершения как семейных, так и общественных религиозных обрядов. А потому только из их среды могли избираться как жрецы, так и цари, а позднее — магистраты и полководцы (словом «магистраты» я буду, вслед за римскими историками, обозначать всех должностных лиц выборной администрации Города). Занятие этих последних, хотя и чисто «светских» должностей было, тем не менее, связано во всей последующей истории Рима с правом испрашивать у богов знамения, одобряющие начало любого серьезного мероприятия (ауспиции). А следовательно, и претендовать на них могли только те, кому такое право принадлежало от рождения.
Прочие граждане по-прежнему именовались плебеями. Их действительно стало больше, чем патрициев, когда права римского гражданства, хотя и ограниченные, стали получать переселяемые в Рим жители побежденных городов.
В царский период и в первые годы Республики только патриции и клиенты составляли военную дружину, и это диктовало определенное превосходство их над плебеями. Те семьи древних родов, где не оказывалось сыновей или они погибали на войне, усыновляли детей из других патрицианских семей, дабы обеспечить поддержание семейных религиозных обрядов и тем самым сохранить принадлежность к патрицианскому роду.
Описанная эволюция находит свое подтверждение в системе римских имен: главная часть имени — родовое имя — производилась от имени основателя рода. То, что соответствует нашему понятию фамилии, получалось добавлением к родовому имени названия отделившейся семейной ветви. Нередко это название происходило от прозвища, данного в свое время одному из младших членов рода. Например, слово «брут» означало «глупец» (откуда вовсе не следует, что все члены древней патрицианской семьи Юниев Брутов (из рода Юниев), к которой, кстати, принадлежал и убийца Цезаря, были так уж неумны).
Кроме такой двойной фамилии, каждый мальчик получал личное имя. Между прочим, присвоению имени предшествовал своеобразный акт «признания» ребенка. На девятый день после рождения отец семейства поднимал его с пола на руки. Непризнание означало осуждение на смерть — младенца безжалостно выставляли на улицу. Имен было мало — всего восемнадцать. К тому же существовал обычай давать новорожденному имя, уже встречавшееся в данной фамилии. Для нас это служит источником некоторой путаницы — множество исторических деятелей именовалось совершенно одинаково. У современников, надо полагать, таких проблем не возникало, но история так спрессовывает время! Наиболее видные из римлян получали дополнительные прозвища, отмечавшие их исторические заслуги, особенно военные победы. Так, например, победитель Ганнибала именовался Публий Корнелий Сципион Африканский. Ситуация осложняется тем, что девочки в Риме вовсе не получали личного имени. Женщины даже в замужестве носили только свое исходное родовое имя. Например, все женщины рода Корнелиев во все времена именовались Корнелии, из рода Юлиев — Юлии и т.д. Для женщин, живших в одно время (сестер, матерей и дочерей), приходилось вводить либо указание на возраст — Юлия старшая и младшая, либо даже нумерацию.
Вначале система «трехкомпонентных» имен была привилегией только патрициев. Потом, когда плебеи отвоевали себе полные гражданские права, они стали именовать себя так же. Древние плебейские семьи, например Семпронии Гракхи (из рода Семпрониев) гордились своими предками не меньше, чем те же Корнелии Сципионы. Здесь уместно заметить, что ко времени поздней Римской республики (II век до Р.Х.) различие между патрициями и плебеями в имущественном и социальном положении почти совсем исчезло. В отличие от слова «плебс» — темная толпа, слово «плебей» вовсе не имело того презрительного значения, в котором оно нередко употребляется ныне. Хотя определенные различия все же сохранялись долго. Так, например, только патриции имели право занимать некоторые жреческие должности. Зато только плебеи могли быть избраны «народными трибунами». Об этой магистратуре (выборной государственной должности) речь еще впереди, а сейчас лишь отметим, что она была столь влиятельной, что некоторые честолюбивые римляне ради нее переходили во вполне взрослом состоянии путем усыновления из патрицианских родов в плебейские.
Выше упоминалось, что разраставшиеся патрицианские семьи находились полностью под властью своих патриархов. Им принадлежало право жизни и смерти по отношению к потомкам. Отец мог осудить и казнить сына, продать его в рабство. Никто из членов семьи не смел без согласия ее главы распорядиться каким-либо имуществом: ни продать его, ни даже приобрести. Эта непререкаемая покорность отцу семейства являла собой один из элементов более общей могучей традиции, которая в течение столетий служила фундаментом построения римского государства, — почитание предков и их обычаев. Предания о древних подвигах сохранялись благоговейно. Пример предков для каждого истинного римлянина служил образцом для подражания, мерилом его собственных поступков.
Традиционность, консерватизм... Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо. Обществу, как и каждому человеку, нужна точка отсчета, система сравнения. Для ориентировки, понимания своего положения и состояния, для моральной опоры. Отсюда может родиться столь необходимая уверенность в себе и в правильности направления своей деятельности. Прошлое — известно, опытом поколений в нем отобраны разумные для своего времени нормы взаимоотношения людей и критерии оценки их поступков. Система сравнения под рукой, на нее можно опереться или от нее оттолкнуться.
Но вернемся к быту и нравам древних римлян.
Упорная связь со своим далеким прошлым была вначале присуща только патрициям — она закрепляла их преимущественное положение. Затем и древние плебейские роды переняли эту приверженность заветам старины.
Спустя столетия в знатных римских семьях, в специальных комнатах или шкафах хранились восковые посмертные маски длинной череды предков. В похоронной процессии эти маски надевали провожающие. На людной площади они усаживались вокруг катафалка покойника и старший из сыновей «докладывал» предкам о жизни и деяниях отца, прося принять умершего благосклонно в их славную компанию. Конечно же, римское простонародье не очень гордилось своими пращурами, но, слушая на Форуме ораторов, постоянно ссылавшихся на примеры предков, все граждане Рима проникались сознанием причастности к сохранению славных традиций своего великого Города.
Теперь о невоенных занятиях и быте первых римлян. Главной добычей воинов-патрициев был скот. Он же служил и платежным средством в торговле. Поэтому естественно, что основным занятием членов патрицианских семей и их клиентов в промежутках между войнами было скотоводство (значительно позже патриции станут земледельцами или, точнее, крупными землевладельцами). Пасли баранов на шерсть, коз — ради молока, ослов, мулов и быков — для упряжи. Свиньи сами кормились желудями в лесу — римляне были большими любителями свинины. Из коровьего молока варили сыры.
Земледелием занимались плебеи — жители окрестных деревень. Сеяли ячмень, пшеницу и полбу. Выращивали капусту, бобы, чечевицу; на пологих склонах холмов разбивали виноградники. Держали фруктовые, главным образом, яблоневые сады. Разводили пчел. Методы обработки земли были еще примитивными — деревянный плуг с металлическим лемехом и деревянная борона. Новоприбывшим в Рим гражданам приходилось арендовать землю у патрициев. У них же одалживали и тягловый скот — в надежде на будущий урожай. Если надежды обманывали, арендатор мог превратиться в раба заимодавца или продавал в рабство своих детей. Долговое рабство в ту пору широко практиковалось, и законы, охранявшие имущество — в первую очередь, конечно, патрициев, — были неумолимы.
Ремесла были очень слабо развиты. Прядением и ткачеством занимались женщины в семье. Одежду не шили, а кроили в виде плаща, скрепленного пряжками. Знаменитая римская тога была поначалу просто прямоугольным куском шерстяной ткани, который оборачивали вокруг тела как мужчины, так и женщины. Позже тогу стали кроить в виде сегмента круга, высотой в два с половиной и длиной (по его прямой стороне) в шесть с половиной метров. Завернуться в такую штуку по всем правилам тогдашней моды без посторонней помощи было невозможно. Под тогой носили лишь набедренную повязку, туника появилась позднее. Цвет тоги — светло-серый. В дни траура или иных несчастий облачались в темную тогу. Сенаторы и дети носили тогу-«претексту», с красной полосой вдоль ее прямой стороны.
Если ранняя, прямоугольная и небольшая тога была повседневной одеждой, то эта огромная стала одеянием декоративным и торжественным. Для работы и в дорогу, а уж тем более в сражение, надевали короткий плащ. Но на форум, в собрание все римляне — бедные и богатые, знатные и незнатные — должны были являться в тоге. Этим подчеркивалось гражданское равенство, а заодно отличие от чужеземцев. Не исключено, что изобретатели такой моды хотели еще предотвратить возможность потасовки во время собраний — уж очень тога сковывала движения. А может быть, конструкторы тоги заботились прежде всего о величественности облика и поступи римлян — это производит впечатление на инородцев...
Теперь о жилищах. На смену деревенской круглой хижине из самана в городе появляются каменные дома прямоугольной формы без окон. Главную часть дома состоятельного римлянина представлял собой «атриум» — квадратный дворик с прямоугольным бассейном для сбора дождевой воды посередине. В крыше над двориком — отверстие такого же размера, как бассейн. К нему направлены скаты крыши. В атриуме — очаг для приготовления пищи, он же — семейный алтарь. Здесь ели и спали всей семьей. Позднее от атриума стали отгораживать крошечные спальни и другие помещения. Свет в них попадал из атриума через проемы дверей. Против входа, позади атриума — комната хозяина дома — «таблиниум». За ней нередко — садик, обнесенный стеной.
Мебели очень мало: деревянные кровати с сеткой из переплетенных ремней, простые деревянные сиденья, стол и сундук. Посуда глиняная. Скудная пища: густая пшеничная или полбенная каша, овощи, изредка мясо и рыба. Вина пили мало и только мужчины. Для трапезы всей семьей усаживались за стол перед очагом, обычай возлежать у стола во время еды пришел с Востока лишь во II веке до Р.Х. Вообще весь стиль жизни римлян той поры отличался суровым достоинством и умеренностью, граничившей с аскетизмом.
Теперь об общественном устройстве. Здесь вряд ли следует доверять Титу Ливию — похоже, что многое он перенес в эпоху царей из более позднего времени. Однако «сенат» советников царя, по-видимому, уже существовал, и сенаторов отбирал сам царь. Главной функцией сената было наблюдение за сохранением древних обычаев. В этом существенны были не формальные права, а авторитет сенатора — понятие, которое будет играть важную роль во всей последующей истории Города.
Можно думать, что к царскому периоду относится и приписываемое Ромулу разделение римских граждан (только патрициев!) на тридцать «курий» В каждую курию входило десять родов, сильно различавшихся по своей численности: от сотен до нескольких тысяч человек — вместе с клиентами. Собрания граждан, разумеется, только мужчин, так называемые «куриатские комиции», собирались для избрания царя (царская власть не наследовалась), решения вопросов мира или войны, для принятия законов и по другим особо важным случаям. Созывал собрания царь. Только он мог обращаться к народу и только тот, к кому царь обращался с вопросом, мог говорить в собрании. Решения принимались по куриям открыто — большинством голосов, иногда в буквальном смысле слова, то есть криком. При подведении общего итога каждая курия имела один голос. Решения комиций подлежали утверждению сенатом. Сенаторы же предлагали кандидатуру нового царя после смерти прежнего и собирали комиции для ее утверждения. Суд вершил сам царь или уполномоченные им лица, но за собранием народа сохранялось описанное ранее право помилования в случае «провокации».
Войско набиралось по куриям. Каждая курия выставляла сотню (центурию) пехотинцев и десяток всадников. Вначале — только из числа патрициев (квиритов). В конце царского периода, ввиду увеличения размаха войн, возникла необходимость привлекать в войско и плебеев. Это в корне меняло ситуацию. Подрывалась самая основа прежнего соотношения политических сил в Риме. До сих пор это соотношение основывалось на принципе: «Только те граждане, кто защищает город, имеют право решать его судьбу!» Поэтому и царь, и жрецы, и магистраты, и куриатские собрания — это все патриции и их клиенты. Плебеи не рискуют жизнью для защиты Рима, поэтому их гражданство регламентируется только имущественным и уголовным правом. В политическом плане они бесправны. С допуском плебеев в ряды войска это соотношение прав должно было со временем измениться.
Но началось все, естественно, с чисто военной реформы. Легенда, как упоминалось, приписывает ее царю Сервию Туллию, хотя современные историки относят соответствующие изменения общественного устройства Рима к более позднему периоду и полагают, что они происходили постепенно и были завершены к началу IV века до Р.Х.
Суть реформы в ее окончательном виде сводилась к следующему: введен имущественный ценз. Все римляне, патриции и плебеи, обязаны были объявить о стоимости своего имущества. Цензовые списки граждан пересматривались каждые пять лет. Уклонявшимся от переписи закон грозил суровым наказанием. Трудно сказать, в чем выражался ценз. Тит Ливий утверждает, что в медных ассах, но похоже, что монетная система появилась позднее. По уровню своего достатка граждане Рима были разбиты на пять классов. Каждый должен был выставлять определенное число центурий воинов. Первый, наиболее состоятельный класс — 98 центурий (80 тяжеловооруженных пехотинцев и 18 центурий всадников). Со второго до четвертого класса по 20 или 22 центурии. Пятый класс выставлял 30 центурий. Вооружение приобреталось самими воинами, но было регламентировано: от максимального комплекта панцирь, шлем, поножи, щит, меч и копье для первого класса до минимального — праща и запас камней — для пятого. Число граждан в классах, особенно в низших, явно превосходило численность воинов в центуриях. В результате первой переписи было зарегистрировано 80 тысяч мужчин, имеющих право носить оружие, между тем как общее число центурий — 195, и, следовательно, по «штатному расписанию» римское войско насчитывало 19500 человек Вообще-то военнообязанными были все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Но в походы выступали только воины моложе 45 лет; старшие оставались для охраны Города.
Военная реформа диктовала изменение и гражданского представительства. Поскольку в рядах защитников Рима теперь сражались как патриции, так и плебеи, то наряду с куриатскими комициями были учреждены собрания по центуриям — «центуриатские комиции». Они собирались во всеоружии на Марсовом поле, за городской стеной. Древний и мудрый закон запрещал римлянам носить оружие в городе, а, кстати, тем самым запрещал и вводить в город войско.
Возможно, что вначале центуриатские комиции решали только военные вопросы. Но тот, кто держит в руках оружие, склонен диктовать свою волю и в сфере гражданских интересов. Так было всегда! И центуриатские комиции вскоре отобрали у куриатских почти все их права и полномочия. Это означало изменение самой основы власти и влияния в Городе. Вместо принадлежности к патрицианскому роду (курии) такой основой стало богатство. Распределение по центуриям было явно неравномерным, а между тем каждая центурия, как прежде каждая курия, получала один голос. Из общего количества 195 центурий первый класс, как мы видели, выставлял 98. Это уже гарантировало ему большинство голосов в комициях. На это же был ориентирован и порядок подачи голосов. Тит Ливий считает его вполне оправданным. Указав на дороговизну коней и полного комплекта вооружения, он далее пишет:
«Все эти тяготы были с бедных переложены на богатых. Зато большим стал и почет. Ибо не поголовно, не всем без разбора (как то повелось от Ромула и сохранялось при прочих царях) было дано право голоса, и не все голоса имели равную силу, но были установлены степени, чтобы никто не казался исключенным из голосования, и вся власть находилась бы у виднейших людей государства. А именно: первыми приглашали к голосованию всадников, затем — восемьдесят пехотных центурий первого разряда; если мнения расходились, что случалось редко, приглашали голосовать центурии второго разряда, но до самых низких не доходило почти никогда». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, I, 43)
Очевидно, что состоятельные плебеи — а ко времени реформы таковые, надо полагать, уже появились, выступали в центуриях первых классов рядом и наравне с патрициями. Но и беднейшие плебеи, во всяком случае формально, становились полноправными гражданами Рима. Но и те, и другие — не вполне равноправными. Ведь военачальники, гражданские магистраты и жрецы по-прежнему назначались царем или избирались народом только из числа патрициев. Право на занятие этих должностей плебеям еще предстояло отвоевать.
К той же реформе, приписываемой царю Сервию Туллию, легенда относит и разделение Рима на четыре района. Эти первые территориальные «трибы» заменили прежнее племенное деление. Впоследствии к первым четырем городским трибам добавилось множество сельских — в соответствии с ростом территории, подвластной Риму, и расселением на ней римских граждан.
Пора бы закончить с предысторией Республики. Но есть смысл на пороге основного повествования познакомиться с религией римлян. В своих религиозных представлениях, и особенно обрядах, римляне были консерваторами вдвойне — в основных своих чертах их религия сложилась и окостенела на века еще в царский период, а, может быть, и того раньше.
Из глубокой древности ведут свое начало понятия и обряды семейного религиозного культа. В его центре — домашний очаг (он же алтарь). Огонь поддерживается постоянно. Восковые статуэтки бога очага — Лара и двух божеств, ведающих материальным обеспечением семьи, — Пенатов, убранные цветами, красуются в особой нише. Им приносят жертвы и адресуют молитвы о благополучии семьи. У каждого есть свой Гений-покровитель. Гения главы семейства почитают все домочадцы. Женщинам, конечно же, иметь личного Гения не полагается, но у них есть, одна на всех, могущественная покровительница — богиня Юнона.
Особую роль играл культ мертвых. Римляне верили в загробное существование душ, но им не хватило воображения, чтобы отослать их подальше от дома, в загробное царство, как это делали греки. Римское суеверие полагало, что души умерших обретаются рядом, в своих могилах, что они ревниво наблюдают за живущими и особенно чувствительны к уважению, которое им оказывают. Если души умерших ублажать жертвоприношениями пищи и вина, украшать их могилы, а главное — почаще хвалить, особенно в дни рождения, то они помогают живущему, как добрые духи — Маны. Если же души умерших преступно преданы забвению, то они наказывают и преследуют человека, как ужасные призраки — Лемуры.
Культовые отправления в каждом роде и даже в каждой семье были строго канонизированы. Глава семьи совершал жертвоприношения на домашнем очаге. Весь ритуал, все гимны и молитвы скрупулезно передавались от отца к старшему сыну Дочери принимали участие в религиозных церемониях до тех пор, пока не переходили в семью мужа. Там они приобщались к домашнему культу новой семьи.
Общеримские боги тоже, по-видимому, существовали в представлениях древних латинян задолго до основания Рима. Опять-таки в силу несклонности римлян к фантазии эти боги долгое время не обретали человекоподобного облика, и с их существованием не связывали никаких мифов. Главная триада — Юпитер, Юнона и Минерва — символизировала соответственно небесную стихию, материнство и разум (заметьте — разумное начало у римлян в особом почете). Их общий храм — на вершине Капитолийского холма. Правда, впоследствии Юпитер «Прекраснейший и Величайший» потеснил своих соседок и стал безраздельно главным богом — покровителем Рима. Марса поначалу чтили в качестве попечителя всего произрастающего на земле; потом он превратился в бога — покровителя воинов и войны. Не потому ли, что война стала главным занятием римлян? Сатурна ублажали как бога посевов, Цереру — как богиню плодородия, Весту — как богиню очага, Либера, он же Вакх, — покровителя виноградников и виноделия, особенно любили, а к Фавну, богу домашнего скота, относились чрезвычайно уважительно.
Значительно позже, уже во времена Республики, римляне переняли у греков почитание Аполлона — бога Солнца и покровителя искусств; девы-охотницы Дианы — богини Луны и, разумеется, девственности; Венеры — богини любви и красоты, Меркурия — учителя красноречия и покровителя торговли, бога моря Нептуна и, наконец, обожествленного греками Геркулеса. Ни своей теологии, ни космогонии у римлян не было. Люди просвещенные следовали в этих науках представлениям греков, а древнеримских богов стали отождествлять с греческими: Юпитера с Зевсом, Юнону с Герой, Минерву с Афиной и так далее.
Еще одна любопытная особенность религии древних римлян — обожествление понятий. Таких как Достоинство, Свобода, Верность, Согласие, Правосудие и т.п. Им римляне посвящали отдельные храмы.
Культы богов существовали, разумеется, издревле, но их упорядочение, а главное — регламентацию, легенда приписывает первому после Ромула царю, Нуме Помпилию. Образ мудрого и доброго царя-наставника был столь дорог сознанию каждого римлянина, что имеет смысл воспроизвести его так, как представляют древние авторы. Тем более что Нуму как ласково называли его римляне, они почитали еще и как царя, приохотившего их к земледелию.
Плутарх в биографии Нумы Помпилия подробно рассказывает, как и почему римляне отправили к известному своим благочестием сабинянину посольство с приглашением к ним на царство. Нума долго отказывался, ссылаясь на то, что римлянам — любителям войн — нужен царь совсем иного толка. Потом согласился — именно для того, чтобы обуздать буйный нрав соседей. Далее Плутарх пишет: «...Нума тотчас же принялся как бы размягчать этот железный город, чтобы из жестокого и воинственного сделать его более крепким и справедливым... Нума видел, что направить и обратить к миру этот гордый и вспыльчивый народ очень нелегко, и призвал на помощь богов: устраивая и сам возглавляя многочисленные жертвоприношения, и шествия, и хороводы, в которых торжественная важность сочеталась с приятной и радостной забавой, он ласкою утишал строптивый и воинственный нрав римлян». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Нума, VIII).
Торжественная важность в сочетании с радостной забавой — это очень по-римски. О результатах миротворческой деятельности царя тот же Плутарх повествует в тональности прямо-таки поэтической: «Не только римский народ смягчился и облагородился под влиянием справедливости и кротости своего царя, но и в соседних городах — словно из Рима дохнуло каким-то целительным ветром — начались перемены: всех охватила жажда законности и мира, желание возделывать землю, растить спокойно детей и чтить богов». (Там же. XX)
Не думаю, чтобы читатель поверил в эдакую идиллию. Но римляне верили, и это их, надо полагать, несколько смягчало.
Список жреческих должностей, по преданию, установленных тем же Нумой, довольно внушителен. Вот важнейшие из них: пятнадцать «фламинов» — хранителей культа главных общеримских богов, трое старших, представляющих интересы Юпитера, Марса и Квирина, и двенадцать младших.
Коллегия из пяти «понтификов». Само название указывает на одну своеобразную функцию — наблюдение за сохранностью моста через Тибр, за его разборкой в случае угрозы нападения с севера и последующим восстановлением. Повседневная же их миссия — наблюдение за религиозной практикой граждан и строгостью соблюдения обрядов. Начиная с III века до Р.Х., понтифики еще вели хронологию важнейших событий в Городе, хранили государственный архив. Глава коллегии, «Великий понтифик», следил за лунным календарем, объявлял счастливые и несчастливые дни — когда нельзя созывать собрание народа и вообще начинать что-нибудь серьезное (таких дней в году было больше ста), курировал проведение общеримских праздников.
Коллегия из двадцати жрецов — «фециалов» — осуществляла дипломатические функции. В их компетенцию входили важные ритуалы объявления войны и заключения мира. Объявлению войны, например, предшествовал дипломатический вояж двух фециалов в город противника, где они торжественно, призывая в свидетели Юпитера, излагали претензии Рима. В случае отказа один из них заявлял, согласно Титу Ливию, так «Внемли, Юпитер, и ты, Янус Квирин, и все боги небесные, и вы, земные, и вы, подземные, — внемлите! Вас беру я в свидетели тому, что этот народ (тут он называет, какой именно) нарушил право и не желает его восстановить. Но об этом мы, первые и старейшие в нашем отечестве, будем держать совет, каким образом нам осуществить свое право». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, I, 32)
После чего послы возвращались в Рим. Сенат и народ обсуждали их доклад и, если принимали решение о войне, один из фециалов отправлялся к границам будущего противника и в присутствии свидетелей, торжественно провозгласив состояние войны, бросал копье на территорию врага. Спустя столетия эти территории оказались чересчур удаленными от Рима. Тогда в качестве их символа был назначен специальный участок на Марсовом поле, куда фециал бросал свое копье.
Фламины избирались только из числа патрициев, а коллегии свободно пополнялись посредством кооптации. Никакой «светской» властью в городе жрецы не пользовались. Их назначение состояло в том, чтобы давать советы царям (впоследствии — магистратам), но только тогда, когда их о том просили; помогать в следовании ритуалу торжественных богослужений и объяснять смысл ответа богов на запросы об успехе или неуспехе задуманного дела.
Особую роль в Риме играла коллегия семи весталок, во главе с Великой весталкой. Весталки выполняли важнейшую миссию поддержания священного огня в храме Весты. Дежурили круглосуточно — по двое. В весталки отбирали девочек из патрицианских семей. Служение длилось тридцать лет. На все это время они давали обет девственности и аскетизма. Зато весталки пользовались преимуществом независимости от отца (в том числе материальной), а также большим почетом. Если весталка выходила из их общего, примыкающего к храму жилища в город, ее сопровождал ликтор, расчищавший перед ней дорогу. Если она случайно встречалась с процессией, ведущей преступника на казнь, тому сохраняли жизнь.
За мелкие провинности девиц наказывал розгами сам Великий понтифик, опекавший их коллегию. Нарушение же обета девственности неумолимо каралось смертью. Мрачная процедура этой казни была детально разработана. Вот как описывает ее Плутарх:
«...потерявшую девство зарывают живьем в землю подле так называемых Коллинских ворот. Там, в пределах города, есть холм... В склоне холма устраивают подземное помещение небольших размеров с входом сверху. В нем ставят ложе с постелью, горящий светильник и скудный запас необходимых для поддержания жизни продуктов — хлеб, воду в кувшине, молоко, масло: римляне как бы желают снять с себя обвинение в том, что уморили голодом причастницу величайших таинств. Осужденную сажают на носилки, снаружи так тщательно закрытые и забранные ременными переплетами, что даже голос ее невозможно услышать, и несут через форум. Все молча расступаются и следуют за носилками — не произнося ни звука, в глубочайшем унынии. Нет зрелища ужаснее, нет дня, который был бы для Рима мрачнее этого. Наконец носилки у цели. Служители распускают ремни, а глава жрецов, тайно сотворив какие-то молитвы и простерши перед страшным деянием руки к богам, выводит закутанную с головой женщину и ставит ее на лестницу, ведущую в подземный покой, а сам вместе с остальными жрецами обращается вспять. Когда осужденная сойдет вниз, лестницу убирают, и вход заваливают, засыпая яму землею до тех пор, пока поверхность холма окончательно не выровняется». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Нума, X)
Вопрошатели о будущем — «авгуры» — были скорее официальными экспертами, толковавшими знамения, чем жрецами. Главным знамением считалось направление полета вещих птиц. Как упоминалось в связи с легендой об основании Рима, появление птиц справа было знамением благоприятным, слева — плохим. Как правило, авгуры запрашивали богов не сами, но ассистировали при совершении этих запросов (ауспиций) царям, полководцам или магистратам. Другим верным способом выяснения одобрения или неудовольствия богов считалось наблюдение за аппетитом священных кур, коих для этой цели приходилось возить с собой в походы.
Гадание по виду внутренностей, особенно печени, жертвенного животного считалось свидетельством менее категорическим. В случае неудачи его разрешалось повторить. Суждение об успехе или неуспехе намеченного мероприятия в этом случае выносили «гаруспики», как правило, выходцы из Этрурии, откуда и было заимствовано это гадание.
Наконец, в случае особо тревожных знамений: удары молнии, рождение уродцев, разного рода чудеса — указания для умиротворения гнева богов жрецы-толкователи отыскивали в таинственных пророческих книгах, приобретенных, согласно легенде, у волшебницы Сивиллы из города Кумы.
Храмы богов в Риме были невелики по размерам, прямоугольной формы и окружены колоннадой. Они не предназначались для посещения верующими, а служили лишь символическими обиталищами божества. В древние времена они, вероятно, пустовали, позже в них стали помещать (на греческий манер) статую бога. Кстати, само слово храм (темплум) вначале означало прямоугольное «поле для наблюдения» за полетом птиц, которое авгур своим жезлом очерчивал в небе.
Молились и приносили жертвы перед храмом, у жертвенного алтаря. Молящийся покрывал голову, обращался к востоку, касался рукой алтаря и громко, во избежание ошибки, повторял за жрецом установленные формулы молитвы. Если молился весь народ, он вторил словам жреца хором. Окончив молитву, простирались ниц или же посылали богу... воздушный поцелуй, почему-то обязательно левой рукой. Если молящий бога о победе в сражении, об успехе иного дела или исцелении от болезней давал обет при благоприятном исходе построить храм, устроить игры для народа или пожертвовать что-либо богу, иногда очень скромное, например, первые плоды урожая, то он подробно оговаривал свое обещание и срок его выполнения.
В особо серьезных случаях — перед выступлением в поход или в честь победы, а также по большим праздникам — в жертву приносили домашних животных (быка, овцу или свинью). Приносящий жертву совершал омовение и одевался во все белое. Отобранное для жертвы животное (без единого пятна или изъяна) украшали лентами, рога золотили. На голову жертвы клали специальный пирог, испеченный весталками, опрыскивали вином. Руководил обрядом жрец. После свершения ритуальной молитвы и изложения сути дела, по знаку жреца специальный служитель забивал животное одним ударом топора или ножа. Все присутствовавшие при этом закрывали голову краем тоги. Тушу разрубали, и гаруспики обследовали печень. Если все в порядке, то внутренности жертвы сжигали на алтаре, а мясо делили поровну между участниками церемонии. Тут же жарили и ели. Если же во внутренностях жертвы обнаруживался дефект, это означало, что богам она неугодна и следует отказаться от задуманного или повторить жертву.
В те времена, когда плебеи еще не обзавелись домашним культом и не приобщились к культам общественным, их главным религиозным действом был сельский праздник в честь Цереры. Впрочем, этот праздник сохранял свою популярность и во всю последующую историю Рима.
О праздничных играх, первые из которых учредил еще Тарквиний Древний, удобнее будет рассказать позже, при описании нравов Республики и Империи, когда их разнообразие увеличилось, а число сильно умножилось.
Этот вынужденно беглый и, быть может, не всегда достаточно уважительный обзор основных черт ранней римской религии я бы хотел закончить несколькими общими и более серьезными замечаниями о ее специфике.
Никаких этических норм поведения эта религия не содержала. Римляне ощущали себя окруженными могущественными, таинственными и безликими силами, готовыми в любой момент вмешаться в их жизнь. Это порождало священный страх и постоянную заботу о том, чтобы жить с ними в мире. Называя их божествами, они не столько пытались постигнуть природу этих сил, сколько очертить для себя круг проблем, в которых они хотели бы не совершить роковой ошибки. Поэтому такая вера в знамения, такая обязательность запросов — ауспиций — по каждому более или менее серьезному поводу.
Не имея определенного представления о своих богах, римляне возлагали все надежды на проявление послушания. Отсюда такая строгая приверженность к формальной стороне обрядов и молитв, непреложная традиционность в каждом атрибуте, каждой формуле, каждом жесте освященного древностью ритуала. Никакого мистического экстаза, никакого вольного обращения к богам — строгое и серьезное следование раз и навсегда установленной норме.
С другой стороны, твердая уверенность в решающем значении скрупулезного следования обряду вносила аспект некой взаимной договоренности человека с богами. Римляне верили, что следование знамениям, правильно исполненное жертвоприношение и каноническая молитва гарантируют благосклонность богов — ведь всему этому боги сами научили Нуму! И наоборот, нарушение ритуала, а тем более данного обета или клятвы, неизбежно вызовет гнев божества и будет наказано.
Любопытно, однако, что с этим консерватизмом сочеталась определенная веротерпимость и даже религиозная восприимчивость. Римляне уважали и чужих богов (столь же непостижимых, как свои), готовы были задобрить их соответствующими жертвами и молитвами, более того — принять в Город, построить для них храмы. Нередко перед сражением они старались переманить на свою сторону богов противника, адресуя им свои обеты.
Теперь, кажется, можно расстаться с предысторией римской Республики. В заключение попытаюсь представить читателю обобщенный облик рядового римлянина конца царского периода Римской истории, каков он согласно обширным материалам древних первоисточников, оставшимся за рамками этого краткого очерка. Это человек сугубо практичный, упорный и даже упрямый, язвительный и немного склонный к сутяжничеству. Живет он крайне просто, крепко привязан к земле, расположен к суевериям. Ему не свойственны фантазия и артистизм, как древним грекам. Зато он очень восприимчив к красноречию и ценит сатиру, что впоследствии даст начало Римскому праву и Римской литературе. Его религия консервативна, бездушна, скрупулезно регламентирована и практична — она носит характер взаимовыгодного договора с богами.
Как гражданина его отличают преданность Риму, дисциплинированность, уважение законов, почитание заветов и обычаев предков. Вместе с тем — чувство собственного достоинства, мужество, решимость защищать Город, свой надел земли и в не меньшей степени — свои гражданские права. В случае необходимости он становится хорошим солдатом — выносливым и отважным.
Глава II Камилл (509-272 гг.)
«Плебеи против патрициев»
Изгнав царей, римляне должны были придумать организацию новой власти, столь же эффективной и авторитетной как царская, но исключающей возможность повторения тирании (тиранией они называли самодержавную власть, опирающуюся не на закон, а на силу, предполагающую произвол властителя, таким тираном был последний царь, Тарквиний Гордый.) Они были реалистами и понимали, что такая власть должна быть единоначалием, но как-то ограниченным. Даже легенда ничего не говорит о том, кто и как разрабатывал новую структуру государства, но надо отдать им должное — это были люди выдающегося ума. В том, что они создали, заложено несколько оригинальных основополагающих принципов.
Властителей решено было иметь двух, причем совершенно равноправных! Они могут делить между собой сферы управления (например, один — на войне, второй — в Городе), могут чередоваться в исполнении властных функций, но им придется искать согласия, так как каждый из них получает право вето (запрета) на распоряжения другого. Здесь выявлен один из главных общих принципов римского государственного устройства: «Между двумя равноправными лицами запрещающему принадлежит первенство над повелевающим».
Казалось бы, это может парализовать деятельность обоих. Но нет! Накладывать вето без очень серьезных на то оснований каждый поостережется, чтобы не вызвать в отместку запрет на свои действия. Зато можно надеяться, что вето коллеги вовремя помешает любому из двух властителей предпринять какие-либо шаги, подготавливающие тиранию. Вместе с тем оба они, подобно царю, должны быть ничем не ограничены и неподсудны, но лишь в течение срока действия своих полномочий — одного года. Их будут избирать сенат и народ, которые по истечении срока полномочий будут вправе судить своих избранников. Зато в течение года своего правления властители пусть чинят суд и расправу. На войне они будут наделены правом карать и даже казнить трусов, изменников и ослушников. Но в Городе жизнь и достоинство граждан следует оградить от необузданности их гнева древним правом апелляции осужденного к собранию народа.
Такие соправители получили название консулы, что означает «вместе скачущие». С царскими атрибутами поступили рассудительно, сохранив необходимую меру. Взамен алого царского плаща положили консулам носить плащ с пурпурной полосой. Ликторов царя сохранили — каждому по двенадцать. Но в городе они носили фаски без секиры. Последнюю, как знак «империя» — права жизни и смерти подчиненных, ликторы втыкали в пучки розог на войне. Изготовили еще один складной стул из слоновой кости (курульное кресло), а корону и скипетр сдали в архив.
Зато именам всех консулов, независимо от заслуг, было обеспечено бессмертие. Древние римляне не знали нумерации лет и потому годы обозначались именами консулов. Посетитель музея Консерватории на Капитолийском холме в Риме с невольным почтением взирает на бесконечные пары имен (консульские фасты), строка за строкой заполняющие от пола до потолка белые мраморные доски на стенах одного из залов музея.
Предлагал кандидатуры новых консулов сенат, а выбирал из числа этих кандидатур римский народ в центуриатских комициях (конечно же, не весь народ, а его наиболее состоятельная часть — в центуриях первых двух классов). Текущая деятельность консулов никакими уложениями ограничена не была, но уважать законы приходилось, учитывая возможность судебной ответственности по истечении срока консульства. Даже вопиющее преступление (убийство, государственная измена и проч.) не могло служить основанием для досрочного переизбрания консула. Впрочем, одно ограничение свободы действий этих высших магистратов (и немаловажное) оставалось в руках сената. Деньги на любые государственные расходы, в том числе на набор и оснащение войска, консул должен был просить у сенаторов, в чьем распоряжении оставалась государственная казна.
Консулы командовали войсками, объявляли мобилизацию, назначали офицеров. В случае необходимости, но только с согласия сената, вводили военный налог. Как ранее царь, только консулы могли собирать сенат и комиции, председательствовать в них, предлагать законы, ставить текущие вопросы на обсуждение и голосование. И только тот, кого спрашивал консул, мог говорить в этих собраниях. «По наследству» от царя консулы получили еще одну его прерогативу — раз в четыре года проводить цензовую перепись граждан Рима, а также пополнять сенат новыми членами и исключать из него недостойных. Впрочем, дело это оказалось слишком обременительным для избранных всего на один год консулов и потому полстолетия спустя стали выбирать специально для этой цели двух цензоров, сроком на полтора года и тоже с правом взаимного вето. Выбирали обычно из бывших консулов, проявивших в свое время неподкупность и высокие нравственные качества.
Роль цензоров постепенно увеличивалась. В круг их обязанностей стали включать наблюдение за такими сторонами жизни города, где честность играла особо важную роль. Так что, по словам Тита Ливия:
«Этот же год (443-й до Р.Х. — Л.О.) дал начало должности цензоров, сначала малозначительной, а потом так возвысившейся, что цензорам подчинялись римские нравы и образ жизни, что в сенате и во всаднических центуриях им сделалось подвластно вынесение приговоров о достойном и недостойном, что им подчинены были общественные и частные постройки, что сбор податей с народа римского был отдан на полное их усмотрение». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, IV, 8)
В случае непреодолимого разногласия между консулами, гражданской смуты или особенно серьезной военной опасности, требующей ничем не ограниченного единовластия, один из консулов по поручению сената назначал диктатора сроком на полгода. Ему вручался полный «империй» (право жизни и смерти подчиненных), действительный не только на полях сражений, но и в Городе — без права апелляции на любые его решения вплоть до осуждения на смерть римского гражданина. Все магистраты, включая и консулов, на время диктатуры лишались своих полномочий. Впереди диктатора выступали все двадцать четыре ликтора обоих консулов. В фасках, даже в городе, они несли секиры. Диктатор сам выбирал себе помощника, который именовался «начальником конницы», хотя его полномочия были много шире, чем командование кавалерией. Начальнику конницы полагалось шесть ликторов.
Нужно ли напоминать, что и консулами, и цензорами, и диктатором могли быть избраны только патриции? Описанная ниже борьба плебеев за право занятия этих должностей длилась почти два века и была столь упорной, что там, где патриции вынуждены были уступить, они старались получить за это компенсацию. Так, например, уже в 367 году до Р.Х., когда под давлением народа был принят закон о том, что один из консулов должен быть плебеем, патриции взамен добились учреждения новой патрицианской магистратуры, «претора», которому от консулов передавалась основная часть судебных функций.
Сенат в республиканскую эпоху играл большую и все возраставшую роль. Из скромных советников царя собрание трехсот сенаторов постепенно превратилось в главную, фактически правящую силу в Городе. Консулы избирались только на один год, как правило, из числа сенаторов. В сенат же они возвращались, сложив свои полномочия. Или автоматически включались в его состав в тех редких случаях, когда консулами избирали не сенаторов, а «новых людей», как их называли сами римляне. Поэтому они сознавали себя в первую очередь сенаторами, а уже потом временными правителями Рима. Сенат ведал отношениями с другими городами и государствами, принимал и отправлял посольства. Решения центуриатских комиции подлежали утверждению сенатом. Вопросы религиозные также находились под его наблюдением. Наконец, сенат держал в своих руках государственные финансы. Подробнее о роли сената поговорим ниже, когда мы приблизимся к эпохе расцвета Республики.
После этого краткого знакомства с главными республиканскими магистратурами вернемся к Римской истории.
Пожалуй, главное, что получила молодая республика в наследство от царского периода, — это враждебность ближайших соседей, стремившихся обуздать задиристого новичка. Все следующее столетие римляне вынуждены отбиваться от их наскоков, к счастью, не очень дружных, но непрестанно сменяющих друг друга. Ближайшие соседи — прочие латиняне, этруски с севера, вольски с юга, эквы с востока — волна за волной, шлют на Рим свои армии. Почти каждый раз оборона требует мобилизации всех сил города и прилегающих к нему селений. Число последних к началу V века уже значительно. Об этом говорит тот факт, что к четырем городским районам (трибам) добавилось семнадцать сельских.
Подробными описаниями этих сражений заполнены четыре первые книги Римской истории Тита Ливия. Нет нужды их пересказывать, тем более, что в достоверности таких описаний есть все основания сомневаться. Но некоторые эпизоды, особо заметные в римской легенде, следует отметить.
Самый знаменитый из них связан с именем Муция Сцеволы. Много столетий спустя, да, пожалуй, и до наших дней, это имя вызывало неизменное восхищение. Как же обстояло дело?
В 507 году до Р.Х. этрусский царь Порсена осадил Рим. Город испытывал острую нехватку продовольствия и вряд ли смог бы продержаться долго. И вот один знатный юноша, Гай Муций, решает, пожертвовав жизнью, отвратить от Рима нависшую над ним опасность. Он переплывет Тибр, проникнет незаметно в лагерь врага и убьет Порсену. Получив «добро» от отцов-сенаторов, Муций осуществляет первую часть своего плана, но далее его ждет «неудача», обессмертившая его имя.
Прочитаем Тита Ливия, по возможности теми же глазами, как его читали римляне времен поздней Республики и Империи, а потом, век за веком, несчетное множество горячих и честолюбивых юношей, быть может, и наших с вами не очень далеких предков:
«Придя в лагерь, попал он в густую толпу народа перед царским местом. Там как раз выдавали жалованье войскам, и писец, сидевший рядом с царем почти в таком же наряде, был очень занят, и воины к нему шли толпою. Боясь спросить, который из двух Порсена, чтобы не выдать себя незнанием царя, он делает то, к чему толкнул его случай, — вместо царя убивает писца. Прорубаясь оттуда окровавленным мечом сквозь смятенную толпу, в шуме и давке, он был схвачен царскими телохранителями, и его приволокли к царю. Здесь, перед возвышением, даже в столь грозной доле не устрашаясь, а устрашая, он объявил: «Я римский гражданин, зовут меня Гай Муций. Я вышел на тебя, как враг на врага, и готов умереть, как готов был убить: римляне умеют и действовать, и страдать с отвагою. Не один я питаю к тебе такие чувства, многие за мной чередою ждут той же чести. Итак, если угодно, готовься к недоброму: каждый час рисковать головой, встречать вооруженного врага у порога. Такую войну объявляем тебе мы, римские юноши; не бойся войска, не бойся битвы — будешь ты с каждым один на один».
Когда царь, горя гневом и страшась опасности, велел вокруг развести костры, суля ему пытку, если он не признается тут же, что скрывается за его темной угрозой, сказал ему Муций: «Знай же, сколь мало ценят плоть те, кто чает великой славы!» — и неспешно положил правую руку в огонь, возжженный на жертвеннике. И он жег ее, будто ничего не чувствуя, покуда царь, пораженный этим чудом, не вскочил вдруг со своего места и не приказал оттащить юношу от алтаря. «Отойди, — сказал он, — ты безжалостнее к себе, чем ко мне! Я велел бы почтить такую доблесть, будь она во славу моей отчизны; ныне же по праву войны отпускаю тебя на волю целым и невредимым». Тогда Муций, как бы воздавая за великодушие, сказал: «Поскольку в такой чести у тебя доблесть, прими от меня в дар то, чего не мог добиться угрозами: триста лучших римских юношей, поклялись мы преследовать тебя таким способом. Первый жребий был мой; а за мной последует другой, кому выпадет, и каждый придет в свой черед, пока судьба не подставит тебя удару!»
Когда был отпущен Муций, которого потом за потерю правой руки нарекли Сцеволой (левша. — Л.О.), Порсена послал в Рим послов; так потрясло его и первое покушение, от которого он уберегся лишь по ошибке убийцы, и опасность, грозящая впредь столько раз, сколько будет заговорщиков, что он сам от себя предложил римлянам условия мира». (Там же. Т. 1, II, 12-13)
Еще одна легенда — о Кориолане. Бетховен на ее сюжет написал свою знаменитую увертюру. Я думаю, что не всем поклонникам творчества великого композитора известна эта легенда, и хотя бы по этой причине считаю уместным изложить ее здесь.
Сенатор по имени Марций, прославленный римский военачальник, отличился при штурме крепости Кориолы в стране вольсков и потому был прозван Кориоланом. В голодный 491-й год он ратовал за то, чтобы распределение закупленного в Сицилии зерна использовать для давления на плебеев с целью отнять у них некоторые только что завоеванные ими гражданские права. Возмущение народа заставило его удалиться в изгнание. Он направляется к тем же вольскам и через три года во главе их армии подступает к Риму. Посланцы сената и даже жрецы не смогли смягчить его мстительности. Дальнейшее описано и Титом Ливием, но я, для разнообразия, процитирую историка II века от Р.Х. Аппиана. Итак, когда штурм города уже, казалось, неотвратим...
«Валерия же, дочь Попликолы, ведя за собой многих женщин, пришла к матери Марция, Ветурии, и к жене его, Волумнии; все они, одетые в траурные одежды, неся с собой маленьких детей для умилостивления, убеждали их пойти вместе с ними к Марцию и умолять его пощадить и их самих, и отечество. Они вышли с согласия сената, одни женщины, и направились в лагерь врагов. Марций, удивляясь благородной смелости римлян, которая присуща и римским женщинам, встретил приближающихся и, удалив из уважения к матери связки и секиры, подбежал и обнял ее, повел ее на собрание вольсков и предложил сказать, что им нужно.
Она же сказала, что, будучи матерью, она вместе с ним претерпела несправедливость его изгнания из города, но она видит, что римляне уже много претерпели от него, и достаточной карой он их покарал, так как их область, и притом столь значительная, опустошена... «Ты же не исцеляй зла злом неисцелимым... Окажи милость, сын мой, и мне и отчизне, взывающей к тебе». Так сказала она. Марций же не соглашался называть отчизной государство, изгнавшее его, но сказал, что так должно называть принявшее его; ибо ничто не мило, если оно несправедливо; не может быть чувства вражды к тем, кто делает добро; он предложил ей посмотреть на присутствующих, давших ему слово верности и взявших его от него, сделавших его своим гражданином, назначивших полководцем и поручивших ему свои дела. Он перечислил те почести, которых был удостоен, и те клятвы, которыми он им поклялся, и предложил матери считать общими с ним врагов и друзей.
Когда он это еще говорил, она, исполнившись негодования и подняв руки к небу, призывала свидетелями родовых богов... «После этого, — сказала она, — ни одна другая мать, получив отказ от сына, не придет к необходимости пасть к его ногам; я же иду и на это: я припаду к твоим коленам». Говоря это, она бросилась перед ним на землю. Он же, заплакав, подбежал к ней, поднял ее и взволнованным голосом произнес: «Ты победила, о мать, но победой, от которой ты потеряешь сына». Сказав это, он увел войско, чтобы дать отчет вольскам и примирить оба народа: была некоторая надежда, что даже при таких условиях он убедит вольсков. Побит же он был камнями ввиду зависти со стороны полководца вольсков Аттия». (Аппиан. Римская История. II, 5, 2-5)
Эта сентиментальная история отразила в себе присущее римлянам глубокое уважение к матери семейства.
Наконец, еще один, совсем небольшой, легендарный эпизод, тем не менее, очень важный в сознании римлян. Дело происходило, согласно Титу Ливию, в 458 году до Р.Х. Эквы и сабиняне потеснили римлян и окружили их войско. Положение было критическим. Сенат решил назначить диктатором Луция Квинкция Цинцинната. Это был заслуженный воин, но человек скромного достатка и в тот момент не у дел. Вот как описывает историк момент его приглашения в Рим для спасения отечества:
«Об этом полезно послушать тем, кто уважает в человеке только богатство и полагает, что честь и доблесть ничего не стоят, если они не принесут ему несметных сокровищ (напомню: Ливий пишет это в конце I века до Р.Х. — Л.О.). Последняя надежда римского государства, Луций Квинкций владел за Тибром, против того самого места, где теперь находится верфь, четырьмя югерами земли (1 га — Л.О), называемой с тех пор Квинкциевым лугом. Копал ли он канаву или пахал — мы не знаем. Точно известно только, что послы застали его за обработкой земли и после обмена приветствиями в ответ на их просьбу нарядиться в тогу для того, чтоб выслушать послание сената, если он дорожит благополучием Рима и своим собственным, Квинкций удивленно спросил, что стряслось, и велел жене Рацилии скорей принести ему тогу из их лачуги. Когда он, отерши пыль и пот, оделся и вышел к послам, те радостно приветствовали его как диктатора и, описав, в каком страхе пребывают воины, призвали в Рим». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, III, 26)
Явившись в город, диктатор собирает новое войско и ведет его на выручку окруженным. Ночное сражение... Осаждающие, оказавшиеся между двух огней, разгромлены. Цинциннат с трофеями возвращается в Рим и... через шестнадцать дней после своего назначения слагает диктаторские полномочия, чтобы вернуться на свое поле.
Цинциннат — персонаж реальный, хотя история его приглашения и молниеносной диктатуры, возможно, вымышленная. Но образ простого римлянина, встающего в критическую минуту во главе государства, едва отерши пот со лба и облачившись в тогу, в течение столетий будет в глазах потомков служить эталоном личного достоинства, мужества и преданности Риму.
Этим я пока ограничусь в цитировании военных эпизодов первого столетия существования Республики. Так или иначе, но римляне отбились. Они ничего не потеряли и практически ничего не приобрели, если не считать военного опыта и спаянности своего народа. Впрочем, эту спаянность они обрели далеко не сразу, а лишь пройдя через целый ряд внутриполитических коллизий. О них сейчас и пойдет речь.
Одним из непременных атрибутов ранних этапов развития едва ли не любого народа являлось долговое рабство. Как только общественное развитие поднималось над уровнем стаи, где безраздельно господствует воля вожака, как только люди получали минимальную самостоятельность в обеспечении своих жизненных потребностей, так сразу им требовалась возможность займа. Без этого нельзя было справиться с неизбежными временными трудностями. Но как обеспечить возврат долга, если должник, на беду, лишится всего имущества? Ответ очевиден: ему придется расплатиться единственным, что у него остается — своим трудом. Теперь уже не на себя, а на заимодавца. Если же тому его труд не нужен, то на другого, кто оплатит долг, то есть купит должника. Несостоятельный должник становится рабом или продает в рабство своих детей. Негуманно, но логично! До гуманизма наши далекие предки еще не поднялись, зато логики им было не занимать.
Как мы помним, плебеям, людям, в большинстве своем пришлым и неимущим, приходилось одалживаться у римских патрициев землей и тягловым скотом. И те, естественно, сразу же оградили свои интересы законом о долговом рабстве. Для тех, кто готов был в поте лица трудиться, беда вроде и невелика. Да начались непрерывные войны. Плебеям дарована была честь защищать Рим. Но жалованья солдатам еще не положено, трофеев тоже пока нет — дай бог отбиться (если и перепадает кое-какая добыча, то только патрициям). Между тем хозяйство разваливается, противник сжигает постройки и посевы, угоняет скот. Нет урожая — нечем расплатиться с кредиторами. А закон неумолим!
Вот, быть может, и вымышленное, но вполне реалистичное описание эпизода, послужившего, если верить Титу Ливию, толчком к восстанию плебеев, с которого началась их длительная борьба с патрициями за свою свободу:
«Общее недовольство, и без того усиливавшееся, разожжено было зрелищем бедствий одного человека. Старик, весь в рубцах, отмеченный знаками бесчисленных бед, прибежал на форум. Покрыта грязью была его одежда, еще ужасней выглядело тело, истощенное, бледное и худое, а лицу его отросшая борода и космы придавали дикий вид. Но узнали его и в таком безобразном облике и говорили, что он командовал центурией, и, сострадая ему, наперебой восхваляли его военные подвиги; сам же он в свидетельство своих доблестей показывал, открыв грудь, шрамы, полученные в разных сражениях. Спросили его, отчего такой вид, отчего такой срам, и когда вокруг него собралась толпа не меньше, чем на сходке, ответил он, что воевал на сабинской войне, и поле его было опустошено врагами, и не только урожай у него пропал, но и дом сгорел, и добро разграблено, и скот угнан, а в недобрый час потребовали от него налог, и вот сделался он должником. Долг, возросший от процентов, сначала лишил его отцова и дедова поля, потом остального имущества и, наконец, подобно заразе, въелся в само его тело: не просто в рабство увел его заимодавец, но в колодки, в застенок. И он показал свою спину, изуродованную следами недавних побоев. Это зрелище, эта речь вызвали громкий крик. Волнению уже мало места на форуме, оно разливается по всему городу: должники в оковах и без оков вырываются отовсюду к народу взывают к защите квиритов. Повсюду являются добровольные товарищи мятежников; и уже улицы заполнены толпами людей, с криком бегущих на форум». (Там же. Т. 1, II, 23)
Долго копившаяся обида плебеев взрывается бунтом. Поведение толпы на площади становится все более угрожающим:
«Не столько прося уже, сколько грозя, они требуют, чтобы консулы созывали сенат, окружают курию, хотят сами быть свидетелями и распорядителями обсуждения государственных дел... Уже близко было к тому, что власть консулов не сдержит людского гнева, когда и те, кто не знал, что опасней — идти или медлить, все-таки явились в сенат. Однако и в заполнившейся наконец курии согласия не было — ни между отцами, ни даже между самими консулами. Аппий, крутой нравом, предлагал употребить консульскую власть: схватить одного-другого, и остальные успокоятся. Сервилий же, склонявшийся к более мягким мерам, полагал, что возбужденные умы лучше переубедить, чем переломить, — оно и безопасней, и легче.
Среди таких бедствий надвигается опасность еще страшней: в Рим прискакали латинские всадники с грозной вестью, что на город движется готовое к бою войско вольсков. Государство настолько раскололось раздором надвое, что известие это было совсем по-разному принято сенаторами и плебеями. Простой народ ликовал. Боги мстят за своеволие сенаторов, говорили плебеи; они призывали друг друга не записываться в войско... Сенат же, приунывший и напуганный двойной опасностью — и от граждан и от врагов, стал просить консула Сервилия, чей нрав был приятней народу, выручить государство в столь грозных обстоятельствах. Тогда консул, распустив сенат, выступил на сходке. Там он заявил, что сенаторы полны забот о простом народе, однако плебеи — лишь часть гражданского целого, хотя и большая, поэтому думам о них помешала тревога об общем деле... Доверие к своей речи укрепил он указом, чтобы никто не держал римского гражданина в оковах или в неволе, лишая его возможности записаться в консульское войско, и чтобы никто, пока воин в лагере, не забирал и не отчуждал его имущества, и не задерживал бы его детей и внуков. После такого указа и собравшиеся здесь должники спешат тотчас записаться в войско, и со всего города сбегаются люди на форум, вырвавшись из-под власти заимодавцев, и торопятся принести присягу. Из них составился большой отряд, и никакой другой не выказал столько доблести и усердия в войне с вольсками». (Там же. 23, 24)
Но вот противник разбит, опасность миновала, войско возвращается, и... власти, как всегда, забывают о своих обещаниях. Должников хватают и возвращают заимодавцам, консул Аппий правит жестокий суд над новыми должниками. Народ возмущен. Толпа на форуме криками заглушает приговоры консула. Начинается смута. Плебеи собираются по ночам, сговариваются о сопротивлении. В это время происходит очередная смена консулов, и очередная военная опасность появляется на горизонте. Теперь войну объявляют сабиняне. Сенат требует от консулов жестких мер, но тщетно они на форуме поименно выкликают юношей. Никто не отзывается, а из собравшейся вокруг толпы кричат, что консулы не получат ни одного воина, пока не исполнят обещание вернуть свободу должникам. Попытка применить силу кончается неудачей — ликтора, пытающегося схватить одного из призывников, толпа прогоняет. Начинается драка. Достается и сенаторам, пришедшим было на помощь консулам. Колеблется один из устоев Рима — почтение к «отцам».
В страхе вновь созывают сенат. Предложение пойти на уступки народу опрометчиво отклонено. Вместо этого принято решение назначить диктатора. Он вправе казнить ослушников и на его действия нет апелляции — бунт для острастки следует подавить! Тем более что времени терять нельзя. Кроме сабинян, против Рима опять выступили вольски, да еще эквы — три войска с трех сторон идут на Рим. К счастью для сенаторов, у них хватает ума передать неограниченную власть не автору предложения о диктатуре ненавистнику плебеев Аппию Клавдию, а Валерию — человеку сдержанному, пользующемуся определенным доверием у плебеев, поскольку право апелляции к народу было дано в свое время по предложению его брата.
Валерий начинает с того, что издает указ, весьма схожий с указом Сервилия, — снова обещано освобождение должников. «Кредит доверия» — понятие не столь современное, как полагают многие. Народ, хотя однажды и обманутый, верит Валерию. Набирается огромное войско. И... все повторяется. Враги разбиты, войско возвращается. Но тщетно Валерий убеждает сенаторов принять меры по облегчению положения должников. Военная угроза миновала, похоже, надолго. Сенаторы, сами заимодавцы, не желают нести ущерб. Валерия не слушают. Он досрочно слагает с себя полномочия диктатора. Плебеи понимают, что больше им надеяться не на что и открывают для истории грозное оружие угнетаемых — забастовку. Еще не распущенное войско уходит на гору, что расположена в паре километров к северу (потом ее назовут «священной»), устраивает там лагерь и ждет.
Идет день за днем. Войско не предпринимает никаких агрессивных действий, если не считать добычи минимального пропитания с окрестных полей, но не возвращается. В Риме начинается паника. Патриции боятся, что солдаты обратят свое оружие против них, боятся оставшихся в городе плебеев. А те боятся мести патрициев. Все ждут со страхом, что соседи, узнав о расколе, снова выступят против Рима.
В лагерь отправляется посольство, начинаются переговоры о примирении. Достигнуто соглашение. Священное право собственности не ущемлено, закон о долговом рабстве остается в силе. Но плебеи получают гарантию того, что рамки этого закона не будут расширены. Они получают реальную возможность защиты от произвола консулов и патрициев. Учреждены новые выборные магистратуры — «народных трибунов». Их могут занимать только плебеи, и выбирать будут тоже только плебеи. У народных трибунов нет определенных административных или властных функций, но зато они наделены правом вето на любые решения консулов, на любые постановления сената и комиции. Только диктатор и цензоры свободны от вмешательства трибунов в их дела. Право трибунской «интерцессии» (вмешательства, запрета) распространяется и на судебные процессы. Трибун может отобрать «дело» у судьи и отдать его на суд народа. Любой плебей в случае необходимости найдет себе убежище в открытом днем и ночью, неприкосновенном жилище трибуна. А главное — неприкосновенен сам трибун. Великой клятвой поклялись плебеи на Священной горе, что всякий, кто осмелится перечить народному трибуну, а тем более, поднимет на него руку, обречен богам подземного царства. Он будет убит, а имущество его конфисковано и передано в храм Цереры — покровительницы плебеев-земледельцев.
Таким образом, реальная сила трибуна оказывается очень велика. Он не только может защитить собрата-плебея от несправедливости власть имущих, но и заблокировать любое их решение, любое действие — даже набор войска для ведения войны.
Под угрозой гибельного раскола патрицианский сенат вынужден со всем этим согласиться.
Трибунов должны избирать в собраниях плебеев сроком на один год. Сначала эти собрания собирались по куриям, но там на выбор трибунов через своих клиентов влияли патриции. В 471 году, по настоянию плебеев, выборы трибунов переносятся в трибы (районы). К этому времени их было уже двадцать одна — четыре городские и семнадцать сельских. Впоследствии собрания по трибам, но уже с участием патрициев — «трибутские комиции» — стали рассматривать все вопросы жизни города и потеснили центуриатские комиции, особенно в деле принятия новых законов. Но избрание трибунов, по-прежнему, оставалось прерогативой собраний (по трибам) только одних плебеев.
Вначале было решено избирать двух трибунов. Причем каждый из трибунов получал, помимо прочего, еще и право накладывать запрет на все распоряжения своего коллеги. В том числе он мог и приостановить действие наложенного тем вето. Здесь заложен все тот же римский принцип согласия (консенсуса). Но здесь же и возможность подрыва трибунской власти путем давления или подкупа одного из трибунов, особенно впоследствии, когда число их возросло сначала до пяти (в том же 471 году), а потом и до десяти (в 457 году).
После учреждения института народных трибунов, на фоне непрестанных оборонительных войн с соседями, развернулась борьба неимущих плебеев за землю. Я говорю о неимущих, ибо, разумеется, в этом сословии произошло имущественное расслоение. Кто-то из пришлых или присоединенных к Риму граждан принес с собой приличное состояние, кому-то улыбнулась фортуна и он сумел стать на ноги или урвать кое-что из военной добычи — так или иначе, но появились состоятельные и даже богатые плебейские роды. Их члены еще не допущены к занятию государственных должностей, не могут войти в состав жреческих коллегий, но уже становятся сенаторами. Правда «младшими» — без права участия в обсуждении вопросов, а только в «голосовании ногами» (сторонники и противники каких-либо решений в сенате расходились в разные стороны).
Но большинство плебеев непрерывные войны разоряли, заставляли продавать землю, превращали в нищих, если не в рабов. А между тем в общем владении города находилось довольно много земли, либо пустовавшей изначально, либо прихваченной у соседей. Эту землю фактически «оккупировали» (римляне так и называли эти действия — оккупация) патриции — сначала для выпаса скота, а потом и для расширения своих владений. Бедняки требовали ее раздела. Патриции всеми средствами старались этому помешать. Трибуны под давлением народа прибегали к шантажу — запрету набирать войско, когда соседи собирались на Рим войной. Консулы и диктаторы опирались на свою власть, на большинство в центуриатских комициях, на тайное сочувствие некоторых трибунов, каковыми народ избирал людей «уважаемых», а значит, состоятельных. Одних трибунов умело настраивали против других. Законы о разделе земли, таким образом, неизменно проваливались.
Борьба эта продолжалась целое столетие, без заметного успеха для плебеев. Правда, в 467 году, когда римлянам удалось захватить приморский город Анций с его окрестностями, расположенный километрах в 50-ти к югу от Рима, консул Фабий предложил плебеям поделить эти земли и образовать на них римскую колонию. Но Рим был еще слаб, и поселяться так далеко от спасительных стен города согласились немногие. Так что первый серьезный раздел захваченной у неприятеля земли произошел лишь в начале следующего века после взятия этрусского города Вейи, расположенного всего в двадцати километрах от Рима. Но об этом речь впереди.
Еще одной причиной недовольства плебеев служило отсутствие писаных законов. Кое-какие законы, конечно, существовали, но были известны только понтификам, а консулы судили как бог на душу положит, что открывало дорогу произволу. Плебеи требуют составления гласного свода законов. Патриции соглашаются — они надеются законодательным путем ограничить своеволие народных трибунов.
Римлянам известно, что за полтора века до того в Афинах мудрец Солон не только сумел погасить начавшуюся было войну между богатыми и бедными, но и дал афинянам такие законы, которые способствовали процветанию их государства. В Афины отправляется посольство с заданием списать законы Солона. Римлянам свойственна гордость, но не снобизм. Где надо, они готовы проявить себя прилежными учениками. По возвращении послов избирают коллегию из десяти человек (децемвиров) для разработки свода римских законов. Сенаторам удается настоять на том, что вся коллегия составляется из патрициев. Возглавляет ее Аппий Клавдий — сын уже известного нам консула и такой же, как его отец, ненавистник плебеев. Во избежание давления на децемвиров в тот год, по решению народа, ни консулы ни трибуны не избираются, сенат не созывается. Суд в городе поочередно творят все десять членов коллегии. Дежурный судья является на форум, подобно консулу, в сопровождении двенадцати ликторов. Чтобы возражения и споры не мешали работе децемвиров, упразднена на время и возможность апелляции к народу на любые их решения.
И вот к концу 451-го года законы составлены, записаны на десяти досках, обсуждены постатейно и утверждены в центуриатских комициях. Можно бы вернуться к нормальной жизни государства. Но в ходе обсуждения законов высказывались предложения их кое-чем дополнить. Решено повторить сей удачный опыт, еще на год избрать коллегию децемвиров, сменив ее состав, чтобы новые люди «свежим глазом» могли взглянуть на весь свод законов. Только Аппий Клавдий для обеспечения преемственности пусть останется во главе коллегии. Он же и подберет кандидатов в ее состав.
Новая коллегия избрана. На этот раз в ней даже поровну патрициев и плебеев — разумеется, людей состоятельных, могущих посвятить себя целиком общему делу. И тут Аппий Клавдий сбрасывает с себя постылую маску «друга народа». В коллегию он подобрал единомышленников и может наконец осуществить свой давний замысел — ввести в Риме тираническое правление. В день вступления в должность децемвиры приходят на форум в сопровождении двенадцати ликторов каждый. Сто двадцать ликторов и у каждого в фасках — секира! Это прямая угроза. Законное сопротивление невозможно — ведь право апелляции отменено. Простой народ, да и сенаторы тоже, в ужасе. Все боятся заикнуться о свободе — ведь ликторы тут же пустят в ход розги, а то и секиры. Воцаряется произвол. Децемвиры выносят пристрастные судебные решения. Преследованиям подвергаются, конечно, в первую очередь плебеи. Их имущество конфискуют и за счет этого наградами подкупают патрицианскую молодежь, окружающую децемвиров.
Две дополнительные доски законов уже составлены и обнародованы. Кончается и год, на который избрана коллегия десяти, но комиции для утверждения законов никто не собирает, и децемвиры свою власть слагать явно не собираются. Тут, как полагается, на горизонте появляется новая военная угроза. Против Рима выступают с двух сторон сабиняне и эквы. Надо набирать войско, но кому? У децемвиров на это нет полномочий. Они собирают сенат. Двое сенаторов, Луций Валерий и Марк Гораций, обвиняют децемвиров в злоупотреблении властью. Но старейшие сенаторы добиваются решения о поручении децемвирам вести войну. Набор объявлен. Опасаясь скорой расправы ликторов, молодежь не смеет уклониться от призыва. Войско сформировано, децемвиры распределяют между собой командование и выступают в поход. Римляне терпят полное поражение на обоих фронтах. Войско, сражавшееся против сабинян, бежит под покровом ночи и становится укрепленным лагерем невдалеке от Рима. Второе войско наголову разгромлено эквами, остатки его, побросав имущество, укрываются в союзном Риму городе Тускуле. Сенат принимает чрезвычайные меры по защите города.
Тем временем децемвиры совершают два страшных преступления. На сабинском фронте некоего доблестного воина, Луция Сикция, агитировавшего в войске против децемвиров, посылают в разведку, а сопровождающим поручают убить его. Преступление обнаруживается, в лагере вскипает ненависть к командующему.
Другое тяжкое злодеяние совершается в Городе. В нем повинен сам Аппий Клавдий. Процитируем несколько фрагментов описания этого происшествия у Тита Ливия. Это критический момент в борьбе плебеев и патрициев. Испытанию подвергнется реальное соотношение сил. А то, что это испытание сфокусируется на ярком драматическом эпизоде, на вопиющей несправедливости, так это очень типично для всех народных волнений. Дело происходит в середине V-гo, а не VIII века до Р.Х., и можно думать, что легендарный рассказ о нем, использованный историком, недалек от истины.
«Аппий Клавдий, — пишет Тит Ливий, — воспылал страстью к девушке из народа и решил удовлетворить свою похоть. Отец девушки, центурион Луций Вергиний, несший службу у Альгида, был образцовым воином и гражданином. Так же была воспитана его жена, так воспитывались и дети. Дочь он просватал за бывшего трибуна Луция Ицилия, храбреца, доблестно отстаивавшего права плебеев. Девушка редкой красоты, она была уже взрослой и не соблазнилась подарками и обещаниями Аппия, и тогда тот, от страсти потеряв голову, решился на грубое насилие. Он поручает своему клиенту Марку Клавдию (клиенты носили родовое имя своих патронов), чтобы тот объявил ее своею рабыней и не уступал требованиям временно оставить ее на свободе, полагая, что в отсутствие ее отца Вергиния это беззаконие будет возможно. Когда она пришла на Форум, где среди лавок была и школа, в которой она обучалась грамоте, Клавдий, слуга децемвирской похоти, остановил наложением руки девушку и, объявив ее дочерью своей рабыни и, следовательно, рабыней, приказал без промедления следовать за ним, иначе, мол, он уведет ее силой. Бедная девушка остолбенела, но на крики кормилицы сбежался народ. Имена ее отца Вергиния и суженого Ицилия были хорошо известны. Тех, кто знал их, объединяла дружба, а толпу — негодование против козней Клавдия. Девушка была уже спасена от насилия, но тут предъявивший на нее права заявил, что ни к чему собирать такую толпу: он, мол, намерен действовать не силой, но по закону. И вот он вызывает девицу в суд. По совету близких, присматривавших за ней, она явилась к трибуналу Аппия. Истец поведал свою выдумку судье, который сам и был сочинителем этой басни, что, мол, девушка родилась в его, Клавдия, доме, откуда была похищена и подброшена Вергинию... Защитники девушки сказали, что Вергиний отсутствует по делу государства и если ему сообщат о случившемся, то он будет в городе через два дня, а посему несправедливо в отсутствие отца тягаться о детях, и потребовали отсрочить дело до его возвращения.» (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, III, 44)
Аппий соглашается отложить рассмотрение дела, чтобы послали за отцом, но девушку до суда пусть истец оставит у себя. Это противозаконно!
«На неправый приговор, — продолжает Ливий свой рассказ, — роптали, но никто не осмеливался ему воспротивиться, пока не вмешались дядя Вергиний, Публий Нумиторий и ее жених Ицилий. Толпа расступилась в надежде, что Ицилий сумеет противостоять Аппию, но тут ликтор объявляет, что приговор уже вынесен, и отталкивает Ицилия, не давая ему говорить...
...Толпа была возбуждена, и стычка казалась неминуемой. Ицилия обступили ликторы, но дальше угроз дело не пошло, поскольку Аппий сказал, что Ицилий, человек беспокойный и не забывший еще, как был трибуном, вовсе не защищает Вергинию, но ищет повода для смуты. Однако повода он ему не даст, и не из-за наглости Ицилия, а лишь покровительствуя свободе и считаясь с отцовским званием Вергиния, в чье отсутствие не будет совершен ни суд, ни приговор. Марка Клавдия он попросит поступиться своим правом и до завтра отпустить девушку. А если завтра отец не прибудет, пусть, мол, Ицилий и ему подобные знают — он выкажет твердость, достойную законодателя и децемвира». (Там же. 45, 46)
Конечно же, это была уловка. Аппий пишет децемвирам в войско, чтоб те не давали Вергинию отпуска и даже взяли его под стражу. Но подлый приказ опаздывает: Вергиний отбывает еще до полуночи, а бесполезное письмо о его задержании доставлено лишь назавтра утром.
«А в Риме, — рассказывает дальше Тит Ливий, — все граждане в нетерпении собрались на форуме, куда Вергиний, одетый как на похоронах, привел дочь, обряженную в лохмотья, в сопровождении нескольких матрон и толпы защитников. Здесь Вергиний стал обходить людей; обращаясь к ним, он не только просил содействия, но требовал его как должного: он-де каждый день идет в бой за их жен и детей, и никто не сравнится с ним ни храбростью, ни числом совершенных на войне подвигов. Но что в них пользы, когда в городе, не задетом войной, наши дети стоят на краю гибели, как если бы он был уже захвачен врагом?.. « (Там же. 47)
Однако помочь Вергинию никто не смог, так как никакого разбирательства дела не последовало.
«Децемвир, — продолжает Ливий, — потерявший от похоти разум, заявил, что не только по вчерашним нападкам Ицилия и буйству Вергиния, свидетели коих были все римляне, но и по другим достоверным сведениям он понял, что с целью посеять смуту в Городе всю ночь собирались сходки. И потому, мол, он, зная о предстоящей борьбе, пришел сюда в сопровождении вооруженных людей, но не ради притеснения мирных граждан, а для того, чтобы, не роняя высокого сана, обуздать тех, кто нарушает общественное спокойствие. «И потому советую вам успокоиться, — сказал он. — А вы, ликторы, расчистите путь в толпе, чтобы хозяин мог вернуть свою собственность!»
Он произнес это громовым голосом и с такой злобой, что толпа расступилась, сама принося девушку в жертву насилию. И тогда Вергиний, увидев, что помощи ждать не от кого, с мольбой обратился к Аппию: «Прости отцу, ради его горя, если я сказал против тебя неразумное слово, но позволь напоследок здесь, в присутствии девицы, расспросить кормилицу, как обстояло дело, чтобы я, если и правда не отец, ушел отсюда со спокойным сердцем.» Получив разрешение, он отошел с дочерью и кормилицей к лавкам, что расположены возле храма Венеры Очистительницы и зовутся теперь Новыми, и выхватив там у мясника нож, воскликнул: «Только так, дочь моя, я могу сделать тебя свободной». Тут он пронзает грудь девушки и, обернувшись к судилищу, произносит: «Да падет проклятие за эту кровь на твою голову, Аппий!».
При виде ужасного злодеяния поднялся крик, и Аппий, выйдя из оцепенения, приказывает схватить Вергиния. Но тот, размахивая ножом, под защитой шедшей за ним толпы прокладывал себе путь к воротам. Ицилий и Нумиторий, подняв бездыханное тело, показывали его, народу, оплакивая красоту девушки, навлекшую на нее злодеяние Аппия, осуществить которое вынужден был отец...» (Там же. 48)
Здесь следует остановиться на минуту и уяснить, что именно Тит Ливий и современники описываемых событий считали «ужасным злодеянием»: убийство отцом дочери или преступные поползновения децемвира, сделавшие это убийство, с их точки зрения, необходимым? Судя по всему — именно последнее. Мы сейчас вряд ли сможем похвалить отца, убивающего родную дочь. Но вспомним обостренное отношение римлян к вопросам чести, а также то, что закон и обычай давали отцу семейства право отнимать жизнь, от него произошедшую. Закон ведь всегда фиксирует то, что утверждено практикой общественной жизни. Вспомним еще, как, согласно легенде, на заре Римской Истории отец одного из братьев Горациев, убившего свою сестру за сочувствие к врагу, говорит на суде, что «дочь свою он считает убитой по праву». Такие были нравы!
Но вернемся к описанию драмы, разыгравшейся на римском форуме. Она, между тем, приобретает новую окраску:
«Мужчины, а больше всех Ицилий, негодуя, говорили о потере трибунской власти и права на обжалование перед народом.
Толпу взволновала как чудовищность злодеяния, так и надежда, воспользовавшись происшедшим, вернуть себе свободу. Аппий то вызывал Ицилия, то приказывал схватить его, но служителям не дали подойти, и тогда он сам, окруженный патрицианской молодежью, ринулся в толпу и приказал заключить Ицилия под стражу. Ицилия, однако, обступила уже не просто толпа, рядом с ним были и Луций Валерий, и Марк Гораций, которые оттолкнули ликтора, утверждая, что если Аппий прибегнет к праву, то они могут защитить Ицилия от частного лица, а если он применит силу, то и тогда они ему не уступят. Тут-то и вспыхнула жестокая распря. Ликтор децемвира напал было на Валерия и Горация, но толпа разломала его фаски. Аппий поднялся (на трибунал. — Л.О.), чтобы обратиться к народу, но Гораций и Валерий пошли вслед за ним. Народ слушал их, а децемвиру не давал говорить. Уже Валерий, словно он был облечен властью, приказывал ликторам оставить в покое честного человека — это сломило дух Аппия, и в страхе за свою жизнь, закутав лицо, он бежал с форума и незаметно укрылся в близлежащем доме». (Там же. 49)
Далее события разворачиваются стремительно. Вергиний возвращается к остатку войска, сражавшегося против эквов, и рассказывает солдатам о злодеянии Аппия. Вспыхивает бунт. Несмотря на попытки децемвиров их остановить, воины отправляются в Рим и занимают Авентинский холм. К ним присоединяются многие плебеи из города. Собирается сенат. К мятежникам направляют трех бывших консулов спросить, по чьему приказу те оставили военный лагерь. В ответ восставшие требуют прислать к ним Валерия и Горация. Только с ними будут они вести переговоры.
Тем временем Ицилий прибывает в сабинскую армию, уже и так взбудораженную, как мы помним, убийством Луция Сикция. Выслушав его рассказ, часть воинов уходит в Рим и соединяется со своими товарищами на Авентине. Валерий и Гораций соглашаются отправиться к мятежникам только при условии, что децемвиры сложат свои полномочия. Те отказываются это сделать, пока не проведут утверждение дополнительных законов. Узнав об этом, плебеи, как их предки почти полвека назад, уходят из Рима на Священную гору. За войском идут все плебеи, которым позволяет возраст.
Этот эпизод очень характерен для римского менталитета. Децемвиров уже ненавидят все — и сенаторы и плебеи. Казалось бы, что стоит низложить, арестовать или изгнать из города этих десятерых? Но на их стороне закон! Децемвиры избраны без права апелляции. Никто не может лишить их власти, пока они сами не пожелают ее сложить. Уход плебеев — способ морального давления на них.
Рим опустел. Большинство сенаторов в страхе присоединяются к Валерию и Горацию. Они говорят: «Чего еще вы ждете, отцы-сенаторы? Децемвиры не желают покончить со своим упрямством, а вы намерены допустить, чтоб все было предано огню и разрушению? А вы, децемвиры? Что же это за власть, за которую вы так крепко держитесь? Или вы собираетесь вершить суд над крышами и стенами? И вам не стыдно, что ликторов на форуме чуть ли не больше, чем остальных граждан? Что если плебеи, увидав, что на нас не действует их уход, вернутся с оружием в руках? Или вы хотите, чтобы ваша власть пала вместе с самим городом?» (Там же. 52)
Децемвиры сдаются. Они просят сенаторов лишь о том, чтобы их оградили от расправы. Валерий и Гораций отправляются к плебеям. Те ставят условием восстановление власти трибунов и права апелляции к народу, а также казнь децемвиров, которых они грозят сжечь живьем...
«Размышляя здраво, — отвечали послы, — ваши требования справедливы настолько, что были бы выполнены и без их предъявления, ибо вы просите поруки вашей свободы, а не разрешения притеснять других. А гнев ваш заслуживает только прощения, но не поощрения, ибо, ненавидя жестокость, вы сами выказываете жестокость и, не обретя еще свободы, уже хотите господствовать над противником. Неужели никогда не перестанут плебеи Рима казнить патрициев, патриции — плебеев и мир не водворится в нашем государстве? Вам теперь нужнее щит, чем меч. Более чем достаточное унижение для них (децемвиров. — Л.О.) сделаться простыми гражданами, не нанося и не испытывая ущерба». (Там же. 53)
Согласие достигнуто. Сенатское постановление предписывает децемвирам немедленно сложить с себя полномочия, а Великому понтифику провести избрание народных трибунов. Децемвиры отправились на форум и, как пишет Тит Ливий, при всеобщем ликовании сложили с себя полномочия.
Войско и плебеи возвращаются в город. Избраны десять трибунов, в их числе Вергиний и Ицилий. Затем происходит избрание консулов с правом апелляции на их решения. Консулами, естественно, избирают Валерия и Горация. Они проводят закон о том, что решения трибутских комиции отныне будут обязательными для всего римского народа, а также постановление, предписывающее копии всех решений сената доставлять плебейским эдилам (помощникам трибунов) в храм Цереры. Весь комплекс законов, разработанный децемвирами, вырезают на двенадцати медных досках. В этих законах, между прочим, еще сохраняется долговое рабство и подтверждается запрещение браков между патрициями и плебеями. «Законы 12-ти таблиц» были утверждены собранием народа в 449-м году до Р.Х.
Децемвиров, кроме Аппия Клавдия, не наказывают, но изгоняют из города, а Аппия Вергиний, пользуясь правом трибуна, арестовывает и привлекает к суду. Видя ненависть и возбуждение всего народа, Аппий Клавдий, не дожидаясь суда, кончает с собой.
Валерий и Гораций срочно набирают войско. Воспрявшие духом римляне разбивают сначала эквов, потом сабинян.
Ближайшие после того годы отмечены столкновениями между народными трибунами и патрицианской молодежью, по поводу чего Тит Ливий меланхолически замечает:
«Трудно, защищая свою свободу, соблюсти меру, пока под видом сохранения равенства кто-то хочет возвыситься, чтоб угнетать другого, пока люди пугают других, у чтоб не бояться самим, пока, отражая обиду, мы причиняем ее другим, как будто этот выбор между насилием и страданием неизбежен». (Там же. 65)
Вторая половина V века прошла под флагом борьбы плебеев — на этот раз уже состоятельных плебеев, — за гражданское равноправие с патрициями. Главное значение, конечно, имело право быть избранными на государственные должности: консула, цензора и диктатора, а также в состав жреческих коллегий. Но особенно чувствительно уязвляло плебеев запрещение браков между двумя сословиями. Средства же в этой борьбе были те же, что и ранее: решения сената и распоряжения консулов, с одной стороны, и трибунское вето — с другой. Она продолжалась добрых полтораста лет. Медленно, шаг за шагом отвоевывали себе плебейские лидеры право на равные с патрициями власть и почет. Мы не будем следовать за перипетиями их борьбы — это скучно. Но, чтобы все-таки представить себе чувства тех, чьим потомкам предстояло вместе с отпрысками древних патрициев составить элиту города Рима, дадим слово трибуну Канулею. Вот (в передаче Тита Ливия) его речь, обращенная к народу в 445-м году — в самом начале этого упорного противоборства:
«Я и прежде, квириты, не раз замечал, как гнушаются вами патриции, считая вас недостойными жить с ними в тех же самых стенах единого Города; теперь это мне совершенно ясно — с такой яростью ополчились они на наши предложения, в которых нет ничего иного, кроме напоминания о том, что мы — их сограждане и хоть разный у нас достаток, но отечество — то же самое. Предлагаем же мы всего две вещи. Первое: мы требуем права на законный брак, которое обычно предоставляется и соседям, и чужеземцам: ведь даже побежденным врагам мы даруем право гражданства, которое куда как важней. Второе: мы не требуем ничего нового, а лишь домогаемся того, что и так уже принадлежит народу римскому, — права вверять власть тому, кому он сам пожелает. Почему же в ответ они подняли такую бурю, почему чуть ли не нападают на меня в сенате, почему готовы дать волю рукам и осквернить насилием освященный неприкосновенностью сан трибуна? Если римскому народу будет дано право свободно выбирать тех, кому хочет он вверить консульские полномочия, и плебей, достойный высшей, самой высокой должности, не будет лишен надежды ее получить, то неужели не устоит Город? Да разве вопрос, быть ли плебею консулом, равнозначен тому, как если бы в консулы предлагался раб или отпущенник? Чувствуете ли вы теперь, каково их к вам презрение? Будь это возможно, они отняли бы у вас и вашу долю дневного света; их бесит уже то, что вы дышите, что подаете голос, что имеете человеческий облик, и вот — боги милостивые — они объявляют, что нечестиво делать плебея консулом». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, IV, 3)
Нечестивость здесь упомянута не случайно. Главным возражением патрициев было то, что плебеев римская религия (а значит, сами Боги!) не допускает к птицегаданиям. Далее Канулей с горечью говорит:
«...запрет и отмена законных браков между патрициями и плебеями преследует лишь одну цель — унизить плебеев. В самом деле, почему вам тогда не запретить законные браки между богатыми и бедными? То, что везде и всюду было частным делом каждого — кому в какой дом приводить жену, из какого дома приходить за женой мужу, — вы забиваете в колодки надменнейшего закона, грозя расколоть граждан и сделать из одного гражданства — два. Вам осталось только нерушимо постановить, чтобы плебей не селился рядом с патрицием, не ходил по одной с ним дороге, не участвовал в общем застолье, не стоял на одном форуме». (Там же. 4)
В этом же году запрет на смешанные браки был отменен, и плебеи получили право быть избранными «военными трибунами с консульской властью». Это своеобразный компромисс. Право командования и даже право жизни и смерти подчиненных на войне, но без права совершения ауспиций. Любопытно, что еще в течение нескольких лет народ и на эти должности выбирал патрициев.
Перечень дат завоевания плебеями прав на занятие одной за другой всех магистратур не многим обогатил бы наше изложение. Отметим лишь, что примерно столетие ушло на овладение всеми «светскими» государственными постами, и еще полстолетия прошло, прежде чем было законодательно разрешено плебеям совершать ауспиции в качестве авгуров. К началу III века до Р.Х. плебеи добились практически полного равенства в гражданских правах с патрициями. В сенате уже давно плебейские роды заседали с патрицианскими. Богатая верхушка плебейского сословия слилась с патрицианской аристократией в одну «благородную элиту» (нобилитет).
Но вернемся на столетие назад — к концу V века до Р.Х.
Камилл
В 406-м году начинается очередная, но, в отличие от всех предыдущих затяжная (на 10 лет!) война с близлежащим по другую сторону Тибра богатым этрусским городом Вейи. В ходе этой войны впервые сенатским постановлением вводится жалованье солдатам и соответственно сбор средств для этой цели — сначала добровольный, а затем и принудительный, в виде военного налога. Также впервые римляне не снимают осаду города зимой. Однако победить упорство вейентов не удается. Другие этрусские города приходят на помощь осажденным, ситуация осложняется.
В 396-м году сенат принимает решение о назначении диктатора. Выбор падает на Марка Фурия Камилла. Опытный полководец, он казнями пресекает далеко зашедшее разложение осаждающего войска. Прекратив пустые случайные стычки с неприятелем, он заставляет всех воинов, разбив их на шесть смен, днем и ночью рыть подкоп под стены города. Вейенты этого не замечают. И наступает роковой для них день. Камилл начинает штурм крепости. Все ее защитники, поднявшись на стены, отражают натиск неприятеля. А тем временем римляне через подкоп выходят им в тыл. Вспыхивает паника. Ворота крепости распахиваются, и город наполняется римскими воинами. Его защитники капитулируют. Начинается избиение горожан... И вот уже все оставшиеся в живых жители города проданы в рабство, а его богатства разграблены солдатами и подошедшим из Рима простонародьем. Камилл вскоре слагает с себя диктаторские полномочия.
В течение двух последующих лет идет борьба между беднейшими плебеями и патрициями за обладание обширными близлежащими землями вейентов. Плебеи требуют их раздела. Они намерены и сами переселиться в опустевшие Вейи. Патрициям едва удается добиться отклонения закона о переселении. Зато приходится согласиться на подушный раздел между плебеями всей захваченной земли. Каждому желающему нарезано в собственность почти по два гектара. Победителя же вейентов, Камилла, как это нередко случается, римская толпа «отблагодарила» клеветой. Один из трибунов вызвал его в суд из-за вейской добычи. Оскорбленный полководец удалился в добровольное изгнание, «...моля бессмертных богов, чтобы неблагодарный город, которым он был безвинно обижен, как можно скорее пожалел о нем». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, V, 32) И действительно, ждать пришлось недолго.
В 391-м году в Рим пришло известие, что галлы осадили расположенный километрах в ста пятидесяти к северу этрусский город Клузий. Еще со времен Тарквиния Древнего несколько воинственных галльских племен, одно за другим, перевалив через приморские Альпы, захватили обширные земли в Северной Италии по обе стороны реки Пад (нынешний По). Впоследствии эта область будет именоваться Цизальпинской Галлией. В начале IV века до Р.Х. умножившимся галльским переселенцам не стало хватать земли и они начали продвигаться к югу. Клузийцы были наслышаны о многочисленности и военной мощи галлов и потому отправили послов в Рим с просьбой о помощи. Римляне не были связаны никаким союзом с Клузием и в помощи отказали. Но все же они посылают трех знатных юношей к галлам спросить, по какому праву те напали на мирных клузийцев. Галлы отвечают, что их право в оружии и что для храбрых мужей нет запретов. Жители Клузия, мол, имеют больше земли, чем могут обработать, — пусть поделятся добром, а не то галлы отнимут ее силой. В начавшемся вскоре сражении горячие римские послы, в нарушение всех норм международных отношений, принимают участие, и один из них убивает галльского вождя. Возмущенные галлы шлют в Рим посольство с требованием выдачи юношей.
Римляне, упоенные недавней победой над вейентами и не осведомленные о военной мощи галлов, не только в оскорбительной форме отказываются удовлетворить их законное требование, но еще и избирают нарушителей военными трибунами с консульской властью. Тогда галлы оставляют Клузий и стремительным маршем идут на Рим. Наспех собранное римское войско выступает им навстречу. Примерно в двадцати километрах от города, у впадения в Тибр речки Аллия два войска встречаются. У галлов большое численное преимущество. Римляне растягивают фронт, но галлы все равно его обходят. Не начав сражения, римляне обращаются в бегство. Большая часть воинов, в панике побросав оружие, переплывает Тибр и укрывается в Вейях. Остальные бегут в Рим. В тот же вечер (18 июля 390 г. до Р.Х.), не встретив сопротивления, галлы подходят к городу. К своему удивлению, они находят городские ворота незапертыми, а на стенах не видно его защитников. Опасаясь ловушки, галлы останавливаются на ночлег.
А тем временем в Риме «...ни той ночью, ни на следующий день, — пишет Тит Ливий, — люди уже не напоминали тех трусов, что бежали при Аллии. Не было никакой надежды защитить город оставшимися столь малыми силами, и потому римляне решили, что способные сражаться юноши, а также самые крепкие из сенаторов должны вместе с женами и детьми удалиться в Крепость и на Капитолий, свезти туда оружие, продовольствие и оттуда, с укрепленного места, защищать богов, граждан и имя римское. Фламину и жрицам-весталкам поручили унести как можно дальше от резни и пожара общественные святыни, чтобы о почитании богов было забыто не раньше, чем сгинет последний из почитателей. Если грозящее Городу разрушение переживут Крепость и Капитолий, обитель богов, если уцелеет боеспособная молодежь и сенат, средоточие государственной мудрости, то можно будет легко пожертвовать толпой стариков, оставляемых в Городе на верную смерть. А чтобы чернь снесла это спокойнее, старики — триумфаторы и бывшие консулы — открыто заявляли, что готовы умереть вместе с ними: лишние люди, не способные носить оружие и защищать отечество, не должны обременять собою воюющих, которые и так будут во всем терпеть нужду». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, V, 39)
Остальная масса граждан, в большинстве своем плебеи, непригодные к военной службе, перешли по мосту через Тибр и бросились в близлежащие города или рассеялись по соседним деревням.
«Между тем в Риме, — продолжает Ливий, — были закончены все приготовления к обороне Крепости, какие могли быть предприняты в подобных обстоятельствах. После этого все старцы разошлись по домам и стали ждать прихода неприятеля, душою приготовившись к смерти. Те из них, кто некогда занимал курульные (высшие государственные. — Л.О.) должности, желали умереть, украшенные знаками отличия своей прежней счастливой судьбы, почестей и доблести. Они воссели в своих домах на креслах из слоновой кости, облачившись в те священные одежды, в коих вели колесницы с изображениями богов или справляли триумфы. Некоторые передают, будто они решили принести себя в жертву за отечество и римских квиритов и будто сам Великий понтифик Марк Фабий произнес над ними посвятительное заклинание.
За ночь воинственность галлов несколько приутихла. Кроме того, им не пришлось сражаться, не пришлось опасаться поражения в битве, не пришлось брать Город приступом или вообще силой — поэтому на следующий день они вступили в Рим без злобы и рвения. Через открытые Коллинские ворота они добрались до форума, обводя глазами храмы богов и крепость, которая одна имела вид изготовившейся к отпору. На тот случай, если из Крепости или Капитолия совершат вылазку против разбредшихся воинов, галлы оставили небольшую охрану, а сами кинулись за добычей по безлюдным улицам. Одни толпой вламывались в близлежащие дома, другие стремились в те, что подальше, как будто именно там и собрана в неприкосновенности вся добыча. Но потом, испуганные странным безлюдьем, опасаясь, как бы враги не задумали какого подвоха против тех, кто блуждает поодиночке, галлы начали собираться группами и возвращаться на форум и в кварталы по соседству. Дома плебеев там были заперты, а знатных — стояли открытыми, и тем не менее они входили в них чуть ли не с большей опаской, чем в закрытые. С благоговением взирали галлы на тех мужей, что восседали на пороге своих домов; кроме украшений и одежд, более торжественных, чем бывает у смертных, эти люди походили на богов еще и той величественной строгостью, которая отражалась на их лицах. Варвары дивились на них, как на статуи. Рассказывают, что в этот момент один из стариков, Марк Папирий, ударил жезлом из слоновой кости того галла, который вздумал погладить его по бороде (а тогда все носили бороды). Тот пришел в бешенство, и Папирий был убит первым. Другие старики также погибли в своих креслах. После их убийства не щадили уже никого из смертных, дома же грабили, а после поджигали». (Там же. 41)
Я не склонен разделять патриотические восторги по поводу военных побед наших предков и числа убитых ими врагов. Но все-таки это дорогого стоит — иметь право вообразить в истории своего народа опустевший город и стариков в торжественных одеяниях, восседающих в ожидании жертвенной смерти!
В течение нескольких дней с высоты Капитолийского холма воины и сенаторы в отчаянии наблюдали как пожары и разрушения уничтожают Рим. Однако галлам не удалось выманить римлян из крепости, и они решили ее штурмовать. Штурм не удался. Склоны холма были слишком круты, и римляне, хотя их было мало, легко сбрасывали вниз карабкавшихся по скалам галлов. Было решено взять защитников крепости измором. Но оказалось, что и для самих галлов в городе нет продовольствия, — его запасы погибли в огне пожаров. Из соседних же деревень хлеб успели свезти и укрыть за стенами Вейи. Часть войска отправляется за провиантом в отдаленные окрестные города. На свою беду фуражиры оказываются вблизи Ардеи, где как раз находится Камилл. Он уговаривает ардеян, союзников Рима, не отсиживаться за стенами, а воспользоваться беспечностью галлов и напасть ночью на их неохраняемый лагерь. План Камилла удается — горстка ардеян под его командой устраивает сущую резню в лагере растерявшихся спросонья галлов.
Эта дерзкая акция заставляет римлян, укрывшихся в Вейях, вспомнить об обиженном полководце. Они уже оправились от понесенного поражения и горят желанием смыть с себя позор. В Вейи все эти дни стекаются воины, рассеявшиеся по окрестностям после злосчастной битвы, прибыло и подкрепление из Лация. Не хватало только полководца. Со всеобщего согласия было решено пригласить из Ардеи Камилла.
Но тут вмешиваются римская дисциплинированность и почитание законов. Диктатора может назначить только сенат, а он в Риме, окруженный на Капитолии. Казалось бы, какая бессмыслица считаться с этим законом на краю гибели государства! Но для римлян это не так. Последующий рассказ Тита Ливия, быть может, легендарен, но представьте себе, какую роль эта легенда играла во всей последующей истории Рима. Итак, предоставим ему слово:
«Проникнуть через вражеские посты было делом рискованным — для этого свершения предложил свои услуги отважный юноша Понтий Коминий. Завернувшись в древесную кору, он вверил себя течению Тибра и был принесен в Город, а там вскарабкался по ближайшей к берегу скале, такой отвесной, что врагам и в голову не приходило ее сторожить. Ему удалось подняться на Капитолий и передать просьбу войска на рассмотрение должностных лиц. В ответ на нее было получено распоряжение сената, согласно которому Камилл, возвращенный из ссылки куриатными комициями, немедленно провозглашался от имени народа диктатором; воины же получали право выбрать полководца, какого пожелают. И с этим вестник, спустившись той же дорогой, поспешил обратно. Отряженные в Ардею послы доставили Камилла в Вейи». (Там же. 46)
Далее у Тита Ливия следует знаменитый эпизод, когда гуси спасли Рим, точнее, крепость на Капитолии. Быть может, обнаружив следы дерзкого юноши, галлы решают подняться на холм по его пути — наверняка плохо охраняемом из-за своей крутизны. «Под покровом ночи, — пишет Тит Ливий, — они сперва выслали вперед безоружного лазутчика, чтобы разведать дорогу, а потом полезли наверх уже все. Там, где было круто, они передавали оружие из рук в руки; одни подставляли плечи, другие взбирались на них, чтобы потом вытащить первых; если было нужно, все подтягивали друг друга и пробрались на вершину так тихо, что не только обманули бдительность стражи, но даже не разбудили собак, животных столь чутких к ночным шорохам. Но их приближение не укрылось от гусей, которых, несмотря на острейшую нехватку продовольствия, до сих пор не съели, поскольку они были посвящены Юноне. Это обстоятельство и оказалось спасительным. От их гогота и хлопанья крыльями проснулся Марк Манлий, знаменитый воин, бывший консулом три года назад. Схватившись за оружие и одновременно призывая к оружию остальных, он среди всеобщего смятения кинулся вперед и ударом щита сбил вниз галла, уже стоявшего на вершине. Покатившись вниз, галл в падении увлек за собой тех, кто поднимался вслед за ним, а Манлий принялся разить остальных — они же, в страхе побросав оружие, цеплялись руками за скалы. Но вот уже сбежались и другие римляне, они начали метать стрелы и камни, скидывая врагов со скал. Среди всеобщего обвала галльский отряд покатился к пропасти и рухнул вниз». (Там же. 47)
В легенде есть еще одна любопытная деталь: несмотря на скудость продовольственных запасов, по единодушному решению всех воинов, в награду Марку Манлию каждый из них принес по полфунта полбы и по кварте вина. Кроме того, к его имени стали добавлять почетное прозвище «Капитолийский».
Таким образом, атака галлов отбита, но голод все неумолимее терзает защитников крепости. Однако и галлам приходится несладко. В опустошенном пожарами городе их тоже одолевает голод, непривычная, удушливая жара, косят болезни. Уже нет сил хоронить умерших — трупы нагромождают без разбора и сжигают. Начинаются переговоры о мире. «День за днем, — повествует Ливий, — воины вглядывались вдаль, не появится ли помощь от диктатора, и в конце концов лишились не только еды, но и надежды. Поскольку все оставалось по-прежнему, а обессилевшие воины уже чуть не падали под тяжестью собственного оружия, они потребовали или сдаться, или заплатить выкуп на любых условиях, тем более что галлы ясно давали понять, что за небольшую сумму их легко будет склонить к прекращению осады... Военный трибун Квинт Сульпиций и галльский вождь Бренн согласовали сумму выкупа, и народ, которому предстояло править всем миром, был оценен в тысячу фунтов золота. Эта сделка, омерзительная сама по себе, была усугублена другой гнусностью: принесенные галлами гири оказались фальшивыми, и когда трибун отказался мерить ими, заносчивый галл положил еще на весы меч. Тогда-то и прозвучали невыносимые для римлян слова: «Горе побежденным!» (Там же. 48)
В последний момент появляется войско из Вей, и сам Камилл поднимается на Капитолий. Ливий продолжает:
«Но ни боги, ни люди не допустили, чтобы жизнь римлян была выкуплена за деньги. Еще до того, как заплачено было чудовищное вознаграждение, когда из-за пререканий отвешивание золота прекратилось, неожиданно появился диктатор. Он приказал, чтобы золото убрали прочь, а галлов удалили. Когда те стали упираться, ссылаясь на то, что действуют по договору, он заявил, что последний не имеет законной силы, поскольку был заключен уже после того, как он был избран диктатором, без его разрешения, должностным лицом низшего ранга. Камилл велел галлам выстраиваться для битвы, а своим — сложить походное снаряжение в кучу и готовить оружие к бою. Освобождать отечество надо железом, а не золотом, имея перед глазами храмы богов, с мыслью о женах, детях, о родной земле, обезображенной ужасами войны, обо всем том, что священный долг велит защищать, отвоевывать, отмщать!» (Там же. 49)
Сражение разыгрывается сначала в самом Риме. Галлы терпят поражение и уходят. Римляне их преследуют. В следующем сражении, уже в десяти километрах от города, галлы разбиты наголову, и Камилл с триумфом возвращается в Рим. Сенат просит его сохранить диктатуру до конца года — в городе после ухода галлов началось великое смятение, которое только авторитет диктатора-освободителя может прекратить. Дело в том, что народные трибуны подбивают толпу оставить руины города и вместо его восстановления переселиться в недавно завоеванные, полупустые Вейи.
Сенаторы и Камилл уговаривают плебеев не делать этого, так как боги, если их бросят в городе, жестоко накажут римлян, а перенести их освященные на своем месте храмы невозможно. Кроме того, оставление города покроет римлян позором поражения. Камилл в сопровождении всего сената является в Народное собрание и обращается к нему с пространной речью. Вот небольшой ее фрагмент:
«Неужели вы допустите до такого бесчестья, до такого поношенья только оттого, что вам лень строиться? Пусть в целом городе не осталось никакого жилья, которое было бы лучше и удобнее, чем знаменитая лачуга зиждителя нашего (Ромула. — Л.О.), не лучше ли ютиться в хижинах, подобно пастухам и селянам, но средь отеческих святынь и родных пенатов, нежели всем народом отправиться в изгнание? Наши пращуры, пришельцы и пастухи, за короткий срок выстроили сей город, а ведь тогда на этом месте не было ничего, кроме лесов и болот, — теперь же целы Капитолий и Крепость, невредимы стоят храмы богов, а нам лень отстроиться на погорелом. Если бы у кого-нибудь одного из нас сгорел дом, он бы возвел новый, так почему же мы всем миром не хотим справиться с последствиями общего пожара?» (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, V, 53)
Камиллу удается убедить народ. Сенат отверг предложенный трибунами закон о переселении. Всем было дано право ломать камни где угодно, рубить лес и строиться с одним условием — закончить постройку за один год. Издержки строительства малоимущим помогало покрыть государство. И Рим, действительно, поднялся из пепла в течение одного года. Правда, застроился он как попало, безо всякой планировки. Так, что даже клоаки, проведенные в свое время под улицами, оказались под частными домами (где они, надо полагать, пребывают и ныне).
Несмотря на государственные субсидии, о которых упоминает Ливий, по его же признанию, строительство заставило многих малоимущих римлян по уши влезть в долги. Этим-де решил воспользоваться герой обороны Капитолия, Марк Манлий Капитолийский. Движимый завистью к славе Камилла он (если верить трактовке Тита Ливия), хотя и сам патриций, стал возмущать народ против патрициев, утверждая, что те припрятали общественное золото, собранное для откупа от галлов, а его бы хватило, чтобы оплатить все долги. Для того чтобы выставить себя благодетелем народа, Манлий объявляет о продаже своего имения и заявляет, что намерен выкупать граждан, осужденных на долговую кабалу. Назначенный в ту пору (в связи с очередной войной) новый диктатор публично требует, чтобы обвинитель назвал имена похитителей золота и указал, где оно хранится. Манлий уклоняется от ответа — похоже, что свое обвинение он высказал наобум. Диктатор приказывает схватить недавнего спасителя отечества и заточить в тюрьму.
Комментарий Тита Ливия к этой акции любопытен, как еще одно свидетельство удивительного законопослушания римлян. Ливий пишет: «Ничей глаз, ничей слух не мог вынести ужас происходящего. Но государство, полностью повинующееся законной власти, установило для себя нерушимое правило: перед лицом диктаторской силы ни народные трибуны, ни сам простой народ не осмеливались ни глаз поднять, ни рта раскрыть. Зато известно, что когда Манлий был ввергнут в темницу, то большая часть простого народа облачилась в скорбную одежду, многие отпустили волосы и бороды, и угрюмые толпы бродили у входа в тюрьму». (Там же. Т. 1, VI, 16)
Вскоре за отсутствием состава преступления Манлий был освобожден. Он идет «ва-банк» — энергично сплачивает вокруг себя недовольных, призывает плебеев сообща выступить против патрициев, тем более что диктатор уже сложил свои полномочия и мятежники могут не опасаться скорой расправы. Сенаторы, в свою очередь, принимают меры. Они сговариваются с двумя народными трибунами, чтобы те привлекли Манлия к суду по обвинению в стремлении к царской власти. Беспочвенность этого обвинения, несмотря на явную антипатию к Манлию, признает и сам Тит Ливий. Он пишет:
«Что же, когда наступил день суда, было поставлено в вину подсудимому (кроме многолюдных сходок, мятежных речей, щедрот и ложного обвинения), что относилось бы собственно к делу о стремлении к царской власти? Этого я не нахожу ни у одного писателя». (Там же. 20)
Но тут же добавляет: «Не сомневаюсь, что обвинения были немалыми».
И вот, наконец, любопытное описание обстоятельств самого суда:
«Народ созван был по центуриям на Марсовом поле, и, как только обвиняемый, простирая руки к Капитолию, обратил мольбы от людей к богам, трибунам стало ясно, что, если они не освободят взоры людей, осыпанных его благодеяниями, от этого памятника его славы, справедливые обвинения не найдут места в их душах. Итак, отсрочив день суда, назначили народное собрание в Петелинской роще за Флументанскими воротами, откуда Капитолий не виден. Там, наконец, обвинение победило, и суд скрепя сердце вынес суровый приговор, не желанный даже для судей... Трибуны сбросили его с Тарпейской скалы: так одно и то же место стало памятником и величайшей славы одного человека и последней его кары... Такой конец, — завершает свой рассказ Ливий, — обрел муж, чье имя, родись он не в свободном государстве, было бы прославлено». (Там же)
Упоминанием о свободном государстве Ливий дает понять, что верит в стремление Манлия к царскому венцу.
Спустя семнадцать лет после казни Манлия, в 367 году с севера Италии снова стали надвигаться полчища галлов. На этот раз римляне были не столь легкомысленны. Снаряжается большое войско. Во главе его вновь становится многоопытный Марк Фурий Камилл — он уже в пятый раз назначен диктатором. Решающее сражение римляне выигрывают сравнительно легко и тем навсегда останавливают движение галлов к югу.
Ближайшие соседи Рима теперь должны склониться перед его военным могуществом. Они не только не посмеют более нападать на римлян, но будут искать союза с ними. Перед Римом открывается заманчивая перспектива распространить свое влияние в сторону плодородной Кампанской долины и еще дальше на юг — к расположенным на берегу Тарентинского залива богатым греческим колониям: Фуриям, Гераклее и Таренту. К осуществлению этой перспективы римляне приступают спустя еще четверть века. Сначала приходится преодолеть сопротивление латинян. Оно длится более двух лет. В результате некоторые города Лациума полностью разрушены, зато жители тех городов, которые вовремя капитулировали или перешли на сторону римлян, приняты в число римских граждан, хотя и без права участия в голосованиях (так называемое латинское право).
Капуя легко становится добычей римлян. Но затем они сталкиваются с воинственными племенами самнитов. Спустившись незадолго до того с Апеннинских гор на равнины западного побережья Италии, самниты уже успели прочно там закрепиться. Три самнитских войны (343—341, 328—312 и 310—304 годы) в подробностях описаны Титом Ливием. Нам эти подробности неинтересны, хотя некоторые эпизоды заслуживают того, чтобы их процитировать. К концу IV века до Р.Х. сопротивление самнитов сломлено, и римляне вплотную придвигаются к южной оконечности Италии.
Над греческими колониями нависла угроза римского владычества. Своей армии у греков не было. В случае необходимости они прибегали к услугам наемников. Однако против столь грозного противника, как Рим, необходимо было заручиться более сильной поддержкой, и италийские греки обращаются к своим сородичам. Они приглашают к себе Пирра, царя Эпира — государства, расположенного на ближайшем, западном берегу Греции.
В 279 году до Р.Х. происходит решительное сражение римлян с греками. Это сражение войдет в поговорку как «Пиррова победа». Действительно, эта победа стоила эпирскому царю так дорого, что делала положение его войска в чужой стране ненадежным. Пирр предлагает римлянам мир, дружбу и союз, но при условии включения в него и италийских греков. В этом случае он готов без выкупа возвратить многочисленных римских пленных. Сенат заколебался, но был пристыжен бывшим цензором, старым и уже слепым Аппием Клавдием, которого сыновья привели в курию. Кстати, этот Аппий Клавдий был полной противоположностью своего предка — децемвира. Он покровительствовал неимущим плебеям. Осуществленные им грандиозные по тем временам постройки — мощеная дорога из Рима в Капую, первый водопровод — имели, в частности, своей целью дать плебеям работу. Итак, пристыженный Аппием сенат отказался от предложений Пирра. Царь было двинул свое войско на Рим, но не дошел и остался зимовать в Кампании. Потом его соблазнила Сицилия, где умер правитель — отец одной из Пирровых жен. По возвращении в Италию в 275-м году Пирр нашел там сильное и реорганизованное римское войско. Первое же сражение с римлянами было проиграно, и царь почел за лучшее отплыть восвояси. Спустя три года, несмотря на отчаянное сопротивление, римляне овладели Тарентом.
Теперь они были властителями всей Италии (за исключением некоторых горных районов). Точнее — того, что в ту пору именовалось Италией: земли от южной оконечности полуострова до района нынешней Флоренции. Далее к северу лежала Цизальпинская Галлия. По цензу 284-го года Рим насчитывал уже более двухсот пятидесяти тысяч полноправных граждан. Расширилась и география их расселения. Во-первых, за счет колоний. Победы римского оружия придали смелости новым колонистам. Они охотно осваивали захваченные вдалеке от Рима земли. Колонисты сохраняли полное римское гражданство, хотя, конечно, голосовать и слушать ораторов на римском форуме удавалось лишь немногим из них. Римское гражданство было даровано и жителям некоторых союзных с Римом городов. Другие получили права латинского гражданства.
На грани веков завершилась и борьба плебеев за свои права. В 326-м году было наконец законодательно упразднено долговое рабство. В 287-м году, по закону Гортензия, решения плебеев в трибутских собраниях по вопросам их компетенции, например, выбор народных трибунов, получили силу закона — их более не требовалось утверждать в сенате.
Отметим кратко некоторые особенности мировоззрения, мышления, нравственных ценностей и норм поведения римлян, как они сложились на пороге II века до Р.Х. Мировоззрение их — антропоцентрическое, в его основе — уважение человека, личности. Отношения с богами, как уже отмечалось, носят договорной и строго ритуальный характер. Мышление — сугубо конкретное. Его отличают прагматизм, конструктивизм и заметный формализм. Главными, глубинными нравственными ценностями являются личное достоинство (dignitas) и верность (fides) долгу, городу, соратникам, надежность данного слова. Затем почитание (pietas) богов, предков, древних обычаев и законов государства (отсюда уже отмеченная традиционность).
С развитием города в числе нравственных ценностей закрепляются гражданственность (civitas) — ощущение своей неотъемлемой принадлежности к сообществу граждан Города, государства. Наконец, свобода (libertas). В это понятие входит и возможность защиты своей жизни посредством обращения к собранию граждан и гарантии ненарушимости прав личности, предоставляемые строгим следованием духу и букве законов. Совокупность названных духовных ценностей определяет и нормы поведения древнего римлянина. Это — мужество, стойкость, серьезность, суровость быта и бережливость, благопристойность, ясный порядок во всем и, наконец, дисциплинированность. Все это в целом составляет комплекс римской доблести (или добродетели) (virtus romana).
Разумеется, это идеал. Повседневные поступки и побуждения многих римлян, наверное, уже в то время не всегда отвечали ему в полной мере. Но признанный большинством граждан данного общества идеал оказывает существенное влияние как на формирование личных приоритетов, так и на характер взаимоотношений между всеми членами этого общества.
Однако для понимания последующих трансформаций общественного мнения и самой истории Рима следует иметь в виду, что комплекс римской доблести диктовался только традицией и воспитанием. Он не являлся ни результатом рационального отбора, ни безусловным императивом, продиктованным неоспоримой, например, божественной волей. В этом была и сила — каждый римлянин нелицемерно принимал этот комплекс для себя сам, но в этом и слабость — когда традиция стала рушиться, укрепить ее было нечем.
В заключение главы — три эпизода, выбранных из подробного описания Тита Ливия войн последнего периода римской экспансии на юг Италии. Эти эпизоды, как мне кажется, наиболее ярко иллюстрируют некоторые аспекты понятия римской доблести.
Вот впечатляющая иллюстрация понятия воинской дисциплины. Тит Ливий рассказывает, как в битве с латинянами под Капуей консул Тит Манлий, имея в виду, что латиняне почти неотличимы от римлян по языку, роду вооружения и боевым порядкам, во избежание ошибок строжайше запретил сходиться с врагом вне строя. «Случилось так, — продолжает он свой рассказ, — что среди предводителей турм (конных отрядов. — Л.О.), разосланных во все стороны на разведку, был и Тит Манлий, сын консула; он заехал со своими всадниками за вражеский лагерь и оказался чуть не на бросок дротика от ближайшего сторожевого дозора. В дозоре там стояли тускуланские всадники во главе с Гемином Месцием, прославленным среди своих и знатностью, и подвигами. Узнав римских всадников и заприметив между ними их предводителя, сына консула (все ведь были знакомы, а знатные — особенно), он сказал: «Эй, римляне, не собираетесь ли вы воевать против латинов с их союзниками одной этой турмой? Что ж тогда будут делать консулы и два консульских войска?» «В свой срок и они явятся, — отвечал Манлий, — а с ними и свидетель нарушенного вами договора — сам Юпитер, в ком силы и могущества и того более...» Гемин, отделившись от своих, сказал на это: «Покуда не пришел тот день, когда вы подвигнете свои войска на столь великое дело, не хочешь ли сойтись тем временем со мною, чтобы уже теперь исход поединка показал, насколько латинский всадник превосходит римского?» Гнев ли подтолкнул храброго юношу, или боялся он покрыть себя позором, отказавшись от поединка, или же вела его неодолимая сила рока, только, забыв об отчей власти и консульском приказе, он очертя голову кинулся в схватку, не слишком заботясь о том, победит ли он или будет побежден». Далее следует описание поединка. Римлянин победил, его противник убит. Тит Ливий продолжает так:
«...сняв вражеские доспехи, Манлий возвратился к своим и, окруженный радостным ликованием, поспешил в лагерь и потом в консульский шатер к отцу, не ведая грядущей участи: хвалу ли он заслужил или кару.
«Отец, — сказал он, — чтобы все видели во мне истинного твоего сына, я кладу к твоим ногам эти доспехи всадника, вызвавшего меня на поединок и сраженного мною». Услыхав эти слова, консул отвернулся от сына и приказал трубить общий сбор; когда воины собрались, он молвил: «Раз уж ты, Тит Манлий, не почитая ни консульской власти, ни отчей, вопреки запрету, без приказа сразился с врагом и тем в меру тебе доступного подорвал в войске послушание, на котором зиждилось доныне римское государство, а меня поставил перед выбором — забыть либо о государстве, либо о себе и своих близких, то пусть лучше мы будем наказаны за наш поступок, чем государство станет дорогой ценою искупать наши прегрешения. Послужим же юношеству уроком, печальным, зато поучительным на будущее. Конечно, ты дорог мне как природный мой сын, дорога и эта твоя доблесть, даже обманутая пустым призраком чести; но коль скоро надо либо смертью твоей скрепить священную власть консулов на войне, либо навсегда подорвать ее, оставив тебя безнаказанным, то ты, если подлинно нашей ты крови, не откажешься, верно, понести кару и тем восстановить воинское послушание, павшее по твоей вине. Ступай, ликтор, привяжи его к столбу».
Услыхав столь жестокий приказ, все замерли, словно топор занесен у каждого над собственной его головою, и молчали скорее от ужаса, чем из самообладания. Но когда из разрубленной шеи хлынула кровь, все стоявшие, дотоле как бы потеряв дар речи, словно очнулись от чар и дали вдруг волю жалости, слезам и проклятиям...
И все-таки столь жестокая кара сделала войско более послушным вождю; везде тщательней стали исправлять сторожевую и дозорную службу и менять часовых, а в решающей битве, когда сошлись лицом к лицу с неприятелем, суровость Манлия эта тоже оказалась на пользу». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, VIII, 7, 8)
Как и в случае с дочерью Вергиния, нам нелегко принять и оправдать жестокость отца. Но для граждан древнего Рима это было и понятно, и приемлемо.
А вот пример мужества и преданности Риму. Событие происходит на той же войне. Вторым консулом у римлян был Публий Деций. В решительном сражении он командовал левым крылом, в то время как Манлий вел в бой правое крыло. Латиняне стали теснить воинов Деция. Тогда он подозвал к себе сопровождавшего войско жреца:
«Нужна помощь богов, Марк Валерий, — сказал он, — и ты, жрец римского народа, подскажи слова, чтобы этими словами мне обречь себя в жертву во спасение легионов». Понтифик приказал ему облечься в претексту, покрыть голову, под тогой рукой коснуться подбородка и, став ногами на копье, говорить так «Янус, Юпитер, Марс-отец, Квирин, Беллона, Лары, божества пришлые и боги здешние, боги, в чьих руках мы и враги наши, и боги преисподней, вас заклинаю, призываю, прошу и умоляю: даруйте римскому народу квиритов одоление и победу а врагов римского народа квиритов поразите ужасом, страхом и смертью. Как слова эти я произнес, так во имя государства римского народа квиритов, во имя воинства, легионов, соратников римского народа квиритов я обрекаю в жертву богам преисподней и Земле вражеские рати, помощников их и себя вместе с ними».
Так произносит он это заклинание и приказывает ликтору идти к Титу Манлию и поскорей сообщить товарищу, что он обрек себя в жертву во имя воинства. Сам же препоясался на габинский лад (один из способов носить тогу, обычный при совершении некоторых обрядов, дававший большую свободу движений. — Л.О.), вооружился, вскочил на коня и бросился в гущу врага. Он был замечен и в одном, и в другом войске, ибо облик его сделался как бы величественней, чем у обыкновенного смертного, словно для вящего искупления гнева богов само небо послало того, кто отвратит от своих погибель и обратит ее на врагов. И тогда внушенный им страх охватил всех, и в трепете рассыпались передовые ряды латинов, а потому ужас перекинулся и на все их войско. И нельзя было не заметить, что, куда бы ни направил Деций своего коня, везде враги столбенели от ужаса, словно пораженные смертоносной кометой; когда же пал он под градом стрел, уже нескрываемо перетрусившие когорты латинов пустились наутек, и широкий прорыв открылся перед римлянами». (Там же. 9)
Небезынтересно отметить, что самопожертвование отца спустя 45 лет повторил его сын, тоже консул. Такова была сила примера предков!
Наконец, еще пример. На этот раз понятия чести и верности данному слову. Рассказывает Аппиан. Чтобы склонить римлян к миру, царь Пирр разрешил римским пленным отбыть в Рим на праздник Сатурналий...
«...без охраны, с тем условием, что, если город примет то, что предлагает Пирр, они остались бы дома и не считали бы себя пленными, если же он этого не примет, чтобы они, отпраздновав, вернулись к нему. Им всем, хотя они усиленно умоляли и побуждали к заключению мера, сенат приказал, отпраздновав, вернуться к Пирру в назначенный день и положил смерть тем, которые задержатся после этого дня. Они же и это все точно исполнили, и Пирр решил, что ему во всяком случае придется опять воевать». (Аппиан. Римская История. III, 10, 5)
Глава III Государственное устройство и армия
Любезный читатель! Тебя ожидает серьезное испытание. Эта, слава богу; небольшая глава будет скучной. В ней нет ни сражений, ни драматических политических событий, ни ярких личностей — их участников. Дело в том, что в последующих главах неизбежно появятся названия государственных должностей, которые будут занимать герои нашего повествования, а также наименования разного рода собраний римского народа. Из своего текста я, может быть, и ухитрился бы их выбросить, но не могу этого сделать при цитировании древних авторов. Кроме того, знание прав и иерархии этих должностей, равно как и полномочий соответствующих собраний, необходимо для понимания существа описанных далее событий. Можно было бы вынести все это в примечания, в конец книги, Но знаю по собственному опыту, какая это досада — прерывать чтение и отправляться на поиски нужного разъяснения. Поэтому я решил остановить ненадолго сюжетную линию своего рассказа и описать государственную структуру римской Республики именно здесь — в преддверии блистательного разворота ее истории.
И еще. Общеизвестно, что организация римской армии в не меньшей степени, чем таланты ее полководцев и доблесть солдат, обусловила цепь побед римского оружия, вознесших небольшой италийский город на вершину мирового могущества. Прежде чем начать двигаться вдоль сей цепи, целесообразно описать здесь и эту организацию.
Последовательность представления государственных учреждений и должностей особой роли не играет. Я начну с сената, затем максимально кратко охарактеризую каждую из магистратур, расскажу о собраниях народа и закончу чуть более подробным знакомством со структурой римского войска времен расцвета Республики. О ч сенате и высших магистратурах читателю уже кое-что известно из материала предыдущей главы. Я постараюсь не повторяться, но полагаю целесообразным представить описание всей государственной структуры в одном месте — в этой, как бы справочной, главе.
Сенат
Собрание трехсот сенаторов являло собой фактически высшую государственную власть Рима. При том, что никакими узаконенными властными функциями оно наделено не было. Сенат не мог даже собраться по собственной инициативе. Его решения, точнее, рекомендации, советы (senatus consulta) были не обязательны для исполнения. И все же это была подлинная власть! Она опиралась если не исключительно, то главным образом на авторитет (autoritas) сената — фактор для психологии римлян, пожалуй, не менее весомый, чем закон. Тем более что он был подкреплен и такими, тоже очень римскими, особенностями, как верность традиции, уважение обычаев предков и в определенной мере религиозный пиетет.
В эпоху расцвета Республики сенат состоял почти целиком из бывших высокопоставленных должностных лиц государства (магистратов). Избранные в свое время собраниями народа и заслужившие в течение годичного пребывания у власти всеобщее уважение, они составляли резерв пополнения сената. Два цензора, избранные народом из числа выдающихся по своим нравственным качествам бывших консулов, включали в состав сената (по мере необходимости) из этого резерва наиболее достойных. Сенаторами они оставались пожизненно. Практика избрания магистратов была такова, что консулов в большинстве случаев выбирали из числа сенаторов. А на должности эдила или претора проходили, как правило, будущие соискатели сенаторского звания.
Оттенок религиозного почтения к сенату определялся тем, что почти все его члены в свое время совершали ауспиции, то есть вступали в контакт с богами. Немаловажным было и то, что сенаторами становились люди очень состоятельные. Для малоимущих высшие магистратуры оказывались доступны лишь в исключительных случаях. Таким образом, римский сенат в лучшие годы своей истории представлял собой собрание наиболее достойных, авторитетных и состоятельных граждан Города.
Свою власть он осуществлял через влияние на все сферы государственной деятельности. Обычай предписывал консулам, преторам и народным трибунам предварительно согласовывать в сенате все постановления и проекты законов, которые они собирались внести на обсуждение в собраниях римского народа. Точно так же предварительно рассматривались в сенате и кандидатуры будущих магистратов (за исключением народных трибунов). Да, конечно, рекомендации сената не были обязательны, но мало кто, даже из консулов, решался таковыми пренебречь. Ведь им предстояло обращаться к сенату снова и снова. Сенат награждал, присуждал триумфы, утверждал отчеты, влиял на избрание или переизбрание магистратов на новый срок.
В текущие дела управления сенат не вмешивался, но одну важнейшую сферу общественной жизни он прочно удерживал под своим непосредственным контролем. Государственная казна и государственное имущество находились в исключительном распоряжении сената. Для набора войска, его вооружения, обеспечения хлебом и жалованьем для солдат консулы, даже в случае войны, должны были просить деньги у сената. Только с согласия сената могли они ввести для этой цели военный налог (в мирное время римляне налогов не платили). Сенат отпускал средства магистратам для проведения общественных работ, давал разрешение патрициям на использование государственных земель, утверждал контракты на эксплуатацию лесов и рудников.
В ведении сената находились и внешние сношения государства. Он посылал и принимал послов, подготавливал для утверждения народом решения об объявлении войны или заключении мира, составлял тексты мирных договоров, посылал комиссии для проверки их исполнения или для упорядочения завоеванных территорий назначал туда управителей и утверждал их распоряжения. Во II веке до Р.Х. эти территории уже были столь обширны, что приобрели статус римских провинций. Для управления ими сенат посылал бывших консулов или преторов, поручая им эту весьма доходную миссию на срок от одного до нескольких лет. Кстати, такая перспектива тоже способствовала послушанию названных магистратов.
Авторитет и компетентность сената выдвигались на первый план в чрезвычайных ситуациях, таких, как непосредственная военная угроза Городу, народные волнения или стихийные бедствия. В этих случаях сенат поручал одному из консулов назначить диктатора или же наделял самих консулов чрезвычайными полномочиями вплоть до права казнить граждан без суда. Решение о таких полномочиях звучало по традиции довольно уклончиво: «Да позаботятся консулы, чтобы государство не понесло ущерба». Но означало оно их неограниченную (на некоторое время) власть. Со званием сенатора были связаны определенные внешние знаки особого достоинства.
Сенаторы носили тунику с широкой вертикальной пурпурной полосой на груди и спине на всю высоту, от ворота до подола, их «тога-претекста» тоже была окаймлена пурпуром. Кайма была выткана только вдоль ее прямого края. Заворачивались в тогу вполне определенным способом. В результате видна была вертикальная пурпурная полоса, идущая от левого плеча вниз — спереди на всю высоту фигуры, а сзади до локтя. Другие части пурпурной каймы проходили наискось через грудь и спину от правого бока к левому плечу Сенаторам полагались особого покроя черные башмаки, а если к тому же их избирали магистратами, то башмаки красного цвета. На публичных играх и представлениях для сенаторов были отведены лучшие места.
Уже с незапамятных времен плебеи заседали в сенате рядом с патрициями. К III веку до Р.Х. богатые плебеи и патриции в сенате слились в одну высшую касту — «нобилитет». Это была именно каста — узко ограниченный круг семей. Дети сенаторов, благодаря богатству и влиянию своих родителей, легко вступали на поприще государственной службы — сначала в качестве военачальников среднего звена (военных трибунов) или младших магистратов (квесторов). Потом поднимались выше, а затем и сами становились сенаторами. «Новые люди» допускались в эту касту крайне редко — лишь при каких-либо чрезвычайных обстоятельствах.
Процедура сенатских заседаний была строго регламентирована. Уже упоминалось, что сенаторы не имели права собираться сами. Их созывал консул или претор; позже это право получили и народные трибуны. Собирались чаще всего в специальном здании «курии», примыкавшем к форуму, или в одном из храмов. Заседания не были публичными, но дверь в курию должна была оставаться открытой (вероятно, разрешалось в нее заглянуть). Магистрат, созвавший сенат, начинал с ауспиций, потом объявлял повестку дня и далее вел собрание. В некоторых случаях сенаторы, предварительно обменявшись мнениями, вносили свои предложения, но это было не обязательно. Главной процедурой являлся поименный опрос сенаторов председателем. Здесь неуклонно придерживались сенатской иерархии. Каждый раз, составляя список (альбом) сенаторов, цензоры устанавливали в нем строгую последовательность. Список возглавлял принцепс сената. За ним следовали бывшие диктаторы, цензоры, консулы, преторы, эдилы и народные трибуны. В каждой категории — сначала патриции, потом плебеи с учетом давности занятия ими соответствующих магистратур. Одного за другим, согласно списку, председатель просил сенаторов высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. Естественно, что мнение первых выступающих влияло на позицию остальных. Регламента не существовало. Перерывать оратора не полагалось — он мог говорить неограниченно долго. Порой эта норма использовалась для обструкции. Заседания начинались с восходом солнца и заканчивались на закате. Иногда они длились несколько дней. «Младшие» сенаторы, обретавшиеся в конце списка, не имели шансов быть спрошенными. Они лишь участвовали в голосовании. Голосовали, как я уже упоминал, «ногами»: сенаторы вставали со скамей и пересаживались к тому из ораторов, чье мнение хотели поддержать. Текст рекомендации сената составлял председатель вместе с редакционной комиссией из нескольких человек. В этот текст с римской педантичностью включали дату, место и повестку дня заседания, состав редакционной комиссии, итоги голосования. Рекомендацию сообщали адресату или всему народу, а затем сдавали на хранение в городской архив, где она заносилась в официальный журнал — кроме тех случаев, когда на нее накладывал вето народный трибун.
Магистратуры
Первое знакомство с главными фигурами списка римских магистратов: консулами, цензорами, диктатором и народными трибунами — состоялось в предыдущей главе. Дополню то, что нам уже известно. О трех других магистратурах надо рассказать несколько подробнее. С них и начнем, двигаясь снизу вверх по служебной лестнице, как это приходилось делать каждому честолюбивому отпрыску знатного рода.
Квесторы выполняли обязанности казначеев. Двое из них служили при государственной казне (эрарии), которая хранилась в храме Сатурна. Они вели записи доходов и расходов государства, подчинялись только сенату и только по его распоряжению выдавали деньги всем прочим магистратам, включая консулов и диктатора.
Квесторам же было поручено наблюдение государственного архива, размещавшегося в том же храме. В их распоряжении был достаточный штат писцов. Квесторы менялись ежегодно, а писцы оставались.
Двое других квесторов находились при консулах в качестве их главных бухгалтеров. Они сопровождали консулов в военных походах, где ведали закупками продовольствия и выплатой жалованья солдатам. По мере того как увеличивалось число римских армий, возрастало и количество квесторов. К концу II века до Р.Х. их было уже восемь. В последующие века, когда у Рима появятся провинции, квесторы потребуются и их управителям — в первую очередь для наблюдения за сбором налогов.
Эдилы. Двух «плебейских» эдилов стали выбирать ежегодно еще в начале V века, вместе с народными трибунами — в качестве их помощников. Главной их обязанностью в то время было хранение архива и достояния плебеев в храме Цереры — их покровительницы. Так же как трибуны, плебейские эдилы были неприкосновенны. Эту привилегию они сохранили и в последующие века, когда стали исполнять полицейские функции в городе: наблюдение за рынками, банями, акведуками и фонтанами, тавернами и проститутками, дебоширами и воришками, которых сами же и судили. Они следили за состоянием дорог, общественных зданий, мерами пожарной безопасности и распределением хлеба среди неимущих.
В середине IV века плебеям пришлось согласиться на избрание еще двух эдилов — патрициев. Кроме участия в исполнении перечисленных хлопотливых обязанностей, эти так называемые курульные эдилы (вместо неприкосновенности они получили курульное кресло) взяли на себя основное бремя расходов по организации праздничных спортивных игр и разного рода представлений для народа. Расходы эти бывали порой весьма значительными, но зато проявленная щедрость позволяла завоевать популярность, необходимую для избрания на более высокие должности. Впрочем, и богатые плебеи в должности плебейских эдилов из тех же соображений старались не уступать в щедрости своим коллегам-патрициям. Тем более что некоторые традиционно плебейские игры должны были организовывать и оплачивать именно они.
Эдилов (их число со временем тоже увеличивалось), так же как и квесторов, выбирали в трибутских комициях. Оно и понятно — их обязанности были чисто гражданского характера.
Преторы. Уже упоминалось, что впервые должность претора была введена в середине IV века для патрициев. Вскоре она стала доступна и плебеям. Выбирали преторов на один год. Их главной обязанностью было руководство судопроизводством. В III веке выбирали уже двух преторов: одного для суда над римскими гражданами, второго — над иностранцами. Потом число преторов увеличилось: их стали посылать для суда (а порой и управления) в римские провинции. Преторы назначали судей (до последней четверти II века — только сенаторов), в случаях тяжких преступлений формировали чрезвычайные трибуналы, иногда сами в них председательствовали. Напомню, что смертные приговоры могли быть обжалованы перед собранием народа — в центуриатских комициях.
В гражданских процессах преторы определяли процедуру суда, формулировали предмет спора, альтернативы его решения и возможные приговоры. Поскольку процессуальный кодекс еще разработан не был, каждый претор, вступая в должность, издавал эдикт, в котором объявлял свое понимание правил судопроизводства. Претор-ские эдикты и разборы конкретных случав спора впоследствии легли в основу римского права.
Компетенция преторов этим не ограничивалась. Они получали империй — право военного командования, хотя и рангом ниже, чем консулы, — а также право совершения ауспиций. Поэтому их выбирали на собраниях воинов — в центуриатских комициях. Преторы нередко командовали войском, а в отсутствие консулов могли созывать сенат и народные собрания. В городе претора сопровождали два ликтора, вне города — шесть.
Консулы. Права и обязанности консулов были довольно подробно описаны в начале предыдущей главы. Добавлю лишь, что консулы были носителями высшего империя — то есть права высшей власти и верховного командования на войне. Обычно при них находилась группа советников — «консилиум». Но консулы не обязаны были считаться с их советами. Созывая сенат или комиции, а также отправляясь в поход и перед сражением консулы (не без помощи жрецов) совершали ауспиции. При избрании в центуриатских комициях консулы называли кандидатуры своих преемников, согласовав их предварительно с сенатом.
Власть консулов в городе не была точно определена. Они руководствовались республиканскими обычаями и традицией, а также перспективой ответственности после сложения полномочий. Как мы уже знаем, эта власть ограничивалась возможностью вето со стороны второго консула или одного из народных трибунов. В III, II веках до Р.Х. консулат стал достоянием немногих, наиболее знатных семей. Двести консулов, сменившихся за столетие с 233-го по 133-й год, принадлежали к пятидесяти восьми семьям. Из них 63 консула — всего лишь к пяти семьям.
Диктатор. К тому, что об этой наивысшей и экстраординарной магистратуре было сказано во второй главе, добавлю лишь, что в течение полугода диктатор не только был единовластным хозяином Рима, но был недоступен и для трибунского вето, хотя трибуны, в отличие от остальных магистратов, свое положение и все прочие права сохраняли. Более того, диктатора нельзя было привлечь к ответственности даже после сложения им своих полномочий. Единственным ограничением его власти служило то обстоятельство, что сенат и при диктатуре не расставался со своим правом распоряжаться государственной казной.
Цензоры, о которых тоже многое уже сказано, были неподвластны и неподотчетны никому. Это обеспечивало их высшее и неоспоримое право судить о достоинствах как простолюдинов, так и сенаторов. Первых они могли переводить из трибы в трибу, из центурии в центурию не только на основании имущественного ценза, но и в результате собеседования, — его, пожалуй, можно назвать нравственным экзаменом, — которое проводилось с каждым гражданином во время переписи. Сенаторов же цензоры могли подвергнуть публичному осуждению или даже исключить из сената. Но именно ввиду их неподсудности, от цензоров требовалось полное единодушие в каждом решении. Если же один из цензоров умирал или слагал с себя полномочия, второй обязан был отречься от своей должности, и выборы цензоров (в центуриатских комициях) проводили заново.
Когда число римских граждан сильно возросло (в 225-м году до Р.Х. их было около миллиона), два цензора за полтора года уже не могли справиться с их переписью и были вынуждены в армии и в места, удаленные от Рима, посылать своих уполномоченных. Цензовой переписи подлежали все взрослые мужчины, включая вольноотпущенников, а также вдовы и сироты, владевшие имуществом. Они были обязаны представить цензору полные сведения о своем достатке. Оказывается, декларация о доходах такое древнее учреждение... Эти сведения использовались как для разделения граждан на классы и последующего формирования центурий, так и для взимания военного налога.
Народные трибуны. О них ранее рассказано столь подробно, что в рамках не сугубо научного изложения дальнейшая детализация представляется излишней.
Для того чтобы закончить обзор римских магистратур, необходимо сделать еще несколько общих замечаний. Во-первых, все магистраты были наделены властью (роtestas). Их приказы были обязательны для исполнения. На ослушников они могли налагать штрафы или отдавать их под суд. Во-вторых, все магистратуры исполнялись на «общественных началах», бесплатно. Это с самого начала делало их недоступными для неимущих. Затем обычай (а может быть, и закон) ограничил крут претендентов гражданами первого, наиболее зажиточного класса. В-третьих, каждый магистрат — не говоря уже о народных трибунах — мог наложить вето на распоряжение не только своего коллеги, но и любого другого, стоящего рангом ниже магистрата. Но «уволить» с должности до истечения срока полномочий ни одного магистрата не мог никто — даже избравший его народ. Кроме единственного, общего для всех случая назначения диктатора. Наконец, все распоряжения магистрата, — но, разумеется, не законы, утвержденные в комициях, — сохраняли силу только до момента сложения им своих полномочий. Его преемники эти распоряжения могли отменить или попросту игнорировать.
Остается упомянуть еще о промагистратурах. Проконсулы и пропреторы (других не полагалось) были как бы «исполняющими обязанности» консула или претора. Сначала введение этих должностей было продиктовано необходимостью продления полномочий соответствующих магистратов (например, во время войны) после истечения года. Срок такого продления не был ограничен, но оно имело силу только вне Рима. Начиная со II века до Р.Х., проконсулов и пропреторов из числа бывших консулов или преторов сенат назначал управителями провинций.
Как и в любом государстве, под сенью славы знатных и облеченных доверием народа магистратов укрывалось многочисленное и всемогущее племя безымянных чиновников — писцов. Несменяемые и опытные профессионалы, они нередко (особенно со II века, когда появилось множество провинций) вершили все дела за спиной своих «шефов» — дилетантов. Писцы контролировали сбор налогов и расходы на общественные нужды. Писцы квесторов казны были фактически ее распорядителями. Писцы проконсулов и пропреторов были всемогущи в провинциях... И так повсюду. Впрочем, в то время, о котором пойдет речь в следующей главе, племя сие только еще нарождалось.
Собрания народа
К II веку до Р.Х. собрания граждан по куриям (куриатские комиции) отошли в далекое прошлое. Римский народ имел возможность выразить свою волю или свой выбор в центуриатских и трибутских комициях. Эти два вида народных собраний сосуществовали параллельно и, хотя в тех и других участвовали все граждане Рима, полномочия и функции их были различными. Поэтому рассмотрим их по отдельности.
Центуриатские комиции. Как уже упоминалось, центурия — это сотня пехотинцев. Мы знаем, что после реформы Сервия Туллия установленное число центурий, в случае необходимости, должен был выставлять каждый из имущественных классов. Вероятно, поначалу центуриатские комиции представляли собой сходки воинов, где выбирали двух командующих, каковыми и были первые консулы. Но в мирное время на военную службу призывали по возрастам и отбирали только такое количество воинов, какое было достаточно для формирования четырех консульских легионов, то есть около семнадцати тысяч человек. А число военнообязанных во всех пяти классах было в несколько раз больше.
По мере демократизации политической жизни в Республике и расширения полномочий консулов, компетенция центуриатских комиции распространялась и на сферу гражданской жизни Города. Естественно, что в них стали принимать участие все военнообязанные. Но, как и ранее, они группировались по центуриям — в том смысле, что в отдельную группу (особенно при голосовании) сходились те граждане, из числа которых набиралась данная центурия. Как и в древнейшие времена, сходились вооруженные на Марсовом поле — вне городской черты. Впрочем, явка была не обязательна и кворум не требовался. Разумеется, когда римская Республика шагнула далеко за стены города Рима, а число ее полномочных граждан стало измеряться сотнями тысяч человек, на комиции сходилась лишь небольшая часть римского народа — те, кто имел жилище в городе, и крестьяне из близлежащих селений. Представительность таких собраний стала уже весьма сомнительной.
В центуриатских комициях выбирали цензоров, консулов и преторов, по инициативе этих высших магистратов принимали особо важные законы, решали вопросы войны и мира или другие, столь же судьбоносные для государства. Здесь же судили за наиболее тяжкие преступления (измена, отцеубийство, святотатство), но, с другой стороны, рассматривали и апелляции осужденных консульским или преторским судом к смертной казни или изгнанию.
На специальном возвышении (темплуме) консул или претор, созвавший собрание, совершал ауспиции. В случае их благоприятного исхода над Капитолием взвивался красный флаг и народ созывали звуком трубы. Магистрат, ведущий собрание, объявлял причину сбора, читал вслух проект закона, обнародованный за 24 дня до того, или официально представлял гражданам уже известных большинству кандидатов и соискателей. Развертывалось обсуждение, выступали ораторы. Затем, порой лишь на следующий день, приступали к голосованию.
Голосование было открытое или, точнее, «полуоткрытое», и к надежности его результатов римляне относились очень серьезно. Паспортов еще не изобрели, и потому была разработана своеобразная процедура, исключавшая возможность повторной подачи голосов. Сначала все центурии расходились по специально огороженным участкам Марсова поля, и там их запирали. Голосовали они поочередно, по жребию, но, как уже упоминалось, в убывающем порядке классов. Между прочим, центурия, голосовавшая первой, именовалась «прерогатива». Результат ее голосования, естественно, влиял на настроение остальных. Непосредственно для голосования очередная центурия переходила на другое, тоже огороженное место — рядом с темплумом. Зятем, вызываемые по списку граждане центурии, один за другим, проходили по высоко поднятому над землей мостику на темплум и там сообщали уполномоченному от центурии (рогатору) свое мнение, которое тот отмечал на специальной доске. По окончании этой процедуры подсчитывался итог, и решение данной центурии, принятое простым большинством голосов, объявлялось во всеуслышание. Оно засчитывалось за один голос при определении окончательного волеизъявления всего народа. Если еще до того как проголосовали «младшие» центурии, набиралось простое большинство голосов от их общего числа, голосование прекращали.
Когда во второй половине II века до Р.Х. в комициях будет введено тайное голосование, процедура в основных чертах останется такой же, но вместо сообщения рогатору голосующие будут фиксировать свое мнение на покрытых воском табличках и бросать их в урну.
Трибутские комиции. Напомню, что они появились значительно позже центуриатских. В трибутские комиции граждане собирались без оружия — в городе, на форуме. Собирали их, в конце концов, те же магистраты, что и в центуриатских комициях, но еще и эдилы. Голосование проводилось тоже по группам. Однако теперь эти группы не имели отношения к военной службе и составлялись по территориальному признаку — по трибам. К середине III века до Р.Х. в Республике насчитывалось уже 35 триб (четыре в Риме и тридцать одна — в сельской местности и в колониях римских граждан), разбросанных чуть ли не по всей Италии. Это число триб было «заморожено» и всех новых граждан Республики, в том числе и живущих на завоеванных территориях, приписывали к прежним трибам. В результате этого понятие трибы постепенно утратило территориальный признак, а стало, скорее, понятием политическим — чем-то вроде рассредоточенного избирательного округа. И, конечно же, в Рим на комиции прибывали граждане только из близлежащих районов. Представительного права или права голосования по месту проживания вне Рима еще не существовало.
Распределяли по трибам цензоры. Были трибы численностью по многу десятков тысяч человек, а были и крошечные — по нескольку сотен граждан. Но независимо от этого каждая триба имела один голос. Вся городская беднота, ремесленники и вольноотпущенники голосовали в четырех городских трибах. Зато крестьяне, перебравшиеся в Рим, долгое время подавали свои голоса в сельских трибах, где заправляли крупные землевладельцы, жившие большую часть года в городе.
В трибутских комициях выбирали низших магистратов: эдилов и квесторов, а также военачальников среднего ранга — военных трибунов. Но зато эти комиции постепенно превратились в главное законодательное собрание. Довольно естественно сложилось так, что инициаторами новых законов и реформ — особенно земельных — выступали главным образом народные трибуны. А предлагать свои нововведения чисто гражданского характера они могли только в трибутских комициях.
Собирались как трибутские, так и центуриатские комиции довольно часто: один-два раза в месяц. Комициям для выборов предшествовала своеобразная избирательная кампания. Предвыборные собрания, митинги и манифестации были запрещены. Кандидат вел свою кампанию сам. Он облачался в отбеленную тогу (candidatus — одетый в белое), на форуме и по домам обходил избирателей, разъезжал по деревням. Старался заранее узнать имена, пожимал руки, гладил по головке детишек и не скупился на обещания. Задействована была, конечно, и сеть его друзей и клиентов. Использовалась наглядная агитация. Краткие, но выразительные призывы начертаны бывали прямо на стенах домов. Их и сейчас еще можно разглядеть на улицах Помпеи, очищенных от вулканического пепла. Пожалуй, ничто в этом заповеднике древнего мира так ощутимо не переносит взволнованного туриста в живую атмосферу той эпохи, как эти поблекшие настенные афишки. Практиковались, по-видимому, и покупка голосов, и подарки, и предвыборные угощения для народа — по крайней мере во II веке до Р.Х. был принят ряд законов, запрещающих такие методы ведения избирательной кампании.
Собрания плебеев. В отличие от обоих типов комиции, где патриции и плебеи собирались и голосовали вместе, с самых древних времен (со времени выбора первых народных трибунов) существовало в Риме еще одно народное собрание — чисто плебейское. Здесь тоже группировались по трибам, но патриции в эти группы не допускались.
Главное назначение этих собраний заключалось в выборе народных трибунов, каковыми, как мы знаем, могли становиться только плебеи. Впрочем, на этих собраниях плебеи обсуждали порой и другие вопросы гражданской жизни города, даже принимали по ним свои решения (плебисциты). Нередко народные трибуны, прежде чем представить проекты своих законов в трибутские комиции, обсуждали их на собраниях плебеев. В начале III века в комициях было принято постановление, наделявшее плебисциты силой закона, обязательного для всех римлян. Ближе к концу республиканского периода Римской Истории собрания плебеев, по-видимому, слились с трибутскими комициями.
Подводя итоги, было бы неплохо дать строго научное наименование государственному устройству Рима в рассматриваемую эпоху. Сами римляне называли его просто Республика (Respublica), что в дословном переводе означает «общественное благо». Я не рискну дать более четкое политическое или юридическое определение, а посему обратимся к Полибию. Римский историк, грек по происхождению и образованию, писавший во II веке до Р.Х., был, надо полагать, хорошо знаком не только с трудами Платона и Аристотеля, но и со всей серьезной и глубокой греческой политологией. Вот что думал он по интересующему нас вопросу:
«Большинство писателей... различают три формы государственного устройства, из коих одна именуется царством, другая — аристократией, третья — демократией. Мне кажется, всякий в полном праве спросить их, считают ли они эти формы вообще единственными или же только наилучшими. Но и в том, и в другом случае они, как я полагаю, заблуждаются, ибо, несомненно, совершеннейшей формой надлежит признавать такую, в которой соединяются особенности всех форм, поименованных выше». (Полибий. Всеобщая история. V, 3)
Полибий писал в эпоху расцвета римской Республики, был дружен с самыми выдающимися ее деятелями и, можно в этом не сомневаться, под «совершеннейшей государственной формой» подразумевал именно современное ему римское государство. Пожалуй, имеет смысл привести его определение каждой из трех форм, соединением которых образуется «совершеннейшая» форма:
«...не всякое единовластие, — пишет он, — может быть без оговорок названо царством, но такое только, в котором управляемые уступают власть по доброй воле и в котором властвует не столько страх или сила, сколько рассудок. Аристократией надлежит признавать не каждое правление меньшинства, но такое только, при котором правящими людьми бывают справедливейшие и рассудительнейшие по выбору. Подобно этому нельзя называть демократией государство, в котором вся народная масса имеет власть делать все, что бы ни пожелала и ни вздумала. Напротив, демократией должно почитаться такое государство, в котором исконным обычаем установлено почитать богов, лелеять родителей, чтить старших, повиноваться законам, если при том решающая сила принадлежит постановлениям народного большинства». (Там же. V, 4)
Ну что же, в качестве первого приближения, примем вслед за Полибием это «сочетание особенностей царства, аристократии и демократии». Я бы еще добавил: «на традиционно-патриотической основе». Очевидно, что особенности царства здесь представлены властью консулов, цензоров и диктатора, аристократическая форма — сенатом, а демократическая — народными собраниями и институтом народных трибунов. Читатель, я полагаю, не мог не заметить, что все они не просто смешаны, а тесно связаны, взаимозависимы и даже в определенной мере подконтрольны друг другу. Иное дело, в каких пропорциях они реально делят между собой государственную власть.
Армия
Военнообязанными в Риме были все граждане в возрасте от 17-ти до 60-ти лет В III веке их было около 250 тысяч. В случае войны призывали несколько возрастов: до 46-ти лет — для участия в походах, старше — для защиты Города. В мирное время римская армия состояла из четырех «консульских» легионов по 4200 человек каждый. Они пополнялись молодежью ежегодно весной. Летом войско под командой одного из консулов уходило в тренировочные походы, а осенью его распускали по домам. Увольнялись «в запас» после двадцати походов в пехоте и десяти — в коннице. Набор начинался с избрания в трибутских комициях 24-х военных трибунов — по шесть в каждый легион. В назначенный день все новобранцы собирались в Риме, на Капитолии. Военные трибуны рассаживались «полегионно». В порядке очередности, определяемой жребием, каждая триба отбирала, одну за другой, четверки призывников примерно одинаковой силы и отсылала их к военным трибунам. Те распределяли их по легионам, чередуясь в праве выбора. Принимали и добровольцев из тех триб, на которые в этот раз не выпал жребий, и из запаса. Так продолжалось до тех пор, пока легионы не оказывались укомплектованы. После этого все войско приносило присягу: сначала военные трибуны новому консулу, потом солдаты — своим трибунам. Присяга носила отчасти личный характер: воины клялись не только сражаться мужественно, не покидая рядов, но и беспрекословно подчиняться приказам своего главнокомандующего. Если в ходе военной кампании он менялся, то войско присягало заново. Нарушение присяги каралось смертью.
В легионе солдат разбивали на четыре категории. Новичков зачисляли в велиты — легковооруженные, общей численностью 1200 человек. В этой же категории оставались и наименее имущие из солдат — оружие и амуницию они должны были приобретать за свой счет. Совсем неимущих в армию не брали. Велиты имели на вооружении короткий обоюдоострый меч, несколько легких дротиков, небольшой круглый щит и кожаный шлем. Остальные легионеры носили панцирь, сплетенный из толстых кожаных ремней, с железной пластиной на груди или (кому позволяли средства) металлическую кольчугу. На голове — металлический шлем, увенчанный султаном из перьев. Вооружены они были такими же мечами и двумя, но более тяжелыми, чем у велитов, дротиками (длиной более двух метров, передняя половина — из железа). Таким дротиком римский воин мог пробить вражеский щит с расстояния в двадцать пять метров. Собственные щиты легионеров, прямоугольно-выпуклой формы, деревянные, но окаймленные железом и с железным же выступом посередине, имели 120 сантиметров в высоту и 75 — в ширину 1200 человек наиболее молодых из этих «тяжеловооруженных» составляли вторую категорию воинов — гастати; более сильные и зрелые — тоже 1200 человек — назывались принсипи, а самые опытные, 600 человек, именовались триарии. У этих последних на вооружении вместо дротиков были копья — их не бросали, а использовали для ближнего боя.
В боевом строю легиона сражались только тяжеловооруженные. Каждая их категория была разбита на десять манипулов, соответственно по 120 и 60 воинов, а каждый манипул — на две центурии (теперь центурия состояла не из ста, а из шестидесяти или тридцати человек). Во главе центурий стояли центурионы, назначенные полководцем из числа наиболее отличившихся и бывалых солдат. Один из двух центурионов был старшим и командовал всем манипулом. В боевом порядке манипулы гастати (10 рядов по 12 человек, на расстоянии около метра друг от друга по фронту) образовывали первую линию. Притом прерывистую — расстояние между манипулами в линии было такое же, как ширина самого манипула. За ними точно так же, но в шахматном порядке (манипул против промежутка первой линии) шла вторая боевая линия — принсипов. Замыкала построение третья, тоже прерывистая, линия манипул триариев. Велиты по указанию полководцев свободно перемещались между боевыми порядками трех линий.
Первыми в сражение вступали гастати (иногда велиты). Метнув при сближении с врагом свои дротики, они переходили к рукопашному бою. Если враг отступал, то все три линии продвигались вперед, не меняя своего эшелонирования в глубину. Если же молодых воинов первой линии противнику удавалось потеснить, то они через промежутки между манипулами отходили за вторую линию, и в бой, сомкнувшись по фронту, со свежими силами вступали манипулы принсипов. Триарии пока оставались на месте. Стоя на одном колене, опершись о щиты и выставив вперед копья, они образовывали подобие крепостного вала, за которым могли укрыться раненые из двух первых линий. Если же и принсипы вынуждены были отступить за «вал», триарии вставали и принимали натиск противника на себя. Римская поговорка «дошло дело до триариев» означала критическую ситуацию.
Такую организацию войска и тактику боя можно смело назвать первым из факторов, обеспечивших военные успехи римлян. Их противники сражались одной сплошной массой. Римская же система позволяла не только последовательно вводить в бой свежие силы, но, что особенно важно, маневрировать ими в соответствии с обстановкой. Команду манипулам через центурионов подавали военные трибуны — каждый своей линии. В случае необходимости манипулы могли независимо друг от друга менять фронт или совершать обходные маневры. Велитов можно было бросить в прорыв или заполнить ими промежутки между манипулами. И, наоборот, манипулы могли легко раздвинуться, чтобы без ущерба для себя пропустить слонов, если таковые использовались противником для атаки.
Вот как оценивает организацию и маневренность римского войска уже знакомый нам историк Полибий:
«...римский военный строй и римское войско трудно разорвать; солдаты, оставаясь в том же строю, имеют возможность вести сражение отдельными частями или всею массой по всем направлениям, ибо ближайшие к месту опасности манипулы каждый раз обращаются лицом куда нужно. К этому следует добавить, что вооружение римлянина и обороняет его, и поднимает его дух, потому что щит его велик, а меч не портится в действии». (Там же. XV, 15)
Легион был основной боевой единицей армии. Он состоял только из римских граждан. В III веке рядом с легионами сражались и вспомогательные войска союзников Рима. Они сохраняли свою организацию и вооружение, но находились под командованием римского префекта, назначенного консулом. Нередко они отличались определенной «специализацией», например, лучники, пращники или конники. Надо сказать, что кавалерия в те времена не очень успешно сражалась против пехоты, вооруженной копьями и дротиками, если, конечно, оставить в стороне кочевые народы, владевшие искусством стрельбы из лука на скаку. Римляне и сами имели конницу, хотя и немногочисленную: 10 эскадронов (турм) по 30 человек (три алы) на каждый легион. Ввиду их слабости конные отряды использовались для разведки или преследования неприятеля, обращенного в беспорядочное бегство.
Для четкого выполнения маневров нужна была надежная связь в бою. У римлян она была отлажена превосходно. Кроме устных приказов, которые быстро проходили по цепи от консула через военных трибунов и центурионов к солдатам, команды подавались сигналами трубы и, что особенно ценно в шуме боя, условными движениями высоко поднятых знаков манипулов. Римский историк Иосиф Флавий, правда, уже в I веке от Р.Х., с восхищением отзывается об этой особенности организации римского войска:
«...повиновение командирам так велико, что все войско в мирное время представляет вид парада, а на войне — одного единого тела, — так крепко связаны между собой ряды, так легки повороты, так навострены уши к приказам, глаза напряженно устремлены на сигнальные знаки и руки подвижны к делу». (Иосиф Флавий. Иудейская война. III, 5)
Но, пожалуй, главной пружиной разумной мобильности в бою римского войска были центурионы — многоопытные воины, умевшие оценить обстановку на месте, самостоятельно принять безотлагательное решение и увлечь за собой центурию или манипул.
Вторым преимуществом римлян была исключительная дисциплинированность их армий. Читатель, надеюсь, не забыл рассказа о том, как консул Манлий казнил своего сына за нарушение приказа. Смертная казнь на войне была, по-видимому, событием не очень редким. Она неумолимо назначалась советом военных трибунов (трибуналом) или лично консулом за дезертирство, пренебрежение ночным дозором, воровство в лагере, лжесвидетельство и невыполнение приказа. Казнь в войске страшила не столько смертью, сколько позором. Приговоренного забивали палками его же соратники. В Риме такой казни подвергали только рабов. Изредка, при достаточно смягчающих обстоятельствах, приговор тоже мог быть смягчен до... казни путем отсечения головы.
За более мелкие проступки полагалась порка перед строем, для чего у центурионов в походе с собой всегда были розги. Применялись и «санкции»: лишение наград или доли в военной добыче, денежные штрафы, разжалование из центурионов или триариев, позорная отсылка из войска.
Смертная казнь могла ожидать и солдат целого манипула — взбунтовавшегося или покинувшего свое место в сражении. В этом случае полководец назначал своим приказом децимацию. Перед строем легиона виновные, разбившись по десять человек, бросали жребий, означавший позорную казнь одного из каждой десятки. Всех остальных переводили на довольствие ячменем (с лошадьми и мулами) вместо хлеба и выдворяли на ночлег за ограду лагеря — до тех пор, пока провинившийся манипул отличием в бою не восстанавливал свою честь.
Мы видим, что наказания были нацелены на уязвление самолюбия, унижение достоинства и чести виновных. И этим же качествам римского воина, вообще римлянина, адресовались награды. Различные венки (например, золотой — за первовосхождение на стену крепости), почетное оружие, чаши, медали, браслеты, ожерелья и просто похвала полководца перед строем ценились в ту пору выше, чем деньги и имущество, захваченное у побежденных. Впрочем, этим последним, как добавкой к скудному солдатскому жалованью, не пренебрегали. При взятии вражеского города его ограбление и дележ добычи производились с римской методичностью, на основе взаимного уважения интересов грабителей. Описание этой «методы» заслуживает цитирования:
«По взятии города римляне, — свидетельствует Полибий, — поступают приблизительно таким образом: для совершения грабежа выделяется из каждого манипула известное число солдат, смотря по величине города, или солдаты идут на грабеж манипулами. Для этой цели никогда не назначается больше половины войска, прочие воины остаются в боевом порядке для прикрытия грабящих... все солдаты, выделенные для грабежа, сносят добычу к своим легионам. Засим, по окончании этого, трибуны разделяют добычу поровну между всеми солдатами, не только теми, которые оставались в строю для прикрытия, но и теми, которые стерегут палатки, а также больными и состоящими на какой бы то ни было службе». (Полибий. Всеобщая история. X, 16)
Трофейное имущество солдаты продавали следовавшим за войском маркитантам. Не брезговали своей долей и командиры, и сам полководец, хотя для него вожделенной наградой был почетный триумф, ожидавший победоносное войско по возвращении в Рим. Немного позже у меня будет повод описать этот апогей воинской славы достаточно подробно.
Другим существенным преимуществом римского войска была его военная подготовка. В походах мирного времени непрестанно отрабатывались приемы рукопашного боя, метания дротиков, возведения укрепленного лагеря. Тренировались сила и выносливость для выполнения большого объема земляных работ и длительных марш-бросков с полной выкладкой. А она была весьма значительной: помимо личного оружия, каждый солдат нес на себе шанцевый инструмент, пару кольев для лагерного палисада, котелок, ручную мельницу и запас продовольствия на 17 дней, главным образом зерно — основной пищей в походе служили лепешки, поджаренные на костре. Общий вес походного снаряжения составлял около сорока килограммов. И с таким грузом римский воин проходил по 25-30 километров в день со скоростью до шести и более километров в час. Вот как описывает подготовку римского войска уже цитированный выше Иосиф Флавий:
«...не только тогда, когда война уже наступает, они начинают знакомиться с оружием, и не нужда заставляет их поднимать руки, чтобы в мирное время снова их опускать, — нет, точно рожденные и выросшие в оружии, они никогда не перестают упражняться им, а не выжидают для этого каких-либо определенных случаев. Их упражнения отличаются тем же неподдельным жаром и серьезностью, как и действительные сражения: каждый день солдату приходится действовать со всем рвением, как на войне. Поэтому они с такой легкостью выигрывают битвы; ибо в их рядах никогда не происходит замешательства и ничто их не выводит из обычного боевого порядка; страх не лишает их присутствия духа, а чрезмерное напряжение не истощает их сил. Верна поэтому их победа над теми, которые уступают им во всех этих преимуществах. Их упражнения можно по справедливости называть бескровными сражениями, а их сражения — кровавыми упражнениями». (Иосиф Флавий. Иудейская война. III, 5)
Наконец, последней, но едва ли не важнейшей особенностью военной стратегии римлян было обязательное, а в случае марша ежевечернее, возведение укрепленного лагеря. Этот лагерь, точно носимая с собой крепость, был практически неприступен, а сооружение его за несколько часов можно смело назвать подвигом силы и чудом организации. Ввиду этого стоит привести некоторые подробности обустройства римского походного лагеря. Но прежде я хочу процитировать небольшой фрагмент из речи на военном совете одного из самых выдающихся полководцев Рима, Луция Эмилия Павла, где, на мой взгляд, очень четко сформулировано значение укрепленного лагеря для римской военной доктрины. Вот этот фрагмент в пересказе Тита Ливия:
«Предки ваши, — говорит Павел, — считали укрепленный лагерь убежищем при всякого рода случайности, которая могла постигнуть войско, местом, откуда они выходили на бой и где они могли иметь пристанище после треволнений битвы. Поэтому, оградив лагерь укреплением, они снабжали его и сильным гарнизоном, так как тот, кто лишался лагеря, хотя бы и одерживал верх в бою, считался побежденным. Лагерь — место отдыха для победителя, а для побежденного — убежище. Сколько войск, которым не посчастливилось в битве, будучи прогнаны за вал, в удобное время, а иногда и вскоре за тем, делали вылазку и прогоняли победоносного врага! Это местопребывание в военное время — второе отечество, вал служит вместо стен, и для каждого воина его палатка — дом и пенаты». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, X, IV, 39)
С приближением вечера и конца очередного перехода военный трибун и несколько центурионов отправляются вперед на разведку удобного места для лагеря — по возможности, возвышенного или на склоне холма (для лучшего обзора), вблизи воды и пастбища для лошадей. На месте будущего расположения шатра консула трибун водружает белый флаг. От него без промедления центурионы начинают всегда неизменную планировку лагеря. К подходу войска она уже готова. Рядом с шатром командующего размечается площадь (120х60 метров) для претория — лагерного форума, где может выстроиться все войско. В центре претория поднимется сложенная из дерна трибуна, с которой консул будет обращаться к войску, где он будет совершать ауспиции и где будет заседать трибунал. Симметрично с первым по другую сторону шатра намечается второй точно такой же прямоугольник, для квестория. Там будет стоять палатка квестора и происходить выдача жалованья и продовольствия солдатам. Вдоль двух означенных площадей к западу от консульского шатра и точно посередине будущего лагеря, в направлении с севера на юг (от ворот до ворот) размечают главную улицу лагеря шириной в 30 метров. Вдоль всей ее длины, ближе к шатру станут палатки офицеров, адъютантов командующего — легатов, военных трибунов и префектов вспомогательных войск. По трем другим сторонам длинного прямоугольника, образованного двумя площадями, расположатся палатки отборных частей личной гвардии консула. Напротив его шатра от главной улицы на запад, до самых западных ворот, пойдет вторая большая улица лагеря шириной в 15 метров. По обе стороны от нее, в несколько двойных рядов, разделенных более узкими улицами, станут многоместные палатки солдат: сначала кавалеристов, потом (по манипулам) триариев, принсипов и гастати. Палатки вспомогательных войск выстроятся по другую сторону центральных площадей, ближе к восточным воротам. Велиты поставят свои палатки вне лагеря, перед всеми четырьмя воротами; в лагере они укроются только в случае осады. Между границами «застроенной» территории лагеря и его валом размечается свободная для маневра зона шириной в 60 метров. Вал будет окружать весь лагерь для двух легионов — прямоугольником 800 х 550 метров (площадь около 45 гектаров). Обращенный наружу откос вала укрепят дерном, а по всей длине его гребня будет воздвигнут палисад из принесенных солдатами кольев. Колья с торчащими из них обрубками сучьев образуют сплошную стену. Перед валом появится канава, из которой была взята земля для его насыпки. Размеры ее и вала зависят от того, сколь долго предполагается оставаться в лагере. Тит Ливий сообщает, что для заполнения канавы перед долговременным лагерем римлян, осаждавших Капую, Ганнибалу пришлось в месте штурма сбросить в нее боевых слонов. «Ворота» временного лагеря не будут, конечно, висеть на петлях, а благодаря перехлесту двух прилегающих участков вала, будут иметь вид длинного и узкого коридора, где противник окажется беззащитным против метания сверху и с двух сторон (не укрыться щитом!) дротиков, стрел и камней из пращи.
И все это сооружение возводится всего за несколько часов! Секрет в том, что каждый солдат точно знал свои обязанности. Подойдя к площадке лагеря, уже размеченной цветными флажками, одни солдаты отправлялись ее ровнять и ставить палатки, другие, положив рядом свое оружие, приступали к рытью канавы и насыпке вала. Вдоль всей его более чем двухкилометровой длины копать начинало одновременно несколько тысяч человек Их не нужно было расставлять — каждый заранее знал свое место. Чтобы не тесниться, но и не снижать темпа, копали посменно, чередуя очень интенсивную работу с отдыхом. Часть войска при этом оставалась снаружи для охраны работающих от внезапной атаки неприятеля.
Может показаться, что откос сравнительно невысокого вала не представлял собой непреодолимого барьера. Но следует помнить, что сражались врукопашную и стоявший выше имел существенное преимущество. Атаковать же сплошную цепь защитников вала можно было только с фронта, такой же цепью. Так что даже превосходящий численностью противник не мог эффективно использовать одновременно все свои силы.
Конечно, описанная конфигурация лагеря применительно к местности могла меняться, образуя вместо прямоугольника круг, полукруг или даже треугольник. Но и в этих случаях все обязанности по устройству лагеря были заранее известны и распределены. Ночные дозоры в лагере выставлялись велитами — по десять человек перед каждыми воротами, а дежурным манипулом — у палаток консула и военных трибунов. По цепочке всему лагерю сообщался пароль. Дозоры сменялись четырежды за ночь (четыре стражи). С вечера дозорным вручались дощечки с указанием стражи и места дежурства. Четверым всадникам консул поручал наблюдение за дозорами. По сигналу трубы, возвещавшей очередную стражу, всадники в сопровождении свидетелей объезжали посты и отбирали дощечки у сменявшихся дозорных. Если кого-либо из часовых заставали спящим или если отсутствие утром одной из дощечек выявляло дозорного, покинувшего пост, трибунал проводил быстрое расследование и виновного приговаривали к смерти.
Каждое сражение, разумеется, разыгрывалось по своему сценарию. С описаниями очевидцев или современников некоторых важнейших баталий мы познакомимся в следующих главах. А пока можно сделать несколько общих замечаний о римской тактике ведения боя.
Об эшелонированном на три линии в глубину фронте манипул было уже рассказано. На обоих флангах легиона римские полководцы обычно ставили пехоту союзников, а кавалерийские отряды располагали еще дальше к краям, чтобы помешать обходному движению врага. Легковооруженных и мобильных велитов иногда высылали вперед для того, чтобы расстроить фронт противника, перед тем как он войдет в соприкосновение с основными силами легиона. Как уже упоминалось, маневренность разбитого на манипулы войска в сочетании с надежным его управлением позволяли римлянам оперативно приспосабливаться к изменению ситуации на поле боя. Остальное зависело от доблести, умения, выносливости и дисциплинированности легионеров. Первое из этих качеств воспитывалось всей римской традицией, остальные — тщательной подготовкой и тренировкой войска.
Особую роль в сражении играло знамя легиона — символ его славы, предмет гордости и почитания солдат. Знаменосец в окружении наиболее надежных воинов находился всегда в первых рядах. Описаны многие случаи, когда в критической ситуации он сам устремлялся в гущу врагов или даже швырял туда знамя, и дрогнувшие было воины в отчаянном порыве бросались вперед, на спасение реликвии своего легиона.
Придавалось определенное значение и мерам по устрашению противника. Высокие султаны на шлемах делали римлян как бы выше ростом, блеск оружия и роспись щитов говорили об их силе и свирепости. Такую же роль играли и угрожающие крики воинов, которыми сопровождалась битва (впрочем, они же стимулировали и собственную решимость). Вот характерное свидетельство Тита Ливия на этот счет. Он описывает один из неудачных для римлян эпизодов войны с вольсками:
«В первом же сражении, опрометчиво и неосторожно завязанном Семпронием, передовые части не были обеспечены подкреплением, а конница было плохо размещена. Громкий и частый крик неприятельского войска был первым признаком того, куда клонилось дело; римляне отвечали нестройно и вяло, при каждом повторении их голос выдавал страх. Тем яростнее бросался враг, тесня их щитами и слепя блеском мечей». (Тит Ливий. История Рима. Т. 1, IV, 37)
Если противник не желал принять сражение в открытом поле, а отсиживался за крепостными стенами города, то война могла пойти по одному из двух путей. Либо римляне систематично опустошали территорию врага: разрушали брошенные окрестные села, сжигали посевы и постройки, вырубали сады, угоняли скот и... уходили, либо начиналась осада и длительная подготовка к штурму крепости.
Для этой цели на вооружении римской армии (особенно позднее — во II, I веках) имелся обширный арсенал мощных технических средств. Катапульты, действовавшие по принципу огромных арбалетов, вели прицельный «огонь» тяжелыми стрелами. Аналогично устроенные, но еще более громоздкие баллисты перебрасывали через крепостные стены огромные камни и балки. Онагры использовали принцип пращи: длинный и мощный рычаг одним своим концом был укреплен в пучке туго натянутых канатов. Из вертикального исходного положения, с помощью ворота рычаг отводили назад в горизонтальную позицию. На его свободном конце имелась чаша, куда укладывали камень. В процессе такой зарядки канаты скручивались и, когда оттяжку освобождали, они с большой силой возвращали рычаг в исходное положение. Здесь он ударялся о мощную балку, камень продолжал движение по навесной траектории и обрушивался на крепость противника. Чтобы вызвать пожар, из тех же орудий выбрасывали снаряды, наполненные горящим жиром или смолой. Вся эта артиллерия на конной тяге следовала в обозе войска. Для более эффективного ее использования перед крепостной стеной иногда насыпали вал, поднимавшийся на всю ее высоту, и орудия втаскивали на этот вал. В надежном удалении от крепости строили высокие деревянные башни, а потом на деревянных колесах подкатывали их вплотную к ее стенам. С верхних этажей башен защитников крепости обстреливали лучники. Под их прикрытием атакующие карабкались на стены по приставным лестницам. Или же подкатывали таран — тяжеленное бревно с железным наконечником (по традиции, в виде бараньей головы), подвешенное горизонтально на длинных канатах к высоко поднятой на опорах перекладине. Множество воинов, укрытых от стрел противника навесом, раскачивали бревно. Под его мощными ударами в стене пробивалась брешь. Пользовались и подкопами. Их подводили под крепостные стены. Непосредственно под стеной подкоп расширяли в виде галереи, а свод ее укрепляли деревянными стойками, как в современных шахтах. Когда достаточно большой кусок основания стены таким образом обнажался и удерживался только стойками, последние поджигали, и стена обрушивалась под собственной тяжестью.
Со временем осадная техника продолжала развиваться, но нам нет смысла углубляться в ее детали. Пожалуй, и все наше знакомство с римской армией на этом можно закончить. Что же касается римского военного флота, то писать здесь о нем нет нужды. Хотя в первую Пуническую войну римляне вынуждены были по образцу севшего на мель карфагенского корабля построить свой флот и даже одержали в конце концов морскую победу, вкуса к военно-морскому делу это им не привило. Так что в дальнейшем, вплоть до конца республиканского периода Римской истории, военному флоту римлян существенной роли играть больше не пришлось.
Глава IV Фабий и Ганнибал (272-205 гг.)
Рим и Карфаген
Теперь мы можем вернуться в русло нашего повествования. Но прежде чем окунуться в поток исторических событий, взглянем на город Рим и его обитателей в тот момент, когда победой над Пирром и взятием Тарента они утвердили свое господство над всей Италией.
К концу первой четверти III века до Р.Х. Вечный Город еще являл собой зрелище довольно убогое. Отстроенный наспех после разорения галлами в начале предыдущего столетия, он с тех пор мало изменился внешне — только раздался вширь. Все та же путаница узких улочек, застроенных неказистыми деревянными, реже — каменными домиками. Вдоль улочек по склонам холмов ручейками журчит вода из колодцев, куда она непрерывно подается по трубам от двух трубопроводов. Хотя кое-где уже видны первые признаки городской архитектуры, но по-настоящему богатые дома и целые усадьбы появятся на престижном Палатинском холме только через столетие.
Население города вряд ли превышает четверть миллиона человек. Быт еще суров и воздержанность занимает прочное место в перечне общепризнанных римских добродетелей. В 275-м году дважды консул П. Корнелий Руф был исключен цензорами из сената только за то, что завел у себя серебряную посуду.
Однако путешественник (это беспокойное племя существовало всегда), впервые попавший в Рим, не станет шарить взглядом по склонам холмов. Он устремится прямо к центру города — на форум. Последуем за ним и мы.
Войдя в город с юго-востока, через Капенские ворота, и приняв сразу вправо, низиной между Палатином и Целием мы быстро попадаем к началу Священной дороги (Via Sacra). По ее каменным плитам несчетное число раз проходили торжественные процессии и триумфальные шествия вернувшихся с победой легионов. Она вела их через весь форум к подножию, а затем влево и вверх, к вершине Капитолийского холма, где царственно возвышается над городом храм Юпитера...
Сделаем небольшое отступление в область храмовой архитектуры. Я не буду фантазировать по поводу внешнего вида древнеримских храмов, как бы это ни было соблазнительно при живописном изображении города. Дело в том, что от этих храмов, в отличие от Афинского акрополя, почти ничего не осталось. А то, что уцелело, относится, как правило, к позднейшим реконструкциям и перестройкам. Наше представление будет, видимо, очень близко к истине, если мы перенесем на римский форум хорошо известные по репродукциям облики греческих храмов.
Свою храмовую архитектуру (вместе с обрядами) римляне позаимствовали у этрусков, которые ее принесли с заселенных греками берегов Малой Азии. Когда два-три века спустя римляне и сами столкнулись с архитектурой греческих колоний на юге Италии, а затем и в самой Греции, они нашли там то, что им было уже хорошо знакомо. То же прямоугольное в плане святилище, окруженное колоннадой. Те же три ордера: дорический, ионический и коринфский. Высокая, украшенная орнаментом балка над ними (архитрав). Двускатная крыша опирается на выступающий резной карниз. С торца храма колоннада портика несет треугольник украшенного скульптурами фронтона. По его углам и на вершине — небольшие фигурки или розетки веером и так далее. Все знакомо!
Лишь немногие наделенные художественным чутьем римляне поняли, в чем отличие — весьма и весьма существенное! Бессмертная и неуловимая красота греческих храмов — в изяществе линий и пропорций каждой колонны, каждого скульптурного украшения, всего здания в целом (с учетом эффекта перспективы). Римских зодчих и инженеров интересовала не красота храма, а удобство его использования. Поэтому соотношение размеров святилища и площадки портика изменили в пользу последней. Ведь с этой ритуально освященной площадки жрецы совершали птицегадания. Для этой же цели средние колонны портика подчас раздвигали, нимало не заботясь о гармонии его внешнего вида. Храмы, расположенные в низине форума, стояли на высокой, в человеческий рост, прямоугольной платформе (подиуме). Это было некрасиво, но зато, наверное, целесообразно — то ли для улучшения обзора неба, то ли ввиду частых разливов Тибра, то ли для того, чтобы в глазах толпы подъем жреца по высоким ступеням каменной лестницы, ведущей на подиум, выглядел особо торжественно.
Так, подобно ухудшенным копиям греческих оригиналов, не меняясь веками, выглядели римские храмы. Зато строительный гений и фантазия римлян развернутся позже — на «светских» сооружениях: базиликах, цирках, театрах, банях, акведуках и триумфальных арках. Недаром 10-томное руководство по античному зодчеству оставит живший в конце I века до Р.Х. римский архитектор Витрувий. Кстати, Витрувий описал для нас и древний храм Юпитера. Он был почти квадратным в плане. Колонны из туфа далеко раздвинуты, балки архитрава — деревянные, украшенные рельефными пластинами из терракоты. Керамические же — барельеф и фигурки по углам фронтона.
На этом завершим отступление. Мы возвратились к храму Юпитера и можем продолжить наш путь на форум. Поворот налево — и перед нами он открывается почти весь. Размер его невелик: шагов двести пятьдесят в длину и примерно сто в ширину. И еще совсем мало застроен, если не обращать внимания на многочисленные лавки, особенно густо рассыпанные по двум его продольным сторонам.
Вступая на форум, оставляем по левую сторону здание Регии, где, по преданию обитал еще царь Нума. Сейчас здесь резиденция Великого понтифика. Позади виднеется большой двухэтажный каменный дом — жилище весталок. Говорят, что внутри него есть обширный двор с бассейнами и фруктовыми деревьями, украшенный статуями Великих весталок. В отличие от пыльной, шумной, забитой народом площади форума, там в саду, должно быть, просторно, тихо и красиво. Девушки почти не выходят оттуда. Минуем и сам круглый, в кольце колоннады, старинный храм Весты. Он меньше, чем мы ожидали. Известно, что кроме вечного огня в нем хранится знаменитый палладиум — упавшая с неба в древнюю Трою деревянная фигурка богини Паллы — хранительницы города. Предание утверждает, что ее принес с собою Эней. По левую сторону от дороги, сразу за фонтаном нимфы Ютурны — покровительницы источников, на высоком подиуме стоит храм Кастора и Поллукса. Согласно легенде, в начале V века, в сражении с латинянами на помощь римлянам явились божественные всадники — сыновья Леды и Юпитера. Они же потом прискакали в Рим на форум сообщить о победе. Их кони пили из фонтана Ютурны.
Поэтому именно здесь им воздвигли храм. Трем белоснежным, высоким колоннам этого храма суждено стать наилучшим украшением остатков римского форума.
Дальше, за рядом лавок, тоже влево от дороги, в конце форума возвышается храм Сатурна. За надежными стенами его подиума укрыты сокровища государственной казны. Рядом с храмом выставлены доски с законами 12 таблиц. В глубокой древности Сатурна почитали как бога земледелия. Потом его отождествляли с греческим Кроном и стали считать отцом Юпитера, свергнутым с небес. После чего, согласно преданию, Сатурн царствовал в Лациуме, и это был «золотой век» всеобщего мира и процветания. Храм ему воздвигли в 497-м году до Р.Х. Храм Согласия, воздвигнутый тоже в начале V века в честь примирения патрициев и плебеев, приютился под зеленым склоном Капитолия, замыкающего площадь форума. Курия (резиденция сената) находится в конце площади, справа. За лавками и домами уходящей вверх улицы ее почти не видно. Она откроется взгляду, когда мы достигнем «Курциева озера». Никакого озера здесь нет, нет даже колодца — одна ограда. Зато с ней связана легенда, возвышающая дух каждого римлянина. В начале Республики на этом месте была пропасть, полная воды. Никто не мог ее осушить. Оракул изрек, что пропасть закроется сама, если Рим бросит в нее самое дорогое, что у него есть. Тогда Курций, молодой воин (что может быть дороже?!), на коне и в полном вооружении прыгнул в бездну. Она захлопнулась, оставив на поверхности лишь небольшое озерцо.
Фасад сенаторской курии украшен портиком с фронтоном. Перед курией мощенный плитами просторный плац — «комиции». Это место для народных сходок и собраний, получивших отсюда свое наименование. В переднем углу комиция — трибуна для ораторов. После морской победы над пиратами, полвека назад, ее украсили носовыми частями захваченных кораблей и с тех пор стали называть «рострами». В середине I века до Р.Х. Юлий Цезарь, чтобы освободить место для строительства нового форума, перенесет курию ближе к площади старого форума, а ростры поместит у подножия Капитолия так, что вся площадь будет служить комицием. Но пока форум выглядит довольно пустым и просторным, особенно если мы прибыли в город рано утром.
Римляне встают с рассветом. Наскоро перекусив, они принимаются за дела. Ремесленники будут работать на дому, живущие в городе крестьяне отправятся в прилежащие поля, сады и огороды. Крупные оптовые торговцы пойдут в свои конторы и на склады, цепочкой выстроившиеся на, берегу реки, мелкие — к ним за товаром или прямо в свои лавочки, что лепятся на форуме и прилегающих к нему улицах. Там с самого утра раскинули свои столики и менялы. В город стекается множество иноземцев, нуждающихся в их услугах: кроме медных ассов, в Риме уже чеканят серебряные денарии и сестерции (1 денарий = 4 сестерциям = 10 ассам). В крупных торговых сделках наряду с римскими Денежными единицами фигурирует греческий талант — около 27 кг серебра.
Впрочем, менялы не только пробуют и обменивают монеты. Это настоящие банкиры. Они могут выполнить порученные им торговые операции, переслать деньги своим партнерам в другие города, снабдить путешественника своего рода «аккредитивами», осуществить перевод денег с одного счета на другой. И местная италийская, и заморская торговля, через гавань Остию в устье Тибра, бурно развиваются.
Вслед за менялами и торговцами на форуме появятся местные и приезжие покупатели, нищие — в поисках случайного заработка, писцы и адвокаты, партнеры по деловым переговорам, любители пообщаться, поспорить или посплетничать в очереди к цирюльнику, знатные римляне в сопровождении свиты клиентов и рабов, спешащие по делам магистраты и просто те, кто пришел людей посмотреть и себя показать. Возможно, на специальной трибуне, что стоит посередине форума, в кольце зевак эдилы будут разбирать и судить мелкие происшествия, а может быть, и сам претор откроет заседание трибунала, что, впрочем, не помешает тут же рядом продолжаться шумному торгу, ярому спору или небольшой потасовке.
Форум несколько поутихнет близ полуденного часа, когда римляне обедают, а затем зашумит с удвоенной силой — ведь рабочий день с обедом заканчивается. Особенно шумно и тесно здесь будет в каждый восьмой день. Это нерабочие, базарные дни (нундины), когда в город со своей продукцией и за покупками съезжаются крестьяне из близлежащих деревень. Они держатся свободно, как люди, знающие себе цену: последние пятнадцать лет без войны заметно улучшили положение дел в деревне.
Толпа на форуме выглядит пестро. В тогу облачены немногие — знатные римляне и магистраты. Если, конечно, не собираются комиции, куда в тоге обязаны являться все граждане. Ею, как и прежде, драпируют все тело длинными складками, оставляя наполовину свободной только правую руку. Теперь под тогу надевают длинную шерстяную рубашку с короткими рукавами — тунику. Она сшита из двух кусков ткани, и это уже отступление от древней традиции, предписывавшей не одевать себя, а заворачиваться в одеяние. Для народа попроще туника стала повседневной одеждой. Ее носят вместо тоги — с поясом и большим напуском, чтобы все же сохранить некоторую декоративность. Туника, как и тога, должна быть, по возможности, белой или, на худой конец, светло-серой — в цвет некрашеной овечьей шерсти. Зато прямоугольный кусок ткани, который в качестве плаща набрасывают поверх туники или. тоги (сагум), может быть рыжеватым — цвета шерсти овец испанской породы или окрашенным в красно-коричневый, иногда лиловый цвет. Сагум закалывают на плече застежкой (аграфом). В случае дождя и в дорогу надевают пенулу — довольно тесный плащ с капюшоном, сшитый из толстой ткани, с рукавами или без них, с застежками впереди.
Одежда матроны, если она является на форум, очень строга. Длинная и широкая туника с полурукавами (стола), дважды подпоясанная — под грудью и низко на талии, ниспадает на длинную, до пят, сплошь в складках юбку. Под столой еще одна, более короткая и легкая туника, а в качестве белья — набедренная повязка и лента, поддерживающая грудь. Сверху все это драпируется большой квадратной шалью (пеллой). Скромность и целомудрие женщины требуют, чтобы видны были только лицо, кисти рук и кончики пальцев ноги, а контуры фигуры были совершенно неразличимы. Вся женская одежда белого цвета.
Девушки носят волосы пучком на затылке, замужние женщины укладывают их вокруг головы. На улице волосы прикрывают краем пеллы. Мужчины долгое время ходили длинноволосыми, нечесаными и бородатыми, что отвечало воинственности их характера. Но в начале III века появились первые цирюльники — волосы и бороды стали подстригать. В городе головных уборов не носят. Кроме вольноотпущенников — их конический колпак служит символом освобождения.
Если римляне, с их консерватизмом, придерживаются каких-то канонов в своей одежде, то к многочисленным «гостям столицы» никаких требований не предъявляется. Так что в целом толпа на форуме разнообразием красок, одеяний, повадок и говоров являет собой зрелище весьма живописное.
Большинство «гостей» — италийцы. Римские колонисты приехали по делам, за покупками или просто потолкаться на форуме. В разбросанные по всей Италии колонии они перебрались недавно, сохранив при этом все права римского гражданства. Так что здесь они себя чувствуют как дома. Гости из немногих союзных Риму городов, которым за особую помощь в войнах даровано право полного римского гражданства, стараются во всем на них походить, но ощущают себя менее уверенно. Пожалуй, свободнее других иностранцев ведут себя ближние соседи — латиняне. Хотя дарованное им «латинское право» и не разрешает голосовать в комициях, но во всем остальном они равноправны с римлянами. А тождественность языка позволяет им вполне сливаться с толпой на форуме.
Граждане отдельных союзных городов (они по договору поставляют союзное войско и не платят податей) и граждане городов покоренных (эти — платят и лишились части своих земель) заметны в толпе не только своим обличьем, но и вполне понятной растерянностью — такого столпотворения они еще не видели. Зато объехавшие весь свет греческие и финикийские купцы чувствуют себя здесь как рыба в воде. Чего не скажешь о чернобородых карфагенянах. Эти с тревогой прислушиваются к пылким речам, звучащим на римском форуме. Слова «Сицилия» и «Карфаген» слышны со всех сторон, притом в таких резких и угрожающих выражениях, которые дают все основания для тревоги. Чем же вызвана такая враждебность к городу, который еще совсем недавно был союзником Рима в войне с Пирром? Попробуем разобраться.
Большой, богатый город Карфаген был основан в IX веке до Р.Х. выходцами из Финикии. Его высокие, мощные стены поднялись в середине средиземноморского побережья Северной Африки, примерно там, где сейчас находится город Тунис — как раз напротив Сицилии, в каких-нибудь двухстах милях от ее берегов. Карфагеняне, как и финикийцы, — отличные мореходы. Серединное расположение города делает его центром морской торговли всего Средиземноморья, от берегов Малой Азии до Испании. Карфагену принадлежат большая часть Сицилии, Сардиния и Корсика. Карфагенские купцы прочно обосновались на побережье Испании и Галлии. Их корабли поднимаются по рекам в глубь этой варварской страны.
Вот уже три столетия карфагеняне торгуют с Римом. Недавний их союз с римлянами против Пирра был продиктован стремлением удержать за собой плодородные земли Сицилии. Но сейчас, когда римляне овладели всем югом Италии, они сами с вожделением смотрят на богатый остров, отделенный от них лишь узким проливом. Вот почему речи ораторов на форуме полны воинственной решимости. Ведь всем известно, что карфагеняне — богачи, торговцы, но не воины. У Них нет даже своего войска. Греческие, ливийские и нумидийские наемники не устоят против натиска римских легионов. А разве Сицилия не прилегающий к Италии большой остров? Она должна принадлежать хозяевам Италии — римлянам. Правда, у них почти нет флота, но Мессинский пролив так узок... Встревоженные карфагенские купцы торопятся вернуться домой. И вовремя!
В 264-м году до Р.Х., воспользовавшись пустым предлогом, римское войско в составе четырех консульских легионов переправляется в Сицилию и осаждает для начала находящийся на ее юго-восточном берегу город Сиракузы. Правитель города Гиерон II должен в равной мере опасаться и Карфагена и Рима. Он предпочитает откупиться от осаждающих сотней талантов, но зато иметь римлян своими союзниками. Провозгласив Гиерона другом римского народа, легионы начинают свое движение вдоль южного побережья острова на запад. Они легко овладевают небольшими городами на своем пути, но когда подходят к Лилибею — главной крепости карфагенян, расположенной на западной оконечности Сицилии, — встречают упорное сопротивление. Крепость надежно защищена высокими стенами, а осаждать ее бесполезно, так как карфагенский флот господствует на море — подвоз в крепость продовольствия и подкреплений обеспечен.
Становится ясно, что римлянам необходимо срочно создавать свой военный флот. Они его строят за одну зиму — как уже упоминалось, по образцу захваченного у противника корабля. Не рассчитывая овладеть традиционным искусством ведения морского боя посредством тарана, римляне оснащают свои боевые суда абордажными крюками, мостиками и сажают на них легионеров с тем, чтобы переводить морское сражение в рукопашную битву на палубе вражеского корабля. Эта тактика позволяет им в 260-м году одержать первую победу на море. За ней следует дерзкая, но неудачная высадка экспедиционного корпуса на африканское побережье. Греческие наемники Карфагена разбили войско римского консула Атилия Регула, а его самого взяли в плен. Война в Сицилии стала затягиваться, а военное счастье явно изменило римлянам. В 249-м году они потерпели сокрушительное поражение в морском бою. Им к тому же еще и чертовски не везло. С интервалом в восемь лет римляне в бурях потеряли два флота. Впрочем, в этом они, похоже, были виноваты сами — не очень разбирались в приметах непогоды на море, да и не желали считаться с ней. Знаменитое римское упорство сыграло с ними злую шутку. Во всяком случае именно в этом упрекает их Полибий:
«Вообще римляне, — пишет он, — во всех случаях действуют силой, и раз какая-либо цель поставлена, они считают для себя обязательным достигнуть ее, и раз принято какое-либо решение, для них не существует ничего невозможного. Часто благодаря такой стремительности они осуществляют свои замыслы, но подчас терпят и тяжелые неудачи, особенно на море... большие бедствия постигают их всякий раз, когда они вступают в борьбу с морем и небом и действуют с тем же упорством. Так случилось тогда и много раз случалось раньше, так будет и впредь, пока они не откажутся от этой ложной отваги и упрямства; теперь они воображают, что им можно идти, по морю или по суше, во всякое время». (Полибий. Всеобщая история. I, 37)
Так или иначе, но римлянам пришлось приниматься за строительство еще одного, четвертого по счету флота. На этот раз их упорство было вознаграждено. Через шесть лет, воспользовавшись пожертвованиями богатых римлян, они опять сумели вывести в море мощную армаду В 241-м году у Эгатских островов, близ западной оконечности Сицилии, им удалось наголову разбить карфагенян. Лилибей был обречен, и командовавший его обороной прославленный генерал Гамилькар Барка вынужден был запросить мира.
Карфаген согласился уступить Риму Сицилию и выплатить огромную сумму в 3200 талантов контрибуции. Так закончилась эта изнурительная 24-летняя война, названная историками «Первой Пунической». Римляне потеряли в ней около 40 тысяч солдат и в общей сложности более 700 боевых кораблей. Вряд ли они предполагали, что эта победа принесет им новые, еще более тяжелые испытания.
Вторая Пуническая война
Спустя три года после окончания первой войны, воспользовавшись тем, что Карфаген был отвлечен борьбой с восставшими наемниками, римляне, нарушив договор, прибрали к рукам еще и Сардинию. Этим они возбудили против себя ненависть карфагенян и усилили партию реванша в их городе. Во главе этой партии стоял знатный род Баркидов, к которому принадлежал и Гамилькар Барка. Гамилькар был неповинен в поражении флота у Эгатских островов, но капитулировать пришлось ему Обида и унижение питали в его сердце неутихающую жажду отмщения высокомерным римлянам. Это же чувство он с малых лет взлелеял в душе своего старшего сына, Ганнибала.
Потерпев поражение в Сицилии, Карфаген начал расширять свое присутствие в Испании, побуждаемый, в частности, слухами о богатых залежах серебра в этой стране. Во главе армии ливийских наемников в 237-м году в Испании высадился Гамилькар. С собой он взял и девятилетнего Ганнибала. Захватив серебряные рудники на юге Испании, он стал продвигаться вдоль ее средиземноморского побережья.
Агрессия карфагенян в далекой Испании не слишком волновала римлян, у которых в ту пору были очередные осложнения с населявшими север Италии кельтами. В 229-м году Гамилькар погиб в бою с туземцами. Командование принял его зять, Гасдрубал, а рано возмужавший и уже отличившийся в походах и сражениях Ганнибал занял пост его первого адъютанта. Гасдрубал старался расширить влияние Карфагена в Испании мирным путем и даже женился на дочери одного из местных вождей. Там, где испанский берег поворачивает к северу (в районе нынешней Картахены), он построил крепость и город, назвав его Новый Карфаген.
В 221-м году Гасдрубал был убит, и командование принял Ганнибал. Хотя ему едва исполнилось двадцать пять лет, это был опытный полководец, сумевший заслужить любовь и уважение даже у ветеранов. И вместе с тем отнюдь не солдафон, а напротив — прекрасно образованный человек. Ганнибал сохранил дружбу с испанцами и даже последовал примеру своего дяди в женитьбе. Он продолжал постепенно продвигаться на север, где греческие колонии встречались все чаще. Весьма вероятно, что дерзкий замысел сухопутного похода в Италию созрел у него уже тогда.
Обеспокоенные продвижением Ганнибала, колонисты обратились за помощью и защитой в Рим. По праву недавних победителей римляне навязывали карфагенянам северную границу их экспансии — по реке Ибер. Быть может, это и нужно было Ганнибалу, чтобы спровоцировать вожделенную войну с ненавистным Римом. В 219-м году, нарушив договоренность, он пересек запретную линию, осадил, взял и разрушил греческий город Сагунт. Римляне, грозя войной, потребовали выдачи Ганнибала. Но за прошедшие после поражения двадцать лет ситуация в Карфагене изменилась. Партия реванша, в немалой степени благодаря успехам в Испании, одержала верх. Карфагенский сенат отклонил требование римлян, и Вторая Пуническая война началась.
Римляне снарядили две армии. В 218-м году консул Тиберий Семпроний Лонг повел свои легионы в Сицилию, чтобы оттуда переправиться в Африку, а консул Публий Корнелий Сципион посадил свои на корабли и отплыл в союзную с Римом Массилию (нынешний Марсель), чтобы затем двинуться в Испанию, изгнать карфагенян и наказать Ганнибала. Вряд ли он, да и кто-либо в Риме, мог предположить, как развернутся события. Пеший переход войска из Испании, через неведомую варварскую Галлию, через Альпы в Италию, наверное, показался бы им безумием.
А между тем Ганнибал уже переваливал через Пиренеи. Войско его было довольно внушительным — по данным Полибия, около 50 тысяч пехотинцев, 9 тысяч конницы и 47 слонов. А главное — это были отборные воины, закаленные многолетней войной в Испании. До Италии из них дойдет только треть, но там Ганнибала ожидают недавно усмиренные римлянами кельты (от них в Испанию были послы), а также покоренные Римом народы собственно Италии, которые, как он надеется, тоже поднимутся против римлян.
Когда Сципион высадился в Массилии, Ганнибал уже успел, преодолев сопротивление местных галлов, перейти Рону выше по течению и двигался по направлению к прибрежным Альпам. Консул понял, что не сможет его догнать, и потому отправив большую часть армии во главе со своим братом Гнеем в Испанию, отплыл обратно. Высадившись в Пизе, он повел свое небольшое войско к верховьям Пада (нынешняя По) в расчете встретить армию Ганнибала измученной, сразу после перехода ее через Альпы.
Пять месяцев шел Ганнибал от Нового Карфагена до Альп и еще шестнадцать дней, осенью, через заснеженные альпийские перевалы. С обледенелых круч срывались люди и кони, он потерял почти всех слонов. Приходилось постоянно обороняться от наскоков горцев. В долину Пада вышли всего 20 тысяч пехотинцев и менее 6 тысяч конников.
На левом берегу реки два войска становятся лагерем друг против друга. Впервые после нашествия Пирра римляне на земле Италии должны обороняться от иноземного врага. А тому некуда отступать — позади Альпы. Накануне сражения оба полководца обращаются к своим солдатам. Послушаем же фрагменты из их речей в пересказе Тита Ливия:
«...Да, — как это ни горько, — говорит Сципион, — но вам предстоит ныне битва не за славу только, но и за существование отечества. Вы будете сражаться не ради обладания Сицилией и Сардинией, как некогда, но за Италию. Нет за нами другого войска, которое могло бы, в случае нашего поражения, преградить путь неприятелю, нет других Альп, которые могли бы задержать его и дать нам время набрать новые войска. Здесь мы должны защищаться с такой стойкостью, как будто сражаемся под стенами Рима. Пусть каждый из вас представит себе, что он обороняет не только себя, но и жену, и малолетних детей; пусть, не ограничиваясь этой домашнею тревогой, постоянно напоминает себе, что взоры римского сената и народа обращены на нас, что от нашей силы и доблести будет зависеть судьба города Рима и римской державы». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXI, 41)
Быть может, в тот же час молодой карфагенский полководец говорит своим ветеранам:
«У кого есть убежище, кто в случае бегства может рассчитывать на спасение в родной земле, по безопасным и мирным дорогам, тому позволяется быть робким и малодушным. Вы же должны быть храбры; в вашем отчаянном положении всякий другой исход, кроме победы и смерти, для вас отрезан. Старайтесь поэтому победить; если же счастье станет колебаться, то предпочтите смерть воинов смерти беглецов. Если вы твердо запечатлели в своих сердцах мои слова, если вы исполнены решимости следовать им, то повторяю: победа — ваша; бессмертные боги не дали человеку более сильного и победоносного оружия, чем презрение к жизни». (Там же)
Однако решительного сражения не происходит. Во время стычки передовых отрядов, производивших рекогносцировку, Сципион опасно ранен. От гибели или плена его спасает 17-летний сын, дерзкой контратакой своего эскадрона прикрывший консула. Этому юноше суждено стать самым знаменитым полководцем Республики, но до этого еще довольно далеко. Поняв, что соотношение сил не в его пользу Сципион решает отойти за Пад, в холмистую местность, где Ганнибал не сможет использовать свою сильную нумидийскую конницу. Там он будет ждать прибытия с войском второго консула, которого сенат уже отозвал из Сицилии. К тому же Сципион понимает, что находящиеся под его командой две тысячи кельтов ненадежны. И действительно, едва римляне начинают снимать лагерь, кельты нападают на ближайших к ним солдат, многих убивают и уходят к Ганнибалу. Карфагенянин отправляет их по домам — весть о вероломном поступке соплеменников вынудит кельтов поторопиться с обещанной помощью. Наступает пауза. Ганнибал ожидает восстания кельтов и дает отдохнуть войску. Сципион ожидает прибытия Семпрония Лонга — тот из Сицилии плывет морем.
Наконец подкрепление к римлянам прибывает, сражение происходит. Ганнибал его выигрывает. Остатки римского войска укрываются в крепости Плаценция. Наступает зима. На севере Италии она довольно холодная. Ганнибал пытается двинуться на юг через Апеннины, но морозы и снежная буря заставляют его отказаться от этого намерения.
Тем временем в Риме происходит очередная смена консулов. Один из них, Гай Фламиний, получает по жребию легионы, зимующие в Плаценции. Он враждует с сенатом, пользуется популярностью у народа и очень самоуверен, о чем становится известно Ганнибалу. Нам следует с пониманием и подобающим уважением отметить, что выдающийся карфагенский полководец был — с современной точки зрения — вполне искушенным политиком. Он неустанно заботился о засылке шпионов в стан врага, весьма в этом преуспел и тактику своих военных операций вырабатывал с учетом личных качеств противостоящих ему римских военачальников.
С наступление весны римское войско уходит по хорошей дороге на юго-восток до самого побережья. Оттуда Фламиний ведет его горными тропами через Апеннины на запад в Этрурию. В то же время Ганнибал, отказавшись от преследования римлян, направляется через труднопроходимые болота прямо на юг. Его солдаты идут четыре дня и три ночи по воде. Их косят инфекционные заболевания. Отдыхают на трупах павших лошадей. Сам Ганнибал лишается глаза.
В Этрурию Ганнибал приходит одновременно с Фламинием. Затем он обходит его лагерь, как бы давая понять, что консул не посмеет двигаться за ним, и направляется к Риму Не дожидаясь подхода армии второго консула, самолюбивый Фламиний пускается преследовать Ганнибала. Тот именно на это и рассчитывал. У берегов Тразименского озера, в предгорье Апеннин, он успевает приготовить своему преследователю ловушку.
Я уже упоминал, что не намерен злоупотреблять представлением батальных сцен, но это роковое для римлян сражение описано Титом Ливием так ярко, что грех не воспроизвести его здесь, хотя бы в значительно сокращенном виде.
«Фламиний, — рассказывает Ливий, — подошел к озеру еще накануне, на закате солнца; на следующий день, едва рассвело, без предварительной разведки, он прошел через теснину, и лишь когда войско стало разворачиваться на равнине, увидел перед собой врага, стоявшего напротив; засаду с тыла и сверху он не заметил. Пуниец (так римские авторы называли Ганнибала. — Л.О.) добился своего — римляне, стесненные горами и озером, были окружены вражеским войском. Ганнибал подал сигнал: напасть всему войску. Солдаты сбежали вниз, как кому было ближе; для римлян это оказалось неожиданностью, тем более что туман, поднявшийся с озера, был на равнине густ, а на горах редок, и неприятельские воины, хорошо различая друг друга, сбежали со всех холмов разом. Римляне, еще не видя, что они окружены, поняли это по крикам. Бой начался с разных сторон раньше, чем солдаты успели как следует построиться, вооружиться и выхватить мечи... густой туман заставлял полагаться больше на слух, чем на зрение. Люди оборачивались на стоны раненых, на крики схватившихся врукопашную, на смешанный гул голосов, грозных и испуганных. Одни, убегая, наталкивались на сражающихся и присоединялись к ним; других, возвращавшихся на поле боя, увлекала за собой толпа бегущих. А бежать было некуда: справа и слева горы и озеро, спереди и сзади вражеский строй — вся надежда на себя и на свой меч. Каждый стал себе вождем и советчиком... Почти три часа дрались — и повсюду жестоко, но особенно вокруг консула. С ним были лучшие воины, и он бесстрашно устремлялся туда, где его солдатам приходилось туго. Его замечали по оружию: неприятель старался изо всех сил его захватить, а сограждане — уберечь...» (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXII, 4-6)
Думаю, что подвиги консула, согласно римской традиции, несколько приукрашены, но, если это и так, мы можем простить историка — Фламиний погибает в бою. Тит Ливий продолжает:
«...И тут началось почти повальное бегство: ни озеро, ни горы не были препятствием для потерявших от страха голову; люди, словно ослепнув, неслись по крутизнам и обрывам и стремглав скатывались вниз друг на друга вместе с оружием... некоторых безрассудный страх мог толкнуть искать спасения вплавь; решение безнадежное: плыть надо было долго, люди падали духом, их поглощала пучина, или, истомившись, они с трудом возвращались на отмели, где их избивала вражеская конница, вошедшая в воду. Почти шесть тысяч человек из передового отряда римлян храбро прорвались через вражеский строй, вышли из ущелья и, ничего не зная о том, что происходит у них в тылу, задержались на холме; они слышали только крики и звон оружия, туман мешал им понять или догадаться, чем кончилось сражение. Наконец, горячее солнце разогнало туман, и средь бела дня горы и равнины явили взору проигранное сражение и бездыханных воинов. Захватив знамена, римляне кинулись бежать, стремясь ускользнуть от конницы.» (Там же, 6)
Но конница их все же настигла... Римляне потеряли убитыми пятнадцать тысяч человек, и столько же было взято в плен. Тысяч десять рассеялось по окрестностям. Ганнибал потерял две с половиной тысячи воинов.
Армия Фламиния была разгромлена, а второй консул, Гней Сервилий, со своим войском был еще далеко и не мог преградить Ганнибалу дорогу к Риму. Известие о поражении Фламиния и возможность приближения неприятеля к городу произвели тягостное впечатление. Это еще не был страх, римляне еще не осознали в полной мере, сколь грозный противник появился на их земле. В большей степени они негодовали на коварство карфагенянина. Но вместе с тем стало ясно, что против него следует направить полководца не просто храброго, но опытного и осторожного, который не даст заманить себя в ловушку.
Ввиду непосредственной угрозы Городу нужно было срочно назначить диктатора. По закону это должен был сделать консул, но его в Риме не было, а сенат не захотел взять на себя всю полноту ответственности. Впервые в римской истории он пошел на нарушение традиции и предложил выбрать диктатора собранию народа. Народ в комициях избрал Квинта Фабия Максима, а начальником конницы, то есть первым помощником диктатора, — Марка Минуция Руфа. Заметим, что РуФ был тоже избран, а не назначен Фабием, как это полагалось по закону.
Но Ганнибал на Рим не пошел. Он прекрасно понимал, что взять город штурмом, да еще без осадных орудий, ему не удастся, а для длительной осады, имея за спиной легионы Сервилия, у него слишком мало сил. Карфагенский полководец повел свое войско на юго-восток, к Адриатическому побережью. Он отпустил на свободу всех пленников-неримлян. Ведь главной его надеждой было отложение союзных и восстание подвластных Риму италийских городов. Но для этого нужно было время и еще одна-две убедительные победы над римским войском в открытом поле. Ганнибал был уверен, что римляне не позволят ему хозяйничать в Италии и выступят вслед за ним. В своем войске он не сомневался, но было совсем неплохо дать солдатам возможность передохнуть после тяжелой весенней кампании. С побережья Ганнибал послал в Карфаген известие о своей победе.
После почти месячного отдыха, который он использовал для реорганизации войска по римскому образцу, Ганнибал двинулся дальше на юг. Римские колонии на своем пути он разорял дотла, а зависимым от Рима городам предлагал союз и свободу. Но ни один из них пока не открывал перед ним свои ворота.
Собрав под своим командованием все римское войско, включая новобранцев, диктатор повел его на сближение с неприятелем. Казалось, что Ганнибал не ошибся в своих расчетах. Но вскоре обнаружилось, что они верны не вполне, — карфагенского полководца ожидало нечто непредвиденное.
Квинт Фабий Максим был человеком пожилым, многоопытным, очень осмотрительным и стойким в осуществлении своих планов. Эту осмотрительность многие принимали за нерешительность, а его планы явно не соответствовали римской военной традиции. Вместо того чтобы искать решительного сражения, которое должно закончиться разгромом неприятеля, он поставил перед собой задачу взять противника измором. Фабий понимал, что до тех пор, пока римская армия не побеждена, союзники не решатся перейти на сторону Ганнибала. Ожидая сражения, тот будет топтаться на месте, опустошая окрестности и испытывая все большие затруднения со снабжением продовольствием. Если же Ганнибал попытается уйти, то римляне последуют за ним, продвигаясь по неудобным для сражения холмам, нападая на фуражиров и непрестанно тревожа карфагенян короткими наскоками. Вот как описывает Тит Ливий это необычное для тех времен противостояние:
«В тот же день, как он близ Арпина стал лагерем в виду врага, Пуниец немедленно вывел войско в боевом порядке, предлагая сражение, но в римском лагере все было спокойно и безмятежно, и он вернулся к себе, ворча, что прославленный Марсов дух у римлян угас, что война окончена... В глубине души, однако, он был встревожен... Ему вдруг стало страшно от спокойной осторожности нового диктатора. Еще не зная, сколь тот упорен, Ганнибал попытался вывести его из себя: часто переходил с лагерем с места на место, на глазах у него опустошал поля союзников; двинув быстрым маршем войско, скрывался и вдруг появлялся где-нибудь на повороте дороги; прятался, рассчитывая перехватить его, когда он спустится на равнину. Фабий вел войско по высотам, на небольшом расстоянии от неприятеля, не выпускал его из виду, но и не вступал в сражение». (Там же. Т. 2, XXII, 12)
Но в тактике Фабия была и своя уязвимая сторона. Отважные римские воины были недовольны кажущейся робостью своего командующего. С горечью, стыдом и возмущением смотрели они с окрестных высот, как на равнине пылают селения, а нумидийская конница грабит верных Риму союзников, чьи вспомогательные войска находились тут же, рядом. В конце концов Фабий был вынужден предоставить озлобленному войску возможность сразиться с неприятелем. Знание местности позволило ему выбрать для этого наиболее благоприятные условия. Теперь уже противник попался в расставленную ему ловушку. Казалось, судьба карфагенского войска решена, но военный гений Ганнибала нашел спасительный выход из заведомо безнадежного положения. В результате этот эпизод не сыграл существенной роли в ходе войны, и можно было бы его опустить, но я хочу дать читателю возможность составить себе представление об изворотливости молодого карфагенского полководца. Вот как описывает Аппиан этот инцидент:
«Когда оба войска приблизились к узкому горному проходу, которого Ганнибал не предвидел, Фабий, послав вперед четыре тысячи воинов, занял его, а сам с остальными стал лагерем на укрепленном холме с другой стороны. Ганнибал же, когда заметил, что он попал в середину между Фабием и теми, которые стерегли теснины, почувствовал страх, как никогда раньше: он не видел другого прохода — все состояло из отвесных и непроходимых скал, и он не надеялся победить Фабия или стоящих у теснин ввиду укрепленности их позиции.
Находясь в таком безвыходном положении, Ганнибал перерезал бывших у него числом до пяти тысяч пленных, чтобы они в момент опасности не подняли восстания, быкам же, которые у него были в лагере (а их было большое количество), к рогам он привязал факелы и, с наступлением ночи зажегши эти факелы, другие огни в лагере потушил и велел хранить глубокое молчание. Самым же смелым из юношей приказал гнать быков со всей поспешностью вверх на те крутизны, которые были посередине между лагерем Фабия и ущельем. Быки, подгоняемые гнавшими их, а также из-за огня, который их жег, обезумев, изо всех сил лезли на крутизны, потом падали и снова лезли.
Римляне и с той и с другой стороны, видя, что в лагере Ганнибала темно и тихо, а в горах много всяких огней, не могли, как это бывает ночью, точно понять, что происходит. Фабий подозревал здесь какую-то хитрость Ганнибала, но не мог разгадать ее, держал войско неподвижно, считая, что ночью все подозрительно. Стоявшие же в теснинах предположили, чего и хотел Ганнибал, а именно то, что он, попав в затруднительное положение, бежит, пробиваясь вверх по кручам; поэтому они покинули свои места и бросились туда, где появлялся огонь, рассчитывая захватить там Ганнибала, которому приходилось плохо. Как только Ганнибал увидел, что они спустились из теснин, он быстро бросился в эти теснины с самыми быстрыми из своих воинов, без света, в полном молчании, чтобы остаться незамеченным; захватив их и укрепившись там, он дал знак трубой, и лагерь ответил ему громким криком, и внезапно всюду появился огонь. Только тогда римляне заметили обман; остальное же войско Ганнибала и те, которые гнали быков, безболезненно прошли к теснинам. Собрав их, он двинулся дальше...» (Аппиан. Римская История. VII, 3, 14-15)
Ганнибал ускользнул, и Фабий последовал за ним, возобновив свою тактику изматывания противника. Однако досада из-за допущенной оплошности еще более обозлила воинов. Требования сражения в открытом поле лицом к лицу с врагом звучали все громче. Воины были полны мрачной решимости, недовольны были все — солдаты и командиры. Вряд ли в наши дни в такой ситуации командующий решился бы настаивать на своем. Но римляне недаром так культивировали уважение закона и абсолютную дисциплину в войсках. Не подчиниться приказу диктатора было невозможно. А старик упрям и ни на йоту не хочет отступить от своей тактики, которую считает спасительной для Рима. Масла в огонь подливал и начальник конницы:
«Глупо думать, — говорил Минуций, — что можно победить, сидя сиднем и вознося молитвы; возьми оружие, сойди на ровное место и сражайся с врагами грудь с грудью. Римское государство возросло потому, что было отважно и отвергало робкие решения, которые трусы зовут осторожными». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXII, 11)
Возмущение, хотя несколько иного толка, царило и на римском форуме. Патриотизм и национальная гордость — вещи неплохие. Бывает так, что в критические минуты именно в них народ черпает силы для беспримерного противостояния ударам судьбы. Но в военном деле они опасны тем, что легко порождают высокомерное самомнение, необоснованную уверенность в успехе и недооценку сил противника. Чаще всего этот патриотический угар овладевает массами гражданского населения, находящегося вдалеке от театра военных действий.
Когда Фабий ненадолго отлучился в Рим для жертвоприношения богам, Минуцию удалось в небольшой стычке потрепать Ганнибала, который в преддверии зимы отрядил две трети своего войска в окрестные поля для уборки урожая. Сообщение об этом успехе, расписанное самыми яркими красками, достигло Рима и взбудоражило горожан. Так легко издалека воображать себе победу над малоизвестным, но, конечно же, неспособным в честном бою устоять против римского оружия противником. Народный трибун Марк Метелл упрекает Фабия в пагубной нерешительности и, ввиду того, что до истечения срока полномочий сместить диктатора нельзя, предлагает народному собранию принять закон о назначении Минуция вторым диктатором. Такого в римской истории еще не бывало, но традиция все равно уже нарушена и, оправдываясь чрезвычайными обстоятельствами, центуриатские комиции принимают предложение трибуна. Не дожидаясь утверждения их решения сенатом, Фабий отбывает обратно к войску
«Все, — пишет по этому поводу Тит Ливий, — и в войске, и в Риме, и сторонники диктатора, и его противники сочли это постановление сознательным оскорблением диктатору — все, кроме самого Фабия. К врагам, обвинявшим его перед толпой, он отнесся с тем же величавым спокойствием, с каким он пережил и обиду от рассвирепевшего народа. Уже в дороге он получил письмо от сената об уравнении власти и, прекрасно зная, что обладание властью и искусство властвовать очень между собой разнятся, вернулся к войску — не побежденный ни согражданами, ни врагами». (Там же. 26)
Фабий и Минуций делят войско поровну. Минуций ставит свой лагерь ближе к лагерю Ганнибала. И он, и его солдаты жаждут битвы. Пуниец решает воспользоваться их прытью. Теперь его черед приготовить ловушку — хотя и почти в открытом поле. Незаметно разместив часть войска в находившихся неподалеку пещерах, он выманивает римлян из лагеря, потом отступает, увлекая их за собой. Но вот отступавшие остановились и переходят в контратаку. В тот же момент их товарищи выходят из укрытий. Войско Минуция окружено. Сражение разворачивается явно не в его пользу. Начинается паника.
Все это из своего отдаления видит Фабий. Если старый воин и испытал на мгновение чувство удовлетворения отмщением обиды, оно не помешало ему на этот раз действовать быстро и решительно. Он выводит легионы из лагеря и спешит на выручку своего обидчика. Увидев подходящие свежие силы римлян, Ганнибал отступает к себе в лагерь. Оба римских войска возвращаются на свои базы. Если верить Титу Ливию, то Минуций в эту тяжелую для него минуту тоже являет пример римского достоинства и чести:
«Минуций, — пишет Ливий, — созвал солдат и сказал: «Я часто слышал, воины, что на первом месте стоит человек, который сам может подать дельный совет, на втором — тот, кто этого совета послушается; а тот, кто сам совета не даст и не подчинится другому, тот — последний дурак. Судьба отказала нам в первом даре, будем же хранить второй и, учась приказывать, станем повиноваться разумному. Соединим же свой лагерь с Фабиевым, поставим знамена перед его палаткой, и я назову его отцом: он достоин этого имени: наш благодетель — человек высокой души; вы же, воины, приветствуйте как патронов тех, чья рука и чье оружие вызволили вас. Этот день оставит нам, по крайней мере, честь людей, умеющих быть благородными». (Там же. 29).
Так и произошло. Минуций отказался от диктаторства, вернул Фабию легионы и просил, как милости, сохранить за ним начальство над конницей. Римляне, узнав обо всем этом, изменили свое отношение к Фабию и стали его превозносить. По окончании срока диктатуры Фабий передал командование новоизбранным консулам, которые продолжили его реабилитированную тактику изматывания Ганнибала.
Прошел еще год, наступило время новых консульских выборов. И снова в переменчивом народе бродит недовольство вялым течением войны. Это позволяет плебею низкого происхождения и демагогу Гаю Теренцию Варрону неустанно обвинявшему сначала Фабия, а потом и консулов в преднамеренном затягивании военных действий, добиться своего избрания. Его коллегой стал сенатор из древнего патрицианского рода Луций Эмилий Павел. Решительные намерения Варрона общеизвестны, и потому встревоженный этим Фабий обращается с напутственным словом к Эмилию Павлу. Тит Ливий в таких выражениях передает его главную мысль:
«...кто пренебрежет ложной славой, обретет истинную. Пусть тебя, осторожного, называют робким; осмотрительного — неповоротливым, сведущего в военном деле — трусом; пусть лучше боится тебя умный враг, чем хвалят глупцы-сограждане». (Там же. 39)
Ганнибал в это время находится в Апулии — на юге Италии, близ Адриатического побережья. Ему удалось овладеть крепостью Канны — главным опорным пунктом римлян в этом районе. Несмотря на ряд подобного рода не очень значительных успехов, положение становится все тяжелее. Трудно отмахнуться от мрачных мыслей. Вот уже два года он бродит по стране, а навязать римлянам решительное сражение все еще не удалось, и никто из союзников Рима так и не перешел на его сторону. Между тем армия его понемногу тает, добывать для нее продовольствие силой можно только в ближайших, уже опустошенных окрестностях, а на его закупку в местах более удаленных нужны деньги, которые кончаются. Он шлет просьбы о подкреплении в Карфаген, но там возобладала партия его противников. Ему не без ехидства, отвечают, что полководцу, одержавшему столько побед, подобает самому присылать на родину деньги, а не просить их. Так дальше продолжаться не может — этим летом он должен во что бы то ни стало сразиться с римлянами и разгромить их. Тогда все пойдет по-другому...
К счастью для Ганнибала, римский сенат приходит точно к такому же решению. Нельзя же рассчитывать на то, что италийские общины будут без конца терпеть двойное бремя войны и позволять себя грабить. И сколько можно сносить унижение римской гордости?! Или среди римлян уже не осталось мужчин, способных владеть оружием? Или оскудел отважными воинами Рим? Недаром возмущенно шумит форум... И вот, наконец, сенат решает снарядить небывалую доселе армию из восьми легионов и дает распоряжение командующим вступить в решительное сражение с неприятелем. В начале лета 216-го года войско под началом обоих консулов направляется к Каннам.
Римское войско насчитывает 80 тысяч пехотинцев (из них половина — союзники) и около 6 тысяч кавалерии. У Ганнибала до 10 тысяч превосходной нумидийской конницы, но всего 40 тысяч пехоты. Правда, широкая апулийская долина делает преимущество Карфагенянина в коннице весьма ощутимым. Павел не склонен завязывать сражение, не разведав как следует расположение сил противника. Но Варрон недаром обещал народу действовать решительно! Согласно старинному обычаю, в том случае, когда оба консула находятся при войске, они принимают на себя верховное командование поочередно. В день, когда решающее слово было за Варроном, он приказывает начать сражение.
В середине своей пехотной линии Ганнибал поставил испанцев и кельтов, заведомо зная, что они не устоят под натиском римских легионов. Зато по краям он расположил отборные ливийские части, отведя их несколько назад, так, чтобы римляне не вошли с ними в соприкосновение с самого начала битвы. Карфагенский полководец рассчитывал на то, что когда его центр начнет отступать и римляне для развития успеха сосредоточат там свои главные силы, ливийцы ударят по ним с флангов. Так оно и случилось. Однако, ввиду маневренности римского войска, одно это не решило бы исхода сражения. Командовавший пехотой опытный проконсул Сервилий вовремя разгадал замысел противника. По его команде ближайшие к нападающим манипулы уже начали перестроение, когда на них с тыла обрушилась карфагенская тяжелая кавалерия, смявшая на дальних краях фронта заслоны римлян и завершившая окружение пехоты. Наверное, и эту атаку легионеры сумели бы отбить, а затем их двукратное численное преимущество сыграло бы свою роль. Но тут взорвалась «мина», которую коварный Ганнибал подбросил в боевые порядки римского войска. Мы уже имели возможность оценить изобретательность Пунийца, а подобные римским представления о воинской доблести и чести были ему чужды.
Еще до начала сражения он приказал пятистам кельтиберам, находившимся в передовой линии испанского войска, спрятать под одеждой короткие мечи и дал им соответствующие инструкции. Этот эпизод описан у Аппиана. Когда завязалась битва, испанцы...
«...выбежав из строя, бросились к римлянам и протягивали им щиты, копья, и мечи, которые были у них на виду, как будто они были перебежчиками. Сервилий, похвалив их, тотчас взял у них оружие и поставил назад в одной, как он думал, одежде; он не считал целесообразным связывать перебежчиков на глазах врагов и не подозревал их, видя их в одних хитонах, да и времени подходящего не было среди такого напряженного боя». (Аппиан. Римская История. VII, 3, 22)
На это и рассчитывал Ганнибал. Когда окружение было завершено,
«...видя, что наступил указанный им момент, те пятьсот кельтиберов, вытащив из-за пазух короткие мечи, убили первыми тех, позади кого они стояли, затем, схватив их более длинные мечи, щиты и копья, они напали по всей линии, устремляясь от одних на других, не щадя себя; они-то и произвели главным образом наибольшее избиение, так как стояли позади всех». (Там же. 23)
Ряды легионов смешались, отступившие было в центре кельты перешли в нападение, кольцо противника стало сжиматься, римляне сгрудились, мешая друг другу, — началось их избиение. Варрон, командовавший на фланге, со своим эскортом бежал в находившуюся километрах в сорока от места боя римскую крепость. А Эмилий Павел, прискакавший в центр с другого фланга, вместе с Сервилием, сплотив вокруг себя лучших воинов, продолжал обороняться. Но сражение уже было проиграно, и Аппиан так описывает его заключительный аккорд:
«Полководцы, а за ними все, которые были на конях, стали сражаться пешими, окруженные всадниками Ганнибала. И много блестящих подвигов совершили они, будучи опытными и храбрыми, и, находясь в безнадежном положении, нападали на врагов, исполненные гнева. Их истребляли отовсюду, и, разъезжая верхом вокруг них, Ганнибал то подстрекал своих, призывая покончить с этим остатком, чтобы довершить свою победу, то стыдил и упрекал, что, победив такое множество, они не могут одолеть немногих. Римляне же, пока с ними были Эмилий и Сервилий, нанося сами удары и терпя большой урон, все же оставались в строю. Когда же пали их полководцы, они, сильным натиском пробившись через середину врагов, стали разбегаться в разные стороны». (Там же. 24)
Разгром римского войска был сокрушительным. Около 50 тысяч римлян погибло, в их числе восемьдесят сенаторов, несколько бывших консулов. 20 тысяч было взято в плен. Потери карфагенян были незначительными. Среди избежавших гибели был Публий Корнелий Сципион младший — сын консула, потерпевшего поражение от Ганнибала в Цизальпинской Галлии, спасший там своего отца. И здесь юноша проявил незаурядную доблесть, пресекая панические настроения воинов и увлекая их за собой.
Только теперь в Риме осознали всю меру нависшей над ним опасности. Враг был не просто хитер, он был силен! Пришлось расстаться с убеждением в превосходстве римского оружия, пришлось понять, что государство на краю гибели. Надо отдать должное римлянам: это понимание не породило растерянность, а наоборот — проявило свойственные им стойкость и упорство. Римский народ и сенат встретили известие о катастрофе мужественно. Понимая необходимость сплочения в эту критическую минуту всех сил нации, они даже воздержались от упреков в адрес Варрона и солдат, когда те возвратились в Рим, и, если верить Титу Ливию:
«...так высок в это самое время был дух народа, что все сословия вышли навстречу консулу, главному виновнику страшного поражения, и благодарили его за то, что он не отчаялся в государстве». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXII, 61)
Был объявлен новый набор войска. Впервые в Римской истории за счет казны у граждан были выкуплены на свободу и стали под римские знамена восемь тысяч юношей-рабов (то, что римляне согласились идти в бой рядом со вчерашними рабами, само по себе говорит о многом. Впрочем, здесь уместно напомнить то, что было сказано в первой главе о своеобразном отношении к рабам в Риме). Все гражданское население было мобилизовано на укрепление стен города. Было даже освобождено из заключения шесть тысяч преступников, согласившихся вступить в войско. С древнеримской суровостью сенат решил вопрос о сдавшихся в плен. Ганнибал, как обычно, отпустил пленных союзников, а за римлян, нуждаясь в деньгах, вознамерился получить выкуп. Аппиан так описывает этот эпизод:
«Ганнибал дал пленным позволение отправить в Рим послов относительно их участи: не захотят ли находившиеся в городе выкупить их за деньги. Выбранных пленными трех послов во главе с Гнеем Семпронием заставили поклясться в случае отказа римлян вернуться. Родственники взятых в плен, обступив здание сената, заявляли, что каждый из них выкупит родных за свои деньги, и умоляли сенат разрешить им это, и народ вместе с ними плакал и просил. Из сенаторов одни не считали правильным при столь больших несчастьях вредить государству потерей еще стольких граждан, освобождать рабов и пренебрегать возможностью освободить свободных; другие же полагали, что не следует такой жалостью приучать солдат к бегству... и сенат не разрешил родственникам выкупить пленных, полагая, что при многих предстоящих еще опасностях не принесет пользы на будущее проявленное в настоящее время человеколюбие. Жестокость же, пусть бы она казалась и печальной, будет полезна для будущего, а в настоящее время смелостью решения поразит Ганнибала. Итак, Семпроний и бывшие с ним двое пленных вернулись к Ганнибалу Некоторых из пленных Ганнибал тогда продал, некоторых же, охваченный гневом, велел убить, запрудил их телами реку и по такому мосту перешел через нее». (Аппиан. Римская История. VII, 3, 28) Военачальники Ганнибала предлагали воспользоваться победой и немедленно двинуться на Рим. Но карфагенский полководец отверг их совет и на этот раз. Он ждал, что теперь союзники римлян начнут переходить на его сторону и он сможет опереться на них во время неизбежно длительной осады города. Тит Ливий считал, что «бездействие этого дня послужило спасением для города и римского государства». Возможно, он прав.
Союзники действительно стали отпадать от Рима. На сторону Пунийца перешел весь юг Италии, за исключением прибрежных греческих колоний. И, что особенно было важно, большой, богатый и хорошо укрепленный город Капуя, соперник Рима, открыл перед ним свои ворота.
Кстати, о Капуе. Позволь, уважаемый читатель, сделать одно небольшое отступление, которое, хотя и не продвинет наше повествование, но, я надеюсь, развлечет тебя. Тит Ливий в начале 23-й книги своей Истории рассказывает одну «презабавную» сценку народного суда. Дело происходит как раз в Капуе, в том же 217-м году, еще до того, как туда пришел Ганнибал. В городе брожение, и некий знатный и популярный в народе проходимец по имени Пакувий задумывает подчинить себе городской сенат, естественно, нелюбимый толпой. Он собирает сенаторов и говорит, что народ намерен их всех истребить, но он берется их спасти. Для этого они должны согласиться быть запертыми в курии и, кинув жребий, по одному выходить, когда он будет отпирать дверь. Потом Пакувий созывает народ и объявляет, что намерен казнить всех сенаторов, кого своим криком приговорит народ.
Но каждому казненному, чтобы город не оставался без управления, нужно будет тут же избрать замену — человека хорошего и честного. Первого же вышедшего из курии все дружным криком приговорили к смерти, но когда было предложено назвать замену, произошло вот что:
«Сначала все молчали, не зная, кого бы предложить, затем, когда кто-то, преодолев смущение, назвал чье-то имя, тут же поднялся шум: одни кричали, что они этого человека не знают; другие попрекали его низким происхождением и бесчестящей бедностью, грязным ремеслом или постыдным промыслом. Еще больше обвинений посыпалось на второго и третьего человека, предложенного в сенаторы; становилось ясно, что люди сенатором недовольны, а предложить вместо него некого... Люди разошлись, говоря, что легче всего терпеть знакомое зло, и распорядились освободить сенаторов.
Так Пакувий, убедив сенаторов в том, что они обязаны жизнью больше ему, чем простому народу стал хозяином города уже с общего согласия — браться за оружие не пришлось». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXIII, 3)
Согласитесь — тонкое понимание психологии толпы! Но вернемся к нашему рассказу. Ганнибал ожидал еще и прихода подкреплений из Испании, о которых он просил письмом оставшегося там его младшего брата, Гасдрубала. А также хоть какой-нибудь помощи из Карфагена, где известие о победе под Каннами должно было произвести впечатление. Наконец, он надеялся на высадку в Италии македонского царя Филиппа, с которым только что был заключен союз и даже договор о разделе сфер влияния после победы над Римом.
Пока же он повел свое войско на зимовку в Капую. По мнению Тита Ливия, это, казалось бы, вполне естественное решение было еще одной и, быть может, даже более серьезной ошибкой Ганнибала:
«Большую часть зимы, — пишет Ливий, — войско провело под кровлей. Солдаты давно притерпелись ко всем тяготам; хорошая жизнь была внове. И вот тех, кого не могла осилить никакая беда, погубили удобства и неумеренные наслаждения — и тем стремительнее, что с непривычки к ним жадно ринулись и в них погрузились... Ганнибал вышел из Капуи словно с другим войском; от прежнего порядка ничего не осталось. Большинство вернулось в обнимку с девками, а как только их поместили в палатках, когда начались походы и прочие воинские труды, им, словно новобранцам, недостало ни душевных, ни телесных сил. На протяжении всего лета большинство солдат покидало знамена без разрешения, и приютом дезертирам была Капуя». (Там же. 18)
Не думаю, что объяснение Тита Ливия можно считать достаточным, но во всяком случае несколько следующих лет Ганнибал ведет себя на удивление вяло. Его войско бесцельно бродит по югу Италии, довольствуясь занятием небольших крепостей, сохранявших верность Риму. Наученные горьким опытом, римляне вновь и вновь в течение пяти лет избирают консулом Фабия Максима, и тот упорно продолжает свою тактику изматывания противника.
Впрочем, на этот раз дело не ограничивается простым следованием за Ганнибалом. В коллеги Фабию выбирают опытных и отважных военачальников: Тиберия Семпрония Гракха и Марка Клавдия Марцелла. Эти два полководца, то избираемые повторно консулами, то в звании проконсулов, будут наряду с Фабием командовать легионами до самого момента гибели одного и другого. Римляне усвоили урок — во время войны умелых полководцев в угоду демократии не меняют. Видя падение боевого духа карфагенян, римские консулы не без успеха дают Ганнибалу несколько не очень крупных сражений.
Попутно нам интересно будет приглядеться поближе к Семпронию Гракху — деду будущих братьев Гракхов, знаменитых трибунов, защитников народа.
Под начальством Семпрония оказалось разношерстное воинство новобранцев. По свидетельству Тита Ливия, Гракх
«...часто солдат заставлял упражняться, чтобы новобранцы — в большинстве добровольцы из рабов — привыкли ходить под знаменами и знать свое место в строю. Полководец был особенно озабочен (того же он требовал от легатов и трибунов) тем, чтобы никакие попреки позорным прошлым не поселяли вражды в солдатской среде; старый солдат и новобранец, свободный и раб-доброволец пусть знают — сейчас они уравнены между собой... Эти наставления одинаково строго соблюдались и начальниками, и воинами, и такое единодушие вскоре спаяло всех так, что почти забылось, из какого звания кто стал солдатом». (Там же. 35).
Выкупленные сенатором рабы в его войске еще не были официально названы свободными. Накануне одного из сражений проконсул Гракх...
«...объявил им, что пришел наконец день, когда они могут получить желанную свободу, — они его давно ждали. Завтра они будут сражаться на открытой голой равнине, где бояться засад нечего, где все решит воинская доблесть. Кто принесет голову врага, того он немедленно прикажет освободить; оставивший свой пост будет казнен как раб. Судьба каждого в его руках. Свободу дарует не только он, но и консул Марцелл, и весь сенат, предоставивший ему право решения. Затем он прочитал письмо консула и сенатское постановление. Поднялся дружный громкий крик: воины грозно и настоятельно требовали дать сигнал к бою». ( Там же. XXIV, 14)
Однако около четырех тысяч рабов не выдержали испытания первым боем и ушли на холм недалеко от лагеря. Тем не менее, победа была одержана, и на следующий день Гракх собрал всех воинов на сходку. Проявившие малодушие рабы, понимая, что им не убежать от наказания, тоже явились в лагерь.
«Консул прежде всего наградил старых солдат сообразно их доблестному поведению и заслугам в последнем бою; что же касается добровольцев, то он предпочитает сегодня всех — и достойных, и недостойных — хвалить, а не ругать; он всех объявляет свободными — да будет это к счастью и благоденствию государства. В ответ поднялся громкий радостный крик: люди обнимались и поздравляли друг друга, воздевали руки к небу; желали всяческих благ римскому государству и самому Гракху. Гракх прервал их: «Прежде чем вы все получили права, сравнявшие вас с остальными гражданами благодаря мне, я не хотел разбираться, кто из вас хороший солдат, а кто трус; теперь, когда государство свое обещание выполнило, нельзя, чтобы исчезла всякая разница между доблестью и трусостью. Я прикажу принести мне списки всех, кто, помня, что предстоит битва, от нее уклонился и сбежал перед самым боем, вызову каждого поодиночке и, если он клятвенно не заверит, что не явился, потому что был болен, заставлю его до конца службы есть и пить не иначе как стоя. Не возмущайтесь: сообразите, что легче наказать вашу трусость нельзя». (Там же. 16)
Пожалуй, стоит процитировать из Тита Ливия описание еще одного, мелкого, но очень римского эпизода. На 213-й год консулами были избраны снова Тиберий Гракх и Квинт Фабий Максим-сын. Его знаменитый старик-отец отправляется к нему в качестве легата. Обычай предписывал, чтобы при встрече с консулом любой римлянин (разумеется, вне битвы) слезал с коня. Если он об этом забывал, то ликторы консула обязаны были приказать ему спешиться. И вот Фабий Максим-отец подъезжает к лагерю.
«Сын, — рассказывает Тит Ливий, — вышел навстречу; ликторы из почтения к величию отца шли молча, старик проехал мимо одиннадцати, когда консул обратил на это внимание крайнего ликтора, тот выкрикнул приказание слезть с лошади. Спрыгнув, старик обратился к сыну: «Я испытывал тебя — вполне ли ты сознаешь, что ты консул». (Там же. 44)
Но вернемся же к противостоянию римлян и Ганнибала. Восстанавливается некое равновесие сил, и Пуниец уже не может рассчитывать на дальнейший распад римского союза. Вся средняя и верхняя Италия сохраняют верность Риму. Филипп Македонский, опасаясь римского флота, на высадку в Италии не решается, а вместо этого пробует, и то неуспешно, напасть на владения римлян на западном берегу Северной Греции. Римляне отправляют туда десант морем. После длительной и вялой кампании Филипп в 205-м году заключит мир с Римом.
Не приходит и помощь из Испании. Гасдрубал воюет там с братьями Сципионами. Как раз в год каннского разгрома Публий Корнелий Сципион-отец по решению сената и народа снова отплыл с войском в Испанию для поддержки своего брата Гнея, которого он туда направил еще в 218-м году из Массилии. Эта трудная в ту пору для Рима экспедиция была предпринята именно с целью помешать повторению сухопутного марша карфагенян из Испании в Италию. Братья Сципионы воюют с переменным успехом. Сначала они наносят Гасдрубалу два чувствительных поражения, потом сами терпят неудачи и, наконец, в трудных сражениях, один за другим, оба погибают.
Но это произойдет лишь в 211-м году, когда Ганнибал уже в течение пяти лет будет бесплодно скитаться по Италии. Тем временем некоторая помощь из Карфагена все же поступает. Но очень незначительная — поражения в Испании в ту пору беспокоят Карфагенский сенат куда больше, чем судьба Ганнибала, которого многие сенаторы сердито осуждают за всю эту «италийскую авантюру».
Поразительна и вместе с тем извечна эта близорукость сановных политиков. Окажи они в тот момент существенную поддержку Ганнибалу (а возможности для этого у них были), быть может, Рим был бы вынужден принять условия мира, надолго обеспечивающие безопасность и процветание Карфагена. Но для заправлявшей там партии важнее всего было не допустить восстановление влияния ее политических соперников — рода Баркидов. Своим отказом в помощи полководцу, чьи беспримерные усилия были продиктованы преданностью своему городу и ненавистью к его врагам, они обрекли на гибель и город, и себя самих.
Горько и одиноко было тридцатидвухлетнему полководцу в чужой, враждебной стране. Таяли его надежды на успех. Наконец, обманывает и последняя — Сицилия. В 215-м году в возрасте девяноста лет умер верный союзник Рима, тиран Сиракуз Гиерон II. Ему наследует пятнадцатилетний внук Гиероним (отец его успел умереть). Под влиянием своих дядьев мальчик склоняется к союзу с Ганнибалом. Карфаген сулит ему власть над всей Сицилией. Но вот в результате заговора юный тиран убит. Народ и сенат Сиракуз провозглашают свободу. Однако зять Гиерона замышляет захватить власть в городе. Его намерения раскрыты, а рассвирепевший народ требует истребить весь царский род. Тит Ливий по этому поводу делает весьма современное, на мой взгляд, замечание:
«Такова толпа: она или рабски пресмыкается, или заносчиво властвует. Она не умеет жить жизнью свободных, которые не унижаются и не кичатся. И почти всегда находятся люди, чтобы угодливо распалять безмерно жестокие, жадные до казней и кровавой резни души». (Там же. XXIV, 25)
Несмотря на провал заговора, влиянием в Сиракузах сумели овладеть эмиссары Ганнибала. Они освободили рабов, выпустили узников из темниц и готовятся прийти на помощь Пунийцу. Римляне в 213-м году вынуждены переправить в Сицилию войско под командованием Марцелла и начать осаду Сиракуз. Из Карфагена на помощь осажденным присылают крупный десант. Римляне не могут допустить, чтобы Сицилия стала мостом между Карфагеном и Ганнибалом. Положение осложняется, и война на время перекочевывает из Италии в Сицилию.
Марцелл осаждает Сиракузы с суши и с моря. Осада длится около двух лет. Немалую роль в защите родного города играет великий Архимед. Созданные им мощные подъемные устройства дают возможность осажденным прямо с выходящих на море стен крепости подцеплять и опрокидывать римские корабли. Это мешает римлянам осуществить штурм города. Но, как это нередко бывает, примитивная грубость интересов сограждан сводит на нет достижения научного гения. Осада заканчивается тем, что на каком-то празднике защитники Сиракуз напиваются допьяна и воинам Марцелла ночью удается подняться на стены крепости. Вскоре и весь город вынужден капитулировать. Это случилось в 211-м году.
Помощи из Сицилии Ганнибал уже не получит. Но прежде чем возвратиться к рассказу о печальной судьбе карфагенского полководца, еще задержимся ненадолго в Сиракузах и посмотрим, что делает овладевший ими Марцелл. К дальнейшему ходу войны это прямого отношения не имеет, но на будущую историю Рима его действия наложат весьма существенный отпечаток.
Итак, Сиракузы капитулировали и, как полагается, отданы на разграбление римской солдатне. Между прочим, от Тита Ливия мы узнаем то, что не может не волновать даже нас:
«Было явлено, — свидетельствует Ливий, — много примеров отвратительной жадности, гнусного неистовства. А среди всей суматохи, какую только может породить во взятом городе страх, среди солдат, бегавших повсюду и грабивших, Архимед, как рассказывают, был занят только фигурами, которые он чертил на песке. Какой-то солдат, не зная, кто это, убил его. Марцелл очень был огорчен, позаботился о похоронах, разыскал родственников Архимеда и в память о нем обеспечил им жизнь в покое и уважении». (Там же. XXV, 31)
Этим поступком Марк Марцелл, наверное, хотел подчеркнуть свое уважение к эллинской науке. Он также доказал, что понимает и высоко ценит эллинское искусство. Он это сделал новым для той поры способом. Впервые за всю историю римский полководец в качестве трофеев вывез не только золото и серебро, не только драгоценную утварь и посуду, но картины и статуи, служившие украшением города. Нет нужды, что большую их часть он пожертвовал в римские храмы, что с этого началось знакомство римлян с высоким искусством древней Греции. Это был первый случай хищения рукотворной красоты, варварского разрушения неповторимых ансамблей древнегреческого зодчества. Этому примеру в последующие годы, особенно когда на греческое искусство в Риме пойдет мода, последуют многие.
Через год Марцелл будет послан в Испанию, где после гибели Сципионов положение станет угрожающим. Словно преследуемый греческими богами, он будет заперт карфагенянами в Пиренеях. Затем сенат направит Марцелла снова против Ганнибала, он попадет в ловушку и погибнет.
Но вернемся и мы из Сицилии в Италию. Там продолжается вялая война. Ганнибалу удается овладеть греческими колониями на южном побережье страны — Тарентом, Фуриями и Гераклеей. Но это не меняет его плачевного положения. Помощи ждать неоткуда, поредевшее войско для серьезных наступательных действий уже непригодно, а силы римлян растут. В том же 211-м году они начинают осаду Капуи. Понимая, что ее падение окончательно лишит его надежды на поддержку союзников Рима, Ганнибал решается пойти на выручку осажденного города. Но римские полководцы хорошо укрепили систему из трех своих соединенных стенами лагерей, и Ганнибал понимает, что взять их штурмом ему не удастся. Оставаться перед их валами тоже рискованно — можно ожидать подхода других римских армий, и тогда войско карфагенян окажется между двух огней.
Ганнибал прибегает к самому крайнему средству — снимает лагерь и идет на Рим. Вряд ли он рассчитывал с наскока овладеть Вечным Городом и тем более не мог помышлять о длительной его осаде. Скорее всего, он надеялся, что римляне снимут осаду Капуи, пойдут за ним, и можно будет еще раз испытать свое счастье в большом сражении. Но командовавший осадой Аппий Клавдий (еще один), не поддался на эту провокацию — его войско осталось под стенами Капуи. Ганнибал подошел к Риму — впервые после семи лет войны. Страх, который он успел внушить римлянам, был столь велик, что в городе началась было паника. Слухи о штурме стен то в одном, то в другом месте приводили в трепет горожан. Образ непобедимого Пунийца за те годы, что он наводил ужас на всю Италию, приобрел черты едва ли не мистические. Многие видели в нем посланца разгневанных богов. Женщины ходили от храма к храму и в знак смиренной мольбы о пощаде города вытирали подиумы святилищ своими волосами. Отчаяние овладевало людьми. Правнуки тех, кто находился тогда в Риме, будут с замиранием сердца, по рассказам старцев, воображать, что означали для предков роковые слова: «Ганнибал у ворот!»
Но надо на этот раз отдать должное римскому сенату и консулам. Оборону стен они организовали (к счастью, в Риме находилось два легиона, только что набранные для отправки в Испанию). А сами сенаторы постановили в полном составе не уходить с форума на случай, если потребуется какое-нибудь срочное их решение. Это немного успокоило горожан.
Подождав несколько дней и увидав, что Аппий со своим войском не последовал за ним, Ганнибал двинулся обратно на юг. Он прошел мимо Капуи, оставив ее на произвол судьбы, и удалился на самый кончик италийского «сапога» — к Регию. Истощенные голодом капуанцы капитулировали, и римляне жестоко расправились с изменниками. Зачинщики отпадения города от Рима были казнены, значительная часть горожан продана в рабство, а имущество и земля зажиточных горожан конфискованы.
В Регии Ганнибал был намерен только обороняться, по крайней мере до того момента, пока ситуация не станет более благоприятной. Это могло случиться только в одном случае — если Гасдрубал сумеет привести к нему на выручку новое войско. Надежда забрезжила, когда из Испании пришли вести о поражении Сципионов и Марцелла. Правда, римляне послали туда новые силы, но можно было рассчитывать на то, что они увязнут в борьбе с многочисленным войском, которое Карфаген за эти годы успел направить в Испанию. Прошло еще три года, прежде чем эта надежда стала как будто оправдываться. Оторвавшись от римлян, Гасдрубал с большим войском перешел Пиренеи и направился по пути брата в Италию. Задержать его было некому, и в 207-м году он во главе 50-тысячного войска появился по эту сторону Альп. По возможности уклоняясь от сражений, Гасдрубал двинулся на юго-восток для соединения с Ганнибалом, который, в свою очередь, выступил ему навстречу. Сложилась ситуация, вообще-то говоря, даже более опасная, чем когда Ганнибал впервые появился в Италии. Но Рим уже был иным. У него было закаленное в походах и сражениях войско, опытные, хорошо изучившие врага командиры. Союзники, наученные горьким опытом Капуи, не помышляли об измене. А главное — римский народ оправился от потрясения. Страх, который овладел римлянами, когда Ганнибал стоял у ворот Города, ушел. Почти четыре года бездействия и неудач некогда грозного врага лишили его ореола непобедимости.
Соединиться братьям не пришлось. Мобилизовав все силы, все ресурсы почти опустошенной страны, римляне сумели в Апулии остановить Ганнибала. А Гасдрубалу (к тому же сбившемуся с пути) навязали сражение в невыгодных для него условиях. В тяжелой, кровопролитной битве недавно набранная армия Гасдрубала понесла поражение и была почти полностью истреблена, а сам он, видя, что сражение проиграно, стал искать и нашел для себя почетную смерть в бою. Ганнибал снова отошел к южным гаваням — единственному своему прибежищу. Там он мог ожидать вызова в Карфаген или помощи оттуда, хотя надежд на это было мало — война в Италии явно была проиграна. Римляне тоже были слишком истощены, чтобы пытаться добить Ганнибала. Его поражение было очевидно, и они могли позволить себе зализывать раны. Надо было хотя бы попытаться вернуть плебеев, колонистов и рабов на давно заброшенные поля.
Наступило затишье. Еще через два года, когда молодому Сципиону в Испании удалось основательно побить карфагенских наемников и на горизонте замаячила опасность высадки римлян в Африке, карфагенские власти, с целью отвлечь римлян от этого намерения, попытались реанимировать военные действия в Италии. Они послали Ганнибалу долгожданное, но, увы, слишком запоздалое подкрепление. С ним он еще мог держаться в уже отвернувшейся от него Южной Италии, но ни о каких активных действиях не могло быть и речи. Великий италийский поход закончился безрезультатно. Выдающийся карфагенский полководец потерпел фиаско. Но его дерзкое предприятие, ярко проявившийся военный талант и способность так долго в таких трудных условиях поддерживать стойкость столь разноплеменного войска снискали ему бессмертную славу. Впрочем, единоборство Ганнибала с Римом, как оказалось, было еще далеко не окончено. Но об этом — в следующей главе.
Глава V Сципион Африканский (209-183 гг.)
Напомню, что в 210-м году после взятия римлянами Капуи главная надежда Ганнибала была связана с прибытием помощи из Испании. После поражения и гибели там братьев Сципионов и неудач Марцелла шансы получить такую помощь были неплохими. Это понимал и римский сенат, потому было принято нелегкое решение об отправке в Испанию (Иберию) большого войска. К тому побуждали и известия о намерении Карфагена послать туда значительные силы.
Встал вопрос о полководце. Он должен быть достаточно опытным и отважным, чтобы противостоять победителям Сципионов. Он должен суметь вдохновить римских воинов на ратные подвиги в далекой Испании в то тревожное время, когда Ганнибал еще находится на земле Италии. Был ли это экстраординарный и хорошо рассчитанный выбор сената, ловко проведенный через волеизъявление народа, или же на самом деле все произошло неожиданно, но во главе римского войска оказался очень молодой человек — Публий Корнелий Сципион младший. Вот как описывает Аппиан его избрание в комициях: «Они назначили день для выборов военачальника в Иберию, и, так как никто не выставил своей кандидатуры, их охватил еще больший страх. Печаль и молчание нависли над собранием, как вдруг Корнелий Сципион, сын Публия Корнелия, убитого в Иберии, еще очень юный — ему было всего 24 года, — но считавшийся очень благоразумным и даровитым, выступив на середину, произнес похвальную речь в честь своего отца и дяди и, оплакивая их печальную судьбу, заявил, что он является по наследству ближайшим из всех мстителей за отца, дядю и отечество. Он со всей силой и твердостью заявил, между прочим, как бы охваченный божеским наитием, что овладеет не только Иберией, но вслед за ней и Ливией, и Карфагеном. Некоторые считали, что он пустословит, как это бывает у юношей, но он поднял удрученный дух народа — испуганные всегда радуются обещаниям улучшения — и был выбран военачальником в Иберию». (Аппиан. Римская История. VI, 18)
Действительно, так хочется верить тому, кто без колебаний, уверенно обещает успех! И разве не этот юноша еще совсем мальчиком спас в бою своего отца? А потом под Каннами проявил исключительное присутствие духа и остановил бегущих! Наконец, кому же отомстить за смерть отца, как не его сыну? Так думал народ. А сам Публий? Надо было обладать недюжинной смелостью, чтобы перед собранием римского народа и сената заявить о готовности взять на себя бремя ответственности за более чем трудную ситуацию в Испании. Честолюбие и юношеское легкомыслие? Оказалось, что нет — зрелая оценка своих возможностей! Кстати сказать, о божественном наитии Аппиан упоминает не случайно: молодой Сципион у римской толпы пользовался славой провидца, находящегося под особым покровительством богов. Он и сам не прочь был поддержать эту репутацию.
Когда ранней весной 209-го года, присоединив к своему экспедиционному корпусу войско Марцелла, Сципион во главе 30-тысячной армии покинул место своей высадки близ устья Эбро, ему в Испании противостояло три карфагенских полководца. В связи с набором испанских наемников их армии были порядочно удалены друг от друга. Гасдрубал, брат Ганнибала, находился в центральной части полуострова; его тезка Гасдрубал, сын Гисгона, — на западном берегу, а Магон — у Гибралтарского пролива.
Сципион удержался от соблазна вступить с ними в сражение поочередно. Вместо этого он двинулся вдоль побережья на юг — к Новому Карфагену. Он рассчитал, что подойдет к городу на несколько дней раньше, чем любая из армий его противников, и таким образом, у него будет шанс взять крепость штурмом. А в Новом Карфагене (он знал это) находились не только большие запасы хлеба, военного снаряжения и военная казна карфагенян — там содержались знатные заложники из всех испанских племен, которых карфагеняне принудили к союзу с ними.
Вообще в подготовке к штурму города Публий Сципион проявил необычайную для его возраста предусмотрительность. Сразу по прибытии в Испанию он собрал все возможные сведения о расположении крепости. Выяснилось, что она стоит на узком мысе, который с одной стороны омывает море, а с другой к стенам города подступают воды лагуны, соединенной с морем протокой. Корабли не могут пройти через протоку, и потому стены крепости со стороны лагуны невысоки и охраняются слабо, поскольку гарнизон невелик — не более тысячи человек. Между тем в часы отлива лагуна мелеет и ее можно перейти вброд. У Сципиона созрел план: начать штурм с суши, со стороны перешейка, привлечь туда всех защитников крепости, а тем временем совершить обходный маневр через лагуну.
Перед началом сражения, как о том сообщает Полибий:
«Публий сказал, что сам явившийся ему во сне Нептун внушил мысль об этом предприятии, что божество обещало проявить свое содействие на поле битвы с такой очевидностью, что все войско убедится в его участии». (Полибий. Всеобщая История. X, 11)
Римский полководец слукавил — он хорошо знал, как проявится покровительство владыки морей. Но ему нужно было внушить уверенность своему войску, и он достиг этой цели.
Началась первая часть операции: сперва сражение с защитниками крепости под ее стенами, а потом попытка штурма и самих стен. Все это должно было происходить с максимальным рвением, чтобы заставить обороняющихся стянуть на эту сторону крепости все свои силы. Поэтому, как свидетельствует тот же Полибий:
«Публий сам принимал участие в битвах, по возможности, однако, уклоняясь от опасности. Так, при нем находилось три щитоносца, которые ставили свои щиты в ряд и прикрывали Публия со стороны городской стены, защищая его от опасности. Появляясь на флангах и на высоких местах, он много содействовал успеху сражения частью потому, что видел все происходящее, частью же потому, что был сам на виду у всех и тем воодушевлял сражающихся, ибо благодаря его присутствию не было упущения ни в чем; напротив, все, что требовалось положением дела, исполнялось быстро, должным образом согласно его приказанию». (Там же. X, 13)
Но вот первый приступ отбит. Наступает пауза. Затем приближается время отлива, и Сципион начинает вторую, не менее яростную, атаку стен крепости со стороны городских ворот. Тут-то наступает момент для вмешательства Нептуна, засвидетельствованный все тем же Полибием:
«Но вот в самый разгар битвы на лестницах начался отлив, вода мало-помалу покидала верхние части лагуны и сильным, громадным потоком хлынула через отверстие в соседнее море. При виде этого несведущие из римлян не верили своим очам, а Публий, уже имевший наготове проводников, посылал вперед и ободрял солдат, поставленных на этом месте... В то время как эти солдаты, согласно приказанию, шли вперед по обмелевшему озеру, все войско было убеждено, что происходящее есть дело промысла божества... И потому воспылали таким рвением, что под прикрытием черепахи (щиты, составленные над головами. — Л.О.) пробились до ворот и начали рубить двери снаружи топорами и секирами. Между тем другие солдаты подошли к стене по обмелевшему озеру и, не нашедши никого на стенных зубцах, не только поставили беспрепятственно лестницы, но и взошли по ним и без боя завладели стеною...» (Там же. X, 14)
Аппиан утверждает, что операцией «лагуна» Публий руководил самолично, своим примером увлекая воинов на штурм:
«...он быстро прошел по всем рядам римлян, громко крича: «Теперь время, воины! Теперь мне помощником явился бог! Идите к этой части стены! Море уступило нам место! Несите лестницы! Я иду впереди вас!»
И он первый, схватив какую-то лестницу, перенес ее через болото и стал подниматься на стену, когда еще никто на нее не поднимался. Но окружавшие его телохранители и все остальные воины удержали его и сами, приставив много лестниц, стали стремительно взбираться на стены. С обеих сторон поднялся крик, и началось стремительное нападение; много было здесь и успехов и неудач; в конце концов одолели все-таки римляне...» (Аппиан. Римская История. VI, 21)
Впрочем, из рассказа Полибия и из свидетельства Аппиана видно, что личную храбрость Публий умел сдерживать необходимой для полководца осторожностью. Свое описание римский историк заканчивает так:
«Благодаря своей смелости и счастью, взяв в одни день богатый и могущественный город... Сципион страшно возвысился в глазах всех, и еще больше утвердилось убеждение, что он все делает по указанию бога, да и сам он стал так думать и, начиная с этого времени, и в дальнейшей жизни распространял о себе такие слухи. Часто он уходил один в Капитолий и сидел там, закрыв двери храма, как будто узнавая что-то от бога». (Там же. VI, 23)
Итак, Новый Карфаген Сципиону удалось взять, как говорится, с ходу. Город солдаты, разумеется, порядком пограбили, но насилия над его жителями Публий не допустил. Граждан он отослал по домам, призвав их стать друзьями римлян. Рабов-ремесленников объявил собственностью Рима и обещал, что если они проявят усердие, то после победы над Карфагеном получат свободу. Других рабов на тех же условиях он посадил на захваченные у противника корабли.
Но особо важное значение Сципион придавал процедуре освобождения испанских заложников. По свидетельству Полибия:
«...Публий приказал позвать заложников, всего триста человек с лишним. Детей он подзывал к себе по одному, ласкал их и просил ничего не опасаться, так как, говорил он, через несколько дней они снова увидят своих родителей. Что касается остальных, то всем им он предлагал успокоиться и написать родным прежде всего о том, что они живы и благополучны, потом, что римляне желают отпустить всех их невредимыми по домам, если только их родные вступят в союз с римлянами. С этими словами он наделил их довольно ценными подарками, приличными возрасту и полу каждого, которые ради этого заранее выбрал из добычи; девушкам раздавал серьги и запястья, а юношам кинжалы и мечи». (Полибий. Всеобщая История. X, 18)
И наконец, что тоже немаловажно для суждения об облике молодого римского полководца:
«Публий передал квесторам все деньги, какие взяты были у карфагенян из государственной казны, а их было более шестисот талантов». (Там же. X, 19)
«Передал квесторам» означает — полностью отдал государству. Вспомним эту деталь в конце главы, где речь пойдет о последних годах жизни Сципиона.
И еще одна, прямо-таки идиллическая история. Может быть, вымышленная, но точно характеризующая восхищение, каким был окружен облик Публия Сципиона в глазах римлян последующих эпох:
«В это время, — рассказывает все тот же Полибий, — несколько римских солдат повстречали девушку, между всеми женщинами выдававшуюся юностью и красотой. Зная слабость Публия к женщинам, солдаты привели девушку к нему и предложили ее в дар. Пораженный и восхищенный красотою, Публий, однако, объявил, что для него как для частного человека, но не военачальника, не могло бы быть дара более приятного... Солдатам он выразил благодарность и велел позвать отца девушки, которому тут же передал ее и посоветовал выдать замуж за кого-либо из своих сограждан. Этим поступком Публий доказал умение владеть собой и воздерживаться, чем снискал себе большое расположение со стороны покоренного народа». (Там же).
А он был молод, и испанка, надо полагать, была исключительно хороша собой!
Молниеносное взятие Нового Карфагена принесло Сципиону великую славу, но послан в Испанию он был не за этим. Гасдрубал готовился к походу в Италию на выручку брата, и Сципион должен был этому помешать. Не то чтобы он забыл о своей миссии или пренебрег ею. Но время было упущено, пришлось пережидать зиму. И когда весной следующего, 208 года Публию удалось навязать сражение Гасдрубалу, тот был настолько готов к своей экспедиции, что, пожертвовав арьергардом, оторвался от противника и беспрепятственно ушел на север, к Пиренеям.
Эта оплошность, как мы уже знаем, могла стоить Риму очень дорого, но... боги милостивы, в Италии все обошлось, а победителей не судят. Да и судить можно было бы только тогда, когда Гасдрубал появился бы в Италии. А пока что была опять победа, и опять всех пленных испанцев из карфагенского войска Сципион без выкупа отпустил на свободу. Восхищенные аборигены, с которыми карфагеняне обращались довольно жестоко, тут же провозглашают Публия царем, но...
«Сципион приказал глашатаю водворить тишину и сказал, что для него звание императора, данное ему солдатами, самое почетное; а царское звание, столь уважаемое у других народов, в Риме ненавистно. Пусть про себя думают, что у него душа царственная — если они считают это признаком душевного величия, — но не произносят вслух этого слова. Даже варвары почувствовали душевное величие человека, презиравшего титул, перед которым немеют зачарованные люди». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXVII, 19)
Гасдрубал ушел за Пиренеи, и Сципион начал воевать с двумя оставшимися в Испании карфагенскими армиями: Магона и второго Гасдрубала, сына Гисгона. Войско Публия втрое уступало по численности армиям его противников, но было лучше подготовлено. В мелких стычках Сципион, как правило, одерживал верх, и так продолжалось около двух лет. Но в 206 году, в решительном сражении, когда противнику удалось собрать все свои силы, римлянам пришлось туго — они было дрогнули. Исход боя спасла отчаянная, на этот раз уже безоглядная храбрость самого командующего. Вот как описывает Аппиан этот эпизод:
«...пехота вследствие численного превосходства карфагенян была в тяжелом положении и в течение всего дня она терпела поражение. Хотя Сципион объезжал их и убеждал, дело не менялось до тех пор, пока он, передав своего коня сопровождающему его рабу и взяв щит у кого-то из воинов, не бросился, как был, один, в середину между врагами с криком: «Помогайте, римляне, вашему Сципиону, находящемуся в опасности!» Тогда те, которые, стоя близко, увидали, какой опасности он подвергается, а стоявшие далеко услыхали об этом, все вместе под влиянием стыда и в страхе за своего вождя бросились на врагов с криком «ура» («алала») и великим напором, которого карфагеняне не выдержали и отступили...» (Аппиан. Римская История. VI, 27)
Сципион преследует и окончательно разбивает своих противников. Война в Испании заканчивается. Между прочим, ее конец отмечен забавным эпизодом. Имея в виду будущую экспедицию к Карфагену, Сципион переправляется через Гибралтар и является с предложением дружбы и союза к мавретанскому царю Сифаку. Туда же и в то же самое время прибывает из Испании Гасдрубал. Из рассказа Тита Ливия о встрече «на нейтральной земле» двух вчерашних противников открывается новая, я бы сказал, неожиданная в свете расхожих представлений о грубости римлян, сторона личности нашего героя. Сифак...
«...пригласил обоих и, так как судьбе было угодно свести их под одним кровом, у одного очага, попытался втянуть их в разговор, которым разрешилась бы их вражда. Сципион заявил, что у него нет никакой личной ненависти к Пунийцу, чтобы о ней говорить, а вести с неприятелем переговоры о делах государственных он без повеления сената не может. Тогда царь стал уговаривать Сципиона хотя бы отобедать у него вместе с другим гостем, чтобы не показалось, что кто-то не допущен к столу. Сципион согласился; они вместе обедали у царя — Сципион и Гасдрубал — и даже возлежали на одном ложе, как того хотелось царю. Так обходителен был Сципион, так непринужденно вел беседу, что расположил к себе не только Сифака, варвара, незнакомого с римской воспитанностью, но и злейшего своего врага. Гасдрубал говорил, что при личной встрече Сципион еще сильнее изумил его, чем на поле боя. Пуниец не сомневался, что Сифак и его царство уже склонены под власть римлян — Сципион так умел располагать к себе людей!» (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXVIII, 18)
Впрочем, в случае необходимости молодой римский полководец умел проявить и твердость. Полибий рассказывает об эпизоде совсем другого рода. Случилось так, что Сципион заболел, и даже прошел слух, что он умер. Среди части солдат, которым давно не выплачивали жалованья, началось возмущение. Сципион прибыл к войску, захватил зачинщиков бунта, а потом собрал мятежников на площади, окружил их верными частями и обратился к ним с речью. Начав с того, что у возмущения против вождей и отечества могут быть три причины: недовольство начальниками, досада на свое положение или соблазн надежды на лучшее будущее, он спокойно разбирает ситуацию и показывает, что ни одна из причин в данном случае не имеет места. После чего, согласно Полибию, он продолжает:
«...Итак, солдаты, ни одного из поводов к возмущению у вас нет, и вы не могли бы выставить ни единой справедливой жалобы, хотя бы самой маловажной, ни против меня, ни против отечества...».
Казалось бы, тем тяжелее вина мятежников, но Публий делает неожиданный и чертовски умный поворот в своей речи:
«...Вот почему я готов оправдывать вас, — продолжает он, — перед Римом и передо мною, в вашу пользу выставляя доводы, признаваемые всеми, именно: всякую толпу легко совратить и увлечь на что угодно, потому что со всякой толпой бывает то же, что и с морем. По природе своей безобидное для моряков и спокойное, море всякий раз, как забушуют ветры, само получает свойства ветров, на нем свирепствующих. Так и толпа всегда проявляет те самые свойства, какими отличаются вожаки ее и советчики. Вот почему я и все прочие начальники прощаем вас и уверяем, что не станем взыскивать за случившееся ни с кого, только зачинщиков возмущения мы решили покарать нещадно, как они то заслужили преступлением против отечества и против нас».
Едва окончил Публий, как стоявшие вокруг солдаты в полном вооружении ударили согласно сигналу мечами в щиты, и вместе с тем введены были зачинщики возмущения, скованные и раздетые. Грозная обстановка и развертывающиеся перед глазами ужасы навели такой страх на толпу, что никто из присутствующих не изменился даже в лице, не издал ни единого звука, пока одних секли, другим рубили головы: все оцепенели, пораженные зрелищем. Зачинщиков мятежа, обезображенных, бездыханных, поволокли через толпу, а остальным солдатам вождь и прочие начальники дали от имени государства уверение в том, что никто больше не будет наказан. Со своей стороны, солдаты выходили поодиночке вперед и клятвенно обещали трибунам пребывать впредь в покорности велениям своих начальников и никогда больше не злоумышлять против Рима». (Полибий. Всеобщая История. XI, 29, 30)
Эта сцена, читатель, возможно вызвала у тебя отвращение и негодование. Именно поэтому я не счел возможным ее утаить. Но согласись: всякий поступок следует соотносить с законами и обычаями его времени. По римским же законам мятеж в войске, да еще во время войны, должен был быть наказан децимацией — казнью каждого десятого солдата. Так что, ограничившись расправой над зачинщиками бунта и отыскав мотив для оправдания всех остальных его участников, Сципион выказал необычайные для той поры снисходительность и гуманность.
Таким предстает перед нами Публий Корнелий Сципион младший к тому моменту, когда после победного завершения Испанской кампании он по вызову сената в конце 206-го года возвращается в Рим. Между прочим, перед отъездом из Испании у него там состоялось тайное свидание с нумидийским принцем Массиниссой, командовавшим присланной в помощь карфагенянам конницей. Массинисса обещал Сципиону союз против Карфагена.
Прошло всего пять лет, но в Рим возвращался уже не дерзкий, почти безвестный юноша, а зрелый муж, прославленный полководец, кумир римского народа. Сенат встревожен такой популярностью молодого человека и намерен поставить его на место. Ему отказывают в триумфе — по римским-де законам триумф не может получить полководец, который вел войну, не занимая одной из высших государственных должностей.
Сципион не обижается — он не опускается до обычного тщеславия римских командующих. В его голове зреет совсем иной, куда более крупный замысел. Разве он не обещал народу, что овладеет Ливией и Карфагеном? Пришло время выполнить это обещание. Сейчас ему нужен не триумф, а звание консула с правом на набор войска. А в этом ему сенат не сможет отказать. Действительно, в первые же консульские выборы, пренебрегая последовательностью прохождения служебной лестницы (Публий успел побывать лишь в должности эдила), помимо всяких сенатских рекомендаций, восторженный народ избирает Сципиона консулом. Тит Ливий свидетельствует:
«Передают, что за всю войну на выборы не собиралось столько народа. Приходили отовсюду не только подать голос, но и посмотреть на Сципиона; толпа стекалась и к его дому, и на Капитолий, когда он приносил в жертву быков, обещанных Юпитеру в Испании. Все были уверены, что как Гай Лутаций окончил прошлую войну с Карфагеном, так и Публий Сципион покончит с нынешней, и как выгнал он карфагенян из всей Испании, так выгонит их из Италии; ему прочили командование в Африке, словно с войной в Италии уже было покончено». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXIII, 38)
Сципион, между тем, открыто заявляет о своем намерении возглавить экспедицию в Африку. Он уверен, что это заставит карфагенян отозвать Ганнибала из Италии, утверждает, что опасность для Рима исчезнет только после падения Карфагена, и не сомневается в том, что именно он может принудить этот город к капитуляции. Если сенат будет противиться его планам, он обратится за поддержкой непосредственно к народу. Сенаторы недовольны такой прытью новоиспеченного консула, но не решаются сказать это вслух. Только пожилой и прославленный Квинт Фабий Максим открыто выступает против поспешной переправы в Африку и неумеренных амбиций Сципиона. Вот три кратких фрагмента из его пространной речи в передаче Тита Ливия. Он начинает так:
«Прости меня, Публий Корнелий: людская молва никогда не была мне дороже государства, не дороже его благополучия и твоя слава...».
Подробно обосновав свое убеждение, что начинать надо с Ганнибала, и не преминув упомянуть о том, что Сципион еще молод и потому так горяч, он продолжает:
«Да будет мир в Италии раньше, чем война в Африке, и пусть страх сначала отпустит нас — потом пойдем устрашать других. Если обе войны можно вести под твоим водительством и при твоих ауспициях, победи Ганнибала здесь, а там бери Карфаген». (Там же, 41)
И заканчивает Фабий свою речь так:
«Я полагаю, что Публий Корнелий выбран в консулы ради государства и ради вас, а не ради его самого, и что войско набрано для того, чтобы сохранять Италию и Город, а не переправляться в те страны, куда захочется царски высокомерным консулам по их произволу.» (Там же, 42)
Сципион в сенате отвечает знаменитому гонителю Ганнибала. Он говорит дерзко, не скрывая своего честолюбия, откровенно и, в общем-то, справедливо:
«Мне известно, что великим людям случается сравнивать себя не только с современниками, но и со знаменитыми мужами всех времен. Я отнюдь не скрываю, Фабий, что хочу не только прославиться, как ты; я хочу — не гневайся — большей славы. Не надо желать, чтобы граждан не хуже нас (тебя ли, меня ли) больше не появлялось, — ведь это значило бы хотеть вреда не только тому, кому ты завидуешь, но и государству и, можно сказать, чуть ли не всему роду людскому».
В связи с упоминанием о его молодости он говорит не без иронии:
«Когда мой отец и дядя были убиты, когда оба их войска почти полностью были истреблены, когда мы потеряли Испанию и четыре войска пунийцев с их четырьмя вождями силой оружия держали всю ее в страхе, когда искали командующего и, кроме меня, никого не нашли (никто не осмелился притязать на эту должность), когда меня, двадцатичетырехлетнего юношу, римский народ облек военной властью — тогда почему никто не вспоминал о моем возрасте, мощи врагов, трудностях войны, недавней гибели моих отца и дяди? Разве мы сейчас в Африке потерпели поражение, да еще и большее, чем тогда в Испании? Разве сейчас в Африке больше войск, и предводителей у них больше, и они лучше, чем тогда в Испании?»... (Там же. 43)
Что же касается существа дела, то здесь Сципион в качестве аргумента сопоставляет свое предложение с ситуацией, в которой начинал свое вторжение Ганнибал:
«Ганнибал не надеялся, что к нему в Италии перейдет столько городов и племен, сколько их перешло после каннского бедствия; в Африке у карфагенян все еще неустойчивее: они — неверные союзники, суровые и высокомерные господа. Мы, даже покинутые союзниками, устояли благодаря собственным силам и римскому войску; у карфагенян нет граждан в их войске, у них оплачиваемые наемники — африканцы и нумидийцы, верность их легковесна, мысли переменчивы...» И опять, как перед Испанией, как будто по наитию свыше, Публий заканчивает свою речь словами полной уверенности в успехе:
«Если только здесь нас ничто не задержит, то вы услышите сразу о том, что я в Африке, Африка в огне войны, Ганнибал уходит отсюда, Карфаген осажден. Ждите из Африки вестей более радостных и частых, чем получали вы из Испании». (Там же. 44)
После некоторых колебаний сенат принимает компромиссное решение. Сципион направляется в Сицилию (в Брутий против Ганнибала посылают второго консула, Красса), ему дается право построить тридцать кораблей и переправиться в Африку, «если он сочтет то согласным с интересами государства.» Но набор регулярного войска не разрешен. Сципион может пригласить с собой добровольцев или принять, опять-таки добровольную, помощь от союзников Рима.
Публия это устраивает. В добровольцах недостатка не будет. За несколько месяцев он строит тридцать военных кораблей и великое множество транспортных судов, а в течение года собирает и подготавливает многочисленный экспедиционный корпус.
В 204-м году Сципион принимает решение о немедленном начале операции, хотя время года для этого не очень подходящее — осень. Дело в том, что мирная, почти идиллическая встреча с Гасдрубалом, сыном Гисгона, за трапезой у мавретанского царя Сифака неожиданно обернулась весьма опасными последствиями: поступает известие, что Гасдрубалу удалось женить царя на своей дочери Софонибе. Вероломный царь не только не будет, как обещал, помогать Публию против Карфагена, а наоборот — теперь его в Африке ожидает еще один, притом могущественный, противник. Желательно поспешить с высадкой, прежде чем он успеет привести свои войска.
Помолившись богам об успехе своего предприятия, Сципион приказывает садиться на корабли. Благополучно высадившись на африканском побережье он ставит лагерь близ города Утики, неподалеку от Карфагена. Окрестное население в панике бежит в город. Прибывает Массинисса с небольшим отрядом конницы. Нумидийский принц сдержал свое слово, тем более что Сифак поддерживает его соперников по престолонаследию.
Через некоторое время подходят крупные силы Гасдрубала и Сифака. Сципион снимает осаду Утики и уходит зимовать на морской мыс, который легко перегородить валом.
У противника гораздо более многочисленное войско, чем у Публия, — вряд ли римлянам удастся одержать над ним победу в открытом бою. Рассчитывать на прибытие подкреплений из Италии тоже не приходится. Летняя кампания не сулит Сципиону ничего хорошего. Но он и не собирается ждать лета. Времена изменились, и примеры Ганнибала не пропали даром — Публий возлагает свои надежды на военную хитрость. Он (как всегда тщательно) разведал расположение стоящих неподалеку друг от друга лагерей Сифака и Гасдрубала. Противник не озаботился сооружением валов и охраной своих позиций.
Темной весенней ночью Сципион скрытно подходит к лагерю Сифака, и римляне во многих местах одновременно поджигают тростниковые хижины, в которых зимует войско туземцев. В дыму и зареве пожара беспорядочный бой начинается в самом лагере. Могучая конница Сифака — главное его преимущество — здесь бесполезна. Испуганные кони бьются на коновязях. В рукопашном бою легионеры Сципиона сильнее. Не заметив, что вблизи их лагеря в ночи скрывается еще один вражеский отряд, на помощь Сифаку спешат ливийцы Гасдрубала. Но вот уже и деревянные бараки их лагеря охвачены пожаром. Оба войска карфагенян, смешавшись, в панике мечутся, озаренные огнями двух больших пожарищ, еще суматошнее мечутся причудливые тени. А из темноты выступают все новые ряды легионеров, направляемые твердой рукой своего бдительного полководца...
В ночном побоище в обоих лагерях убито около сорока тысяч солдат. Гасдрубал и Сифак спасаются бегством.
Прибыв в Карфаген, Гасдрубал убеждает граждан продолжить борьбу. Победа Сципиона — результат коварства, а не силы. Войск у него мало. Карфагеняне приглашают еще наемников, Сифак тоже мобилизует свои резервы. Вместе у них опять набирается свыше тридцати тысяч воинов. Но это все плохо обученные новобранцы. Несмотря на свое численное превосходство, они, на этот раз в открытом поле, наголову разбиты римлянами.
Сципион пока не идет под мощные стены Карфагена, а довольствуется захватом мелких окрестных поселений. Но в его конечных намерениях сомневаться не приходится, и напуганные отцы города, преступив через свою неприязнь, решают вызвать Ганнибала. В южную Италию отправляется посольство с приказанием сыну Гамилькара Барки срочно прибыть для защиты родного города, столь недавно его забывшего и предавшего. Чтобы потянуть время, посылают посольство и к Сципиону для притворных переговоров о мире. Тот ставит свои условия, карфагеняне для виду соглашаются. Заключено перемирие, и карфагенские послы вместе с адъютантами Сципиона везут эти согласованные условия мира в Рим, для утверждения сенатом и народом.
С горечью выслушал Ганнибал послание карфагенских старейшин, не мог он удержаться от горького замечания, что «...победил Ганнибала не народ римский, столько раз битый им и обращенный в бегство, но карфагенский сенат своим противодействием и завистью...».
«Редко, — продолжает Тит Ливий, — изгнанник покидал родину в такой печали, в какой, как рассказывают, Ганнибал оставлял землю врагов; он часто оглядывался на берега Италии, обвиняя богов и людей, проклиная себя и собственную свою голову за то, что после победы при Каннах он не повел на Рим своих воинов, залитых кровью врага». (Там же. XXX, 20)
Между тем в Риме избраны новые консулы на 202-й год. Один из них получит в свое управление провинцию Африка. Он должен будет туда направиться с флотом. Его полномочия неясны, но, по-видимому, они будут такими же, как у Сципиона. Это оскорбляет Публия — он намерен закончить Карфагенскую войну сам. Тем более что приходит известие о появлении Ганнибала.
Быть может, Сципион поздравил себя с правильностью своего расчета на отзыв Пунийца, но и некоторая тревога не могла не коснуться его души — против него впервые выступал полководец, по меньшей мере равный ему по военному таланту и силе духа, но к тому же намного более опытный. Или он только радовался грядущей схватке с достойным соперником? Кто знает?
Отвлечемся ненадолго от двух готовящихся к прыжку львов и коснемся событий совсем иных, хотя и тесно связанных с предметом нашего рассказа. На предгрозовом фоне подготовки последнего действия великой драмы противостояния двух народов случилась в те дни еще одна драма — человеческая, локальная, но достойная, как мне кажется, внимания.
Дело в том, что юная Софониба, дочь Гасдрубала, которую он отдал в жены мавретанскому царю, была ранее помолвлена с союзником римлян, нумидийским принцем Массиниссой. Когда Сципион разбил и пленил Сифака, Массинисса женился на Софонибе и отвез ее к себе в Нумидию, после чего вернулся к Сципиону. Между тем, как утверждает Аппиан:
«Сципион же спрашивал Сифака: «Какой демон заставил тебя, бывшего мне другом и побуждавшего меня прийти в Ливию, обмануть богов, которыми ты клялся, обмануть вместе с богами римлян и предпочесть воевать в союзе с карфагенянами вместо союза с римлянами, которые недавно помогли тебе против карфагенян?» Тот же сказал: «Софониба, дочь Гасдрубала, которую я полюбил себе на гибель. Она сильно любит свое отечество и способна всякого склонить к тому, чего она хочет. Она меня из вашего друга сделала другом своего отечества и из такого счастья ввергла в это бедствие. Тебя же я предупреждаю, ибо нужно, чтобы, став вашим другом и избавившись от влияния Софонибы, я хранил теперь вам твердую верность: берегись Софонибы, чтобы она не увлекла Массиниссу к тому, чего она хочет. Нечего надеяться, что эта женщина перейдет когда-либо на сторону римлян, так сильно она любит свой город».
Так он говорил, или искренне, или из-за ревности желая как можно больше повредить Массиниссе... а когда прибыл Лелий (легат Публия. — Л.О.) и сказал, что он от многих узнал то же самое о Софонибе, Сципион приказал Массиниссе передать жену Сифака римлянам. Когда же Массинисса стал умолять и рассказывать, какие у него были с ней в прежнее время отношения, Сципион еще более резко приказал ему ничего не брать самовольно из римской добычи, но, отдав ее, просить и убеждать вернуть ее ему если можно. Массинисса отправился тогда с несколькими римлянами, чтобы передать им Софонибу. Но, тайно неся ей яд, он первый встретился с ней, рассказал о положении дел и предложил или выпить яд, или добровольно отдаться в рабство к римлянам. И, не сказав ничего больше, он погнал коня. Она же, показав кормилице килик (чашу. — Л.О.) и попросив не оплакивать ее, так славно умирающую, выпила яд. Массинисса, показав ее тело прибывшим римлянам и похоронив ее по-царски, вернулся к Сципиону. Последний, похвалив его и утешив, говоря, что он избавился от плохой женщины, увенчал его за поход на Сифака и одарил многими дарами». (Аппиан. Римская История. VII, 5)
Да, тут Сципион выказал римскую суровость и даже как будто несвойственную ему жестокость. Но, может быть, острота ситуации не позволяла ему рисковать возможностью измены Массиниссы? Или, быть может, Массиниссе следовало доверить судьбу Софонибы ручательству Сципиона? Но, наверное, он знал, что та все равно будет искать смерти, чтобы избавиться от римского плена. Такая вот история...
Сифак же вскоре умер — то ли по дороге в Рим, как утверждает Ливий, то ли уже после триумфа Сципиона, как полагает Полибий.
Но вернемся к противостоянию двух великих полководцев. Высадившись южнее Карфагена, в Гадрумете, Ганнибал возобновил сношения с местными нумидийскими шейхами и сумел быстро организовать сильное войско, куда влились остатки армии Гасдрубала и карфагенское гражданское ополчение. Ядро войска составили ветераны, вернувшиеся с Ганнибалом из Италии.
Тем временем, решившись на продолжение войны, карфагеняне нарушили перемирие и захватили римский транспортный флот с провиантом для армии Сципиона. Кроме того, они напали на военный корабль, на котором плыл римский посол. Публий был возмущен таким вероломством. Тем не менее, когда карфагенские послы по возращении из Рима были доставлены к нему и, узнав о том, что было совершено их согражданами, трепетали за свою жизнь, Сципион...
«...приказал Бебию препроводить их обратно домой с величайшей заботливостью, — образ действий, как я думаю (так пишет Полибий. — Л.О.), совершенно правильный и разумный. Зная, что отечество его свято блюдет обязанности по отношению к послам, он и сам думал не столько о том, чего заслужили карфагеняне, сколько о том, как надлежит поступать римлянам». (Полибий. Всеобщая История. XV, 4)
Сципион повел свое войско в глубь страны, навстречу Ганнибалу, который от побережья двинулся на запад. Две армии встретились у города Зама, километрах в ста пятидесяти к юго-западу от Карфагена. Сражению — по просьбе Ганнибала — предшествовала личная встреча двух командующих, происходившая в виду обоих лагерей.
Из ее подробного описания у Тита Ливия я процитирую (с большими сокращениями) только речь Ганнибала. В ней содержится его суждение о Сципионе, что главным образом и интересно нам. Римский историк начинает свой рассказ так:
«Некоторое время они молчали, глядя друг на друга едва ли не с восхищением. И Ганнибал начал:
«Видно, так уж положила судьба: первым пошел я войною на римский народ, много раз почти что держал победу в руках и вот добровольно пришел просить мира. Я рад, что мне суждено просить его именно у тебя, Сципион. И тебе прибавит немало славы то, что сам Ганнибал, которому боги даровали столько побед над римскими военачальниками, смирился перед тобой... Сбылось наше худшее опасение, ваше главное чаяние; в добрый для римлян час зашла речь о мире. Для нас, полководцев, это дело особенно важное, ведь то, о чем мы договоримся, утвердят оба наших государства. Дело только за нашей готовностью к спокойным переговорам. Мой возраст — а я возвращаюсь на родину стариком, покинув ее еще мальчиком, — научил меня и в счастье и в беде полагаться на разум, а не на судьбу. Я боюсь твоей молодости и неизменной удачливости — они делают человека слишком неустрашимым, чтобы он мог рассуждать спокойно...
(Здесь он перечисляет победы Сципиона. — Л.О.).
...Ты можешь победу предпочитать миру, мне знакомы эти высокие порывы гордого духа; от них мало толку. И мне когда-то улыбалась судьба... (Приводит такие примеры. — Л.О.)
Не вспоминай других: моего примера достаточно, чтобы остеречь от превратностей судьбы...
Счастью следует доверять всего меньше, когда оно всего больше. У тебя все хорошо; мы в опасности. Ты можешь предложить мир, для тебя славный и выгодный; мы просим только необходимого... Не искушай судьбу: многолетнее счастье может изменить в один час... Ты, даровав мир, уже сможешь стяжать себе славу, выигранное сражение прибавит к ней меньше, чем проигранное от нее отнимет...»» (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXX, 30)
Ганнибал предлагает уступить во владычество римлян все, из-за чего началась война: Сицилию, Сардинию, Испанию и все острова, но с тем, чтобы Карфаген сохранил свои позиции в Африке. Сципион отвечает, что Ганнибал предлагает в качестве условий мира то, что уже и так принадлежит Риму, а даже в тех, как теперь ясно, фальшивых условиях, на которые карфагеняне было согласились, содержалось нечто большее, что сейчас изъято, а следовало бы еще дополнить в наказание за нарушение перемирия. Свой короткий и категорический ответ Сципион заканчивает так: «Каково же заключение моей речи? Вам остается или отдать себя и отечество ваше на наше благоусмотрение, или победить нас на поле сражения». (Полибий. Всеобщая История. XV, 8)
После чего оба полководца возвращаются к своим войскам. Тит Ливий в таких, подобающих важности момента, хотя и немного выспренных, словах описывает последние приготовления к битве:
«Вернувшись каждый в свой лагерь, оба объявляют солдатам: надо приготовить оружие и собраться с духом для последней битвы: те, на чьей стороне будет счастье, станут не на день — навек победителями; прежде чем наступит завтрашняя ночь, они узнают, Рим или Карфаген будет давать законы народам. Не Африка или Италия будет наградою победы, но целый мир. Столь же велика и опасность для тех, кому в битве не повезет. И римлянам нет прибежища в этой чужой, незнакомой стране, и Карфаген, исчерпав последние силы, сразу окажется на краю гибели». (Тит Ливий. История Рима. Т. 2, XXX, 32)
Описание этого решающего и кровопролитного сражения не представляет для нас особого интереса. Ветераны Ганнибала сражались упорно и были истреблены полностью. Гражданское ополчение карфагенян выказало свою беспомощность. У Сципиона, благодаря прибытию конных отрядов Массиниссы, оказался большой перевес в кавалерии, а восемьдесят боевых слонов, которых Ганнибалу прислали шейхи, не только не расстроили фронт легионов, но, подавшись на фланги, нанесли урон его собственной коннице. Армия карфагенян была разгромлена. Тит Ливий отдает должное усилиям и искусству Ганнибала. Он пишет:
«Ганнибал, выбравшись с несколькими всадниками из этой свалки, укрылся в Гадрумете; он покинул поле сражения лишь после того, как все возможное было испытано и до боя, и после боя. И сам Сципион, и все знатоки военного дела воздали ему должное за исключительное умение, с каким он в тот день построил свое войско...» (Там же. 35)
Но силы были слишком неравны, и спасти положение не мог даже Ганнибал. Из Гадрумета его призвали в Карфаген. Карфагеняне запросили мира — на этот раз всерьез. На военном совете у Сципиона многие требовали разрушить ненавистный город. Но было ясно, что взять крепость штурмом не удастся, а начинать долговременную осаду Сципион не захотел. Были выработаны новые условия мира. Кроме отказа от всех заморских территорий, Карфаген обязан был выдать победителям весь своей военный флот, слонов, сто человек заложников по выбору самого Сципиона и уплатить контрибуцию в десять тысяч талантов с рассрочкой на пятьдесят лет. Кроме того, карфагеняне должны были признать царство Массиниссы и поклясться, что даже в Африке они не начнут никаких военных действий без согласия Рима.
Тит Ливий полагает, что Сципион отказался от осады Карфагена потому, что боялся уступить славу окончательной победы новоизбранному консулу. Вряд ли. Еще до сражения у Замы народ в комициях, несмотря на смену консулов, принял единодушное решение, что войну будет продолжать Публий. Теперь же, после разгрома Ганнибала, об его отстранении не могло быть и речи. Скорее следует согласиться с трактовкой Моммзена, который в своей фундаментальной «Истории Рима» по этому поводу пишет так:
«Гораздо более правдоподобно, что оба великих полководца, от которых теперь зависело разрешение и политических вопросов, остановились на изложенных выше мирных условиях с целью поставить справедливые и разумные пределы, с одной стороны, свирепой мстительности победителей, а с другой — упорству и безрассудству побежденных; душевное благородство и политическая мудрость двух великих противников сказались как в готовности Ганнибала преклониться перед необходимостью, так и в мудром отказе Сципиона от чрезмерных и постыдных выгод, которые он мог извлечь из победы. Разве этот великодушный и дальновидный человек не должен был сам себе задать вопрос: какая польза была бы для его отечества, если бы после совершенного уничтожения политического могущества Карфагена было разорено это старинное средоточие торговли и земледелия и кощунственно ниспровергнут один из главных столпов тогдашней цивилизации?» (Т. Моммзен. История Рима. Т. 1, с. 622. М, 1936)
Но ведь условия мира утверждал еще и римский сенат. Руководствовался ли он столь же благородными мотивами? И да, и нет. Из рассказа Аппиана мы можем усмотреть очень характерное для римского менталитета сочетание высокого достоинства и вполне приземленного прагматизма. Один из защитников предложений Сципиона в сенате говорит так:
«Не о спасении карфагенян, отцы-сенаторы, теперь у нас забота, но о верности римлян по отношению к богам и о доброй славе среди людей, чтобы нам не поступить более жестоко, чем сами карфагеняне... с ними, пока они еще боролись, следовало бороться, но раз они пали, их надо щадить, подобно тому как из атлетов никто не бьет уже павшего противника, да и из зверей многие щадят упавших. Следует при счастливых обстоятельствах остерегаться отмщения богов и зависти людей...» (Аппиан. Римская История. VII, 9)
Но далее тот же оратор приводит куда менее возвышенные резоны. Он указывает на то, что римлянам нечего делать с захваченным городом. Передача его Массиниссе опасно усилит нумидийца, а направление туда колонистов из Рима поставит их перед необходимостью непрестанно обороняться от туземцев. Если же им удастся их покорить и завоевать все эти обширные и плодородные земли, то колония может оказаться опасной для самой метрополии. Сенат и народ условия мира утвердили, и Публий Корнелий Сципион Африканский — первый из римских главнокомандующих, кому в знак почета было присвоено название побежденного им народа, — возвратился в Рим.
«Чувства, с какими народ ждал Публия, соответствовали его многозначительным подвигам, — записывает Полибий, — а потому великолепие и восторги толпы окружали этого гражданина. Совершенно справедливо и заслуженно было такое чествование. В самом деле, потерявшие было всякую надежду выгнать Ганнибала из Италии и отвратить опасность, угрожавшую им самим и друзьям их, римляне не только чувствовали себя свободными от всякого страха и напасти, по и господами врагов своих, почему радость их была беспредельна. Когда же теперь Публий показался в триумфе и память минувших тревог оживилась зрелищем принадлежности триумфа, римляне забыли всякие границы в выражении благодарности богам и любви к виновнику необычайной перемены... По завершении торжества римляне непрерывно в течение многих дней устраивали блестящие игры и сборища на средства щедрого Сципиона». (Полибий. Всеобщая История. XV, 23)
В третьей главе я обещал в подходящий момент дать описание победного триумфа римского войска. Лучшего случая, чем возвращение Сципиона Африканского в Рим, нечего и ожидать. Чтобы не поддаться соблазну чересчур красочной фантазии, позволю себе перепоручить это описание свидетелю многих триумфов — римскому историку Аппиану:
«Все выступают, увенчанные венками, впереди идут трубачи и движутся повозки с добычей, проносят башни и изображения взятых городов, картины, изображающие военные события, затем золото и серебро — нечеканенное и в монетах — и если есть, то и другие подобные же ценности, и все венки, которыми наградили полководца или доблесть, или города, или союзники, или подчиненные ему войска. Затем шли белые быки, а за быками были слоны и все вожди и самих карфагенян и номадов, которые были взяты в плен. Впереди самого полководца шли ликторы, одетые в пурпурные туники, и хор кифаристов и играющих на свирелях, подобно тирренской процессии, подпоясанные и с золотыми венками на голове; подобным образом выступают другие в строю с пением и приплясыванием... Один из них, в пурпурной до пят одежде, в золотых ожерельях и браслетах, делает различные жесты, вызывая смех, как бы насмехаясь над неприятелями. За ним множество носителей благовоний, а за благовониями — сам полководец на колеснице, пестро расписанной, в венке из золота и драгоценных камней, одетый, по отеческому обычаю, в пурпурную тогу с вотканными в нее золотыми звездами, несет скипетр из слоновой кости и лавровую ветвь, которую римляне всегда считают символом победы. С ним всходят на колесницу мальчики и девушки, а на свободных конях с обеих сторон едут юноши, его родственники. За ним следуют все те, которые во время войны были у него писцами, служителями, оруженосцами. И после них войско по алам и когортам, все увенчанное и несущее лавровые ветви; лучшие же воины несут и знаки отличия. Из начальников одних они восхваляют, других осмеивают, а иных порицают, ибо триумф не знает запрета, и все вправе говорить, что только хотят. Прибыв на Капитолий, Сципион распустил процессию, а на угощение он по обычаю пригласил друзей в храм». (Аппиан. Римская История. VIII, 9)
Теперь, уважаемый читатель, я должен пояснить свои ближайшие намерения. Эта книга не случайно названа «Историей Рима в лицах». Я стараюсь неотступно следить за общим ходом исторических событий, но мне важно по возможности полно и без досадных пауз рассказать о судьбе наиболее ярких личностей римской истории. В конце концов, именно взгляды и поступки конкретных исторических лиц мы, порой того не замечая сами, как бы примериваем на себя — сопоставляем со своими взглядами и поступками. И в этом, может быть, один из наиболее интересных и привлекательных аспектов знакомства с Историей.
Для наиболее успешного выполнения поставленной таким образом задачи мне придется изредка отказываться от последовательного изложения событий, забегая вперед, чтобы закончить биографию очередного центрального персонажа, а затем возвращаться назад и связывать разорванную было нить повествования. Жизнь человеческая, увы, коротка, и нам не случится уйти далеко от места разрыва. Так что взаимосвязь событий, я надеюсь, утрачиваться не будет.
Вот и сейчас я должен сделать скачок всего в пять лет, чтобы продолжить и завершить рассказ о победителе Ганнибала. Правда, эти годы в истории Римской республики были отмечены немаловажным событием — началась и закончилась война с македонским царем Филиппом. Но в многоактной драме завоевания Римом Восточного Средиземноморья она была лишь первым действием. Сципион в нем занят не был, и я позволю себе перейти сразу ко второму акту этой драмы, где он снова появляется на авансцене. В 296-м году сирийский царь Антиох III, именовавший себя Великим, переправился с войском через Геллеспонт (Дарданеллы) и начал захватывать один за другим города во Фракии (нынешняя Болгария), приближаясь к Греции. Этому предшествовали следующие события. Шестой царь династии Селевкидов — потомков того Селевка, который унаследовал азиатские владения Александра Великого, — Антиох сильно расширил свои владения, подчинив себе обширные области нынешних Ирана, Сирии, Израиля, Ливана и юга Турции. На азиатском побережье Средиземного моря он захватил многие города, еще в глубокой древности основанные и заселенные греками. По наследству от Александра часть этих территорий находилась под управлением Филиппа Македонского, который не мог их защитить, так как воевал с Римом, другая часть принадлежала Египту, где в то время царствовал малолетний Птолемей Эпифан.
Занятый войной с Филиппом, Рим тоже не пытался воспрепятствовать экспансии Антиоха в далекой Азии, хотя и был этим серьезно обеспокоен. Во-первых, потому, что владения Филиппа Македонского, в случае победы над ним, должны были оказаться в орбите римских интересов. Во-вторых, потому, что послы Птолемея, которому римляне обещали союз и покровительство, просили защиты от Антиоха, чьи вожделения уже направлялись на само египетское царство; наконец, потому, что римляне в войне с Македонией выступали в качестве защитников свободы Греции, и эта взятая ими на себя миссия, по логике вещей, должна была распространяться и на малоазиатских греков.
Долгое время дело ограничивалось дипломатическими демаршами римских посольств — недостаточно убедительными, чтобы остановить Сирийца. Однако тональность переговоров стала резко обостряться с того момента, когда война с Филиппом Македонским закончилась победой Рима, а Антиох перебрался из Азии в Европу. Римляне требуют, чтобы сирийский царь вернулся в Азию. Послы Антиоха заявляют, что Фракия принадлежала прадеду царя, потом была отторгнута Македонией, и он пришел в Европу, чтобы вернуть достояние своей короны. Римляне, как повелось от века в подобных случаях, делают еще шаг назад в историю и говорят, что прадед эти земли захватил силой. Аналогичный спор идет о греческих городах. Но, разумеется, дело не в исторических правах, а в соотношении сил и намерениях спорящих. Вот здесь серьезным указанием на возможность перехода от слов к делу, как хорошо известно из Истории, служит тональность переговоров и острота выражений. Антиох без излишней скромности заявляет, что, поскольку он не вмешивается в дела Италии, римлянам нечего вмешиваться в дела Азии и Фракии. На что победитель Филиппа проконсул Фламинин — согласно свидетельству Тита Ливия — приказывает послам передать царю, что...
«Антиох думает, будто слава его в том, чтобы поработить города, коими прадед его овладел лишь по праву войны, дед же и отец вообще никогда не считали своими наследственными владениями; ну, а римский народ будет, как прежде, с постоянством и верностью стоять за свободу греков. Народ наш освободил уже Грецию от Филиппа, и так же точно желает он освободить в Азии города греков от Антиоха». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXIV, 58)
Римляне встревожены еще и известием о том, что ко двору сирийского царя прибыл Ганнибал. Он принят весьма благосклонно и подбивает Антиоха начать войну с Римом. В греческий город Эфес, где находится временная резиденция Сирийца, направляется еще одно посольство во главе со Сципионом Африканским. Царя в Эфесе оно не застает, но зато происходит встреча старых противников, Сципиона и Ганнибала. Тит Ливий и Аппиан передают содержание любопытного для нас разговора между двумя великими полководцами. Вот он, в пересказе Аппиана:
«Говорят, что во время этих бесед в гимнасии как-то разговорились между собой Сципион и Ганнибал об искусстве вождя в присутствии очень многих. Сципион спросил Ганнибала, кого он считает лучшим вождем. Ганнибал ответил: «Александра Македонского». Сципион отнесся спокойно к этому заявлению, означавшему, что Александр стоит выше его, и спросил, кого же он считает вторым после Александра? Ганнибал тогда сказал: «Пирра, царя Эпира». Очевидно, доблесть он полагал в дерзании, а более дерзновенно действовавших, чем эти цари, нельзя найти никого. Сципион, уже почувствовавший обиду, однако еще раз спросил его, кому же он отдает третье место? Конечно, он был вполне уверен, что получит это третье место. Но Ганнибал ответил: «Себе. Будучи еще юным, я завоевал Иберию и первый после Геракла с войском перешел через Альпы, вторгшись в Италию, — такой смелости из вас никто никогда не проявлял; я завоевал четыреста городов и часто приводил вас к необходимости бояться за ваш собственный город, причем из Карфагена мне не посылали ни денег, ни войска». Когда Сципион увидал, что он хочет продолжать самовосхваление, он, засмеявшись, сказал ему: «На какое же место ты бы, Ганнибал, поставил себя, если бы не был мной побежден?» Говорят, что Ганнибал, тут уже заметив завистливую ревность, сказал: «Тогда я поставил бы себя выше Александра». Так Ганнибал не отказался от своего высокомерного тона, но незаметно польстил Сципиону, дав понять, что победил того, кто выше Александра.
Когда они расходились, Ганнибал стал приглашать Сципиона к себе в гости, но Сципион ответил, что он охотно бы зашел к нему, «если бы ты не был у Антиоха, отношения которого с римлянами довольно подозрительны». (Аппиан. Римская История. XI; 10, 11)
Но вернемся к Антиоху. Отнюдь не устрашенный угрожающим тоном римлян, он в 192-м году вторгается в Грецию, претендуя на роль освободителя от владычества римлян. Что отнюдь не соответствовало действительности, так как в ту пору римляне вели себя вполне лояльно по отношению к грекам.
Римский сенат и народ объявляют войну Антиоху. Непосредственным поводом для этого послужило ничем не спровоцированное нападение сирийцев на отряд римских воинов, несших караульную службу в Греции. Следует отметить, что римляне были далеко не уверены в успехе новой войны. Вот как описывает их настроение в тот момент Аппиан:
«Так как Антиох был властителем всей внутренней Азии, многих народов и, за небольшим исключением, всей приморской области, так как он уже стоял твердой ногой в Греции, имел славу страшного завоевателя и достаточное снаряжение, так как он совершил в войнах против других народов много блестящих подвигов, откуда и пошло его прозвище «Великий», то римляне опасались, что война для них будет длительной и тяжелой. Под большим подозрением был у них Филипп Македонский, недавно побежденный ими, и карфагеняне... ведь Ганнибал был у Антиоха». (Там же. XI, 15)
В 191-м году консул Марк Ацилий Глабрион во главе 20-тысячного войска высаживается на севере Греции (среди его легатов будущий знаменитый цензор, ревнитель римской старины Марк Порций Катон). Войско Антиоха вдвое меньше римского — его основные силы остались в Азии. Здесь он рассчитывал на широкую, поддержку греков и... просчитался. В союз с сирийским царем вступили только этолийцы, обиженные на римлян, недостаточно их отблагодаривших за поддержку в войне с Филиппом. Антиох вынужден обороняться. Удобнее всего это сделать в узком Фермопильском ущелье, где почти три века назад триста спартанцев сумели задержать полчища персидского царя Ксеркса. Исход того знаменитого сражения был решен, когда персам удалось по горным тропам выйти в тыл защитникам ущелья. Об этом обходном пути известно и сирийцам, и римлянам. Чтобы его перекрыть, Антиох посылает отряд этолийцев, а консул против них отправляет легионеров во главе с Катоном. Будущему цензору удается разбить этолийцев, и он выходит в тыл войску царя. Одновременно с этим Ацилий начинает лобовую атаку. Сирийцы не чета древним спартанцам, их сопротивление быстро сломлено. Войско Антиоха обращается в бегство; сам он едва спасается на близлежащий остров Эвбею, откуда переправляется обратно в Азию, в Эфес.
Этот эпизод Сирийской войны мог бы и не привлечь нашего внимания, тем более что Сципион в нем не участвовал, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в нем отличился Марк Катон, чья личность нас в дальнейшем будет интересовать непосредственно. А во-вторых, описывая этот эпизод, Тит Ливий пересказывает обращение римского консула к войску перед началом сражения в ущелье. Это обращение интересно тем, что в нем звучит новая для римской истории мотивация воинской доблести:
«Вам надлежит помнить, — говорит воинам Ацилий, — что воюете вы не только за свободу Греции, хотя и это было бы великой честью.
Вашей наградой станет не только то, что находится в царском лагере, в добычу достанется и все снаряжение, которое там со дня на день ожидают из Эфеса. А затем римскому господству откроются Азия, Сирия и все богатейшие царства, простирающиеся вплоть до восхода солнца». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXVI, 17)
Мы уже знаем, что ограбление захваченного города и присвоение имущества побежденного врага были нормой в войнах того времени, как, впрочем, и всех последующих времен, но такая широкая и откровенная перспектива дальнейшей экспансии римским консулом перед изготовившемся к сражению войском рисуется, наверное, впервые.
В Эфесе Антиох ведет себя беззаботно — он уверен, что римляне не решатся привести войска в Азию. К тому же он справляет медовый месяц: на Эвбее он влюбился в дочь одного из местных аристократов, взял ее в жены и увез с собой в Эфес. Только многоопытный Ганнибал настойчиво предупреждает царя, что:
«В Азии и за самое Азию вскоре придется ему биться с римлянами и на суше, и на море: либо он отнимет власть у тех, кто жаждет покорить весь земной круг, либо сам лишится царства». (Там же. XXXVI, 41)
Но под влиянием интриг и наговоров придворных царь не вполне доверяет карфагенянину и потому действует вяло. Тем временем в Риме происходят консульские выборы. Одним из консулов избран Луций Корнелий Сципион — брат Публия. Римляне намерены добить Антиоха и поручают это сделать Луцию, тем более что его знаменитый брат готов отправиться вместе с ним в Азию в качестве легата.
Кроме легионов Ацилия, Луций Сципион получает еще восемь тысяч солдат — римских граждан и союзников. А под команду Сципиона Африканского является более пяти тысяч ветеранов, служивших под его знаменами. Весной 190-го года браться Сципионы выступают в поход. Их войско идет посуху: через Македонию и Фракию к Геллеспонту. Филипп Македонский снабжает его провиантом и даже сам лично сопровождает римлян. Тит Ливий мельком делает одно замечание, заслуживающее нашего внимания, поскольку оно добавляет еще штрих к портрету Сципиона Африканского. Когда братья прибыли в Македонию...
«Царь и принял, и проводил их по-царски. В нем были заметны и ловкость, и благородство, что располагало к нему Публия Африканского, мужа, достойного во всех отношениях и умевшего ценить ненавязчивое радушие». (Там же. XXXVII, 7)
Римляне благополучно переправляются через пролив. Антиох не мог им помешать, так как его флот непосредственно перед этим был разгромлен в большом морском сражении. В Сардах, центре западной провинции своего обширного царства, он собирает войско. Но, видимо, все еще надеется на то, что Сципионы не решатся уйти так далеко от своих италийских баз и углубиться в Азию.
«После поражения, понесенного в морской битве, — свидетельствует Полибий, — Антиох понапрасну тратил время в Сардах и все дела вел нерадиво; потом, как скоро узнал о переправе неприятеля в Азию, пришел в крайнее смущение, упал духом и решил отправить посольство к Луцию и Публию для переговоров о мире». (Полибий. Всеобщая История. XXI, 13)
Царь готов отдать без боя во власть римлян все захваченное им в Европе, любые греческие города на малоазиатском побережье и покрыть половину расходов на экспедицию. Луций Сципион требует уступить всю Малую Азию и возместить все военные издержки полностью. Но главная надежда царского посольства не в предложениях и уступках. Антиох понимает, что Луций лишь номинально командует римским войском, а решающее слово принадлежит Публию. И надо же — счастливый случай! Сын победителя Ганнибала попадает в плен к сирийцам. Посол уполномочен приватно сообщить Публию Сципиону, что царь намерен возвратить ему сына и с ним вместе прислать щедрые дары, но надеется, что великий римлянин «с пониманием», как мы бы сказали ныне, отнесется к его мирным предложениям. На что Публий отвечает:
«...из щедро предложенных мне царских даров приму самый лучший — сына... Царь почувствует ту признательность, которую я испытываю к нему за великий дар, поднесенный мне, но только если он согласен принять частную благодарность за частное благодеяние. Но как государственный муж я ничего от него не приму и не дам ничего. Все, что я мог бы ему сейчас подарить — это добрый совет; ступай и передай ему мои слова: пусть он откажется от войны и соглашается на любые условия мира». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXVII, 36)
Антиох не последовал совету Публия и решил продолжать войну. Если бы он был действительно великим полководцем, то, вероятно, заманил бы римлян в глубь Азии, где бы их ожидали большие трудности со снабжением армии. Но «величие» сирийского царя было добыто в сражениях со столь же плохо организованными войсками, как его собственные, когда победа чаще всего определялась количественным преимуществом. На это, видимо, он рассчитывал и теперь. Если в сражении при Фермопилах римляне имели двукратное численное превосходство над экспедиционным корпусом Антиоха, то теперь соотношение сил пехоты было обратным, преимущество в коннице составляло четыре к одному в пользу сирийцев, и более чем трехкратным было превосходство в числе боевых слонов.
Уязвленный высокомерием римлян, Антиох решил, не откладывая, дать им генеральное сражение. К тому же стало известно, что когда легионы выступили навстречу царю, Публий Сципион заболел так, что не мог даже следовать за войском.
Несмотря на видимую решительность своих действий, Антиох все же счел не лишним заручиться благодарностью Публия и отослал к нему сына. На что — по свидетельству Тита Ливия — тот ему ответил следующими словами:
«Передайте царю, что я благодарю его, но отплатить пока могу только советом: пусть не выводит войско для битвы, пока не услышит, что я возвратился в лагерь». (Там же. XXXVII, 37)
По-видимому, Публий Сципион все-таки надеялся убедить царя согласиться на предложенные римлянами условия мира и тем избежать неизбежного поражения. Антиох на этот раз сначала последовал совету Публия: отошел назад и укрылся в хорошо укрепленном лагере, неподалеку от города Магнезия. Потом, то ли взыграло самолюбие «Великого царя», то ли он побоялся, уклоняясь от сражения, подорвать боевой дух своих солдат, но на третий день после подхода римской армии Антиох неожиданно вывел из лагеря свое огромное войско и стал разворачивать его для решительного сражения. То же сделали и римляне. Публий Сципион еще был болен, и главное командование взял на себя опытный полководец Гней Домиций. Сражение было тяжелым и кровопролитным, шло с переменным успехом, но римская подготовка, организация и дисциплина в конце концов решили его исход. Войско царя потерпело сокрушительное поражение. Это произошло осенью того же, 190-го года. Тит Ливий утверждает, что у сирийцев было убито до пятидесяти тысяч пеших и три тысячи всадников, в то время как римляне потеряли убитыми не более трехсот пехотинцев и двадцать четыре всадника. Такое соотношение потерь в большом сражении представляется весьма сомнительным, но его результат сомнению не подлежит: Антиох бежал в глубь своей страны.
В занятые римлянами Сарды от него прибывают послы с по-восточному льстивой просьбой о мире:
«Мы не столько сами имеем что-то сказать, — обращается к военному совету царский посол, — сколько спрашиваем у вас, римляне, чем именно можем мы искупить ошибку царя и исходатайствовать у победителей мир и прощение. Ведь вы всегда великодушно снисходили к поверженным царям и народам. Насколько же великодушнее, насколько милостивее подобает вам вести себя после этой победы, сделавшей вас властителями земного круга. С кем из смертных вам теперь враждовать? Подобно богам, пристало вам оберегать и миловать род людской». (Там же. XXXVII, 45)
От имени собрания воинов и своего брата консула (но я подозреваю, без предварительного согласования текста) послам отвечает только что прибывший в Сарды Публий Корнелий Сципион Африканский. В передаче Тита Ливия его речь звучит так:
«Из находящегося во власти бессмертных богов мы, римляне, имеем то, что даровано ими. Но дух, зависящий от нашего разума, был и пребывает в нас неизменным при любых обстоятельствах. Его не укрепляет удача и не ослабляет несчастье. В свидетели этого я бы дал вам вашего же Ганнибала, если бы не мог привести в пример вас самих: после того, как мы переправились через Геллеспонт, вы завязали переговоры о мире. Еще не видали мы вашего войска, еще Марс не склонился ни в ту, ни в другую сторону и исход войны был неясен, а мы уже, ведя с вами переговоры как равные с равными, предъявили те самые условия, которые выставляем теперь, когда обращаемся к вам как победители к побежденным: оставьте в покое Европу, очистите все азиатские земли по сю сторону Тавра». (Там же)
(То есть, освободите почти всю территорию нынешней Турции, кроме ее юго-восточного угла.)
Кроме того, Сципион требует уплаты контрибуции в 15 тысяч талантов с рассрочкой на 12 лет и выдачи двадцати заложников.
Условия мира, бесспорно, мягкие. Видимо, Публий не хотел, чтобы в столь удаленной от Рима стране возникла опасно тяжелая ситуация. Но есть в этих условиях один пункт, вызывающий недоумение и не соответствующий облику Публия Сципиона, как он вырисовывался перед нами на предыдущих страницах. Римляне требуют выдачи им Ганнибала, который и в сражении-то, по-видимому, не участвовал. Сципион будто бы говорит в связи с ЭТИМ:
«Но никогда не будем мы до конца уверены в мире, пока в стане тех, кто заключает его с римским народом, находится Ганнибал. Его мы требуем в первую очередь». (Там же)
Если Тит Ливий не напрасно приписал Публию Сципиону эти слова (а такой тщательный исследователь римской истории, как Моммзен, о них даже не упоминает), то это требование было внесено, вероятно, по прямому указанию римского сената, по-прежнему боявшегося Ганнибала. В пользу такого предположения говорит и последующая судьба карфагенского полководца. Он был вынужден бежать от Антиоха и укрылся в Вифинии — на севере нынешней Турции. Спустя семь лет после поражения Антиоха, в 183-м году, воспользовавшись тем обстоятельством, что царь Вифинии воевал с Пергамом и нуждался в поддержке римлян, посол римского сената потребовал от него выдачи или смерти Ганнибала. Царь послал воинов караулить жилище 64-летнего карфагенского льва. Не сумев бежать, Ганнибал принял яд, сказав перед этим:
«Ну что ж, избавим римлян от многолетней тревоги, если уж им трудно ждать смерти старого человека». (Там же. XXXIX, 51)
Условия мира, продиктованные Публием Антиоху, были приняты, Рим прочно утвердился в Азии. Новый командующий принял от Луция оставшееся там римское войско, и братья Сципионы возвратились на родину. А Антиох спустя три года был убит жителями города Элиманды (к северу от Персидского залива) в то время, как грабил их храм, намереваясь его сокровищами пополнить свою опустевшую казну.
Хотя в 189-м году цензор Тит Фламинин объявил Публия Сципиона принцепсом сената, последние годы жизни великого полководца и гражданина были отравлены завистью и мстительностью тех, кто когда-то трепетал перед его именем. В 187-м году два народных трибуна — оба из рода Петиллиев — привлекают Сципиона Африканского к суду. Описание Титом Ливием этого суда и связанных с ним событий кажется мне настолько ярким, что я позволю себе процитировать здесь римского историка, хотя и с некоторыми сокращениями, но довольно полно. Он пишет, что трибуны... подозрениями — не доказательствами — обосновывали они обвинение во взяточничестве. «Сын его, взятый в плен, — говорили они, — был возвращен ему без выкупа, да и во всем прочем Антиох чтил Сципиона так, будто бы в его только власти были и мир, и война с Римом. В провинции был он для консула не легатом, а диктатором, и если он туда и отправился, то лишь затем, чтобы Греции, Азии, всем восточным царям и народам внушить то, в чем в Испании, Галлии, Сицилии и Африке уж давно уверились: что один человек — и глава, и опора владычества римского, что Сципион осеняет собой государство, владычествующее над всем земным кругом, что мановенье его может заменить и постановления сената, и повеленья народа. Человека безупречного обвинители порочили, как могли». (Там же. XXXVIII, 51)
Как видим, обвинения типично популистского толка. По этому поводу одни римляне негодовали и возмущались даже самим фактом привлечения к суду освободителя Рима. Но другие настаивали на том, что ничто так не содействует равенству и свободе, как возможность привлекать к суду даже самое могущественное лицо. В первый день суда огромная толпа провожала Сципиона на форум.
«Речи продлились до ночи, — продолжает Тит Ливий, — и день суда был отложен. Когда он настал, трибуны с рассветом расселись на рострах. Обвиняемый, вызванный в суд, с большой толпой друзей и клиентов прошел посреди собрания и подошел к рострам. В наступившей тишине он сказал: «Народные трибуны и вы, квириты! Ныне годовщина того дня, когда я счастливо и благополучно в открытом бою сразился в Африке с Ганнибалом и карфагенянами. А потому было бы справедливо оставить на сегодня все тяжбы и ссоры. Я отсюда сейчас же иду на Капитолий поклониться Юпитеру Всеблагому Величайшему, Юноне, Минерве и прочим богам, охраняющим Капитолий и крепость, и возблагодарю их за то, что они мне и в этот день, и многократно в других случаях давали разум и силы достойно служить государству. И вы, квириты, те, кому это не в тягость, пойдите также со мною и молите богов, чтобы и впредь были у вас вожди, подобные мне...» От ростр он отправился на Капитолий. Вслед за Сципионом отвернулось от обвинителей и пошло за ним все собрание, так что наконец даже писцы и посыльные оставили трибунов. С ними не осталось никого, кроме рабов-служителей и глашатая, который с ростр выкликал обвиняемого. Сципион, сопровождаемый римским народом, обошел все храмы не только на Капитолии, но и по всему Городу. Этот день — благодаря народному сочувствию и заслуженному признанию величия Сципиона — стал для него едва ли не более славным, нежели тот, когда он вступил в город, справляя триумф над царем Сифаком и карфагенянами.
Великолепный тот день воссиял для Сципиона последним. Предвидя в будущем силу зависти и борьбу с трибунами, он, когда суд был надолго отсрочен, удалился в свое литерноское имение с твердым намерением в суд не являться. Слишком гордый — и от природы, и от привычки к большим успехам, — он знал, что не сможет мириться с положением подсудимого и смиренно выслушивать судей. Когда наступил день суда и он туда не явился и его стали вызывать, Луций Сципион оправдывал его неявку болезнью. Трибуны, потребовавшие Публия в суд, этого извинения не принимали и обвиняли его в том, что он не явился на суд от той же надменности, с какой оставил суд, народных трибунов и народное собрание...
В то время был народным трибуном Тиберий Семпроний Гракх, у которого были ссоры с Публием Сципионом. Когда он запретил приписать свое имя к постановлению сотоварищей (декреты принимались согласованно всеми десятью трибунами. Отказ Гракха мог означать его намерение наложить вето на этот декрет), все ожидали, что его предложение будет еще суровее, но он решил так: «Раз Луций Сципион извиняет неявку брата болезнью, то нам надо счесть это объяснение удовлетворительным. Я не допущу, чтобы кто-то обвинял Публия Сципиона до его возвращения в Рим; и даже тогда я, если он обратится ко мне за помощью, освобожу его от явки в суд (у трибунов издревле было такое право. — Л.О.). Своими деяниями, почестями, полученными от римского народа, Публий Сципион, с согласия богов и людей, вознесся так высоко, что зазорно ему стоять подсудимым под рострами и слушать попреки юнцов, а для народа римского это было б еще постыднее».
К этому своему постановлению он добавил пылкую речь, которую закончил так: «Неужели никакие заслуги славного мужа, никакие почести, оказанные ему вами, квириты, не обеспечат ему безопасного, можно сказать священного, убежища, где бы он мог провести свою старость если не в почете, то хоть в покое, без оскорблений?» Решение и присоединенная к нему речь Семпрония Гракха подействовали не только на всех присутствующих, но даже и на самих обвинителей; они сказали, что поразмыслят о том, чего требуют от них их право и долг. Потом, когда народное собрание было распущено, началось заседание сената. Тут все сенаторское сословие, особенно бывшие консулы и старейшины, рассыпалось в благодарностях Тиберию Гракху за то, что он поставил общее выше личной вражды. Петиллиев всячески порицали за то, что они хотели блеснуть, очерняя других, ища себе славного триумфа за победу над Сципионом. С той поры о Сципионе больше не говорили. Он провел конец жизни в Литерне, не скучая по Городу. Умирая в деревне, он, как рассказывают, велел там же похоронить его и воздвигнуть там памятник, не желая себе похорон в неблагодарном отечестве. «Достойный памяти муж»» (Там же. XXXVIII, 50-53) Сципион умер еще совсем молодым, в пятьдесят два года — в том же 183-м году, что и Ганнибал.
В своей Истории Полибий, как на знак величия души Сципиона, обращает внимание читателя на то, что Публий неизменно отвергал титул царя и царскую власть, каковые готовы были ему вручить покоренные им народы. Рассказав вначале о том, как Сципиона царем провозгласили было испанцы (его отказ нам уже известен), Полибий далее пишет:
«Но изумление наше перед необычайным величием души этого человека станет еще больше, когда мы взглянем на последнее время его жизни: кроме замирения Иберии, он сокрушил могущество карфагенян, покорив власти родного города наибольшую и самую лучшую часть Ливии... покорил Азию и царей Сирии, подчинил римлянам благодатнейшую и обширнейшую часть мира, при этом имел случай присвоить себе царскую власть, в какой бы стране ни задумал и ни пожелал... Но Публий благородством души настолько превосходил всех людей, что отклонил от себя высшее благо, какого только люди могут просить у богов, именно царскую власть, хотя судьба много раз давала ему благо это в руки; выше собственного почетного и завидного положения он ставил отечество и долг перед ним». (Полибий. Всеобщая История. X, 40)
Да, не похоже, чтобы такой человек унизился до взяточничества, в котором его обвинили римские трибуны. И все же... Ах, как просто недобросовестным людям легким дуновением клеветы бросить тень сомнения на доброе имя своего великого современника — тень тоже легкую, эфемерную, но навеки. К счастью, в данном случае у нас есть свидетель «богатства», добытого Сципионом. Хотя этот свидетель жил двумя столетиями позже, его показания основаны на «вещественных доказательствах».
Во второй половине I века нашей эры знаменитый римский философ и гуманист Луций Сенека в одном из своих писем сообщает о посещении бывшей усадьбы Публия Сципиона. Он пишет:
«Сенека приветствует Луцилия!
Я пишу тебе из усадьбы Сципиона Африканского... (здесь я пропущу фрагмент письма, который приведу чуть ниже. — Л.О.)... Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающий лес, башни, возведенные с обеих сторон усадьбы как защитные укрепления, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско; видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних: ведь нашим предкам казалось, что нет тепла без темноты. Большим удовольствием было для меня созерцать нравы Сципиона и наши нравы. В этой темноте гроза Карфагена... омывал тело, усталое от сельских трудов, — ведь он закалял себя работой и сам (таков был обычай в старину) возделывал землю. Под этой убогой кровлей он стоял, на этот дешевый пол ступал...». (Л.Сенека. Письма к Луцилию. № 86)
На крепость похоже, а на дворец или хотя бы просто богатую виллу, какие уже начали появляться в ту пору, — непохоже. Так что и тень сомнения в неподкупности Сципиона мы можем отбросить.
Делил ли с ним кто-нибудь добровольное затворничество последних лет жизни? Сведений об этом я не нашел. О женах великих людей той ранней поры римские историки не писали. Это позже — к концу республиканского периода — женщины начнут играть немалую роль в политической жизни Рима и появятся в исторических хрониках. Но у Сципиона был сын, которого из плена вернул ему Антиох. Что стало с ним? Вероятно, он умер, так как незадолго до своей кончины Публий усыновил двоюродного брата, которому едва исполнился год. Обычно в Риме к усыновлению прибегали ради сохранения преемственности религии семейного очага — когда собственных прямых наследников по мужской линии не было. Так что утешения завещать свою славу родному сыну Сципион, видимо, был лишен. Хотя, как мы узнаем позже, усыновленного им младенца ожидало тоже славное будущее.
Но почему же все-таки на Сципиона так набросились народные трибуны — все, кроме одного Гракха? Из того, что нам рассказали Полибий и Тит Ливий, мы видели: характер у победителя Ганнибала был гордый и крутой, подчиниться власти сената, народных трибунов, да и вообще государства, ему, видно, было нелегко. Теперь можно восстановить и понять начало цитированного выше письма Сенеки и им закончить рассказ о Публии Корнелии Сципионе Африканском:
«Сенека приветствует Луцилия!
Я пишу тебе из усадьбы Сципиона Африканского, почтив его маны и алтарь, который, сдается мне, и есть могила великого человека. Я убеждаю себя, что душа его вернулась в небо, откуда снизошла, — и не за то, что он предводительствовал многолюдным войском... а за его необычайную скромность и верность долгу, которые, я считаю, больше заслуживали восхищения в дни, когда он покинул родину, нежели когда защищал ее. Или Сципион, или свобода должны были уйти из Рима. И он сказал: «Я ничего не хочу менять ни в законах, ни в установлениях; пусть все граждане будут равноправны. Пользуйся моим благодеянием без меня, родина! Благодаря мне стала ты свободна, благодаря мне все увидят, что ты свободна! Если я стал больше, чем тебе полезно, я ухожу!» Как мне не восхищаться этим величием души, с которым он удалился в добровольное изгнание, избавив отчизну от бремени? Ведь дело дошло до того, что либо Сципион ущемил бы свободу, либо свобода — волю Сципиона. И то, и другое было бы нечестием — и он уступил место законам, а сам уединился в Литерне...» (Там же)
Глава VI Фламинин, Катон и Павел (201-160 гг.)
Фламинин
Теперь, как было условлено, вернемся немного назад, чтобы заполнить пропуск, допущенный в предыдущей главе, между поражением Ганнибала при Заме (202 год) и началом Сирийской войны (196 год). Но сначала я прошу читателя припомнить (из четвертой главы) малозначительный эпизод столкновения Рима с юным македонским царем Филиппом V, решившим было в 215-м году прийти на помощь Ганнибалу После первой же стычки с римским десантом в Греции царь отказался от своего намерения и в 205-м году заключил с римлянами мир. Этот эпизод историки, как мне кажется, чересчур торжественно, называют первой Македонской войной. События, описанные ниже, соответственно именуются второй Македонской войной (вполне заслуженно). Вот что предшествовало ее началу.
В том же 205-м году умер царь Египта Птолемей Филопатор, оставив трон пятилетнему наследнику. Это побудило Филиппа захватить принадлежавшее Египту малоазиатское побережье и острова Эгейского моря. С царем Азии Антиохом (тем самым, о котором шла речь в предыдущей главе) он договорился относительно раздела египетского государства: Сирия, Кипр и сам Египет должны были отойти Антиоху Оба царя приступили к реализации своего сговора. Антиох захватил Сирию и юг Малой Азии, а Филипп (в 201-м году) — берега Геллеспонта и остров Фасос. Его военные корабли направились к островам Хиос и Самос. Интересы не только греческой, но и италийской морской торговли, центром которой служил остров Родос, оказались под угрозой.
На малоазиатском полуострове сопротивление македонянам мог оказать только царь Пергама Аттал, а на берегах Пропонтиды (пролив Босфор) — город Византий. Родос, Пергам и Византии объявляют войну Македонии. Филипп осаждает Пергам, ведет войну на море с родосским флотом, захватывает большой и богатый прибрежный греческий город Милет, а затем стратегически важные города Сеет и Абидос на Геллеспонте.
Коалиции удается привлечь на свою сторону Афины. Реальной военной силы афиняне в ту пору уже не представляют, но авторитет духовного центра Греции за их городом еще сохраняется. Это дает надежду втянуть в войну римлян, склонных покровительствовать Афинам, которые они (по выражению Моммзена) привыкли считать своей первоначальной родиной и святилищем своих духовных и высших стремлений.
Расчет оправдывается. Афиняне просят римлян защитить их от Филиппа. И хотя по отношению к Риму со стороны Македонского царя никакой прямой агрессии нет, сенат намеревается объявить ему войну. Обсуждение предложения о войне в комициях происходит в 200-м году, и поначалу оно отвергается (прошло только два года, как окончилась изнурительная война с Ганнибалом). Новоизбранный консул Публий Сульпиций Гальба пытается убедить народ в агрессивности Филиппа, но доказательств у него нет, и приходится опираться на довольно сомнительную, хотя и впечатляющую аналогию:
«Примиримся с падением Афин, как примирились мы когда-то с падением Сагунта, и выкажем тем царю всю нашу слабость, и не через пять месяцев, что понадобились тогда Ганнибалу, а через пять дней всего Филипп, отплыв из Коринфа, появится в Италии». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXI, 7)
Назначив повторные комиции, консул, ничуть не смущаясь, заявляет:
«Сдается мне, квириты, что не приходится вам выбирать между войной и миром, ибо Филипп такого выбора вам не оставил, и на суше и на море он уже начал готовить большую, тяжкую войну, а решать приходится только одно: посылать ли легионы в Македонию или встречать врага здесь, на италийской земле. Может быть, до недавних пор вам не доводилось испытать, какова тут разница, но в последнюю Пуническую войну вы познали ее на опыте». (Там же)
Это неправда. У Филиппа в это время всего несколько тысяч воинов, он даже не может взять штурмом Пергам. Но консул, уже получивший от сената назначение в Македонию, «давит» на народ:
«Идите же, да сопутствуют вам боги, голосуйте и прикажите начать войну, которую в своем постановлении предлагают сенаторы. Не я, консул, жду от вас такого решения, а воистину сами боги бессмертные: совершая жертвоприношения, я молил их даровать этой войне исход, благоприятный для меня, для сената, для вас, для союзников и латинов, для флотов и войск наших, и они знамениями своими возвестили, что все завершится удачно и счастливо». (Там же)
Поди проверь! Тем не менее, под таким давлением, в сочетании с упомянутым расположением к Афинам, комиции при повторном голосовании утверждают решение сената о войне. Переломный момент всей римской Истории! Первый шаг на пути вмешательства Рима в дела, его непосредственно не касающиеся. Впрочем, с наилучшими намерениями. Пока с наилучшими!
Сульпицию разрешено набрать два легиона и принять добровольцев из недавно возвратившегося африканского войска Сципиона. Осенью того же года его войско высаживается на западном побережье Греции. Филипп в это время осаждает Афины, пытается, но неудачно, взять их штурмом и отходит. Летом следующего, 199-го года Сульпиций начинает движение на восток, в Македонию. Он теснит македонян, но не решается углубиться в неизвестную страну — воевать так далеко от Италии римлянам еще в новинку — и к осени возвращается на побережье.
На следующий год к войску прибывает новый консул — Тит Квинкций Фламинин и с ним довольно существенное пополнение: 3 тысячи римских ветеранов и 5 тысяч союзников. Полибий довольно лестно, хотя и без особого восхищения, отзывается о Фламинине:
«Удачами своими Тит обязан был в некоторой мере случаю, но главным образом собственному умелому ведению всякого предприятия. Действительно, это был один из проницательнейших римлян, обнаруживший несравненную предусмотрительность и ловкость не только в государственных делах, но и в личных отношениях. При этом Тит был еще очень молод — он имел тогда не более тридцати лет...» (Полибий. Всеобщая История. XVIII, 12) Впрочем, и Филипп не намного старше — ему тридцать девять.
Фламинин выигрывает первое серьезное сражение, и царь вынужден отвести войска из Греции в Македонию. Однако развить успех в то же лето не удается. В Риме выбирают новых консулов, но ввиду удаленности фронта войны и пагубности ежегодной смены командующих сенат сохраняет начальствование в Македонии и Греции за Титом Квинкцием и отправляет к нему еще 6 тысяч пехотинцев.
Решающее сражение между римлянами и македонянами произошло летом 197-го года при Киноскефалах (это не город, а цепь холмов). Началось оно непреднамеренно: в сильном тумане столкнулись отряды, посланные с обеих сторон для рекогносцировки. Потом в качестве поочередных подкреплений в сражение втянулись и обе армии. Фламинину удалось одержать убедительную победу. Холмистая местность и туман мешали слаженным действиям компактной македонской фаланги, и в рукопашном бою римляне одерживали верх над тяжеловооруженными фалангистами. Македоняне потеряли 8 тысяч человек убитыми и 5 тысяч пленными. Самому Филиппу с остатками войска удалось уйти. Затем было заключено перемирие для подготовки условий мира. Их, разумеется, должен диктовать победитель. Тит собирает на совет своих греческих союзников. Некоторые из них требуют убить или, по крайней мере, свергнуть царя Филиппа. Иначе, по их мнению, ни мир для римлян, ни свобода для греков не будут надежно обеспечены. Фламинин против — не только из соображений прагматических (Македония заслоняет Грецию от вторжения варваров: фракийцев, иллирийцев и галлов), но в первую очередь — во имя гуманного отношения к побежденным. В те славные времена римское достоинство еще не унижалось до расправы, и потому Тит вынужден объяснить грекам, что «...у римлян не в обычае уничтожать врага тотчас, в первую же войну с ним», в подтверждение чего напомнил образ действий римлян относительно Ганнибала и карфагенян... Поэтому, продолжал Тит, он удивляется, что все присутствующие, хотя и участвуют в переговорах о мире, настроены столь непримиримо: «Неужели это потому что мы победили? Но такой образ действий — верх безумия. Пока враг ведет войну, доблестному противнику подобает действовать настойчиво и с ожесточением, в случае поражения вести себя с достоинством и не падать духом, а победителю подобают умеренность, кротость и сострадание; ваши же теперешние требования как раз противоположны этому». (Там же. XVIII, 37)
Мирный договор был заключен в 196-м году на довольно умеренных условиях. Македонский царь обязался освободить все завоеванные в Греции города, передать римлянам флот, 1000 талантов контрибуции и в качестве заложников мира — своего сына Деметрия и некоторых из друзей. Сенат предложил Титу для защиты от возможной агрессии Антиоха оставить римские гарнизоны в Коринфе и двух других городах. Но Фламинину удалось убедить сенаторов освободить всю Грецию от постоя войск и вернуть ей полную свободу. По свидетельству Тита Ливия:
«Квинкций постоянно твердил, что освобождена должна быть вся Греция, если только они хотят... чтобы все поверили: да, римляне пересекли море во имя греческой свободы, а не для присвоения той власти, которая раньше принадлежала Филиппу». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXIII, 31)
В том же году решение сената было объявлено на общегреческих Истмийских спортивных играх. До этого момента по поводу условий мира с Филиппом и его последствий для эллинов ходили лишь смутные и разноречивые слухи. Тем сильнее был эффект, на который римляне, без сомнения, и рассчитывали. И Ливий, и Полибий описывают этот знаменательный день с глубоким волнением. Оба описания почти совпадают. Процитирую Тита Ливия:
«Наступило время Истмийских игр... в тот момент люди из всех краев собрались туда не только по своим обычным делам — им не терпелось узнать будущее положение Греции, ее судьбу. Все они не только размышляли наедине с собой о намерениях римлян, но и бурно их обсуждали: едва ли хоть кто-нибудь из них верил, что те совсем уйдут из Греции. И вот все расселись в ожидании зрелища. На середину арены, откуда принято торжественной песнью подавать знак к открытию игр, выступил глашатай, по обычаю сопровождаемый трубачом. Звуком трубы призвав к тишине, он провозгласил следующее: «Римский сенат и командующий Тит Квинкций, по одолении царя Филиппа и македонян, объявляют свободными, освобожденными от податей и живущими по своим законам всех коринфян, фокидцев; локридцев, остров Евбею, магнесийцев, фессалийцев, перребов и фтиотийских ахейцев». Он перечислил все народы, прежде подвластные царю Филиппу. Когда отзвучала речь глашатая, всех охватил такой восторг, какого человек вообще не в силах вынести. Каждый едва мог поверить, что он не ослышался, — все переглядывались, дивясь, будто на сонный морок, и переспрашивали соседей, поскольку каждый не верил своим ушам как раз в том, что относилось прямо к нему. Вновь позвали глашатая, ибо каждый желал не только слышать, но и видеть вестника своей свободы. Он еще раз провозгласил то же самое. Когда в этой радостной вести уже невозможно стало сомневаться, поднялись крик и рукоплескания, повторявшиеся множество раз, чтобы всем стало ясно, что народу свобода дороже всех благ на свете! Состязания после этого были недолгими и прошли кое-как, ибо никто не следил за ними ни душою, ни взором — настолько одна радость возобладала надо всеми прочими удовольствиями.
По окончании игр все чуть ли не бегом бросились к римскому командующему — целая толпа рвалась подойти к одному человеку, дотронуться рукой, бросить венок или ленту. Дело едва не дошло до беды, но Квинкцию было тридцать три года, и его силы поддерживала не только присущая юному возрасту крепость, но и радость от столь великой славы, плоды которой он теперь пожинал. Но ликование на этом не иссякло, оно длилось много дней, изливаясь в благодарственных рассуждениях и речах: есть ли в мире другой такой народ, что на собственный счет, своими силами и на свой страх ведет войны во имя свободы других, и это не для жителей сопредельных земель, не для близких соседей, не для обитателей того же материка — нет, они даже пересекают море, да не будет во всем мире держав неправедных, да торжествует повсюду право, божеский и людской закон! Единственным словом глашатая освобождены разом все города Греции и Азии! Даже надеяться на такое мог лишь дерзновенный ум, а уж довести до дела — тут потребны небывалая доблесть и небывалое счастье». (Там же. XXXIII; 32, 33)
Да. Как прекрасно все порой начинается!..
Фламинин остался зимовать с войском в Греции, и, если верить Титу Ливию:
«...все радовались почету, которым теперь была окружена Греция, наслаждались миром и свободой, восхищались умеренностью, справедливостью и терпимостью, проявленными римским полководцем после победы, как ранее восхищались доблестью его в пору войны». (Там же. XXXIV, 22)
Плутарх свидетельствует, что даже в его время, то есть спустя триста лет, греки чтили память Тита Фламинина.
Описанием событий II Македонской войны мы заполнили разрыв в повествовании предыдущей главы. Остается связать концы вставки с основной нитью повествования. Читатель, перелистав назад несколько страниц, легко обнаружит, что рассказ о Сирийской войне в 5-й главе начинался с прямой угрозы Фламинина Антиоху после его вторжения в Европу. Проконсул приказывает царским послам передать его слова своему владыке. Это тот самый Фламинин, победитель Филиппа Македонского. Окончание же Сирийской войны было фиксировано моментом, когда новый командующий принимает от Луция остающееся в Азии войско и братья Сципионы возвращаются в Рим. Завяжем узелок и продолжим нить нашего рассказа с этого места.
Но будем готовы к тому, что освещение на исторической сцене может измениться по сравнению с тем, какое было в начале этой главы. Ведь мы сейчас удалились на целых восемь лет от апофеоза римской славы на Истмийском стадионе, когда восторженная толпа греков едва не задушила своего освободителя. Это были годы тесного контакта римлян с Грецией и азиатским Востоком. Они очень сильно повлияли на образ мыслей, систему ценностей и общественное сознание римлян, равно как и на их отношение к внешнему миру.
Новым командующим в Сирию был назначен проконсул Гней Манлий Вулсон. Но, прежде чем заняться его действиями, вернемся ненадолго в Рим, в тот момент, когда туда еще только доставлено донесение Луция Сципиона о победе над Антиохом. Римскому сенату предстоит решить судьбу народов и земель, находившихся под властью Сирийца, которые он теперь, согласно мирному договору, покидает. В их числе несколько прибрежных малоазиатских греческих городов. Распространить ли на них свободу, дарованную городам европейской Греции? Ведь малоазиатские греки вольно или невольно участвовали в войне на стороне царя. Что делать с остальными территориями и их негреческим населением?
Естественно, что по этому поводу следует выслушать мнения, наверное, и притязания союзников Рима — соседей освобожденных от власти Антиоха народов. Аудиенции в сенате ожидают приглашенные для этой цели послы Родоса и лично сам пергамский царь Евмен (престарелый Аттал умер в самом начале сирийской кампании). Первым, конечно же, приглашают царя и спрашивают, что он желает получить в награду за свое содействие Риму Евмен сначала отказывается: мол, как вы решите, так и будет, но затем, подробно перечислив свои заслуги, заканчивает свою речь, согласно Титу Ливию, следующими словами:
«Отцы-сенаторы! Если римляне изгнали Антиоха за Таврские горы, имея в виду самим забрать эти земли, ни при каких иных обстоятельствах будущность моего царства не видится мне более надежной и прочной. Однако если вы намерены оттуда уйти и вывести свое войско, то осмелюсь сказать, что среди ваших союзников нет никого, кто оказался бы более достоин владеть добытым вами в войне, нежели я». (Там же. XXXVII, 53)
Когда же слово в сенате предоставили главе посольства Родоса, тот обратился к сенаторам со следующей речью:
«Вы взялись защищать от поработителей-царей свободу древнейшего племени, знаменитого славой своих деяний, общепризнанной образованностью и ученостью. Вам подобает и впредь оказывать постоянное покровительство всему народу, вверившемуся вам и принятому под ваше отеческое попечение. Ведь города, расположенные на исконных землях, не более греческие, чем их колонии, выведенные некогда оттуда в Азию: ведь с переменой земли не изменились ни род, ни нравы... Пусть варвары имеют царей, для них всегда приказы господина заменяли закон — им это только на радость. А у греков душа такая же, как у вас, только судьба другая. Когда-то была и у них державная власть, основанная на их силе; теперь они хотят, чтобы державная власть навсегда оставалась у тех, кто сейчас обладает ею. Им достаточно того, что их свободу защищает ваше оружие, коль скоро их собственное не может». (Там же. XXXIV, 54)
Сенат принимает компромиссное решение. Под власть Евмена он отдает часть малоазиатских земель, примыкающих к Пергамскому царству Родосцам — близлежащие к острову прибрежные области Малой Азии.
Для нас в этом решении интересно не существо самого компромисса, а тот факт, что принятую на себя первоначально миссию освободителей греков и других угнетенных царями народов римляне, быть может, незаметно для себя подменили ролью распорядителей судеб этих народов. Эту подмену с солдатской прямотой назвал подобающим именем тот самый Гней Манлий, который сменил в Азии Луция Сципиона, чему предшествовали следующие события.
В Малой Азии, вдали от морских берегов, по соседству с Пергамом обитало воинственное племя азиатских галлов, некогда перекочевавшее сюда из самой Галлии. Эти «галлогреки», как их нередко называли, терроризировали коренное население полуострова и взимали дань с окрестных городов. В минувшей войне они поддерживали Антиоха. Честолюбивый римский проконсул на свой страх и риск, как бы для завершения сирийской кампании, отправился воевать галлогреков. Одержав над ними нелегкую победу, он явился в Рим с претензией на триумф, против чего возражали многие сенаторы, так как проконсул действовал без санкции сената и народа. Вот тут-то, оправдывая свою инициативу, Манлий — по свидетельству Тита Ливия — и резанул сенаторам:
«Я, со своей стороны, — сказал он, — всегда держался того мнения, что в вопросе о заботах и наблюдении за событиями, совершающимися в этих землях, существует некоторая разница между тем временем, когда Греция и Азия еще не находились в вашем ведении и под вашей властью, и настоящим, когда вы определили границею римского государства гору Тавр (выделено мной. — Л.О.), когда вы даете государствам свободу и освобождаете от повинностей, когда пределы одних расширяете, других наказываете отнятием области, на некоторых налагаете дань, увеличиваете царства, уменьшаете, дарите, отнимаете, считаете вашей обязанностью заботиться о том, чтобы они пользовались миром на суше и на море». (Там же. XXXVIII, 48)
Между прочим, этому грубияну Манлию (а он, видимо, был далеко не глуп) мы обязаны еще одним весьма любопытным высказыванием, дошедшим до нас тоже в пересказе Тита Ливия. Перед началом похода против галлогреков, дабы внушить своим воинам уверенность в победе, проконсул объясняет, что им предстоит сразиться не с настоящими галлами, о силе и свирепости которых ходили легенды, а с выродившимся, расслабленным в благодатных условиях Азии племенем. Он, прямо-таки пророчески, предупреждает об опасности такого благополучия и «прелести» для воинской доблести римлян, настоятельно остерегает от нее своих солдат:
«Плодородная почва, — говорит он, — самый мягкий климат и кроткие нравы соседей смягчили всю ту дикость, с которой они (галлы. — Л.О.) пришли. Вам, истым мужам Марса, следует, клянусь Геркулесом, остерегаться этой прелести Азии и как можно скорее бежать от нее; такое сильное влияние оказывают эти чужеземные удовольствия на уничтожение энергии духа, так заразительно действуют образ жизни и нравы жителей». (Там же. XXXVIII, 17)
В связи с этой речью напомню другую: цитированное в предыдущей главе обращение консула Ацилия к войску в самом начале этой войны, перед сражением в Фермопильском ущелье. Оно заканчивалось словами: «А затем римскому господству откроются Азия, Сирия и все богатейшие царства, простирающиеся вплоть до восхода солнца». И вот они уже открылись... И новый римский полководец уже призывает бежать от Азии, и как можно скорее. Увы! Убежать от азиатской изнеженности и развращенности нравов римлянам, по крайней мере состоятельным римлянам, уже не удастся. Солдаты и офицеры сирийской армии принесут эту «заразу» в Рим. Уже в следующей, тридцать девятой книге своей Истории Тит Ливий пишет:
«Именно это азиатское воинство познакомило Город с чужеземной роскошью. Тогда впервые были привезены в Рим отделанные бронзой пиршественные ложа, дорогие накидки и покрывала, ковры и салфетки, столовое серебро чеканной работы, столики из драгоценных пород дерева, великолепные по тем временам. Именно тогда повелось приглашать на обед арфисток и кифаристок, устраивать для пирующих и другие увеселения, да и сами обеды стали готовить с большими затратами и стараниями. Именно тогда стали платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварской труд из обычной услуги возвели в настоящее искусство. Но это было только начало, лишь зародыш будущей порчи нравов». (Там же. XXXIX, 6)
Последнее меланхолическое замечание меня лично ужасно трогает и как бы облекает живой плотью облик римского историка. Он-то, спустя полторы сотни лет, знает, чем все это кончится! Конечно, в то время, надо полагать, не в каждом из крестьянских домов, куда возвращались римские легионеры, появились ложа, отделанные бронзой. И арфистки даже в Риме были, наверное, поначалу немногочисленны. Но дело не в широте распространения новых нравов. Дело в почти святотатственном попрании древних традиций, в поругании идеального образа простого, сурового и честного римлянина — воина и гражданина. Я бы хотел подчеркнуть именно этот аспект трансформации образа жизни древних римлян, отнюдь не вступая в заочный спор с читателем по поводу вреда или блага жизненных удобств и чувственных наслаждений, приносимых развитием цивилизаций. Для римлян — республиканцев — наслаждения и удобства были несовместимы с изначальной нравственной основой их мужественного союза. Они эту основу исподволь разрушили! И нет нужды, что роскошь и излишества стали достоянием лишь узкого круга сенатской, околосенатской и торговой аристократии. Эти люди были на виду у своих клиентов, горожан, крестьян-соседей, вольноотпущенников и рабов. Им привыкли подражать. Теперь стали еще и завидовать!
И если столики из драгоценных пород дерева оставались экзотической редкостью, то пьяные и шумные пиршества, распущенность нравов и идущая во все времена вслед за нею преступность быстро обрели широкий размах во всех слоях народа, не только в Риме, но и по всей Италии. Тем более что окостеневшая в своих ритуалах и далеко не высоконравственная римская религия могла поставить лишь очень слабый заслон на пути мутной волны приобщения к сладостным утехам плотских наслаждений. Этот заслон помогли снести принесенные с того же Востока новые религии оргиастического толка, в первую очередь культ Вакха. Вот как описывает Тит Ливий ночные служения этому богу — вакханалии. Их появление он относит к 186-му году, то есть как раз ко времени возвращения сирийского войска:
«Сначала в таинства были посвящены немногие, но затем доступ к ним становился все шире и для мужчин, и для женщин, а чтобы вовлечь еще больше людей, обряды стали сопровождать попойками и пиршествами. И так как вино разжигало желания, а смешение под покровом ночи мужчин с женщинами и подростков со взрослыми позволяло забыть о стыдливости, стал набирать силу всевозможный разврат, в зависимости от вкусов и склонностей каждого. Но дело не ограничилось растлением женщин и благородных юношей: из той же мастерской порока стали распространяться лжесвидетельства, поддельные печати и завещания, клеветнические доносы, отравления и убийства родных — такие, что подчас не оставалось для захоронения даже трупов. Много преступного делалось хитростью, но еще больше насилием. Долго насилия удавалось скрывать, так как крики насилуемых и убиваемых, звавших на помощь, заглушались воплями и завываниями, грохотом барабанов и звоном литавр». (Там же. XXXIX, 8)
Наряду с вакханалиями ширился и самый примитивный рынок дешевых удовольствий для простонародья и рабов: множилось число грязных таверн, при которых почти всегда имелись и убогие каморки для свидания с проститутками. Но вакханалии представляли особую опасность. И надо отдать должное римской администрации! Когда она увидела, что новое увлечение принимает размах, угрожающий стабильности государства, то приняла решительные меры. Традиция сопротивлялась! Консул Постумий Альбин по поручению сената выступил перед собранием народа в Риме с такой речью:
«С давних времен по всей Италии, а теперь уже и у нас в Городе справляют в разных местах вакханалии: не сомневаюсь, что об этом вы знаете не по слухам, но по грохоту и завываниям, которые по ночам оглашают весь Город; но я совершенно уверен, что никто из вас не знает, что такое вакханалия. Одни думают — это обряд богопочитания, другие в них видят дозволенные игры и увеселения, но, как бы то ни было, по общему мнению, участвуют в них немногие. Что касается числа их участников, то оно измеряется уже многими тысячами.
Впрочем, было б еще полбеды, если бы они предавались только разврату и тем позорили бы самих себя; по крайней мере их сердца и руки были бы чисты от преступлений и обмана. Однако никогда еще наше государство не взращивало в себе столь опасную язву, ибо за последние несколько лет не было такого преступления или обмана, источником которому не служили бы вакханалии». (Там же. XXXIX; 15, 16)
Да, если счет участников вакханалий идет на многие тысячи, это уже серьезно. Между тем, закончив свое описание, консул рисует перед народом перспективу прямо-таки угрожающую: «Но самое худшее вас еще ждет впереди; пока недостаточно сильная для борьбы с государством преступная шайка до сих пор покушалась лишь на отдельных граждан; между тем язва разрастается с каждым днем; она уже слишком велика для того, чтобы ей могли противостоять частные лица, и грозит уже государству в целом. И если вы не примете мер, квириты, то вслед за этим дневным собранием, которое законно созвано консулом, может состояться другое, ночное. Сейчас заговорщики разобщены и ваше собрание внушает им страх, но ночью, когда вы разойдетесь по домам, а некоторые вернутся к себе в деревню, они соберутся для решительных действий, и тогда вы окажетесь разобщены, и тогда придет ваш черед бояться». (Там же)
Постумий понимает, что, кроме «естественной» склонности к разврату, он должен еще побороть и религиозное суеверие, эту склонность освящающее. В арсенале аргументов у него лишь бездоказательная ссылка на величие истинных богов, и это не очень убедительно. Зато заканчивает он свою речь предупреждением, убедительным вполне:
«Я счел необходимым об этом напомнить, чтобы суеверие не смущало ваши умы, когда мы приступим к уничтожению вакханалий и к разгону нечестивых сборищ. А именно это мы и собираемся сделать с изволения и при помощи бессмертных богов, которые давно уже гневались на то, что их именем прикрывали разврат и преступления, и теперь разоблачили эту гнусность не для того, чтобы оставить ее безнаказанной, но чтобы со всей строгостью покарать. Сенат поручил мне и моему коллеге чрезвычайное расследование этого дела, и мы полны решимости выполнить свой долг». (Там же)
Затем было зачитано постановление сената, объявлены награды за доносы и меры пресечения побегов. Посвященных в культ, но не совершивших преступных деяний, бросили в тюрьмы, преступников казнили. Святилища Вакха по всей Италии были уничтожены, вакханалии запрещены на все грядущие времена. Зло было искоренено решительно, нравственная древнеримская традиция на некоторое время взяла верх.
Но отдадим должное не только решительности администрации, но и римскому духу уважения свободы граждан и веротерпимости. В сенатском постановлении о запрете вакханалий есть — согласно Титу Ливию — и такая оговорка:
«Кто считает для себя этот обряд обязательным и не может себя освободить от него, не оскорбив богов, тот должен заявить об этом городскому претору, а тот, в свою очередь, обязан доложить сенату. Если сенат в составе не менее ста членов даст разрешение на такой обряд, то участвовать в нем должно не более пяти человек, а кроме того, им запрещается иметь общую кассу, руководителей священнодействий или жреца». (Там же. XXXIX, 18)
Катон
Распространение культа Вакха удалось таким образом пресечь. Но стремление к плотским наслаждениям, тщеславие и вкус к роскоши все пышнее расцветали в «высшем обществе» Вечного Города. Его примеру, но на своем, отнюдь не изысканном уровне следовало и простонародье. Во имя сохранения могущества Рима поборники традиционной умеренности и суровости быта объявили этому «падению нравов» решительную войну. У них для нее был и достойный «полководец». Через год после разгрома поклонников Вакха пятидесятилетний сенатор и консуляр (бывший консул) Марк Порций Катон был, вопреки сопротивлению знати, избран цензором вместе со своим единомышленником — патрицием старой формации Луцием Валерием Флакком.
Катон к тому времени был уже знаменит своими обличительными речами в сенате и перед народом. Но не только этим — он пользовался огромным уважением и авторитетом как воин, многоопытный полководец и человек безупречной нравственности.
За «недостойный образ жизни» цензоры исключили семь человек из сената (в их числе двух консуляров). Кроме того, они прибегли, как это ныне принято называть, к мерам экономического принуждения:
«При принятии ценза они выказали такую же суровость и строгость ко всем сословиям. Драгоценности, женские наряды и повозки, стоившие вместе более 15000 ассов, они приказали своим помощникам вносить в списки, оценив в десять раз выше их стоимости. Рабы моложе 20-ти лет, купленные после последнего цензорского смотра за 10000 ассов или дороже, были оцениваемы также в десять раз дороже, чем стоили. Все эти предметы были обложены пошлиной в три асса на тысячу». (Там же. XXXIX, 44) В результате столь крутых мер Катон, по свидетельству Плутарха:
«...был ненавистен как тем, кому из-за роскоши приходилось терпеть тяжелые подати, так равно и тем, кто из-за тяжелых податей отказался от роскоши». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Катон. XVIII)
Зато в простом народе он, как полагается в таких случаях, снискал себе широкую популярность. В храме богини Здоровья ему поставили статую с надписью:
«За то, что, став цензором, он здравыми советами, разумными наставлениями и поучениями снова вывел на правильный путь уже клонившееся к упадку Римское государство». (Там же. XIX)
Впрочем, суровая нетерпимость Катона к роскоши была известна задолго до его избрания цензором. Тит Ливий подробно описывает знаменитый спор о женских украшениях, происходивший еще в 195-м году. Спор этот не столь важен, сколь любопытен и позволяет живо представить себе мировоззрение героя нашего рассказа, что и побуждает меня предложить его на суд читателя.
Итак, сначала предыстория спора. В 215-м году, в разгар II Пунической войны, после поражения при Каннах, в Риме был принят закон, запрещающий женщинам (разумеется, из нобилитета) иметь больше полунции золотых украшений, носить дорогие цветные платья и ездить в парных экипажах.
В 195-м году, ввиду победы над Ганнибалом и Филиппом Македонским, двое народных трибунов предложили этот закон отменить. Катон в тот год как раз был консулом. Вопрос должен был обсуждаться (естественно, мужчинами) в народном собрании. Но женщины не захотели покорно ждать их решения. По свидетельству Тита Ливия:
Ни одну из матрон не могли удержать дома никакой авторитет, ни чувство приличия, ни власть мужей; они занимали все улицы города и входы на форум и умоляли шедших туда мужей при цветущем положении государства... позволить и матронам вернуть прежние украшения. Толпа женщин росла с каждым днем, они приходили даже из других городов и торговых мест. Женщины осмеливались уже обращаться к консулам, преторам и другим должностным лицам и упрашивать их. Но совершенно неумолимым оказался для них один из консулов, М. Порций Катон». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXIV, 1)
Далее наш историк пересказывает пространную речь Катона по этому поводу. Я процитирую из нее лишь некоторые места.
«Если восторжествуют они сейчас, — говорит Катон, — то на что не покусятся после? Просмотрите законы — ими наши предки старались обуздать своеволие женщин и подчинить их мужьям, а вам все равно едва удается удержать их в повиновении, даже связанных такими узами. Что я говорю? Если допустите вы, чтобы они устраняли одно за другим эти установления и во всем до конца сравнялись с мужьями, неужто думаете, что сможете их выносить? Едва станут они вровень с вами, как тотчас окажутся выше вас... Если тебе не дозволено то, что дозволено другой, может, и в самом деле есть повод испытывать унижение или гнев; но если все вы будете выглядеть одинаково, то какая же из вас может опасаться, что на нее не так посмотрят? Стыдно казаться скупой или нищей, но ведь закон избавляет вас и от того, и от другого — он запрещает иметь то, чего у вас и так нет. «Вот как раз с таким равенством я и не желаю мириться, — говорит богачка. — Почему мне не позволяют привлечь к себе взоры обилием золота и пурпура? Почему бедности разрешено прятаться под сенью закона, и многие делают вид, будто имеют то, чего на самом деле у них нет; ведь, если бы не закон, все увидели бы их нищету». Ужель хотите вы, квириты, чтобы жены ваши похвалялись одна перед другой роскошью? Чтобы богачки старались добыть украшения, другим недоступные, а те, что победнее, выбивались из сил, чтобы не подвергнуться презрению за эту свою бедность? И конечно, как только женщины начнут стыдиться того, что вовсе не стыдно, они перестанут стыдиться того, чего должно стыдиться и в самом деле». (Там же. XXXIV; 3,4)
Может показаться, что Катон просто женоненавистник, но это не так. В другом месте той же речи он говорит о вещах более основательных, чем женские украшения:
«Вы не раз слышали от меня сетования на расточительность женщин, на расточительность мужчин, не только простых граждан, а даже и должностных лиц. Два порока, враждебных один другому, равно подтачивают наше государство — скаредность и расточительность; словно чума сгубили они все великие державы. Чем лучше и отраднее складывается судьба нашего государства, чем шире раздвигает оно свои пределы — а ведь мы уже в Греции и в Азии входим в обильные, полные соблазнов края, овладеваем сокровищами царей, — тем в больший ужас приводит меня мысль о том, что, может статься, не богатства эти начнут служить нам, а мы им». (Там же)
Нетерпимость Катона распространяется и на проникновение в Рим произведений греческого искусства. В них он тоже видит соблазн и угрозу римскому духу и религии. Свою речь он продолжает так:
«Вот привезли мы статуи из Сиракуз, а ведь это беда для Города, поверьте мне. Как это ни удручает, но все чаще слышу я о людях, которые восхищаются разными художествами из Коринфа и из Афин, превозносят их и так, и эдак, а над глиняными богами, что стоят на крышах римских храмов, смеются. Ну, а по мне эти благосклонные к нашему Городу боги много лучше, и они, надеюсь, не перестанут благоволить к нам, если оставим их на прежних местах». (Там же)
Не следует думать, что Катон был просто невежествен. Он знал греческий язык и, по свидетельству Плутарха, среди образцовых государственных деятелей почитал знаменитых греков: Эпаминонда, Перикла и Фемистокла. Помимо искусств, Катон был гонителем и пересадки на римскую почву греческой философии, науки и образования. Он...
«...с самого начала был недоволен страстью к умозрениям, проникающей в Рим, опасаясь, как бы юноши, обратив в эту сторону свои честолюбивые помыслы, не стали предпочитать славу речей славе воинских подвигов». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Катон, XXII)
Наверное, многие наши читательницы посочувствуют положению представительниц прекрасного пола в Древнем Риме. Посочувствовали им и мужчины в Народном собрании. Закон, запрещавший богатым римлянкам нести дары на алтарь извечного женского пристрастия к украшениям, был отменен. Суровый консул потерпел поражение, за которое брал реванш теперь, спустя одиннадцать лет, облеченный непререкаемой властью цензора.
Марк Порций Катон старший или «древний» (как его иногда называют историки, чтобы отличить от знаменитого потомка, жившего столетием позже), широко известен и нередко упоминается в публицистике и художественной литературе именно как ревностный блюститель чистоты нравов и обычаев римской старины — грубоватый и несколько примитивный. Между тем это был человек не только сильный, но и разносторонне одаренный. Я уже упоминал об авторитете Катона. Имеет смысл кратко познакомиться с его биографией, чтобы понять, как этот авторитет сложился.
Марк Катон родился в 234-м году. Он принадлежал к древнему но не знатному плебейскому роду. Вырос в провинции. Свою общественную деятельность начал с выступлений в судах окрестных городков, а затем и в Риме, куда его уговорил перебраться заметивший способного юношу знатный и влиятельный сосед, Луций Флакк. Катон охотно брался за защиту нуждавшихся и всегда бескорыстно. Он умел завоевать известность как оратор и знаток законов. Но как истинный римлянин, главным своим призванием Катон полагал военное дело. Еще семнадцатилетним юношей он отличился в войне с Ганнибалом. В двадцать лет он — уже в качестве военного трибуна — сражался у Марцелла под Сиракузами. В 204-м году Катон был избран квестором в армию Публия Сципиона, но еще в Сицилии, во время подготовки к экспедиции в Африку, позволил себе выступить против расточительности консула. За что и был отослан обратно в Рим, где в сенате не раз обличал своеволие и непомерные амбиции будущего победителя Ганнибала. Их взаимная неприязнь сохранилась до самой смерти Сципиона Африканского.
В 195-м году Катона избрали консулом и отправили усмирять взбунтовавшуюся Испанию. С этой задачей он справился весьма успешно, проявив при этом редкостную волю и личное мужество. Вот, например, как описывает Аппиан его первое сражение на испанской земле. Он только что высадился, и перед ним 40-тысячное войско испанцев:
«Дав короткий отдых войску, чтобы привести себя в порядок, решив вступить с врагом в сражение, он отправил в Массалию все корабли, которые у него были, и указал войску, что не то страшно, что неприятели превосходят их численностью, — ведь смелость духа всегда преодолевает самую большую численность, — «но то, — говорит он, — что у нас нет кораблей, а значит, нет и надежды на спасение, если мы не победим...» Когда начался рукопашный бой, он был всюду, ободряя, внушая отвагу. Когда битва шла с нерешительным результатом до позднего вечера и уже много пало и с той, и с другой стороны, он поднялся с тремя когортами оставленных в резерве войск на какой-то высокий холм, чтобы посмотреть на все поле битвы сразу. Когда он увидел свой центр особенно теснимым, он бросился к ним, сам в первых рядах подвергаясь опасности. Своим нападением и криком он привел в беспорядок врагов и положил тем начало победе». (Аппиан. Римская История. VI, 40)
В Испании Катон сумел завоевать глубокое уважение своих солдат и офицеров не только умелым командованием, но и бескорыстием, и готовностью разделить с войском все тяготы похода и сражения. Пожалуй, имеет смысл проиллюстрировать это отзывом Тита Ливия, относящимся как раз к испанской кампании:
«...такой силой духа и ума отличался консул, что успевал сам заботиться и о важных делах, и о мелких, что не только обдумывал он и приказывал, как поступать, а большей частью сам все и делал. Первым он подчинился суровым требованиям, которыми обуздал других; в неприхотливости, бодрости и трудах соперничал он с последним солдатом и возвышался над войском только своим положением и властью, ему данной». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXIV, 18)
В 191-м году как мы помним, Катон в качестве простого военного трибуна участвовал в Сирийской войне и отличился в сражении при Фермопилах. На этом его военная биография заканчивается — 43 года для воина почти предельный возраст. И вот в 184-м году мы встречаемся с Катоном — цензором, гонителем роскоши, ревнителем традиций суровой римской старины.
Моральное право занять такую позицию у него было. Всю свою жизнь он отличался редкостной воздержанностью и неподкупностью. Например, не может не вызвать уважения то, что, будучи в 198-м году управителем Сардинии, он не только не извлек никаких материальных выгод из своего наместничества, но даже не предъявлял к сардинцам и тех требований, которые по закону соответствовали его положению. К примеру, не приказывал присылать лошадей для объезда подвластной ему провинции — обходил ее города пешком. К себе был неизменно строг. Согласно Плутарху, он любил повторять, что...
«...предпочитает не получать награды за добрый поступок, лишь бы не остаться без наказания за дурной; и что готов простить ошибку каждому, кроме самого себя». (Там же, X)
Насчет готовности простить было сказано либо еще в молодости, либо для красного словца. Как раз напротив — обратившись к государственной деятельности, он полагал главной своей задачей изобличать преступников, особенно высокопоставленных. Блестящий оратор, Катон много раз выступал обвинителем в суде и, быть может, не менее часто оказывался сам под судом, так как враги платили ему той же монетой. Но их обвинения всякий раз оказывались ложными, и суд его оправдывал.
В семейной жизни Катон был безупречен: хороший супруг, рачительный хозяин, строгий, но заботливый отец: сына своего учил сам не только ратному делу, но и грамоте; даже написал специально для него крупными буквами историю Рима. Катон вообще, видимо, любил писать. Кроме Римской Истории он написал руководства по медицине, праву и военному искусству, издал множество своих речей. До нас, к сожалению, дошел только его трактат «О земледелии». Есть смысл уделить немного места этому довольно пространному сочинению. В нем содержится масса практических советов по сельскому хозяйству, из чего ясно видно, что автор занимался им непосредственно. Эти советы неоценимы для историков материальной культуры древнего Рима. Из трактата видно, что Катон считает оптимальным средней величины поместье (25-50 га) под виноградником, огородом, оливковым садом, то есть культурами рыночного предназначения. Луг и хлебное поле — только для прокорма скота и рабов, немногочисленных, но занятых в имении постоянно. Поденщиков и издольщиков он рекомендует нанимать лишь на время — по мере необходимости.
Интересно наставление для «вилика» — доверенного раба или вольноотпущенника, ведущего все хозяйство. Оно не только рисует для нас довольно любопытную картину деталей быта и взаимоотношений в сельском хозяйстве той поры, но выявляет психологию и нравственный облик самого автора наставления — римлянина старого склада:
«Вот обязанности вилика. Он должен завести хорошие порядки. Праздники да соблюдаются. Он не трогает чужого и тщательно сохраняет свое. Он решает споры между рабами: если кто-либо провинился, он как следует его наказывает в соответствии с его проступком. Рабам не должно быть плохо; пусть они не мерзнут и не голодают. Он неизменно будет держать их в работе; так легче удержит он их от воровства и проступков. Если вилик не захочет, чтобы раб вел себя плохо, этого не будет. Если он будет попустительствовать [рабам], хозяин не должен оставить это безнаказанным. За услугу же пусть приносит ему благодарность, чтобы и других поощрить... Семян для посева, съестных припасов, полбы, вина и масла он не дает в долг никому. У него есть две-три семьи, где он может взять, что ему нужно в обиходе и кому он дает — больше никому. Он часто проверяет счета с хозяином. Работника, поденщика и издольщика он не задержит с выплатой дольше, чем на день. Он ничего не купит без ведома хозяина и ничего от хозяина не скроет... Он постарается выучиться всем сельскохозяйственным работам и будет часто работать сам, но не до изнеможения. Если он работает, он будет знать, что на уме у рабов, и они будут работать в лучшем настроении. Если он работает, ему меньше захочется гулять, он будет здоровее и охотнее заснет. Первым встает он ото сна и последним идет ко сну. Сначала он осматривает, заперта ли вилла, спит ли каждый на своем месте и задан ли корм рабочему скоту...» (Катон. О земледелии. V, 1-5)
Позволь, дорогой читатель, еще выписать для тебя один из многочисленных кулинарных рецептов двухтысячелетней давности, приведенных в том же трактате. Пустяк, конечно, но с такой потрясающей реальностью приносит в наши дни облик и даже вкус той давным-давно прошедшей жизни:
«Сладкую запеканку делай таким образом. Полфунта муки и 2 1/2 фунта творога смешай вместе, как для оладий; подбавь 1/4 фунта меда и одно яйцо. Смажь маслом глиняную миску. Когда все хорошенько смешаешь, положи в миску, миску закрой глиняной крышкой. Смотри, чтобы хорошенько запеклось в середине, где всего глубже. Когда запечется, вынь миску, смажь запеканку медом, посыпь маком, подержи немного под крышкой, затем вынь. Подавай в мисочке с ложкой». (Там же)
В то время, когда Катон писал свои заметки о земледелии, он считал это занятие наиболее достойным видом мирной деятельности. В предисловии к трактату он пишет:
«Иногда лучше было бы наживаться, занимаясь торговлей, не будь здесь стольких опасностей, и даже отдавая деньги в рост, если бы только это было честным занятием. Предки наши так полагали и так постановили в законах: вор присуждается к двухкратной пене, ростовщик — к четырехкратной. Отсюда можно понять, насколько, по их пониманию, ростовщик был худшим гражданином, чем вор. И когда хвалили хорошего человека, то его хвалили как хорошего земледельца и хорошего хозяина... Из земледельцев же выходят самые мужественные люди и самые дельные воины; доход земледельца самый чистый, самый верный и меньше всего возбуждает зависти». (Там же. Предисловие)
Катон прожил восемьдесят пять (а по другим данным — около девяноста) лет. За этот долгий срок изменился Рим. Торговля и финансовая деятельность потеснили земледелие и приобрели статус вполне уважаемых занятий. В глубокой старости, как видно, произошел сдвиг и в психологии Катона. Взяла верх исконная крестьянская, расчетливая натура. Он стал приобретать участки для построек, пастбища и леса. Отдавал их в аренду, искал выгодного вложения капитала, называя «божественным и достойным восхищения мужем всякого, чьи счета после его смерти покажут, что за всю жизнь он приобрел больше, чем получил в наследство». (Плутарх). И даже, вопреки тому, что сам писал, стал ссужать деньги под проценты и залог кораблей. И хотя в то время такая деятельность уже считалась не более зазорной, чем банковская поддержка предпринимательства в наши дни, это была измена принципам староримской морали.
Но было бы несправедливым, если бы эта старческая слабость целиком заслонила память о бескорыстной борьбе за чистоту древней традиции, которой была отдана большая часть жизни Катона. Поэтому, даже не питая большой симпатии к воинствующему пуританству Катона, я все же хочу закончить рассказ о нем следующим лестным отзывом Тита Ливия:
«Он принадлежал к числу тех людей, которые силой ума и энергией пробивают себе дорогу в жизни, даже не имея знатных предков. Он умел одинаково безупречно вести и свои личные, и государственные дела, зная толк и в политике, и в сельском хозяйстве. Вершины почестей одни достигают знанием права, другие — красноречием, третьи — славой военных подвигов; Катон же с равным успехом подвизался на каждом из перечисленных поприщ. Что бы он ни делал, можно было подумать, что именно для этого он и рожден. Как рядовой солдат, он во многих боях проявил выдающуюся храбрость, а позднее, уже в качестве командующего, обнаружил незаурядный талант полководца. Он был известен как крупный законовед, искушенный в любых юридических тонкостях, и как блестящий оратор, чье красноречие живет, увековеченное в произведениях самых разных жанров. Сохранилось много его речей, как обвинительных, так и защитительных: он умел своих противников доводить до изнеможения, не только обвиняя, но и защищаясь. Многочисленные враги преследовали его, но и он неутомимо отвечал им тем же, так что знать причинила ему много неприятностей, но и он ей доставил хлопот не меньше. Надо признать, он отличался тяжелым нравом, был слишком откровенен и резок в речах, но зато недоступен для подкупа и лести, нелицеприятен и исключительно честен. Закаленный в постоянных трудах и опасностях, он обладал поистине железным здоровьем, сломить которое не смогла даже старость: достаточно сказать, что, привлеченный к суду в свои восемьдесят шесть лет, он сам защищался и издал свою речь, а в девяносто лет произнес перед народом обвинительную речь против Сервия Гальбы». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XXXIX, 40)
Павел
После победы над Антиохом и галлогреками римское войско ушло из Азии и Греции. Этим воспользовался Филипп Македонский для того, чтобы вновь попытаться расширить свои владения. В северной Греции он захватывает Фессалию, а к востоку от Македонии — ряд городов Фракии. В Рим поступают многочисленные жалобы. Сенат посылает комиссию для расследования. Филипп получает приказание очистить все захваченные города, но не торопится его выполнять. Он собирает силы для новой войны с Римом. Но в 179-м году, не дожив и до шестидесяти лет, македонский царь неожиданно умирает. Реванш за поражение у римлян должен взять его старший сын, Персей. Идут годы. Персей наращивает свои военные силы и резервы...
В 174-м году союзник римлян, царь Пергама Евмен, который боится Персея (римляне далеко, а Фракия совсем близко), является в Рим, чтобы сообщить сенаторам, в «закрытом заседании», что у молодого македонского царя уже есть армия в 40 тысяч пехотинцев и 5 тысяч всадников, а запасов хлеба, денег и оружия в арсеналах хватит на 10 лет войны. Страх и жалоба Евмена понятны. Пергам — единственная сила на Востоке, способная противостоять македонянам, и, по логике вещей, должен стать главным объектом агрессии Персея. Но это отнюдь еще не означает прямой угрозы Риму. Хотя, конечно, судьба Пергамского царства римлянам не безразлична. До тех пор, пока в тылу у македонян остается сильный и союзный Риму Пергам, римляне могут не опасаться воинственного соседа.
Послы Персея пытаются оправдать его действия, но держатся независимо и дерзко. В сенате начинает складываться мнение о необходимости вовремя обуздать македонского царя. Однако до решения о войне еще далеко. Тем более что неясно, в какой мере можно рассчитывать на поддержку греков. За 15 лет, прошедших после окончания Сирийской войны, в результате постоянного и подчас мелочного вмешательства римлян во внутренние дела Греции ореол ее освободителей порядком потускнел. Нам нет нужды останавливаться на примерах такого вмешательства, но, быть может, для пояснения обстановки стоит процитировать отрывок из выступления главы ахейской делегации на переговорах с римскими послами по поводу конфликта со Спартой. Ахеец не без горечи говорит:
«...если свобода ахейцев не пустое слово, если действителен связывающий нас договор, если наш союз основан на равноправии, то почему я не спрашиваю вас, римляне, что вы сделали с захваченной Капуей, а вы требуете от нас отчета в том, что мы сделали с побежденным Лакедемоном? Какие-то люди были убиты. Допустим, нами. Ну и что? Разве вы не рубили головы капуанским сенаторам? Мы разрушили стены. А вы не только стены, но сам город и землю отняли у капуанцев. Ты скажешь, что договор равноправен лишь по форме: довольно с ахейцев и призрачной свободы, а право решать остается за Римом. Я признаю это, Аппий, и безропотно подчиняюсь». (Там же. XXXIX, 37)
Это было сказано еще за десять лет до начала описываемых событий. Вряд ли с тех пор римляне стали вести себя скромнее. Теперь же послы сената разъезжают по Греции, стараясь восстановить имидж защитников свободы греков и завербовать себе союзников.
«Узнав об этом, — свидетельствует Аппиан, — Персей отправил в Рим (вторично) послов сказать, что он недоумевает и хотел бы узнать, из-за чего они забыли соглашения и рассылают послов против него, являющегося их другом. Если они в чем-либо его упрекают, нужно разрешить это во взаимной беседе. Сенат же стал обвинять его... в том, что он захватил Фракию, что он имеет войско и запасы как человек, не собирающийся оставаться спокойным... Тогда он вновь отправил других послов, которые, введенные в сенат, сказали так: «Нуждающимся в поводе для войны, римляне, все это достаточно как повод. Если же вы уважаете договоры — а вы сами громко заявляете, что они имеют для вас большое значение, — то что, потерпев от Персея, вы поднимете против него войну? Конечно, не потому, что у него есть войско и военное снаряжение. Ведь это у него не против вас. Ведь и другим царям вы не препятствуете иметь все это...» (Аппиан. Римская История. IX, 2, 5)
В свою очередь, римские послы встречаются с Персеем, обмениваются упреками, но заявляют о готовности к дальнейшим мирным переговорам. Однако, как выясняется из их доклада сенату, все это с единственной целью — выиграть время для подготовки к войне (Персей-то к ней готов и легко может помешать римлянам высадиться в Греции). Оценка этого доклада сенаторами нам интересна как свидетельство эволюции римского «менталитета». Вот что пишет об этом Тит Ливий:
«Большая часть сената одобрила принятые меры, сочтя их весьма благоразумными, но старики, помнившие прежние нравы, говорили, что не узнают римских правил. Предки вели войны, не прибегая ни к засадам, ни к ночным вылазкам, ни к ложному бегству и внезапным возвратным атакам на беспечного врага; они предпочитали величаться истинным мужеством, а не лукавством (запоздалый выпад в адрес Сципиона Африканского. — Л.О.)... так велела поступать римская добросовестность, столь отличная от коварства пунийцев и хитрости греков, у которых более почетным считается обмануть врага, чем одолеть силой. Иногда обманом можно добиться большего, чем доблестью, — но лишь на недолгое время; навсегда же покорится лишь тот, кто вынужден будет признать, что его одолели не ловкостью и не случайно, но в честной и справедливой войне, где бьются лицом к лицу». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XLII, 47)
Увы! Апелляция старых сенаторов к былой римской доблести уже звучит анахронизмом. В 171-м году сенат принимает решение о войне:
«Отцы для блага и счастья римского государства поручили консулам возможно скорее выйти к народу в центуриатские комиции с такого рода предложением: так как македонский царь Персей, сын Филиппа, вопреки договору, заключенному с его отцом, а после смерти отца возобновленному лично с ним, напал на союзников римского народа, опустошил их поля, занял города; так как, помимо этого, он задумал готовиться к войне с римлянами и с этой целью припас оружие, собрал войско и снарядил флот, то пусть будет начата с ним война, если он не даст за все это удовлетворения». (Там же. XLII, 30)
Предложение сената в комициях принято, и новоизбранный консул Публий Лициний Красс набирает войско и готовит флот для высадки десанта в Грецию. Персей не пытается ей помешать, и в том же 171-м году на границе Македонии происходит первое сражение. Оно заканчивается не слишком решительной, но все же явной победой македонян. Эта победа получает достаточно широкий положительный отклик в Греции. Полибию, настроенному явно проримски, приходится искать для него довольно сомнительное объяснение:
«Когда по Элладе разнеслась весть о победе македонской конницы над римской, сочувствие народов Персею, до того времени большей частью скрываемое, прорвалось наружу ярким пламенем. Мне кажется, впрочем, что это сочувствие было особенное какое-то, похожее на то, которое наблюдается на состязательных играх, именно: когда в состязаниях с борцом знаменитым и слывущим за неодолимого схватывается безвестный и гораздо более слабый противник, то вначале толпа зрителей обращает свое участие на слабейшего, поощряя его восклицаниями и поддерживая восторгами». (Полибий. Всеобщая История. XXVII, 9)
Скорее следует согласиться с трактовкой Аппиана, который полагал, что Персей вовсе не угрожал Элладе и потому пользовался симпатией греков, в то время как римляне постоянным вмешательством им порядком досаждали. А инициатива войны целиком принадлежала Риму. В пользу этого последнего предположения говорит и тот факт, что Персей не попытался развить успех, а, наоборот, предложил побежденным римлянам воспроизвести те же самые условия мира, какие они в свое время продиктовали его отцу. Тит Ливий свидетельствует, что прибывшие в римский лагерь посланцы Персея...
«...запросили мира, обещая, что Персей выплатит римлянам такую же дань, какую обязался платить по договору Филипп, и что он немедленно отдаст им города, земли и области, уступленные Филиппом». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XLII, 62)
Но гордость не позволила римлянам принять миролюбивое предложение македонского царя. Тит Ливий продолжает:
«Так говорили послы. По удалении их состоялось совещание, и победу в совете одержала римская стойкость. Тогда был такой обычай — делать хорошее лицо в беде и умерять гордость в удаче. Постановили ответить, что мир будет дан в том случае, если царь предоставит сенату право решить все по своему усмотрению: и все дело в целом, и собственную судьбу, и участь всей Македонии». (Там же)
Поскольку установление истины в вопросе о том, какая сторона настояла на продолжении III Македонской войны, имеет большое значение для понимания эволюции римской политики на востоке, замечу, что и Полибий подтверждает готовность Персея отказаться от всех завоеваний своего отца, сделанных после предыдущей войны с Римом. Несогласие римского консула принять эти условия мира и его требование (от победителя!) полной капитуляции он, так же как Ливий, приписывает своеобразию римской гордости:
«У римлян искони, — пишет он, — в силе своеобразное обыкновение: показывать высшую степень гордости и упорства в несчастии и величайшую умеренность в счастии: всякий признает такой образ действий правильным...» (Полибий. Всеобщая История. XXVII, 8)
Персей несколько раз предлагал увеличить сумму денежной компенсации, но консул был непреклонен и македонский царь вынужден был продолжать войну. Стоит ли удивляться, что в последующие затем три года Персей вел себя крайне неуверенно, если не сказать робко. Это вполне соответствует впечатлению, что его агрессивные намерения по отношению к Риму (быть может, в отличие от намерений его отца) были вымышлены Евменом.
Удивляет другое — пассивность и беспомощность римского войска, где один консул безрезультатно сменял другого. Наверное, объяснение этому надо искать в разложении римской армии — неизбежном следствии неоправданности ее вторжения в Македонию и Грецию. Размещенные по квартирам офицеры крали с размахом, солдаты — по мелочи. Отставки и отпуска продавались за деньги. Вместо присущего им некогда стремления поскорее сразиться с неприятелем легионеры предаются грабежу и разрушению греческих городов. А ведь всего лишь четверть века прошло с того дня, когда восхищенная Греция аплодировала своим освободителям!
Поборы и вымогательства у греческих союзников Рима приобрели, по-видимому, столь широкий размах, что сенат вынужден был послать в Грецию уполномоченных, которые повсеместно объявили специальное сенатское постановление... «...о том, чтобы никто не предоставлял римским должностным лицам ничего сверх предписанного сенатом». (Там же. XLIII, 17)
Римская традиция сопротивлялась жадному самоуправству офицеров и мародерству разложившейся солдатни, но, видимо, одних сенатских постановлений было уже недостаточно. Необходимо было послать в Грецию сильную личность. В 168 году ведение войны с Персеем поручают 60-летнему консулу Луцию Эмилию Павлу — сыну консула, павшего в битве с Ганнибалом при Каннах. Это был римлянин старого закала, поборник строгой воинской дисциплины, не склонный потакать разлагающим армию грабежам и сам не унижавшийся до личного обогащения на войне. Плутарх свидетельствует, что за 20 лет до описываемых событий, усмирив очередной мятеж в Испании, Павел вернулся в Рим, не разбогатев ни на одну драхму. Кстати говоря, Павел, по-видимому, был близок с Катоном, поскольку его дочь была замужем за сыном Катона, воевавшим в Македонии под начальством Павла.
Между тем в Риме множество людей стремится объяснить новому главнокомандующему, каким образом он сможет добиться успеха в этой затянувшейся и бесславной войне. Павел в комициях заявляет народу, что готов уступить свой пост любому из советчиков, но если командование будет доверено ему, то вмешательства в свои действия он не потерпит.
«Нет, я не из тех, квириты, — говорит он, — кто утверждает, будто полководцам нет нужды в советах. Клянусь, скорее спесивым, нежели мудрым, назову я того, кто во всем уповает на собственный ум. К чему я клоню? А вот к чему: прежде всего полководцев должны наставлять люди разумные, особенно сведущие и искушенные в военных науках, потом те, что участвуют в деле, знают местность, видят врага, чувствуют сроки, — словом, те, что в одном челне со всеми плывут сквозь опасности. И если кто-то из вас уверен, что в этой войне может дать мне советы, полезные для государства, пусть не откажется послужить ему и отправляется со мной в Македонию. Корабль, коня, палатку, подорожные — все он от меня получит. Ну, а кому это в тягость, кому городская праздность милее ратных трудов, тот пусть с берега кораблем не правит. В Городе довольно пищи для разговоров — пусть ею и насыщаются, а нам хватит и походных советов». (Там же. XLIV, 22)
Прибыв к армии, Павел решительными мерами пресекает грабежи и восстанавливает порядок. Еще раз на первый план Римской истории выдвигается сильная и достойная уважения личность, и это на время останавливает скольжение если не самого Рима, то римского войска в направлении к разложению и утрате былой доблести.
Исполненный решимости прекратить укоренившуюся и в войске порочную практику митингового обсуждения военных планов и приказов, он собирает воинов и обращается к ним:
«...на войне лишь полководец рассуждает и выносит решения — либо сам, либо с теми, кого позовет на совет, а уж кого не позвал, те суждений своих не выражают ни вслух, ни тайком. Воину положено думать только о трех вещах — чтобы тело было крепко и гибко, оружие сподручно, а еда приготовлена на случай неожиданных приказаний; о прочем за него позаботятся боги бессмертные и полководец. Не быть добру там, где воины рассуждают, а полководец, их слушая, мечется. Я, — сказал консул, — сумею дать вам случай отличиться — это мой долг полководца; а вы вперед не заглядывайте, ждите приказа и тогда покажите, какие вы воины».
С такими напутствиями он распустил сходку. Тут даже ветераны не стеснялись признаться, что они, словно новобранцы, впервые уразумели военный порядок». (Там же. XLIV, 34)
После того как дисциплина в легионах была восстановлена, Павел повел их на сближение с войском Персея. Решительное сражение состоялось 22-23 июня 168 года и, хотя проходило с переменным успехом, закончилось сокрушительным поражением македонян: 20 тысяч их пали на поле боя и 11 тысяч были взяты в плен. В сражении участвовал и шестнадцатилетний сын Павла, Публий. Еще два дня потребовалось для того, чтобы подчинить всю оставшуюся беззащитной Македонию. Война, тянувшаяся четыре года, была закончена на пятнадцатый день после прибытия консула к армии.
Персей со всем своим золотом скрылся на остров Самофракию. Римские историки упрекают его в жадности, из-за которой он, в частности, не воспользовался помощью 20-ти тысяч кельтских наемников, находившихся в соседней Иллирии. Римский флот подошел к Самофракии. Персей пытался бежать с острова, но неудачно и вслед за своим бросившим его окружением сдался римлянам. Его доставили в лагерь. Вот как описывает римский историк встречу Персея с Луцием Эмилием Павлом:
«Персей вступил в лагерь в скорбной одежде; сопровождал его только сын — никакой другой спутник и товарищ по несчастью не мог бы сделать более жалостным его вид. Толпа сбежавшихся на это зрелище не давала ему пути, покуда консул не отправил ликторов расчистить Персею путь к ставке. Консул, дав всем приказ сидеть, встал и шагнул навстречу входящему царю и подал ему руку; тот было пал ему в ноги, но консул поднял его, не дав коснуться своих колен, и ввел в палатку, приказав сесть напротив советников». (Там же. XLV, 7)
Затем, если верить Ливию, Павел обратился к македонскому царю со следующей речью:
«Когда бы юношей принял ты царство, не так удивительно было бы, что ты не знаешь, каков народ римский и в дружбе, и во вражде; но ты-то делил с отцом своим и тяготы войны, какую тот вел против нас, и заботы мира, за нею последовавшего, — мира, который мы пред отцом твоим верно хранили. Так что же ты думал, предпочитая не в мире жить, но воевать против тех, кто в войне тебе доказал свою силу, а в мире — честность?»
Но царь не отвечал ни на вопросы, ни на упреки, и Эмилий Павел повел речь дальше: «Впрочем, явился ли причиною случай, неизбежность или заблужденье ума человеческого, не падай духом. Снисходительность римского народа царями многими и народами испытана в трудный час, а потому ты можешь не только питать надежду, но, пожалуй, быть прямо уверен в своей безопасности».
Все это консул говорил Персею по-гречески; потом продолжил и по латыни, уже к своим. «Вот вам прекрасный пример превратности людского жребия. Я говорю это прежде всего ради вас, юноши. Знайте, не должно в счастии быть надменным и не должно насильничать, полагаясь на сегодняшнюю удачу, — неведомо, что принесет нам вечер. Лишь тот сможет зваться мужем, кого попутный ветер не увлечет, а встречный не сломит». (Там же. XLV, 8)
Павел не обманул Персея. Тот не был казнен, а умер своей смертью в италийском плену. Решением сената жителям Македонии была сохранена свобода, но царская власть упразднялась. В сенатском постановлении без лишней скромности было сказано:
«...чтобы все народы видели: римское оружие не рабство свободным несет, а рабствующим — свободу, и чтобы все свободные племена под опекой народа римского чувствовали себя в вечной безопасности, а подвластные царям племена знали бы, что эти цари стали мягче и справедливее из почтенья к народу римскому, и если цари их затеют войну с римским народом, то кончится это для римлян победой, а для подданных царских — свободой». (Там же. XLV, 18)
Прекрасные слова! Но интересно было бы увидеть, как их слушали те греки, которые совсем недавно терпели произвол и насилие римской солдатни. Впрочем, правительственные декларации всегда прекрасны. Кстати, свобода свободой, а Македонию, ради ее ослабления, было решено разбить на четыре округа, чтобы каждый из них имел собственное правление и собрание народа, а Риму выплачивал дань, правда, равную лишь половине той, что с этой области взимали македонские цари. Кроме того, все родственники царя, его придворные и военачальники были отправлены в Италию в качестве заложников, а все сокровища царской казны, разумеется, конфискованы.
Хотя в Риме уже были избраны новые консулы, Эмилий Павел был оставлен в Македонии на 167-й год для организации нового управления и приведения в порядок дел, расстроенных войной. Непосредственные союзники Персея в войне по прямому указанию сената были жестоко наказаны. Павел отдал на разграбление легионерам семьдесят городских округов в Эпире, а местных жителей, в числе 150 тысяч человек, продал в рабство. Что же касается греческих городов и граждан, которые сочувствовали Персею или даже поддерживали его, то римляне не стали их преследовать. Впрочем, если быть точными, одно наказание на Грецию было наложено. Во избежание возможного участия греческих городов в каких-либо новых антиримских коалициях, было приказано отправить в Рим 1000 заложников из знатных семей согласно списку, составленному уполномоченными сената не без помощи тех греков, которые в войне держали сторону Рима. В числе этих заложников был и сын одного из стратегов Ахейского союза, Полибий — наш будущий римский историк.
Павел был эллинистически образован и, в отличие от Катона, питал живой интерес к греческой культуре. С небольшой свитой и сыном он объехал всю Грецию... «...он не делал попыток вызнать чьи-либо настроения — явные или тайные — во время Персеевой войны, он не желал, чтобы в душах союзников поселились какие-нибудь страхи». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XLV, 28) Напротив, он старался облегчить участь народа, оделяя греков хлебом и маслом из военных запасов Персея. Опровергая расхожее представление о примитивности душевного склада и грубости римлян, Луций Павел выказал себя подлинным ценителем высокого искусства греков. По свидетельству Полибия:
«Давно уже мечтал он о том, как бы увидеть Олимпию, и теперь спешил туда... Луций Эмилий вошел в священную рощу в Олимпии и, очарованный при виде статуи, сказал, что, по его мнению, один Фидий верно воспроизвел гомеровского Зевса, ибо действительность превзошла даже высокое представление, какое он имел об этом изображении». (Полибий. Всеобщая История. XXX, 10)
Во время своего путешествия Павел задумал и подготовил торжественные игры на греческий лад, которые и состоялись по окончании всех дел в македонском городе Амфиполе.
«Со всех концов круга земного сошлись в Амфиполь и мастера в потешном ремесле всех видов, и силачи, и ристатели знаменитые, и посольства с жертвенными животными — словом, сделано было все, что делается обыкновенно на греческих больших играх в угоду богам и людям, да так, что все дивились не только пышности, но и тонкости в устройстве зрелищ, каковой в ту пору за римлянами не знали». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XLV, 32)
И тем не менее начатое за полвека до того Марцеллом в Сиракузах злое дело расхищения сокровищ греческого искусства продолжил и Павел. Плутарх утверждает, что захваченные в Македонии и Греции статуи и картины везли в его триумфе на 250 повозках в течение целого дня (но, быть может, это были статуи и картины, спасенные из семидесяти разрушенных по приказанию сената городов?)
После игр в Амфиполе Павел во главе войска вернулся в Рим. Читатель ошибется, если вообразит себе это войско торжествующим, несущим на руках полководца, подарившего ему быструю и блистательную победу. Как раз наоборот! Воины роптали и кляли своего командующего. Кое-кто даже сговаривался подбить народ в комициях проголосовать против его триумфа. И все потому, что Павел уделил им из сокровищ Македонского царя куда меньше добычи, чем рассчитывала получить их воспитанная тремя годами грабежей алчность. Себе же полководец и вовсе не взял ничего. Плутарх пишет в биографии Павла:
«...его хвалили за бескорыстие и великодушие: он не пожелал даже взглянуть на груды серебра и золота, которые извлекли из царских сокровищниц, но передал все квесторам для пополнения общественной казны. Он только разрешил сыновьям, большим любителям книг, забрать библиотеку царя». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Эмилий Павел. XXVIII)
Царская казна полностью перекочевала в храм Сатурна. Она была столь богата, что позволила на целое столетие освободить римский народ от уплаты подушной подати.
Несмотря на недовольство солдат и происки некоторых офицеров, триумф состоялся. Но как будто злой рок тяготел над его героем: за пять дней до триумфа умер двенадцатилетний младший сын Павла, а через три дня после триумфального шествия он потерял еще одного, четырнадцатилетнего сына — последнего, со смертью которого прекращался и его род. Внимательный читатель, быть может, с недоумением припомнит, что в сражении под Пидной участвовал еще один, шестнадцатилетний сын Павла, Публий. Но он к тому времени, путем усыновления, перешел в род Корнелиев. У Павла был еще один, старший сын, но он еще раньше был усыновлен родом Фабиев. Потому-то так горько звучат заключительные слова традиционной речи триумфатора перед римским народом:
«Такое счастье мне самому казалось чрезмерным и потому подозрительным. Я стал бояться опасностей на море — ведь мне предстояло переправить в Италию огромные богатства царя и перевезти туда победоносное войско. Суда благополучно достигли берега, и мне больше не о чем было молить богов. И тут я в душе пожелал: коль скоро счастье, вершин достигнув, обыкновенно скатывается назад, пусть это лучше коснется моего дома, но не государства. И потому я надеюсь, что счастье нашего государства искуплено моею тяжкой бедой, — ведь мой триумф, как бы в насмешку над превратностью людской судьбы, свершился между похоронами моих детей». (Тит Ливий. История Рима. Т. 3, XLV, 41)
Луций Эмилий Павел умер своей смертью в 160-м году, в возрасте 68 лет. Присущие ему благородство и бескорыстие получили еще одно, уже посмертное подтверждение. Об этом пишет Полибий — его современник:
«Важнейшее и красноречивейшее свидетельство о характере Луция Эмилия обнаружилось для всех с его смертью, ибо каким прославляли его при жизни, таким он явился и после смерти, а это, согласится всякий, вернейший знак доблести человека. Так, из Иберии он привез с собой в Рим больше золота, чем кто бы то ни было из его современников, точно так же в Македонии получил в свое распоряжение огромнейшие сокровища, причем в обоих случаях пользовался безграничной властью, и все-таки оставил после себя такие ничтожные средства, что не было возможности выдать жене все приданое из его движимости, если бы сверх того не было продано кое-что из земельных угодий...
Если бы наши слова показались неправдоподобными, достаточно вспомнить, что пишущему было прекрасно известно, что скорее прочих сочинение его попадет в руки римлян... Посему никто не стал бы по доброй воле обрекать себя на недоверие и пренебрежение со стороны читателей». (Полибий. Всеобщая История. XXXII, 8)
Глава VII Сципион Эмилиан (166-129 гг.)
Двукратное упоминание в предыдущей главе того факта, что в сражении при Пидне участвовал 16-летний сын Павла, Публий, конечно же, не случайно. О нем сейчас наш дальнейший рассказ. Но прежде следует разобраться в некоторых родственных связях. У Луция Эмилия Павла, как мы уже знаем, было четыре сына, из которых двое младших умерли в дни триумфа своего отца. Павел был благороден, горд, но небогат. С матерью своих сыновей, Папирией, он разошелся еще в их младенческие годы. Поэтому не удивительно, что Павел в свое время согласился передать двух старших мальчиков в порядке усыновления в богатые и знатные патрицианские роды. Своего первенца — в род Квинта Фабия Максима, а второго, двухлетнего Публия — в знаменитый род Корнелиев. Его незадолго до своей смерти усыновил победитель Ганнибала, Публий Корнелий Сципион Африканский. В 5-й главе я мельком упомянул об этом, назвав усыновленного двоюродным братом Сципиона. Все объясняется просто: мать Сципиона Африканского, Эмилия, была старшей сестрой Луция Эмилия Павла. Сына своего она пережила на добрых четверть века. Эмилия была не только знатна, но и богата. Усыновленный племянник оказался ее единственным наследником. Согласно обычаю, он носил полное имя своего приемного отца с добавлением, указывающим на происхождение из рода Эмилиев: Публий Корнелий Сципион Эмилиан.
Читатель, я надеюсь, еще не забыл, что Публий сопровождал родного отца во время его путешествия по Греции. В какой-то момент к ним, очевидно, присоединился и старший сын Павла, Квинт, поскольку Плутарх упоминает, что
Луций Эмилий разрешил своим двум сыновьям забрать библиотеку македонского царя. На почве любви к книгам и бесед о прочитанном, уже в Риме, завязались близкие отношения обоих юношей с прибывшим из Греции в числе заложников Полибием — будущим римским историком. Для Публия Сципиона эти отношения переросли в тесную дружбу С неподдельной теплотой, хотя, быть может, и не без пристрастия, описывает Полибий в своей Всеобщей Истории молодые годы Сципиона Эмилиана:
«Влечение и любовь к прекрасному проявились в Сципионе прежде всего в том, что он стремился стяжать себе славу человека воздержанного и превзойти в этом отношении своих сверстников. Достигнуть такой цели, столь возвышенной самой по себе и трудной, было легко в тогдашнем Риме при господствовавшем в народе упадке нравов. Молодые люди отдавались со страстью любовникам или любовницам, другие увлекались представлениями, пьянством и расточительностью, в персеевой войне быстро перенявши от эллинов эту слабость... но Сципион усвоил себе противоположные правила поведения и в борьбе со всякими страстями воспитал из себя человека последовательного, во всем себе верного, и оттого в какие-нибудь пять лет стал известен в народе своей благопристойностью и самообладанием. Потом он непрестанно стремился превзойти всякого щедростью и неподкупностью. В этом отношении сильную поддержку оказывала ему совместная жизнь с родным отцом, да и от природы ему присуще было влечение к правде». (Полибий. Всеобщая История. XXXII, 11)
Полибий рассказывает о том, как Сципион отказался от своей доли наследства отца в пользу брата, как после смерти Эмилии распорядился ее наследством: всем вышедшим замуж ее дочерям он, отказавшись от законной рассрочки на три года, немедленно выплатил полностью их приданое, а все украшения, утварь, экипажи и рабов отдал родной матери.
Свое перечисление великодушных поступков юноши Полибий заключает следующим не лишенным интереса замечанием:
«Такое поведение, наверное, всюду нашли бы достохвальным; оно было изумительно в Риме, где решительно никто никому не дает ничего из своего имущества добровольно». (Там же, 12)
Кроме воздержанности, юный Сципион стремился воспитать в себе мужество и отвагу — качества, увы, в то время уже не характерные для многих молодых патрициев. За отсутствием военного поприща он с увлечением предавался охоте на диких зверей (занятию до изобретения пороха весьма опасному) и сумел завоевать славу отважного и удачливого охотника. Верный друг, Полибий, хотя и был лет на пятнадцать старше Сципиона, неизменно составлял ему компанию.
Спустя несколько лет представился случай проверить свое мужество на поле боя. Опять обострилась ситуация в Испании. Далекий полуостров уже в течение полувека, как плохо погашенный костер, был источником тревоги для римлян. Различные испанские племена, дикие и вольнолюбивые, одно за другим усмиряемые, вновь и вновь поднимали восстания — точно раздували прятавшееся под обманчивым пеплом пламя. Усмирение этих восстаний было чуть ли не семейным делом круга близких людей Публия. Его давно умерший приемный отец успешно воевал в Испании еще во времена нашествия Ганнибала. Потом, в 195-м году, в Испанию был послан Катон — свекор сестры Публия; в 190-м году там воевал его родной отец, Эмилий Павел; наконец, начиная с 177-го года, — муж двоюродной сестры Тиберий Семпроний Гракх. Гракху удалось не только усмирить, но и умиротворить Испанию. Заключенный им на двадцать пять лет мир соблюдался.
Но вот теперь, в 152-м году, по истечении этого срока испанцы (араваки и кельтиберы) возобновляют военные действия против римлян. Консул Квинт Фульвий Нобилиор терпит от них поражение за поражением. Его должен сменить новый консул, Марцелл. Он далеко не уверен в себе... Вот как описывает Полибий эту тревожную ситуацию и ее неожиданное разрешение:
«...Квинт, военачальник предшествующего года в Иберии, и его соучастник в войне доставили в Рим известия о непрерывных сражениях, об огромных потерях убитыми и о храбрости кельтиберов. В то время Марцелл не скрывал своей робости перед войной, так что молодежью овладел необычайный страх, какого, говорили старики, они и не запомнят. И в самом деле, страх доходил до того, что на должность военных трибунов не объявлялось достаточного числа кандидатов, и некоторые места остались незанятыми, тогда как раньше желающих занять эти должности являлось в несколько раз больше, чем требовалось; равным образом выбираемые консулом легаты, которые должны были сопровождать военачальника, отказывались следовать за ним...» (Там же. XXXV, 4) И тут Публий Корнелий обращается с просьбой послать в Иберию его (хотя мог бы поехать в Македонию, куда приглашен для разрешения какого-то конфликта).
«Всех изумило это предложение, — продолжает Полибий, — исходившее от гражданина юного и обыкновенно сдержанного; велико было восхищение Сципионом и в то время, но с каждым днем оно становилось все больше. И действительно, молодые люди, робевшие раньше, теперь из боязни невыгодного сопоставления одни спешили предлагать свои услуги военачальникам в звании легатов, другие целыми толпами и товариществами записывались в военную службу». (Там же)
Возможно, что Полибий преувеличивает роль личного примера Сципиона. Кроме того, в его рассказе настораживает повторение ситуации: приемный отец Публия Эмилиана за шестьдесят лет до того точно так же в момент всеобщего замешательства сам предложил послать его в Иберию. Но на этом сходство кончается. Будущему Сципиону Африканскому было поручено верховное командование, он штурмом взял Новый Карфаген, а его приемный сын отправился в Испанию простым военным трибуном и даже не имел случая там отличиться — восстание было вскоре подавлено. Сципион вернулся в Рим, где тем временем разворачивались события, в которых ему суждено было сыграть на этот раз главную роль.
В 152-м году Марк Катон (ему уже за восемьдесят) направляется в Африку, где по поручению сената должен разрешить спор между Карфагеном и бывшим союзником Рима Массиниссой. Нумидийскому царю под девяносто, но он еще полон сил и всячески обижает карфагенян. Катон его фактически поощряет, и год спустя Массинисса, нанеся поражение отряду карфагенских наемников, отбирает у города пограничные с Нумидией земли. В Карфагене к власти приходит партия демократов, они добиваются объявления войны Массиниссе.
А между тем в Риме для карфагенян назревает угроза куда более серьезная, чем алчность нумидийского соседа. Старик Катон возвратился в Рим, потрясенный тем, что он увидел в Карфагене. За полвека, прошедшие после битвы при Заме, город вновь расцвел, разбогател и восстановил свое былое многолюдство. Мощные крепостные стены, не тронутые Сципионом Африканским, делали его неуязвимым, а несметные богатства городской казны побуждали наемников не только из необъятной Африки, но и со всего света предлагать ему свои услуги. Воображению Катона — а под впечатлением его страстных речей и воображению сенаторов — уже рисовался новый Ганнибал, идущий с мечом отмщения на Рим. Не было ровным счетом никаких оснований для такого рода опасений, но ужас, пережитый римлянами в годы нашествия Пунийца, оставил след. И разуму было не под силу его вытравить. Рим заволновался. «Карфаген должен быть разрушен!» — неистово требовал Катон. «Разрушен! Разрушен!..» — откликалась толпа на форуме.
Для начала войны не хватало только повода. И он нашелся, как только стало известно, что Карфаген объявил войну Нумидии. Никто и не думал выяснять, кто виноват. Согласно полузабытому условию мирного договора, карфагеняне не имели права без разрешения римлян начинать войну даже в Африке, но они ее начали.
Уважаемый читатель! Я должен упредить твое недоумение и упрек в отступлении от заявленного жанра. Сейчас последует довольно подробное описание событий, в которых не участвует Сципион Эмилиан, хотя они и подготавливают его появление. Повествование этой книги строится вокруг судьбы отдельных выдающихся персонажей, но все-таки это история Рима, и я не вправе пройти мимо важных для ее понимания событий, даже если в них участвуют только фигуры второстепенные. К тому же в безжалостном свете представленных ниже эпизодов мы сумеем лучше разглядеть лицо нашего главного героя — Рима. Увы, сильно изменившееся с той поры, когда оно впервые явилось восхищенным взорам освобожденной Греции.
Решение о войне с Карфагеном было принято в 149-м году, но подготовка к ней началась задолго до того, и потому консулы Манилий и Цензорин смогли немедленно во главе войска отплыть в Сицилию, в крепость Лилибей, для последующей переправы в Африку. Под их командой отправилось внушительное войско: 80 тысяч пеших и до 4 тысяч конных воинов. В том числе множество добровольцев. Рассказы Катона о богатстве Карфагена привлекли ветеранов восточных кампаний, уже вкусивших прелести грабежа богатых городов.
Узнав об экспедиции, карфагеняне направили в Рим чрезвычайное посольство с неограниченными полномочиями. По ситуации, которую послы нашли в Риме, им не оставалось ничего другого, как отдать Карфаген и все его владения «на усмотрение римлян». Это означало безоговорочную капитуляцию (без войны), но оставляло надежду на сохранение города.
«Когда карфагеняне сделали такое заявление, — пишет Полибий, — и вскоре засим были позваны в сенат, претор объявил волю сенаторов, что во внимание к мудрости их решения сенат предоставляет им свободу и самоуправление, всю страну и обладание всем прочим достоянием, государственным и частным. Карфагеняне выслушали эти слова с радостью... Но когда вслед за сим претор объявил, что карфагеняне получат сии милости в том случае, если в течение тридцати дней доставят в Лилибей триста заложников, сыновей сенаторов и старейшин, и если покорятся требованиям консулов, послы некоторое время недоумевали, какого рода могут быть требования консулов». (Там же. XXXVI, 4) Кроме того, послов, а затем и всех карфагенян беспокоило то, что о самом городе в решении сената не было сказано ни слова. Но выбора не было. Заложников отослали в Лилибей, откуда их переправили в Рим. О дальнейших требованиях консулов карфагенянам надлежало узнать после высадки римского войска в Африке.
Уже в этот момент можно было бы догадаться об истинных намерениях римлян. Ведь не было никаких причин высаживать войска в стране, изъявившей свою полную покорность. И тем не менее карфагеняне надеялись. На что? Быть может, на милостивое отношение к побежденным, которым так похвалялись римляне, и надо признать, до сей поры не без оснований.
Карфагеняне не препятствовали высадке легионов. К консулам в прибрежный городок Утику явились их старейшины, чтобы узнать о дальнейших распоряжениях. Было велено сдать все оружие, запасенное в городе, а также все катапульты, баллисты и другие орудия, установленные на его стенах. Проследить за полнотой этого изъятия в Карфаген отправились консульские легаты. Последовавшие непосредственно за этим драматические события столь ярко описаны Аппианом, что я предлагаю читателю ознакомиться с ними из первых рук, разумеется, с некоторыми сокращениями.
«Это было замечательное и в то же время странное зрелище, — пишет Аппиан, — когда на огромном количестве повозок враги сами везли своим врагам свое оружие. За ними следовали послы, и члены совета старейшин, и знатнейшие лица города, и жрецы, и другие выдающиеся лица. Они надеялись, что консулы почувствуют к ним уважение или сожаление. Введенные со знаками своего достоинства к консулам, они стали перед ними. И вот Цензорин (так как он был более красноречив, чем его сотоварищ по власти), встав и помолчав долгое время с жестким выражением лица, наконец сказал следующее:
«Что касается повиновения, о, карфагеняне, и готовности до сего времени в отношении заложников и в отношении оружия, мы вас хвалим, но нужно в тяжелых обстоятельствах говорить кратко. Выслушайте с твердостью остальные приказы сената. Уйдите для нашего спокойствия из Карфагена, поселитесь в каком хотите месте вашей страны в восьмидесяти стадиях (около 15 км. — Л.О.) от моря, так как этот город решено срыть до основания».
Когда он это еще говорил, они с криком стали поднимать руки к небу и призывали богов, как свидетелей совершенного над ними обмана. Много горьких поношений высказывалось против римлян или потому, что они уже были готовы умереть, или обезумев, или сознательно раздражая римлян, чтобы вызвать их на оскорбление послов. Они бросились на землю, бились о нее и руками и головами; некоторые разрывали одежды и истязали собственное тело, как охваченные безумием. Когда же наконец у них прекратился острый приступ отчаяния, наступило долгое и полное печали, молчание и они лежали, как мертвые». (Аппиан. Римская История. VIII, 12)
Наконец глава посольства, Баннон, нашел в себе силы обратиться к консулам. Напомнив о соглашении со Сципионом, подтвержденном клятвами, он, согласно Аппиану продолжал так:
«Вы потребовали заложников, и мы отвели вам самых лучших. Вы потребовали оружия и получили все, чего даже после осады взятые города добровольно не отдают. Мы верили обычаю и образу действия римлян. Ведь и сенат прислал нам обещание, и вы, требуя заложников, говорили, что разрешите Карфагену быть автономным, если получите их. Если было прибавлено, что остальные ваши приказания будут сообщены потом, недостойно вас было при требовании дать заложников, требовании совершенно ясном, обещать, что город будет автономным, а затем, как какую-нибудь прибавку к выдаче заложников, потребовать, чтобы сам Карфаген был разрушен. Если вы считаете законным его уничтожить, то каким образом вы оставите его свободным или автономным, как вы говорили?..
...мы взываем, — продолжает Баннон, — ради города древнего, по воле и благоволению богов воздвигнутого, во имя его славы, достигшей такой высоты, ради его имени, известного по всей земле, ради стольких святилищ, в нем находящихся, и богов, не причинивших вам никакого зла: не лишайте их торжественных служений, шествий и праздников, не лишайте гробницы обычных приношений, так как мертвые ни в чем перед вами не виновны... Ведь в самом деле, чего вам еще бояться Карфагена, вам, владеющим и нашими кораблями, и нашим оружием, и вызывающими зависть слонами? А относительно переселения, если кому-либо покажется, что вы предлагаете нам это в утешение, то это — дело невыполнимое, переселиться в глубь материка людям, живущим благодаря морю...
К славе благородства и благочестия стремитесь вы, римляне; во всех делах и счастливых обстоятельствах показываете свою умеренность; и это вы внушаете всем, кого бы вы ни побеждали. Так вот, ради Зевса и богов... да не нарушите вы вашей собственной доброй славы... Ведь много было войн у эллинов и у варваров, много и у вас, о, римляне, против других народов: и никто никогда не разрушал до основания города, протянувшего до битвы руки с просьбой о пощаде и передавшего оружие и детей, и согласившегося перенести любое наказание, какое только есть у людей...»
Это сказал Баннон, но по суровому выражению консулов в течение всей речи было ясно, что они ни в чем не уступят карфагенянам. Когда он кончил, Цензорин ответил: «Относительно того, что предписал сенат, зачем нужно много говорить? Он предписал, и должно быть сделано; и мы не можем отложить исполнение того, что уже давно было приказано исполнить. Если бы мы это приказывали вам как врагам, нужно было бы только сказать и принудить сделать. Когда же это делается, о, карфагеняне, ради общей пользы, может быть, отчасти и нашей, но гораздо более вашей, я не откажусь изложить вам и основания этого решения, если вас можно скорее убедить, чем принудить силой. Это море всегда побуждает вас, помнящих о былой вашей власти и силе на нем, поступать несправедливо и от этого ввергает вас в несчастья... Ведь смотря на море, лишенное кораблей, вы вспоминаете о множестве кораблей, которые вы имели прежде, и о всей той добыче, которую вы ввозили, и в какие гавани вы гордо вступали и наполняли добычей верфи и склады снастей. О чем напоминают вам внутри ваших стен выстроенные казармы для войск, коней и слонов? О чем — рядом с ними выстроенные склады? Какие чувства пробуждает в вас все это? Что другое, кроме огорчения и страстного желания вернуть потерянное, если когда-нибудь представится к этому возможность? Это вполне человеческое чувство, когда люди, вспоминая о бывшем некогда счастье, надеются, что счастье вернется; лекарство же, исцеляющее наши бедствия, — это забвение, которого нельзя получить, если вы не избавитесь от этого зрелища...
Итак, если вы еще стремитесь к власти и, теряя ее, злобствуете против нас и выжидаете подходящего момента, тогда вам нужен этот город и такие гавани, и верфи, и эти стены, выстроенные наподобие лагеря. Но зачем мы будем щадить явно уличенных врагов? Если же вы честно отказываетесь от власти, не на словах только, но и в помышлениях... ну же, покажите это и на деле, переселившись в глубь Ливии, которой вы владеете, и уйдя от моря, от которого вы отказались.
И не притворяйтесь, что вы просите пощадить святилища, алтари, площади и могилы. Из всего перечисленного могилы останутся на месте; если вы захотите, то сможете, приходя сюда, приносить умилостивительные жертвы и совершать жертвоприношения в святилищах, являясь сюда. Остальное мы уничтожим.
Ведь вы приносите жертвы не верфям, не стенам несете умилостивительные дары. И, переселившись, вы сможете создать новые очаги и другие святилища и площади...
Но, говорите вы, есть у вас еще много работников, которые получают свое пропитание, трудясь на море. И об этом мы подумали, чтобы вам было удобно сообщаться с морем, и вы могли бы легко ввозить и вывозить продукты, — ведь мы велим вам отойти от моря не на большое расстояние, а только на восемьдесят стадиев. Ведь мы, предписывающие вам это, находимся от моря на расстоянии ста стадиев. Мы даем вам выбрать место, какое хотите, и, переселившись, жить там по своим законам. Это и есть то, о чем мы говорили раньше, что мы оставим Карфаген автономным, если он будет нам повиноваться, ибо Карфагеном мы считали вас, а не землю». (Там же)
Ну что ж, вполне логично! Но при том условии, что один народ или его правительство имеет право решать за другой народ, каким образом тому следует заботиться о своем счастье.
Карфагеняне отнюдь не собирались вручать такое право римлянам и потому с великой тревогой ожидали возвращения делегации из Утики. Аппиан так продолжает свой рассказ:
«Карфагеняне же — одни смотрели со стен, ожидая, когда прибудут послы, и негодовали, что они так медлят, и рвали на себе волосы; другие же пошли навстречу подходящим, не имея больше сил ждать и побуждаемые скорее узнать результат. Видя суровое выражение приближавшихся, они били себя в лицо и обращались с вопросами, одни ко всем вместе, другие же отдельно к каждому, если кто был дружен или знаком с кем-либо из них, хватая его и расспрашивая о случившемся.
Так как никто не отвечал, они застонали, как бы предчувствуя явную гибель. Бывшие на стене, услышав это, застонали вместе с ними, ничего еще не зная, но как при явном и большом несчастье. Около ворот они едва не задавили послов, бросившись к ним целой толпой, они их едва не растерзали, но послы сказали, что прежде им надо встретиться с советом старейшин. Тогда только одни расступились перед ними, другие же пошли вслед, обуреваемые желанием все узнать. Когда они вошли в здание совета, старейшины удалили остальных и одни заседали среди своих, толпа же стояла вокруг здания. Послы сначала объявили приказание консулов, и тотчас в совете поднялся вопль, и народ, стоявший снаружи, также завопил. Затем, когда послы перешли к тому, что возражали они, защищаясь и прося и убеждая разрешить им отправить послов в Рим, в совете вновь наступило глубокое молчание, все ожидали, желая узнать, чем все кончилось; и народ также молчал. Когда же они узнали, что даже отправить послов им не разрешили, они, горько плача, подняли вопль, и народ ворвался к ним.
И тут начались несказанные и безумные стенания. Так, говорят, менады в вакхическом исступлении произносят дикие, нечеловеческие речи. Одни стали мучать и терзать, как виновников этого коварства, тех из старейшин, которые внесли предложение дать заложников; другие так поступали с теми, кто советовал выдать оружие. Иные бросали камнями в послов, как вестников бедствий, иные разбежались по городу. Тех италийцев, которые еще были среди них, так как это бедствие надвинулось неожиданно и без всякого объявления, они подвергли различным мученьям, приговаривая, что они отплачивают им за заложников, за выдачу оружия и за обман.
Весь город наполнился стенаниями и воплями гнева, страхом и угрозами... Более же всего гнев их разжигали матери заложников: как некие эринии из трагедии, они с завыванием кидались на каждого встречного, напоминая о выдаче детей и о своих предсказаниях, они насмехались над ними, говоря, что боги должны защитить их вместо детей. Небольшая часть, которая еще не потеряла головы, стала запирать ворота и вместо катапульт сносить на стену камни.
Совет в тот же день постановил воевать и объявил об освобождении рабов.
...они почувствовали в себе удивительную перемену и решимость лучше претерпеть что угодно, чем покинуть город. В результате перемены настроения их быстро наполнила бодрость. Все государственные и священные участки и все другие обширные помещения были превращены в мастерские. Работали вместе, мужчины и женщины, и днем и ночью, отдыхая и получая пищу посменно в назначенном размере. Они вырабатывали каждый день по сто щитов, по триста мечей, по тысяче стрел для катапульт; дротиков и длинных копий — пятьсот и катапульт, сколько смогут. Для того чтобы их натягивать, они остригли женщин ввиду недостатка в другом волосе». (Там же. VIII, 13)
Между тем консулы медлят, уверенные в том, что в любой момент могут взять штурмом безоружный город. Они великодушно дают карфагенянам время, чтобы опомниться, осознать свое положение и капитулировать без ненужного кровопролития. Скрывая яростную решимость под маской смирения, к ним прибывают еще раз послы из города с просьбой о 30-дневной отсрочке для посылки ходатаев в Рим. В просьбе отказано, консулы требуют немедленного начала эвакуации, но получив это подтверждение покорности карфагенян, не торопятся выступать из лагеря. Когда же им надоедает ждать и они во главе войска подходят к городу, то с недоумением и растерянностью убеждаются, что ошиблись и обмануты — Карфаген капитулировать не собирается. Римские солдаты не верят своим глазам: город вновь ощетинился катапультами, а на стенах — множество воинов в полном вооружении. Надо всерьез готовить штурм крепости, уже отнюдь не безоружной. А в тылу у римлян 20-тысячная армия карфагенского полководца Гасдрубала, который вдали от города вел боевые действия против Массиниссы и потому не был разоружен. Да и сам старый царь не склонен поддерживать римлян, явившихся нежданно-негаданно в Африку, чтобы завладеть тем, что он считает своей добычей.
В течение года идет безуспешная осада Карфагена, терпят неудачу две попытки штурма крепости. Так же бесславно заканчиваются и походы против Гасдрубала. Единственный римский военачальник, который во всех этих несчастьях проявляет себя наилучшим образом и своим отважным вмешательством раз за разом спасает римское войско от, казалось бы, неминуемых тяжких потерь, — это Сципион Эмилиан. В армии распространяется убеждение, что ему, так же как некогда его приемному отцу, помогают боги, и что Карфаген может быть взят только под его командованием.
Новый консул Луций Пизон воюет не лучше своих предшественников. Карфаген воспрял духом, а в Риме растут возмущение и тревога. Узнав по письмам из армии о доблести Сципиона, народ желает избрать его консулом и поручить ведение войны ему. Тут как раз подходит срок центуриатских комиций. Сципион, которому уже 37 лет, не занимал еще ни одной магистратуры и потому выставляет свою кандидатуру на должность эдила. Но народ настаивает на избрании его консулом. Это шло вразрез с законом, согласно которому кандидаты в консулы должны были предварительно проявить себя на более скромных государственных должностях. Однако, как свидетельствует Аппиан:
«Хотя это было противозаконно и консулы предъявили им закон, запрещающий это, они настойчиво просили и требовали, и кричали, что по законам Туллия и Ромула народ полновластен в выборе властей и в том, чтобы признать не имеющим или имеющим силу всякий из законов относительно них, какой он хочет. Наконец, один из народных трибунов сказал, что лишит консулов права проводить выборы, если они не согласятся с народом. И сенат согласился с народными трибунами отменить этот закон и по прошествии одного года вновь его восстановить...»
Так Сципион, ища эдильства, был выбран консулом. Его коллега Друз стал требовать, чтобы он с ним бросил жребий относительно Ливии (согласно обычаю, два консула, уже после своего избрания, посредством жребия решали вопрос о разделении сфер деятельности; назначение в римскую провинцию Ливия означало продолжение осады Карфагена), и настаивал до тех пор, пока один из народных трибунов не внес предложение, чтобы решение о командовании войском было передано народу; народ выбрал Сципиона». (Там же. VIII, 17)
В этом рассказе Аппиана я бы хотел попутно обратить внимание на характерное для римлян той поры глубокое уважение к законам государства. Хотя симпатии и воля народа очевидны с самого начала, каждый шаг, ведущий к назначению Сципиона командующим, проходит через стадию легитимизации.
Вернувшись в 147-м году под Карфаген на смену Пизону Сципион прежде всего прогнал всех торговцев и маркитантов, облепивших лагерь, пресек грабежи и восстановил суровую римскую дисциплину в войске. Ему удалось полностью окружить и отрезать город от подвоза продовольствия. Несколько попыток штурма, предпринятые в том же году закончились тоже неудачно — карфагеняне защищались отчаянно. Но голодная зима подорвала их физические силы. Весной следующего года, возведя вал вровень со стенами, римляне сумели ворваться в город и после шестидневных уличных боев овладели им. Последние 30 тысяч защитников Карфагена отступили в наскальную крепость, что примыкала к южной оконечности городской стены. Положение их было безнадежным. Сципион обещал сохранить им жизнь, и они сложили оружие. В храме Асклепия, возвышавшемся над крепостью и над скалой, укрылся принявший к тому времени командование гарнизоном Гасдрубал с женой и детьми, а также 900 римлян-перебежчиков. Последние не могли рассчитывать на снисхождение и решили убить себя сами, а храм подожгли.
Гасдрубал же бежал к Сципиону и молил о пощаде у его ног. По-видимому, эта неприглядная сцена разыгралась перед самим храмом, так как, если верить Аппиану жена Гасдрубала была ее свидетельницей, стоя на крыше горевшего храма. Описание Аппиана подозрительно похоже на сцену из древнегреческой трагедии, но поскольку на этом воспитывалось не одно поколение римлян, я позволю себе привести здесь небольшой фрагмент из него:
«Говорят, что жена Гасдрубала, когда огонь охватил храм, став напротив Сципиона, украшенная насколько можно в несчастии, и поставив рядом с собой детей, громко сказала Сципиону «Тебе, о, римлянин, нет мщения от богов, ибо ты сражался против враждебной страны. Этому же Гасдрубалу, оказавшемуся предателем отечества, святилищ, меня и своих детей, да отмстят ему и боги Карфагена, и ты вместе с богами». Затем, обратившись к Гасдрубалу, она сказала: «О, преступный и бессовестный, о трусливейший из людей! Меня и моих детей похоронит этот огонь; ты же, какой триумф украсишь ты, вождь великого Карфагена? И какого только наказания ты не понесешь от руки того, в ногах которого ты теперь сидишь?» Произнеся такие оскорбительные слова, она зарезала детей, бросила их в огонь и сама бросилась туда же». (Там же. VIII, 19)
Вот такая жестокая семейная сцена. Впрочем, грозные пророчества супруги не сбылись: Гасдрубал был интернирован в Италии в условиях более или менее сносных.
От боев на улицах и пожаров Карфаген, конечно, пострадал, но в основном город был еще цел. По-видимому, Сципион хотел сохранить его. Во всяком случае он направил в сенат специальный запрос по этому поводу, хотя решение сената разрушить Карфаген было принято, как мы помним, еще до начала военных действий. Но «неистовый» старик Катон умер в 149-м году, не увидев исполнения своего страстного желания, и можно было надеяться на пересмотр решения. Кое-кто из сенаторов склонялся к этому, но все же сенат приказал Сципиону сровнять Карфаген с землей, а затем перепахать и предать проклятию само место, на котором он стоял. Для наблюдения за исполнением этого приказа была даже послана специальная комиссия в составе десяти знатнейших сенаторов. Надо полагать, что, кроме уже упомянутого навязчивого страха появления нового Ганнибала, решение сената было принято под давлением римских купцов, стремившихся навсегда удалить могучего конкурента с морских путей в Средиземном море.
Семнадцать дней горели развалины Карфагена. Глядя на это пожарище, Сципион как-то сказал находившемуся с ним рядом Полибию:
«Хорошо, но я терзаюсь страхом при мысли, что некогда другой кто-нибудь принесет такую же весть о моем отечестве». «Трудно сказать, — пишет по этому поводу Полибий, — что-либо более здравое и мудрое. На вершине собственных удач и бедствий врага памятовать о своей доле со всеми ее превратностями и вообще среди успехов ясно представлять себе непостоянство судьбы — на это способен только человек великий и совершенный, словом, достойный памяти истории». (Полибий. Всемирная История. XXXIX, 5)
А в римском лагере и в самом Риме, конечно же, царило бурное ликование. Тем более что все имущество города, кроме золота и серебра, отправленных в государственную казну было отдано солдатам на разграбление. Жителей продали в рабство. Себе лично римский полководец из военных трофеев не взял ничего.
Отношение окружающего цивилизованного мира (а это была в первую очередь Эллада) к разрушению Карфагена было двояким. Об этом вспоминает тот же Полибий:
«...одни одобряли поведение римлян и называли принятые ими меры мудрыми и для владычества их полезными. Ибо они уничтожили грозившую им постоянно опасность и истребили государство, которое неоднократно оспаривало у них первенствующее положение, могло бы и теперь еще, при благоприятных обстоятельствах, вступить в борьбу с ними. Тем самым римляне обеспечили владычество за родным городом, что и свидетельствует о высоком уме и дальновидности народа.
Другие возражали на это, уверяя, что не ради таких целей приобрели римляне господство над миром... В самом деле, раньше, продолжают возражатели, римляне воевали с кем бы то ни было до тех пор, пока противник не был побежден и не приходил к сознанию, что необходимо подчиниться римлянам и исполнять их волю. Теперь войной с Персеем они открыли новый образ действий, когда уничтожили до основания македонское царство, а в наши дни увенчали его уничтожением Карфагена». (Там же. XXXVII, 1)
В 145-м году Сципион Эмилиан вернулся в Рим и на добрых десять лет устранился от военных дел да и от политической деятельности. В эти годы он занят, если можно так выразиться, просветительской деятельностью. Недаром же он с ранних юношеских лет был книгочеем и вслед за своим родным отцом поклонником эллинистической философии и культуры. Вокруг него собирается кружок интеллектуалов того времени.
Но об этом позже, а пока коснемся еще одного события, одновременного с разрушением Карфагена, события не столь существенного в плане военно-стратегическом, но столь же многозначительного для понимания эволюции внешней политики Рима. В том же самом 146-м году римлянами был разрушен богатейший и красивейший греческий город Коринф. Предыстория этого события вовсе не адекватна такому финалу.
Греческие города и союзы городов, находившиеся после III Македонской войны под опекой римлян, непрерывно враждовали между собой. В частности, ахейский союз, объединявший ряд городов южной Греции, включая Коринф, конфликтовал со Спартой, которая одно время даже была в него принудительно включена. Спартанцы жаловались в Рим на притеснения со стороны ахейских вождей. В 147-м году сенат отправил в Ахейю посольство, чтобы примирить враждующие стороны. Но вожаки съезда ахейцев, решив, что римляне прочно увязли в войне с Карфагеном и в Испании, подбили шумное собрание черни в Коринфе на то, чтобы с оскорблениями прогнать уполномоченных римского сената.
Ахейцы спровоцировали войну с Римом! Но, как говорится, «не по Сеньке шапка». В первых же столкновениях с римскими легионами греки либо бежали без боя, либо терпели сокрушительные поражения. Ввиду терзавших Грецию бесконечных междоусобиц, это, быть может, было для нее и к лучшему. Полибий упоминает поговорку того времени, ходившую среди греков: «Мы не были бы спасены, если бы не были быстро сокрушены». (Там же)
Как же поступили римляне с побежденными? Союзы были распущены, правление в городах передано советам имущих граждан. Они были обложены не очень тяжкой данью и, вообще говоря, подчинены римскому наместнику в Македонии. Но вместе с тем им были оставлены формальный суверенитет, самоуправление и право собственного суда. Но совсем иная судьба постигла Коринф. По прямому распоряжению сената город был полностью разрушен, его жители проданы в рабство, а место, где стоял этот, пожалуй, самый процветающий город Греции, было предано проклятию. Сходство с судьбой Карфагена бросается в глаза. И оно, конечно же, не случайно. Коринф был вторым мощным соперником римских купцов в морской торговле. Его неоправданная гибель подтверждает возросшее влияние этой алчной и бессердечной части римской знати на внешнюю политику Вечного Города.
Теперь, для того чтобы закончить рассказ о Сципионе Эмилиане, нам надлежит вернуться в Испанию. Но, как и раньше, перед осадой Карфагена, мне придется на время оставить Сципиона и обратиться к событиям на Пиренейском полуострове, предшествовавшим его прибытию туда. Как это ни печально, но в этих событиях вновь обнаружат себя малопривлекательные черты нового облика Рима, каким он теперь являет себя покоренным народам.
Мы помним, что Сципион уехал из Испании в 150-м году. Восстание кельтиберов было подавлено еще Марцеллом. Его сменил консул Лициний Лукулл, дед того Лициния Лукулла, который прославится своими пирами. Этот римский вельможа принадлежал к совсем иному типу государственных деятелей, чем те персонажи, на которых до сих пор было сосредоточено наше внимание. Без серьезных к тому оснований Лукулл вторгся в пределы независимого кельтиберийского племени ваккеев, не участвовавшего в восстании, разбил их в сражении и загнал в город.
«На следующий день старейшины ваккеев с венками на головах и неся, как молящие, ветви оливы, явились к Лукуллу и вновь спросили его, что им сделать, чтобы заслужить его дружбу. Он потребовал от них заложников и сто талантов серебра и приказал, чтобы их всадники участвовали в его походах. Когда он все это получил, он потребовал, чтобы ваккеи приняли в город гарнизон. Когда они и на это согласились, он ввел туда 2000 отборных по своей доблести воинов, приказав им, как только войдут в город, занять стены. Когда этот двухтысячный отряд занял стены, Лукулл ввел в город все остальное войско и трубным звуком дал знак к поголовному истреблению жителей, не щадя ни пола, ни возраста. Они, взывая к слову чести и к богам, свидетелям клятв, и понося римлян за неверность и предательство, погибали жестокой смертью. Из 20000 человек через ворота на крутой стороне города бежали очень немногие. Город Лукулл разграбил и тем покрыл имя римлян позором и поношением». (Аппиан. Римская История. VI, 52)
Заметим особо, что операция Лукулла была предпринята без приказания сената и римского народа. Тем не менее, он не был даже привлечен к ответственности. Этот эпизод отнюдь не был случайным. Аналогичное преступление было совершено в следующем году, там же в Испании, другим римским военачальником, Сервием Гальбой. Он воевал на юго-западе страны, в Лузитании. Старейшины лузитанцев шлют послов к Гальбе, предлагая римлянам мир и дружбу В ответ на это римский полководец для закрепления дружбы обещает им передать плодородные земли взамен окрестностей их города, малопригодных для земледелия. Далее, согласно описанию того же историка, произошло следующее:
«Надеясь на эти обещания, они покинули места, где находились, и собирались туда, куда им приказал Гальба. Он разделил их на три части и, указав каждой из этих частей отдельную долину, велел ждать его на этом месте, пока он не придет и не укажет им место для поселения. Когда он прибыл к первой части, он велел им, как друзьям, сложить оружие, а когда они сложили, он окружил их рвом и, послав на них часть своих воинов с мечами в руках, велел всех избить, хотя они плакали и взывали к имени богов и к святости данных клятв. Таким же образом со всей поспешностью он уничтожил и вторую, и третью часть, стараясь, чтобы они не узнали о беде, постигшей предшествовавших... Немногие из них бежали. В числе их был Вириат, который немного спустя стал вождем лузитанцев...
Тогда же Гальба, о котором я говорил, являясь еще более алчным, чем Лукулл, немногое из добычи раздал солдатам, немного дал друзьям, все же остальное присвоил себе, хотя он являлся богатейшим из всех римлян. Говорят, что и во время мира он не отказывался от лжи и клятвопреступлений во имя наживы. Ненавидимый всеми и привлеченный к суду он спасся от осуждения благодаря своему богатству». (Там же. VI, 60)
Наверное, из этих двух примеров читатель уже сделал вывод, что далеко не все римские военачальники и государственные деятели были похожи на Сципионов, Катона или Павла. Он вправе усомниться и в нравственном достоинстве сената той поры. К тому можно указать еще ряд оснований, но я хочу вернуться к судьбе Сципиона Эмилиана. Для этого надо хотя бы бегло коснуться дальнейшего развития событий в Испании.
Упомянутый Аппианом Вириат, бывший пастух, организовал из далеко не усмиренных, а, напротив того, ожесточившихся лузитанцев партизанские отряды. Вириат был человеком необычайной энергии и военного таланта. Ему удалось нанести, одно за другим, ряд тяжелых поражений римлянам, так что вскоре он был признан вождем всех лузитанских племен, хотя и сохранил при этом облик простого крестьянина. Слава его разнеслась по всей Испании. В нем видели героя, который освободит наконец страну от чужеземного владычества. Партизанская война разрасталась и протекала столь успешно для инсургентов, что в 141-м году римский сенат был вынужден признать лузитанское государство суверенным, а Вириата — его царем.
Но уже в следующем году, вероломно нарушив все клятвы, римляне опять вторглись в Лузитанию. Партизанская война возобновилась, и неизвестно, как она развивалась бы дальше, если бы Вириат не был в 139-м году предательски заколот во сне двумя приближенными, решившими таким образом добыть гарантию собственного спасения.
Между тем успехи Вириата на юге еще в 143-м году побудили вновь восстать кельтиберов на севере Испании. Посланное против них римское войско под командованием опытного консула Квинта Метелла действовало успешно и вскоре привело к повиновению всю провинцию, кроме хорошо укрепленного города Нуманция. Сменившие Метелла полководцы были бездарны, а нумантинцы оборонялись с неослабевающим упорством. В то же самое время в римском войске с каждым годом осады нарастали распущенность, недисциплинированность и трусость. Одного слуха, притом ложного, что к нумантинцам на помощь идут племена кантабров и ваккеев, было достаточно для того, чтобы вся римская армия самовольно ночью бросила лагерь и ушла. Нумантинцы догнали и окружили римлян, но удовольствовались заключением мира, скрепленного клятвой всех офицеров. Однако сенат это соглашение не ратифицировал, и осада Нуманции вскоре возобновилась. Впрочем, в силу тех же причин, разложения войск и бездарности командующих, успехи в ней вплоть до 135-го года были под стать всему предыдущему.
Наконец и римский сенат осознал постыдность такой ситуации, и укрощение провинциального испанского города было поручено победителю Карфагена. Сципион Эмилиан был избран консулом. Впрочем, разрешения на набор нового войска ему не дали, полагая, видимо, что столь великий полководец может обойтись и тем контингентом, что вот уже столько лет бесплодно околачивается у стен Нуманции. Как утверждает Аппиан:
«Он взял с собой, по разрешению сената, только добровольцев, присланных ему в силу личного расположения отдельными государствами и царями, а из Рима — своих клиентов и друзей, человек пятьсот, которых, соединив в один отряд, называл «отрядом друзей». (Там же. VI, 84)
Нелишне заметить, что это первый случай создания личной гвардии командующего.
«Прибыв в лагерь, — продолжает Аппиан, — он выгнал оттуда всех торговцев, проституток, прорицателей и всяких жертвоприносителей, к которым воины постоянно обращались, став суеверными вследствие частых неудач... Он велел также продать и повозки, и все то лишнее, что накладывалось на них, а также и вьючных животных, кроме тех, которых он лично разрешил оставить. Из посуды для постоянного употребления он не позволил никому иметь что-либо, кроме вертела, медного горшка и одной чашки. Пищей он назначил им мясо вареное и жареное. Пользоваться мягкими постелями он запретил, и первый спал на простой подстилке...
Таким образом он скоро вернул воинов к выдержке, приучил их к уважению и страху к себе. Он был малодоступен и не склонен оказывать милости, особенно противозаконные. Он неоднократно говорил: вожди суровые... полезны для друзей, а легко поддающиеся и любящие давать и получать подарки — для врагов. Последних войско любит, но их не слушается, у первых же войско сурово, но повинуется и готово на все». (Там же. VI, 85)
Помимо дисциплины, необходимо было восстановить и физическую форму воинов — некогда знаменитую выносливость римских легионеров. Этого Сципион добивался «дедовским» способом:
«Но даже и теперь, — свидетельствует далее Аппиан, — он не решился с таким войском вступить в открытый бой с врагами, не укрепив его большими трудами. Для этого он проходил все ближайшие равнины и каждый день, один за другим, устраивал лагерь и разрушал его, выкапывал очень глубокие рвы и опять их засыпал, строил высокие стены и вновь сносил, сам от зари до самого вечера надзирая за всем...
Когда Сципион решил, что войско у него подвижно, слушается его и легко переносит труды, он передвинулся и стал близ Нуманции». (Там же. VI; 86, 87)
Осада была организована исключительно тщательно. Изоляция от внешнего мира была полной: город был окружен стеной, на которой через каждые 120 шагов возвышались башни, откуда велось неусыпное наблюдение за осажденными.
«Сципион, — пишет Аппиан, — по всему укреплению расположил близко один от другого вестников, которые и ночью, и днем, получая друг от друга сообщения, должны были доносить ему, что происходит, а по башням дал приказ, если что случится, первая башня, на которую будет сделано нападение, должна поднять знак, и тот же знак поднимут все остальные, когда заметят, что у первой начался бой... Вместе с местными силами у него было до 60000 войска. Половину он назначил для охраны стены и на всякий случай, если где явится необходимость, а 20000 должны были сражаться у стен, если это будет нужно, и остальные 10000 были в запасе. И для них, для каждого, было назначено определенное место; менять его без разрешения было запрещено. Каждый должен был бежать к назначенному ему месту, когда давался знак какого-либо наступления. С таким старанием и точностью все было устроено Сципионом». (Там же. VI, 92)
Благодаря такой организации все попытки нумантинцев отчаянными вылазками разрушить стену и прорвать блокаду неизменно оканчивались неудачей. В конце концов под давлением голода Нуманция капитулировала. Жители ее были проданы в рабство, город разрушен, а земли его поделили между соседями. Это произошло в 133-м году
На следующий год Сципион Эмилиан вернулся в Рим. Спустя три года, когда ему едва исполнилось 55 лет, он был задушен в собственной постели. Подоплека этого явно политического убийства в свое время раскрыта не была. Можно высказать некоторое предположение на этот счет, но оно будет яснее и уместнее в следующей главе.
Глава VIII Братья Гракхи (133-121 гг.)
Рим последней трети II века до Р.Х. (быт и нравы)
Драма в двух действиях, свидетелями которой мы вскоре станем, разыгралась не на полях сражений, а в самом Риме. Пока ее герои еще не появились на сцене, присмотримся к декорациям, в которых предстоит им действовать. Для этого, читатель, я приглашаю тебя вновь совершить мысленное путешествие в Рим, подобное тому, что мы проделали почти полтора столетия назад — в начале 4-й главы.
По плитам Священной дороги мы опять ступаем на форум. Слева здание Регии, круглый храм Весты, храм Поллукса, за ним ряд лавок, вдалеке, у подножия Капитолия храм Сатурна. Все нам знакомо. Зато справа от Дороги многое изменилось. Взгляд поражает грандиозное сооружение, о котором мы уже наслышаны. Это базилика Эмилия. Цензор Эмилий Лепид построил ее в 179-м году.
Чтобы охватить взглядом весь фасад здания, придется перейти на левую сторону форума. Непосредственно на площадь длинным рядом колонн выходит крытая галерея. Она тянется метров на восемьдесят, не меньше. В глубине галереи, вплотную друг к другу, сплошной аркадой идут лавки. Час еще ранний, форум почти пуст, но торговцы уже сняли щиты, закрывавшие на ночь проемы лавок, и на каменных прилавках-витринах в тени поблескивает серебряная посуда, просвечивают венки, корзины с фруктами и цветами. Поверх галереи идет ряд ступеней. Это — трибуна, откуда народ в дни больших праздников следит за боями гладиаторов на форуме (специальные амфитеатры будут построены много позже). За трибуной видна верхняя часть самой базилики, и можно оценить ее величину. Еще большее впечатление мы получим, если через один из четырех проходов, оставленных между лавками, войдем внутрь. Колоссальный объем высокого и практически пустого зала двумя рядами колонн разделен на три нефа. Средний из них, более широкий, чем боковые, хорошо освещен рассеянным светом, падающим из высоко расположенных окон. Находящийся прямо перед нами боковой неф — двухэтажный. С его антресолей удобно видеть средний неф, когда в нем толпится народ. Так бывает в дни громких судебных процессов, особенно если в прениях сторон принимают участие популярные ораторы и адвокаты.
Впрочем, свободное пространство базилики столь велико, что в других ее местах граждане могут в то же самое время предаваться самым разнообразным занятиям. Тут заключаются солидные контракты на оптовую поставку товаров, там разгораются ученые споры или политические дебаты. А рядом кипят страсти азартных игр (на каменных плитах пола до наших дней остались следы геометрических фигур, куда, вероятно, забрасывали монеты). Солидные граждане прогуливаются, важно беседуя, а молодежь затевает игры. Базилика является продолжением форума, точнее — его неотъемлемой частью, защищенной от жаркого летнего солнца или от дождя.
Римские базилики ранней постройки были чисто прямоугольными в плане. Позже к ним по концам стали пристраивать полукруглые абсиды, где заседали трибуналы. Большие размеры базилик диктовались их общественным предназначением. Возведение построек такого масштаба потребовало использования иных, чем в Греции, конструктивных приемов и материалов. Вместо прямой деревянной балки в качестве перекрытия римляне используют давно заимствованную у этрусков конструкцию арки, сложенной из камней или кирпича. Любопытно, что арка широко применяется именно как элемент конструкции, но не декора — нередко римские архитекторы стараются ее замаскировать накладными деталями классического греческого ордера. Важнейшую роль в постройках из кирпича играет использование очень надежного и прочного связующего материала, известного под названием «римского бетона», формируемого на основе извести и особого (путеольского) песка. С середины I века от Р.Х. этот бетон будет играть роль не связующего, а основного строительного материала для грандиозных сооружений.
Так что неискушенному туристу, впервые с трепетом приближающемуся к древнеримским руинам, приходится не без некоторого разочарования убедиться в том, что стены общественных зданий Рима, а, как правило, и колонны, их украшавшие, не складывались или высекались из мраморных блоков, а возводились из хорошо сцементированного, тонкого и прочного кирпича. Разумеется, наружную поверхность зачастую облицовывали мягким камнем или оштукатуривали и белили. И если император Август уже в I веке от Р.Х. с гордостью заявлял, что он принял Рим кирпичным, а оставляет его мраморным, то это означало лишь, что при нем для облицовки зданий стали широко использовать дорогой мрамор. Капители колонн и прочие архитектурные украшения были, как правило, лепные или вырезаны из мягкого камня.
Раз уж я отвлекся для подробного описания базилики, упомяну и о других, тоже специфически римских сооружениях — портиках. Вообще-то портики украшали площадь агоры еще в древней Греции. Но это были своего рода здания, помещения. Специфика римских портиков заключалась в их протяженности. Чаще всего это длинные, открытые с одной стороны (иногда сквозные) галереи шириной в несколько метров, идущие вдоль набережной реки или ограждающие площадь. Два ряда колонн, легкая задняя стенка и плоская крыша над ними — вот и все. Защита от дождя и обеспечение тени, располагающей к приятной прогулке и беседе. Впрочем, портиком, как мы помним, называли и несущую фронтон колоннаду перед входом в храм или иное общественное здание.
Конструктивные возможности арки естественно использовались римлянами для сооружения мостов. К концу II века до Р.Х. каменные мосты соединяли Город с правобережьем Тибра как через остров, лежащий напротив Капитолийского холма, так и несколько ниже его по течению реки — напрямую. Этот последний мост был построен в том же 179-м году, что и базилика, и назывался тоже Эмилиевым. Но особенно целесообразно арочные конструкции использовались при строительстве водопроводов. К двум старинным римским акведукам постройки 312-го и 272-го годов в 144-м году добавился еще один — Марциев — длиной более 90 километров. Не надо думать, что римские водопроводы на всем своем протяжении были подняты на арочные опоры. Основную часть пути от источника до Города вода проходила по укрытым в земле каменным руслам и трубам из бетона. Но те километры, которые, ввиду особенностей рельефа, необходимо было вести поверху, экономнее всего было перекрывать с помощью множества вплотную прилегающих друг к другу огромных арок. В местах пересечения особо глубоких ущелий арки шли в два и три этажа, так что суммарная высота акведука могла достигать 25-30 метров.
Возвратившись из Эмилиевой базилики на еще пустынную площадь форума, взглянем на Капитолийский холм и обратим внимание на не замеченный нами ранее небольшой древний храм, прилепившийся к его правому склону Это храм Юноны Монеты (указующей), подательницы добрых советов. Сооружение храма относится к легендарным временам первого нашествия галлов. Своими советами богиня в ту трудную для Рима пору помогала диктатору Марку Камиллу. По другой версии легенды, она однажды предупредила римлян о предстоящем землетрясении. Сейчас у богини консультируются римские матроны. Нас, конечно, заинтригует вопрос о связи названия храма с обозначением денежной единицы. Такая связь существует, но не функциональная, а, так сказать, территориальная. Мастерская, где государственное казначейство Рима чеканило деньги, располагалась рядом с храмом. В конце II века до Р.Х. здесь чеканили бронзовые массивные ассы весом около 27 граммов, крошечные серебряные сестерции весом около грамма и немногим больше по размеру серебряные денарии. Хотя форма монет в ту пору была лишь приблизительно круглая, разнообразные рельефы, выбитые на обеих сторонах, были четкими и довольно сложными по рисунку.
Раз речь пошла о деньгах, есть повод хотя бы вкратце обрисовать финансовую систему поздней Римской республики. От регулярных налогов любого рода римские граждане были свободны, но в случае необходимости, например, для набора большого войска, сенат мог вводить единовременное обложение в размере до трех процентов стоимости имущества, зафиксированного при цензовой переписи. Зато провинциалы и иноземцы, проживавшие в Риме, должны были платить подушный налог постоянно. Довольно высоким налогом (до 10% от стоимости) облагалось освобождение раба. Казна пополнялась за счет предоставления в аренду гражданам или их объединениям государственной собственности: дорог, рынков, складов и пристаней, а также за счет таможенных сборов в портах и на границах всего подвластного римлянам мира. Регулярные доходы поступали от эксплуатации рудников, солончаков, каменоломен и захваченных земель. Их тоже сдавали арендаторам. Но, разумеется, главные поступления в государственную казну шли за счет военных трофеев, продажи в рабство пленных и контрибуций, которыми облагались побежденные народы. Эту последнюю, весьма прибыльную миссию по поручению цензора брали на себя сообщества римских публиканов из сословия всадников. Они вносили авансом в казну всю сумму контрибуции или годового налога, а потом с лихвой выколачивали ее у населения, наращивая процентами за несвоевременную уплату.
Расходы государства были связаны, в первую очередь, с содержанием армии, закупкой оружия, строительством укреплений и военных кораблей. Затем — с ремонтом и восстановлением храмов, цирков, дорог, мостов, водопроводов и прочих общественных сооружений. Казна оплачивала и новые постройки общегородского назначения. Их осуществляли на подрядной основе строительные корпорации, отбиравшиеся по конкурсу цензорами. Наконец, немалые государственные средства расходовались на закупку хлеба для малоимущих граждан Рима. Все магистраты выполняли свои обязанности бесплатно, но мелким чиновникам платили жалованье, а государственных рабов покупали и кормили за счет казны.
Бюджета и баланса не составляли, но каждая пара цензоров, вступая в должность, ревизовала государственную кассу и делала свои наметки расходов на пятилетие. Неординарными выплатами распоряжался только сенат. Всю бухгалтерию и общий догляд за казной вели два ежегодно переизбираемых квестора казначейства. Банковское дело (кредит, хранение, перевод и вложение частных средств в доходные предприятия) находилось в руках солидных частных банкиров — аргентариев. Чиновники государства следили за соблюдением утвержденных законом норм кредита, проверяли конторские книги — календари (уплата процентов производилась в первые дни месяцев — календы). Банкротства были редки, наказывались лишением гражданских прав с конфискацией имущества.
Но оставим эту сухую материю и продолжим нашу прогулку по утреннему Риму. Поднимемся для лучшего обзора на Палатинский холм. Он примыкает к началу форума слева от Священной дороги, сразу за домом весталок. Это самый престижный район города. Здесь живет по большей части сенатская аристократия. Знать рангом пониже и богатые всадники облюбовали для себя холмы, прилежащие к форуму справа: Эсквилин — позади Эмилиевой базилики и Квиринал — чуть дальше вперед, за сенатской курией. Народ попроще и беднота теснятся на Авентинском холме, что расположен дальше от форума, позади Палатинского холма.
На Палатине выберем самый большой и богатый дом, явно недавней постройки, и попробуем проникнуть внутрь. Наш выбор продиктован не пренебрежением к условиям жизни граждан более скромного достатка, а тем, что римские историки рассказывают почти исключительно о деяниях людей влиятельных, знатных и богатых. Поэтому имеет смысл представить себе обстановку, в которой жили именно они.
Хозяин дома, важный сенатор, только что отпустил своих клиентов, являвшихся к нему с утренним приветствием. Узнав, что мы издалека, он не без гордости показывает нам свое роскошное жилище. Через полвека таких домов в Риме будет уже несколько десятков, а сейчас это один из первых.
Пройдя в прихожую, мы попадаем в традиционный для римского дома атриум с прямоугольным бассейном в центре и такой же формы световым отверстием в потолке над ним. Справа и слева — дверные проемы, ведущие в зимние спальни. Атриум утратил былое обличье жилого помещения. Это парадная приемная. Он просторен, высок, потолок опирается на четыре облицованные мрамором колонны, камнем отделаны стены и пол. Вместо домашней мебели — скульптуры. Греческие подлинники или, может быть, их искусно выполненные копии. На стенах — картины. Мифологические сюжеты и сражения.
Еще подходя к дому, мы заметили, что он в передней своей части двухэтажный. Через световое отверстие атриума видны окна второго этажа, глядящие внутрь. Там расположены комнатки для гостей и прислуги. Кстати говоря, наружных окон нет по всему периметру большого здания. В помещения первого этажа свет проникает только сверху.
Следуя традиции, прямо за атриумом располагается таблиниум — комната хозяина дома. По двум сторонам от нее библиотека и зимняя столовая (триклиний). Широкий проем, ведущий из атриума в таблиниум, можно задернуть кожаной портьерой. С противоположной стороны другая портьера прикрывает выход в заднюю, греческую по своей структуре часть дома — перистиль. Впрочем, если хозяин уединился в таблиниуме для работы или деловых переговоров, чтобы ему не мешать, из атриума в перистиль можно пройти по боковому коридору.
В перистиле глазу открывается живая картина еще одного бассейна, но уже под открытым небом, окруженного колоннадой портика. Вокруг бассейна, на грядках и клумбах — цветы. В его центре или в специальной нише в глубине перистиля — фонтан. Вдыхая сладкий аромат цветов и рассеянно внимая негромкому журчанию воды, приятно в жаркий летний день прогуливаться с близкими друзьями в прохладной тени портика и неспешно беседовать о предметах благородных и возвышенных. Перистиль — семейная часть дома. Двери из портика, прикрытые легкими цветными занавесками, ведут в небольшие жилые комнаты, летние спальни и триклинии. Несколько поодаль от них, в дальней стороне перистиля, расположены кухня и маленькая банька. Ее топят раз в неделю. В остальные дни довольствуются мытьем рук и ног холодной водой.
Для простого народа еще с III века в городе существуют платные бани — убогие и темные. Много позже, уже в императорскую эпоху, Рим украсится огромными и роскошными общественными банями.
Наиболее просторное и лучше других украшенное помещение перистиля — салон (экседра). Здесь, удобно расположившись на диванах, компания друзей может слушать и обсуждать приготовленную хозяином речь в суде или сенате. За салоном, но еще внутри дома — небольшой фруктовый сад. Общая площадь здания, наверное, не меньше тысячи квадратных метров, считая и лавки, которые встроены в него спереди, рядом со входом, но не сообщающиеся с внутренними помещениями. Лавки хозяин сдает внаем.
Стены жилых комнат в перистиле украшены орнаментами и сценками на мифологические сюжеты. Цветная мозаика на полах: геометрические узоры, стилизованные изображения животных и птиц. Мебели немного, но она уже не просто служит своему назначению, но и достойно украшает богатое жилище. Ложа для еды, чтения и письма, табуреты и кресла — все украшено резьбой по дереву, инкрустациями из слоновой кости, накладными барельефами и украшениями из бронзы и серебра. Лапы и головы зверей, прихотливые переплетения растений, фигурки богов, целые сценки.
Мягкие, набитые шерстью или пухом подушки и матрацы одеты дорогими тканями. На ложах — яркие расшитые покрывала. Резервуары масляных светильников, подвесных или стоящих на полу, украшены чеканкой по меди. В атриуме на массивном каменном столе для обозрения посетителей выставлена парадная серебряная посуда: большие и малые блюда, кубки, амфоры, кувшины. Кстати сказать, ничто так ярко не иллюстрирует эволюцию «потребностей» и пристрастий римской знати, как отношение к серебряной посуде. В начале II века до Р.Х. она была под полным запретом цензоров. На весь Рим имелся один серебряный сервиз, который сенаторы передавали друг другу для торжественных приемов послов с Востока. Эмилий Павел еще отказывается принимать у греков в подарок серебро. Его сын, Сципион Эмилиан, владеет серебряной посудой общим весом в 32 фунта, а у его племянника, согласно цензу (где-то около 120-го года), уже тысяча фунтов серебра. Но особенно ценится тонкое искусство серебряной скульптуры, украшающей посуду.
Столики, которыми пользуются в жилых помещениях, легкие, деревянные, тоже резные или инкрустированные. Некоторые — на трех ножках. Обеденный стол в триклинии — квадратный. Совсем недавно с Востока пришел обычай возлежать около обеденного стола. Эта вольная поза разрешена только мужчинам. Позже в холостяцких компаниях такой же свободой будут пользоваться куртизанки, а во времена империи — и матроны. Три больших прямоугольных ложа своими длинными сторонами прилегают к столу с трех сторон. Четвертая открыта для доступа рабов, сменяющих блюда. Плоскость каждого ложа слегка наклонена — ближний к столу край приподнят. Обедающие полулежат, опираясь локтем на подушки, по трое на каждом ложе. Таким образом, каждый из девяти сотрапезников может дотянуться рукой до блюда или кубка, стоящего на столе. Свою маленькую тарелочку он держит в другой руке. Едят ложками и руками, вилок еще нет. Рабы нарезают мясо, колбасу или пирог, разделывают птицу и рыбу, наливают вино в кубки. Стол в триклинии очень невелик, поскольку все равно только края его доступны для полулежащих гостей. Поэтому обед состоит из нескольких перемен, а иными блюдами рабы обносят непосредственно. Так же, как и водой для ополаскивания пальцев. У каждого из обедающих хозяйская или принесенная с собой салфетка. В своей можно унести кое-что из угощения с собой, и приглашенные в богатый дом клиенты такой возможностью не пренебрегают.
Обед — кульминация дня и завершение его деловой части. Это единственная основательная трапеза в течение суток и вместе с тем время отдыха, развлечения и общения с близкими людьми. Он начинается часа в три пополудни (во времена ранней республики обедали раньше). Званые обеды и дружеские пирушки иногда продолжаются до ночи, обед в кругу семьи длится пару часов и после него уже не едят, ведь спать ложатся с заходом солнца. Зато и встают с рассветом.
Первый, ранний завтрак даже у состоятельного римлянина очень скромен: хлеб, белый или черный (его покупают в пекарне), овечий сыр, молоко, фрукты, немного вина. После краткого приема явившихся с приветствием клиентов, вольноотпущенников и рабов для влиятельного гражданина Рима наступало время политических контактов, деловых переговоров или совещаний с управляющими имений и доверенными лицами. Совещания и переговоры происходили обычно дома, в таблиниуме, а контакты — в общественных местах, под портиками или в ходе обмена визитами с людьми своего круга. Кстати, о времени встречи можно было договориться вполне определенно. Со II века до Р.Х. в городе имелись солнечные часы, а веком позже стали пользоваться и водяными. Световой день был разбит на 12 часов. Их продолжительность, естественно, менялась от примерно 75 минут в разгар лета до 45 минут в середине зимы, но так, что седьмой час наступал всякий раз ровно в полдень. Скорость истечения воды в часах соответственно регулировали. В богатых домах, на форуме и в базилике специальный раб выкрикивал наступление каждого часа.
Второй завтрак приходился на предполуденные часы и был тоже скромным: сыр, различные овощи, фрукты, хлеб, холодное мясное или рыбное блюдо — быть может, оставшееся после вчерашнего обеда. Перекусывали наскоро, чтобы не прерывать занятия делами, которые обычно заканчивали около полудня. Летом, в знойные часы дня отдыхали. Время до обеда состоятельные люди посвящали гимнастике или прогулкам и общению. Впрочем, чиновники магистратуры работали, а лавки после сиесты открывались вновь и работали дотемна.
В конце II века обеды, даже званые, выглядят еще умеренно. Гастрономические ухищрения появятся в богатых домах позже — в конце Республики, а в императорском Риме достигнут немыслимого изыска. Пока же обед состоит обычно из трех перемен. Закуска: яйца, травы и овощи, салаты, соленая рыба и другие соления. К ней — виноградный сок или немного вина, смешанного с медом. Затем горячие блюда: свинина и козлятина, домашняя птица, дичь, острые соусы и приправы, рыба, бобовая или полбяная каша, пироги с творогом и медом. И, наконец, десерт: свежие и сушеные фрукты, орехи, возбуждающие жажду острые деликатесы. Ибо вино пьют главным образом теперь — в конце обеда. На головы надевают венки из цветов. Выбирают распорядителя. Он назначает пропорцию вина и воды. Их смешивают в кратере, откуда специальным черпаком (киафом) разливают в кубки без ручек — фиалы или на ножках, с ручками — килики. Начинается, пожалуй, главная и, во всяком случае, наиболее приятная часть обеда, когда голод уже утолен, разбавленное вино слегка кружит голову и оживляет разговор. Часы пролетают за дружеской беседой или чтением вслух. Предметом беседы, как правило, служат не дела и не политика, а литература, искусство и повседневная жизнь. Иногда к обеду приглашают актеров, музыкантов или танцовщиц. Порой они разыгрывают целые сценки. Поют и сами пирующие. В дружеских пирушках участвуют только мужчины. Но нередки и общесемейные торжественные трапезы по случаю рождения ребенка, первого облачения юноши в мужскую тогу, помолвки или свадьбы, похорон и поминок. На них сходятся близкие родственники и друзья, мужчины и женщины. Существует обычай торжественно отмечать дни рождения, дарить подарки.
Впрочем, римская традиция умеренности еще активно сопротивляется нарождающемуся гурманству Сенатский запрет этой поры ограничивает затраты на обед 30 ассами в будни, 100 — в праздники и 200 ассами на свадьбу. До нас дошел даже особый закон, принятый в 161-м году, который запрещал подавать к столу блюда из специально откормленной домашней птицы.
Но пора и честь знать, попрощаемся с любезным хозяином и, следуя его совету, направимся к вершине холма, чтобы взглянуть на город с высоты. Под нами знакомые очертания форума. Огромный город лежит за ним — к северу и востоку от нас. Дальние его пределы теряются в утренней дымке или скрыты за близлежащими холмами. Зато слева, на западе, почти у наших ног хорошо видна широкая, обращенная к форуму излучина Тибра с вытянутым вдоль течения островом и мостами.
Прямо против Эмилиева моста, в низине на берегу уже заметно скопление и оживленное движение горожан. Это Велабрум, главный продовольственный рынок, где продают сыр, молоко, творог, мед, овощи и фрукты. Чуть ниже по течению Тибра — Бычий форум. Здесь торгуют всевозможным мясным товаром, птицей, свежей рыбой, а также домашним скотом и прочей живностью. Наконец, еще ниже по течению вдоль берега начинается и скрывается от нашего взгляда за Авентинский холм торговая пристань. Она протянулась на добрых полкилометра. Это почти сплошной портик, за которым идет длинная цепочка перекрытых арочными сводами вместительных складов. Устье Тибра мелководно. Морские торговые суда разгружаются в лежащей близ него гавани Остия. Впрочем, она тоже довольно мелкая, так что главными воротами морской торговли Рима служит большой порт в Путеолах, неподалеку от Неаполя. Оттуда заморские товары на малых судах прибрежного плавания переправляются в Рим. Цепочка таких суденышек выстроилась у причалов торговой пристани. На берегу высятся кучи товаров, снуют грузчики. Чего здесь только нет! Из Сицилии, Африки и Египта сюда везут зерно, из Причерноморья — соленую рыбу, с островов Эгейского моря — дорогие сорта вин. Македония поставляет строевой лес, из Мавретании привозят драгоценные породы дерева, из Нумидии — мрамор. Железо, медь, олово и серебро прибывает из Испании, Британии и Галлии, папирус — из Египта, слоновая кость — с верховьев Нила. С Востока идет поток тонких цветных тканей, шелков, драгоценных камней, пряностей и ароматов; с берегов океана — пурпур. Вывозит Рим мало: оливковое масло, простое вино, кое-какую посуду и оружие. Разница в торговом балансе покрывается за счет дани из провинций и разного рода сборов. Оптовую морскую торговлю ведут ассоциации негоциантов из сословия всадников. В их рискованных, но весьма прибыльных предприятиях негласно участвуют и сенаторы.
Римские купцы проникают и в глубь далеких земель. Их экспедиции через Сирийскую пустыню следуют в Месопотамию и к границам Туркестана. В Пальмире они встречаются с караванами из Индии и Китая. Другие отважные торговцы по галльским рекам поднимаются в Германию, к берегам далеких северных морей, откуда привозят в Рим драгоценный янтарь. Интенсивному торговому обмену в пределах Италии и прилежащих к ней областях южной Галлии и Греции чрезвычайно способствовало колоссальное по своему размаху строительство замечательных римских дорог.
Дороги строились на века. Сперва снимали слой земли на глубину до полутора метров, добираясь до скальных пород. На них укладывали в несколько слоев крупные камни, связанные глиной, плотные слои щебня и гравия, затем верхнее покрытие из плоских каменных плит, толщиной в 20-30 сантиметров. Разумеется, эти дороги имели и важное военное значение. Строительство обходилось дорого — около тысячи сестерциев за километр. Это при том, что всю тяжелую работу выполняли рабы. За столетие с 250-го до 150-го года в Италию было ввезено около 250 тысяч рабов. Между прочим, это обстоятельство отнюдь не способствовало техническому прогрессу. Римляне пользовались блоками и подъемной машиной с огромным колесом, внутри которого, подобно белке, вышагивали рабы. Но не знали водяной мельницы, не придумали подкову и нагрудный ремень для лошади. Крайне медленно совершенствовались сельскохозяйственные орудия, слабо развивались ремесла.
С вершины Палатинского холма хорошо виден жилой массив римской бедноты на Авентине. Здесь очень мало домов «индивидуальной застройки». Целые кварталы выглядят как ульи, где отдельные строения системой переходов, балконов, лестниц связаны в нечто бесформенное и густонаселенное. Кое-где на 4-5 этажей поднимаются первые доходные дома (инсулы). Нижние этажи построены солидно: пространство между кирпичными наружными и внутренними стенами заполнено мелкими камнями и залито бетоном. Тут есть квартиры в несколько комнат для состоятельных жильцов, таверны для простолюдинов и лавки. Выше надстроены легкие кирпичные и деревянные этажи. Здесь сдаются отдельные маленькие комнатушки. Доступ в них на каждом этаже открыт с общей галереи, куда в несколько маршей ведет наружная лестница прямо с улицы. Разумеется, ни воды, ни отопления, ни хотя бы слюды на окнах в этих комнатках нет. Равно как и прочих удобств. Воду носят ведрами из ближайшего уличного колодца. В холодные дни обогреваются жаровнями. Постройки на Авентине выглядят убогими и обшарпанными. Узкие кривые улочки загромождены и замусорены.
Вниз, в лощине между Авентином и Палатином, взгляду открывается белая громада Большого Цирка. Это сооружение, размером примерно 600х100 метров напоминает вытянутый в длину стадион. По двум его продольным сторонам и замыкающему их с одного конца полукругу в три яруса идут трибуны для зрителей (наши олимпийские стадионы выглядели бы довольно скромно рядом с Большим Цирком древнего Рима. Он вмещал 250 тысяч человек). Со второй короткой стороны двенадцатью широкими арками внутрь цирка открываются стартовые стойла, в которых свободно располагаются колесницы, запряженные четверкой лошадей (квадриги). Цирк предназначен главным образом для конных состязаний, хотя иногда в нем происходят и соревнования по бегу, и кулачные бои, и даже целые представления, где молодежь разыгрывает батальные сцены. В отличие от современных ипподромов, гонки колесниц идут не по овальной беговой дорожке, а вдоль трибун по прямому и обратному направлениям, которые разделяет невысокая стенка (спина). Она имеет 350 метров в длину. По обоим ее концам стоят поворотные столбы — меты. Дистанция состязания — семь кругов. Чтобы ее сократить, возница старается у концов спины на всем скаку развернуться как можно круче. Это очень опасно: стоит зацепиться ступицей колеса за мету — и колесница переворачивается или ездока выбрасывает под копыта следующей за ним квадриги. В дни состязаний происходит 20-25 заездов, и редко когда обходится без несчастного случая. Римляне страстно болеют за цвета своих команд (при республике их два — красный и белый, при империи будет четыре), за отдельных фаворитов; заключают денежные пари. На трибунах немало женщин, иные из них по горячности азарта не уступают мужчинам.
Конные ристалища происходят по большим праздникам, как минимум, шесть раз в году, а также по случаю военных побед и других чрезвычайных событий жизни города. Начинаются они торжественной процессией, которая, спустившись с Капитолия, через Велабр и Бычий рынок проходит к Цирку и вступает в него через большие ворота — в середине той стороны, где расположены стартовые стойла. Эти ворота именуются «помпа». Так же называют и само шествие. Во главе процессии идет магистрат — устроитель данных игр в сопровождении своих родственников, клиентов и друзей, облаченных в белоснежные тоги. За ними — музыканты и участники состязаний. В окружении жрецов на носилках несут изображения богов. Торжественное шествие совершает круг перед трибунами. Затем магистрат поднимается в ложу над воротами. Заезды начинаются по его знаку — он роняет платок, служители опускают заградительный канат, и все квадриги одновременно выскакивают из стойл. Победителей награждают почетными венками и призами. Знаменитые возницы пользуются едва ли меньшей славой, чем полководцы, — их окружают восторженные поклонники, им ставят статуи.
Между тем солнце поднялось уже высоко. С обрывистого края холма видно, что форум заполнился народом. Спустимся туда и мы: посмотрим, изменился ли облик римской толпы за полтора столетия после нашего прошлого визита в Рим.
Во-первых, сразу видно, как сильно увеличилось население города. На форуме — сущая толчея. На сравнительно небольшой его площади и прилегающих к ней улицах роится, наверное, не менее ста тысяч человек. Очень много приезжих. Повсюду слышна то греческая, то гортанная восточная речь. Шум невообразимый!
Одежда римлян изменилась мало. По-прежнему преобладают светлая туника и коричневатого тона плащ (сагум). Но есть и кое-что новое. Например, туника с длинными рукавами. В нее облачаются молодые франты из аристократии. Изменилась манера драпировки тоги — она свободнее, и правая рука остается полностью открытой. Наверное, для облегчения жестикуляции ораторов. По примеру Сципиона Африканского вошло в моду брить бороду, а то и голову. Последнюю — годам к сорока, чтобы скрыть начинающуюся седину.
Куда заметнее эволюция одежды римских матрон. Теперь она часто цветная, нежных желто-коричневых или зеленоватых тонов. Нередко с рисунком: продольные или поперечные полосы, геометрические фигуры. Встречается и золотое шитье, и отделка пурпуром. Покрой столы и пеллы варьируется, следуя веяниям моды, идущей главным образом из Греции и малоазиатских колоний. Девушки еще не могут позволить себе следовать ее легкомысленному диктату. Обычай предписывает им драпироваться в белую тогу. Вызывающе яркими, преимущественно красными тонами и укороченным покроем отличается одежда жриц любви. По большей части это сирийки или египтянки. Лица их сильно накрашены. Впрочем, добропорядочные матроны тоже не вовсе пренебрегают макияжем. Мази и притирания для отбеливания кожи, ночные кремы, румяна, краска для век — все это уже пришло с изнеженного Востока и прочно обосновалось в некогда суровом Риме. Не говоря уже об искусно выделанных украшениях: ожерельях, кольцах, браслетах, кулонах и серьгах из золота и серебра. А также прочих женских аксессуарах: вышитых шалях, поясах, платочках, лентах в волосах, ручных мешочках и зонтиках от солнца. За иной прошедшей сквозь толпу красоткой (или щеголем) следует ароматная волна духов, хотя они еще очень дороги и потому доступны далеко не всем поклонникам новой моды.
Появились первые носилки (лектики) в виде ложа на низких ножках. Пока что общественное мнение разрешает пользоваться ими только пожилым женщинам, женам сенаторов. Носилки подвешены на ремнях к коротким шестам, которые сзади и спереди несут на плечах рослые рабы — лектикарии. Если на улице свободно, то носилки висят так низко, что возлежащая в них матрона может побеседовать со своими почитателями, не меняя позы. Но если ей надо пересечь толчею форума, то лектикариям придется поднять носилки на плечи.
Форум теперь, главным образом, место для прогулок и общения. Торговля оттеснена к периферии площади и ее окрестностям.
На Этрусской улице, что спускается к реке сразу же за храмом Кастора и Поллукса, во множестве лавок торгуют тканями, одеждой и благовониями. Рынки съестного, как мы уже видели, теснятся ближе к берегу Тибра. Между комицием и базиликой Эмилия вверх от форума поднимается улица Аргилет. На ней и в расположенном чуть выше районе Субуры идет особенно оживленная торговля самыми разнообразными товарами. Помимо сплошной череды лавок, находящихся в первых этажах домов, сами узкие, шириной в 5-6 метров, улочки загромождены переносными прилавками и лотками, между которыми колышется плотная толпа покупателей и ротозеев. В ней шныряют разносчики съестного и воды. Все это галдит, спорит, торгуется и зазывает. Интенсивности шума не уступает крепость запахов чеснока, лука, ароматов дешевой пищи из множества харчевен — и пота: одежда почти сплошь шерстяная, а солнце палит немилосердно.
Бежим из этого пекла в спасительную тень базилики. Здесь тоже многолюдно и шумно, но хотя бы не так душно, как снаружи. Нам, кажется, повезло: мы сможем присутствовать на заседании суда. Если это гражданский процесс, спор об имуществе или наследстве, то вести его будет один судья. Но он обязан исходить из формулировки спора, заранее данной претором, и выбирать из им же названной альтернативы возможных приговоров. Дела об убийствах, поджогах, членовредительстве, прелюбодеянии, а также казнокрадстве, взяточничестве, подкупах и подлогах подлежат рассмотрению в соответственно специализированных постоянных трибуналах, состоящих каждый из тридцати избранных на один год по жребию судей. Трибунал заседает под председательством претора или эдила. Это означает, что судебная власть еще не отделена от исполнительной. Пока что судей выбирают только из числа сенаторов, но скоро в результате политической борьбы их заменят всадники, а спустя полвека трибуналы станут смешанными по составу. Половине судей может дать отвод обвинение или защита. Обвинителем может выступить любой гражданин Рима. С обеих сторон в процессе участвуют адвокаты, которым запрещено получать деньги или подарки от своих подопечных (но не возбраняется отказывать адвокатам солидные суммы денег или имущество по завещанию).
Первый свод законов еще не появился, хотя уже готовится, и основанием для правосудия служат уложения 12-ти таблиц, составленных три века тому назад, законы, принятые с тех пор в комициях, решения сената и эдикты преторов, которыми те при вступлении в должность объявляют о своей интерпретации этих законов и решений. Среди наказаний фигурируют штрафы, конфискация имущества, лишение гражданских прав, изгнание, а также многочисленные, в соответствии с характером преступления и гражданским статусом преступника, варианты смертной казни. Заседания суда должны заканчиваться с заходом солнца.
Закончим и мы нашу экскурсию в Рим начала последней трети II века до Р.Х. и обратимся к тем ярким персонажам, которые появляются теперь на этой сцене.
Братья Тиберий и Гай Гракхи
Уважаемый читатель! Даже если у тебя из школьных лет сохранились лишь самые отрывочные воспоминания о римской истории, я почти уверен, что в них наряду с именами Цезаря, Августа или Нерона фигурируют и братья Гракхи. Ты, наверное, припомнишь, что оба они были народными трибунами и оба заплатили своей жизнью за защиту народа. Так оно и было, и об этом далее следует подробный рассказ. Но начать я хочу с родословной братьев. Из нее складывается впечатление, что личное достоинство и высокий склад души могут быть в какой-то мере качествами наследственными. А это, согласись, заключение немаловажное.
На предыдущих страницах уже появлялись два представителя знатного и старинного плебейского семейства Семпрониев Гракхов. Первый из них, Семпроний Гракх, консул 216-го года, прославился в войне с Ганнибалом. Это дед наших трибунов. В четвертой главе я имел возможность рассказать о его глубоко гуманном и благородном отношении к воинам — бывшим рабам, призванным в критическую минуту на защиту Рима. Когда в 212 году он погиб в бою, его сыну, тоже Тиберию, было два года. В следующей, пятой, главе ему уже 27 лет, он — народный трибун и в высшей степени достойно проявляет себя, встав на защиту неправедно преследуемого Публия Корнелия Сципиона Африканского. Этот Тиберий Гракх — отец будущих трибунов. Он тоже сыграл немаловажную роль в Римской истории. Дважды его избирали консулом, а в 169-м году — цензором. В 178-м году в Испании он не только одержал победу над повстанцами, но так разумно и справедливо устроил отношения Рима с ними, что спустя сорок лет, во время очередного столкновения с римлянами, испанцы соглашаются вести переговоры о перемирии только с его сыном. В качестве цензора Тиберий Гракх так же суров и привержен традициям героической римской старины, как знаменитый Катон. Быть может, эта приверженность, как и у Катона, была причиной его расхождений со Сципионом Африканским. Однако события, связанные со злополучным судом, настолько заслонили эти расхождения, что победитель Ганнибала отдал замуж за Тиберия Семпрония Гракха свою дочь Корнелию. Нельзя, конечно, исключить менее благородную, но зато более романтическую версию и предположить, что Тиберий полюбил Корнелию до суда над ее отцом. Пусть так. Я лишь хочу отметить, что и по материнской линии братья-трибуны принадлежали к знаменитому своим достоинством и благородством роду — Корнелиев Сципионов.
Корнелия родила мужу двенадцать детей, но в живых осталось только трое: старший сын, по традиции тоже Тиберий, младший сын Гай и дочь Семпрония. Когда в 154-м году умер их отец, Тиберию было 9 лет, а Гай едва успел появиться на свет. Тем не менее, судьба подарила мальчикам прекрасное воспитание. Корнелия была женщиной умной, волевой и прекрасно образованной. Но, наверное, самым важным и счастливым обстоятельством детства и юности обоих ее сыновей была их близость с Публием Сципионом Эмилианом.
Мы слишком недавно расстались с этим замечательным человеком, чтобы была нужда напоминать читателю о его достоинствах. Надеюсь, что не забылся и тот факт, что Сципион Эмилиан был усыновлен Сципионом Африканским. Кроме того, он женился на сестре братьев Гракхов, Семпроний, и таким образом оказался с ними как бы в двойном родстве. Когда мальчики осиротели, Эмилиану был уже 31 год, и он заменил им отца. О том, что это было именно так, мы может уверенно судить хотя бы по тому, что Сципион Эмилиан взял 17-летнего Тиберия с собой в лагерь под Карфагеном, где тот, кстати говоря, отличился при штурме крепости. А спустя 13 лет и младший брат Гай под начальством Эмилиана участвовал в осаде Нуманции.
Но, конечно же, намного большую роль, чем. месяцы, проведенные под стенами крепостей, в формировании личности и мировоззрения каждого из братьев сыграло десятилетие со 145-го по 134-й год, когда сначала старший, а потом и оба они имели возможность общаться с членами знаменитого кружка Сципиона Эмилиана.
В середине II века до Р.Х. после освободительных войн в Греции римляне испытывают весьма заметное влияние греческой культуры и философии. Этому способствует переселение в Италию тысячи заложников из семей греческих аристократов, а также установление связей с малоазиатскими греческими колониями и Александрией. Эллинизм находит для себя благоприятную почву в высших сферах римского общества. Совершенное знание греческого языка, мифологии и драматургии, знакомство, хотя бы неглубокое, с сочинениями Платона и Аристотеля, с новыми философскими школами греков становятся признаками принадлежности к кругу избранных. Одновременно приобщение к греческим обычаям и языку через возвратившихся с Востока воинов, через многочисленных рабов, торговцев и переселенцев распространяется и в простонародье.
Видные римские нобили держат в своем окружении греческих поэтов и философов. Греческим учителям поручают обучение и воспитание детей. В свое время первые примеры восприятия греческой культуры римлянам подали Сципион Африканский и Луций Эмилий Павел. Теперь такую же роль играет Сципион Эмилиан. Мы помним, что еще юношей он перевез в Рим богатейшую греческую библиотеку царя Персея, и в течение многих лет его ближайшим другом был историк Полибий. Сейчас в доме Сципиона Эмилиана собираются самые выдающиеся умы Рима. Здесь и комедиограф Теренций, и сатирик Луцилий, и философ Панэций, и один из наиболее дальновидных и просвещенных политических деятелей консул 140-го года Гай Лелий.
Развивая учение стоиков о мировом разуме как сущности природы и бытия, Панэций утверждает, что единственно прекрасное благо, счастье и смысл жизни человека состоит в служении истине, в активной деятельности на пользу людям для установления справедливого общественного устройства. Эти возвышенные мысли жадно впитывает юноша Тиберий. Внимательно прислушивается он и к обсуждению состояния дел в Риме. В триклинии и перистиле дома Сципиона звучат взволнованные споры о Республике, о судьбе и предназначении римского народа. Недаром спустя восемьдесят лет Цицерон напишет свой трактат «О Государстве» в форме беседы, происходящей в кружке Сципиона Эмилиана. Друзей-единомышленников тревожат явные признаки падения былого могущества Рима. Если за первые полстолетия после ужасных людских потерь в Ганнибаловой войне, согласно цензовым записям, число военнообязанных, то есть способных приобрести вооружение граждан, увеличилось с 210 до 328 тысяч человек, то за последующие 60 лет это число не только не увеличилось, но упало до 319 тысяч. Причина этому в оскудении основного слоя граждан Республики — мелких землевладельцев, испокон веков составлявших главную силу римского ополчения. Разгоревшаяся в последние годы алчность сенатской аристократии разорила массу крестьян, отняла у них землю, прогнала в городские трущобы — неимущих, неспособных и недостойных встать под знамена римских легионов.
Сципион и Гай Лелий обсуждают необходимость отобрать незаконно захваченные аристократами государственные земли и раздать их крестьянам. Ведь еще два с лишним века тому назад был принят закон, запрещающий владеть более чем 500 югерами земли. Не пора ли восстановить силу этого закона? Они даже было решают выступить с таким предложением в сенате. Но умудренные жизненным опытом друзья понимают, что сопротивление сенаторов будет ожесточенным и сломить его можно лишь апелляцией к народу. А призвать народ к выступлению против сената — опоры и основы римской государственности — означает вновь посеять смуту и раздор в Риме, подобные тем, о которых повествует легендарная история первых веков существования Республики. Сципион и Лелий отказываются от своего намерения. Извечная проблема цены, которую придется уплатить за самые что ни на есть благие политические преобразования. Особенно, если общество к ним еще не вполне готово.
Осторожность и сомнения отвергает романтическая благородная юность. Разве не учил Панэций, что служение истине превыше всего и смысл жизни в борьбе за справедливость? Юный Тиберий решает добиться того, от чего отступились его наставники. У него мягкий, покладистый, открытый характер, он приветлив и доброжелателен. Роль бунтаря и возмутителя общественного спокойствия, казалось бы, совсем не для него. Но жажда справедливости и тревога за судьбу отечества не дают ему покоя, настоятельно побуждают к действию. Чтобы получить право обращения к народу и сенату Тиберий должен добиться избрания народным трибуном. Искать популярности настоящему римлянину подобает не подачками толпе, а отличиями на полях сражений, и он отбывает квестором в Испанию, где идет война с нумантинцами. Как я упоминал, именно благодаря его посредничеству на переговорах окруженная римская армия смогла заключить мир на приемлемых условиях.
Спустя три года, вернувшись в Рим, Тиберий выставляет свою кандидатуру на выборах трибунов на 133-й год. Хотя ему едва исполнилось 30 лет. он избран единодушно. Давно обдуман и готов проект земельного закона. Если Тиберий показывал его Сципиону Эмилиану то вряд ли получил одобрение, но Сципион как раз в это время убывает в Испанию. Зато необходимость реформы понимают самые уважаемые люди Города: бывший консул и цензор принцепс сената Аппий Клавдий и составитель первого свода римских законов Публий Сцевола, только что избранный консулом на тот же 133-й год. С Аппием Клавдием Тиберия связывает и недавнее родство — он женился на его дочери.
По-видимому, многоопытные покровители Тиберия не советовали ему выносить проект закона на предварительное обсуждение сената, как это обычно делалось, зная, чем закончится такое обсуждение. Проект земельного закона предлагается непосредственно в комиции — на усмотрение народа. Закон предписывал всем крупным землевладельцам, занявшим общественные земли, оставить по 500 югеров на главу семьи и по 25 на взрослых сыновей, но не более 1000 югеров (250 га) всего. Зато в полноправное и вечное владение. Все земли сверх этой нормы следовало вернуть государству, чтобы, разделив на участки по 30 югеров, раздать в наследственное пользование (без права продажи) лишившимся земли крестьянам. За постройки, насаждения и прочие вложения в конфискуемые земли закон предусматривал выплату компенсации. Изъятие и раздел земель предлагалось возложить на комиссию из трех человек, ежегодно переизбираемых народным собранием до тех пор, пока все государственные земли в Италии не будут таким образом справедливо перераспределены. Комиссия наделялась правом решать все спорные вопросы о принадлежности земель.
Само существо земельной реформы, предложенной Тиберием, ничем не подрывало основы государственного устройства Республики и даже не слишком сильно ущемляло тех, кто сумел обогатиться за ее счет. Но предложение насильственного изъятия земли, которую сенатская аристократия уже привыкла считать своей собственностью, вызвало слепую ярость большинства сенаторов. Вот как описывает Плутарх ситуацию, сложившуюся в Городе перед началом обсуждения в народном собрании проекта Гракха:
«И мне кажется, никогда против такой страшной несправедливости и такой алчности не предлагали закона снисходительнее и мягче! Тем, кто заслуживал суровой кары за самоволие, кто бы должен был уплатить штраф и немедленно расстаться с землею, которою пользовался в нарушение законов, — этим людям предлагалось, получив возмещение, уйти с полей, приобретенных вопреки справедливости, и уступить их гражданам, нуждающимся в помощи и поддержке.
При всей мягкости и сдержанности этой меры народ, готовый забыть о прошлом, радовался, что впредь беззакониям настанет конец. Но богатым и имущим своекорыстие внушало ненависть к самому закону, а гнев и упорство — к законодателю, и они принялись убеждать народ отвергнуть предложение Тиберия, твердя, будто передел земли только средство, настоящая же цель Гракха — смута в государстве и полный переворот существующих порядков». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тиберий и Гай Гракхи. 116)
Однако вскоре стало ясно, что настроить народ против Тиберия не удастся. Прослышав о законе, на собрание из деревень прибыла масса обездоленных крестьян. Сенаторам оставалось только прибегнуть к последнему средству, могущему помешать принятию неугодного закона, — трибунской интерцессии. Трибун Марк Октавий, сам крупный землевладелец, накладывает вето на обсуждение закона в комициях. Еще недавно отношения двух трибунов были дружескими, но сейчас все попытки Тиберия уговорить Октавия снять свое вето оказываются тщетными. Негласное давление сената, да и собственный корыстный интерес не позволяют Октавию уступить. Хватаясь за последнюю надежду, Тиберий все-таки обращается к сенату Он должен убедить «отцов» своим авторитетом повлиять на Октавия. Теперь только сенат может предотвратить падение могущества и величия Рима. Речь Тиберия пересказывает Аппиан:
«Римляне, — говорил он, — завоевали большую часть земли и владеют ею; они надеются подчинить себе и остальную часть. В настоящее время перед ними встает решающий вопрос: приобретут ли они остальную землю благодаря увеличению числа боеспособных людей или же и то, чем они владеют, враги отнимут у них вследствие их слабости и зависти. Напирая на то, какая слава и какое благополучие ожидают римлян в первом случае, какие опасности и ужасы предстоят им во втором, Гракх увещевал богатых поразмыслить об этом и отдать добровольно, коль скоро это является необходимым, эту землю ради будущих надежд тем, кто воспитывает государству детей; не терять из виду большого, споря о малом». (Аппиан. Гражданские войны. I, 11)
Гракх понимает, к кому адресуется, и потому говорит не о справедливости и чести, а о сугубо материальном интересе в первую очередь тех же аристократов. Но большинство жадных и близоруких сенаторов уже неспособно воспринять резонные аргументы трибуна. На его взволнованную речь они отвечают насмешками. В отчаянии возвращается Тиберий на Форум. Он бессилен! Запретительное вето народного трибуна непреодолимо. В глубокой древности плебеи отвоевали для себя право на этот запрет, чтобы противостоять произволу патрицианских магистратов. И хотя впоследствии аристократы научились использовать трибунское вето в своих интересах, никто не осмелится оспорить священное право трибунов на него. Видимо, придется отложить принятие закона на год и тем временем убедить народ избрать новыми трибунами только сторонников земельной реформы. Но тогда уже не Гракх будет проводить ее через комиции: повторное избрание в трибуны запрещено законом. Досада, обида, нетерпение (проклятие многих реформаторов) и тревога за свое детище овладевают Тиберием с такою силой, что в голову ему приходит простая, но кощунственная мысль: если нельзя отменить вето, то можно попытаться избавиться от того, кто на нем настаивает. Нет, конечно, не убить, но сместить его с должности досрочно. И Тиберий обращается к собранию народа с предложением лишить Октавия трибунской власти. А это уже действительно «смута в государстве и полный переворот существующих порядков» . Ведь несменяемость магистратов до окончания срока их полномочий — один из главных принципов существования и действия всех властных структур Республики. Это — революция, к тому же направленная прямо против сената. Мало того, что мятежный трибун (и надо же — из такого хорошего рода!) ставит в комициях важнейший вопрос о судьбе государственных земель вопреки прямому неодобрению «отцов», он поднимает руку на трибунскую интерцессию — единственное средство, каким сенату удавалось до сих пор обуздывать самоуправство простонародья...
Вступив на путь нарушения традиции и закона, Тиберий, как и все революционеры, апеллирует к эмоциям собравшихся на площади:
«Народный трибун, — говорит он, — лицо священное и неприкосновенное постольку, поскольку он посвятил себя народу и защищает народ. Стало быть, если он, изменив своему назначению, чинит народу обиды, умаляет его силу, не дает ему воспользоваться правом голоса, он сам лишает себя чести, не выполняя обязанностей, ради которых только и был этой честью облечен. Даже если он разрушит Капитолий и сожжет корабельные верфи, он должен остаться трибуном. Если он так поступит, он, разумеется, плохой трибун. Но если он вредит народу, он вообще не трибун...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тиберий и Гай Гракхи. XV)
Бесспорно демагогический прием Тиберия достигает своей цели. Голосами 18 триб из 35, впервые за всю историю римской Республики, законно избранный народный трибун Марк Октавий лишается своих полномочий. Тут же вслед за этим Народное собрание принимает и земельный закон Тиберия Гракха. У нас нет оснований сомневаться в чистоте побуждений Тиберия, но не с этого ли голосования началась в Риме столетняя гражданская смута? Волеизъявление народа выше закона! Ведь сам закон был некогда принят решением народа. Но, быть может, его следует после спокойного обсуждения изменить или даже отменить, но не так вот — одним голосованием лишить силы.
Но пока что одержана великая победа, и обездоленные крестьяне смогут вернуться на землю. В комиссию по ее перераспределению избраны сам Тиберий, его брат Гай и Аппий Клавдий. Они энергично принимаются за дело. Однако подвигается оно медленно. Границы государственных земель не были в свое время точно определены. Многие давным-давно присвоенные участки были с тех пор не раз перепроданы, и нынешние владельцы считают их своей собственностью. Конфликты возникают на каждом шагу. На их разбор уходит масса времени. И вот уже прошла большая часть года. Приближается срок перевыборов трибунов, а дело реформы только-только начало налаживаться. Не будет ли оно похоронено новоизбранными трибунами? Тем более что противодействие и озлобление сенаторов усиливаются. И в этом виноват сам Тиберий. В тот год умер царь Пергама Аттал III. Чтобы оградить свое царство от посягательства воинственных соседей, мудрый владыка завещал его покровительству Рима. Новым римским землевладельцам нужны средства для обзаведения скотом и инвентарем, и Тиберий в комициях предлагает ссудить их деньгами за счет казны пергамского царя. Но это опять узурпация полномочий сената — ведь распоряжение финансами государства испокон веков было только в его ведении.
И вот наступает день выдвижения кандидатур новых трибунов. Нет сомнения, что сенаторы приложат все усилия, чтобы не допустить избрания сторонников реформы. А ведь только трибун имеет право обращаться к народу в комициях и предлагать законы. И неумолимая логика борьбы толкает Тиберия на новое нарушение закона. Он выставляет свою кандидатуру для повторного избрания в трибуны. Народ его поддержит. А волеизъявление народа выше, чем закон! Но избирательные комиции бывают летом, как раз в разгар полевых работ. Крестьяне в Рим не пришли. Противники Тиберия на форуме и в базилике энергично настраивают против него горожан, упирая на противозаконность его притязаний. Клиенты богачей и продажный городской плебс готовы их поддержать. Тиберий видит, что ему не получить большинства в комициях. Можно понять его отчаяние. Но почему он опасается за свою жизнь? Ведь еще никогда политическая борьба в Риме не решалась путем физической расправы. А между тем Аппиан пишет, что...
Гракх, боясь не получить большинство голосов в свою пользу, перенес голосование на следующий день. Отчаявшись во всем деле, он хотя и продолжал еще оставаться в должности, надел траурную одежду, ходил остальную часть дня по форуму со своим сыном, останавливался с ним около отдельных лиц, поручал его их попечению, так как самому ему суждено очень скоро погибнуть от своих недругов». (Аппиан. Гражданские войны. I, 14)
По-видимому, Тиберий понимает, что там, где отступает закон, на сцене должна появиться грубая сила. Он этого не хочет, он подавлен, но обстоятельства уже сильнее него — они диктуют ход дальнейших событий.
«Вечером, — продолжает Аппиан, — бедные пошли провожать с плачем Гракха до его дома, убеждали его смело встретить грядущий день. Гракх ободрился, собрал еще ночью своих приверженцев, дал им пароль на случай, если дело дойдет до драки, и захватил храм на Капитолии, где должно было происходить голосование...» (Там же. I, 15)
Итак, Тиберий уже готов опереться не на голоса, а на кулаки своих сторонников. Пока что не на мечи, но до этого уже недалеко.
С утра народ собирается на площади перед храмом, чтобы приступить к выборам. Противники Тиберия настроены столь же решительно. И происходит то, чего уже нельзя избежать, что было предопределено еще противозаконным лишением Октавия трибунской власти:
«Выведенный из себя трибунами, — пишет далее Аппиан, — не позволявшими ставить на голосование его кандидатуру, Гракх дал условленный пароль. Внезапно поднялся крик среди его приверженцев, и с этого момента пошла рукопашная. Часть приверженцев Гракха охраняла его как своего рода телохранители, другие, подпоясав свои тоги, вырвали из рук прислужников жезлы и палки, разломали их на части и стали выгонять богатых из собрания. Поднялось такое смятение, нанесено было столько ран, что даже трибуны в страхе оставили свои места, а жрецы заперли храмы. В свою очередь, многие бросились в беспорядке искать спасения в бегстве, причем стали распространяться недостоверные слухи, будто Гракх отстранил от должности всех остальных трибунов, такое предположение создалось на основании того, что трибунов не было видно, или что сам Гракх назначил себя без голосования трибуном на ближайший год». (Там же)
А в это время в храме богини Верности собирается сенат. Приходят преувеличенные известия о насилии, учиненном на Капитолийском холме. Нет сомнения — Тиберий Гракх домогается тирании! Он готов уничтожить Республику и, конечно же, расправиться с сенатом. Промедление может оказаться роковым. Сейчас же, пока они все вместе, пока народ еще не совсем утратил почтения к «отцам», надо выступить против узурпатора. В стенах сенатской курии, как на поле боя перед сражением, звучит единодушное: «На Капитолий!» Вот как описывает Аппиан трагическое окончание этого злополучного дня:
«Сенат с принятым им решением отправился на Капитолий. Шествие возглавлял Корнелий Сципион Назика, Верховный понтифик. Он громко кричал: «Кто хочет спасти отечество, пусть следует за мною». При этом Назика накинул на свою голову край тоги, для того ли, чтобы этой приметой привлечь большинство следовать за ним, или чтобы видели, что этим самым он как бы надел на себя шлем в знак предстоящей войны, или, наконец, чтобы скрыть от богов то, что он собирался сделать. Вступив в храм, Назика наткнулся на приверженцев Гракха; последние уступили ему дорогу из уважения к лицу, занимавшему такой видный пост, а также и потому, что они заметили сенаторов, следующих за Назикой. Последние стали вырывать из рук приверженцев Гракха куски дерева, скамейки и другие предметы, которыми они запаслись, собираясь идти в народное собрание, били ими приверженцев Гракха, преследовали их и сталкивали с обрывов Капитолия вниз. Во время этого смятения погибли многие из приверженцев Гракха. Сам он, оттесненный к храму, был убит около дверей его, у статуи царей. Трупы всех погибших были брошены ночью в Тибр». (Там же. I, 16)
Так случилось в Риме тягчайшее преступление — убийство народного трибуна, неприкосновенность которого охранял закон. Но разве не сам он подал пример пренебрежения законами? Кто посеет ветер...
Плутарх утверждает, что в тот день было убито более трехсот человек.
«Как передают, — пишет он далее, — после изгнания царей это был первый в Риме раздор, завершившийся кровопролитием и избиением граждан, все прочие, хотя бы и нелегкие и отнюдь не по ничтожным причинам возникавшие, удавалось прекратить благодаря взаимным уступкам и власть имущих, которые боялись народа, и самого народа, который питал уважение к сенату». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тиберий и Гай Гракхи. XX)
Таким образом, нарушилось сохранявшееся веками гражданское равновесие. Конечно, изначально в этом была повинна неуемная алчность богачей. Но свою пагубную роль сыграли и противозаконные действия трибуна. Ирония судьбы: мягкому и добросердечному Тиберию суждено было открыть эпоху беззакония, гражданских конфликтов и насилия, которое, чем дальше, тем в более жестокой форме станет решающим аргументом политической борьбы в Риме.
Между тем, отбив главную атаку на власть сената и опасаясь возмущения крестьян, аристократы не осмеливаются оспорить принятый в комициях земельный закон Тиберия Гракха. Да и в самом сенате уже многие понимают необходимость реформы. В борьбе вокруг ее реализации в Риме складываются две силы, или, если угодно, две партии: «оптиматов», как себя именуют сторонники аристократического правления, и «популяров», претендующих на роль защитников интересов народа. В комиссию по конфискации и перераспределению государственных земель регулярно избирают видных популяров. И результаты их деятельности довольно скоро сказываются вполне ощутимо: к 125-му году число военнобязанных увеличивается с 319 до 395 тысяч человек. Так что в этом плане реформа Тиберия достигла цели. Между тем по мере ее дальнейшей реализации все чаще возникают конфликты по поводу спорных случаев определения принадлежности земель. В эти споры втягиваются латиняне и влиятельные граждане союзных Риму общин Италии — им тоже в свое время были переданы во временное пользование завоеванные земли. Возникает угроза прочности военного союза римлян с италиками. Обиженные союзники жалуются возвратившемуся из Испании Сципиону Эмилиану, чей авторитет и влияние по-прежнему велики и в в сенате, и в народе. Эллинистическая образованность Эмилиана не мешает ему сохранять приверженность к староримской традиции и убежденность в необходимости сенатского правления. Он явным образом становится на сторону оптиматов. В 129-м году по его предложению Народное собрание отбирает у земельной комиссии право самой разрешать конфликтные ситуации и передает его цензорам и консулам, которые затем явно саботируют дело. По городу ползут слухи о предстоящей отмене земельного закона. В том же году Эмилиана находят мертвым в его собственном доме. Есть основания предполагать, что убийство совершено популярами. Однако расследование не проводилось и достоверных сведений по этому поводу нет.
По-видимому, уже после смерти Сципиона популярам в комициях удается провести закон о разрешении повторного избрания в трибуны. Между тем лишенная судебных полномочий земельная комиссия постепенно сворачивает свою деятельность, и дальнейшее перераспределение земли прекращается. Число военнообязанных в 115 году будет таким же, как в 125-м.
А в это время вдали от Рима, на военной службе сначала в Испании, потом в Сардинии, мужает новый и, как вскоре выяснится, еще более грозный противник сената Гай Гракх — младший брат убитого трибуна. Ему тоже еще нет тридцати, когда он возвращается в Рим и выставляет свою кандидатуру на выборах трибунов. Все самые видные и состоятельные граждане выступают против него. Но благодаря посмертной славе брата да и собственным уже известным достоинствам, по свидетельству Плутарха,
«...народ, поддерживавший Гая, собрался со всей Италии в таком количестве, что многие не нашли себе в городе пристанища, а Поле всех не вместило, и крики голосующих неслись с крыш и глинобитных кровель домов». (Там же. XXIV)
В 123-м году, через 10 лет после Тиберия, Гай Гракх становится одним из трибунов римского народа. Если в характере старшего брата современники отмечали некоторую сентиментальность и даже мечтательность, то Гай — страстная натура, человек действия, целеустремленный и заряженный энергией, как стрела натянутого лука. Он блестяще образован, храбр, тверд характером и великолепный оратор. Впоследствии сам Цицерон в диалоге о знаменитых ораторах напишет о нем: «Согласись, Брут, что никогда не существовал человек, одаренный для красноречия полнее и богаче». Вынужденная скрытность в течение девяти лет после гибели Тиберия закалила его волю. Теперь настал час расплаты. Вся сокрытая в этом молодом человеке сила устремляется к одной цели — отмщению за смерть брата.
Реформа Тиберия была продиктована исключительно заботой о сохранении могущества Рима. Оказавшееся роковым противоборство с сенатом явилось следствием тупого эгоизма и ненависти сенаторов и вовсе не входило в первоначальные планы трибуна. Теперь же целый ряд законов, которые один за другим удается провести в комициях Гаю Гракху целенаправленно наносят удары по сенату, постепенно лишая его влияния и власти.
Он начинает с того, что обеспечивает себе устойчивую поддержку Народного собрания. По самому существу и смыслу государственного устройства римской Республики, главный голос в этом собрании должен был принадлежать воинам-крестьянам. Но теперь крестьянские усадьбы в большинстве своем оказались расположены далеко от Рима. Их владельцы лишь изредка и только в свободное от сельской страды время являются в комиции, и потому, как показал горький опыт брата, опираться на их поддержку ненадежно. Зато в самом Городе скопилось множество неимущих, но полноправных граждан. Во время выборов магистратов многие из них продают свои голоса претендентам. Гай решает привлечь их на свою сторону Для этого он проводит закон, обязывающий государство регулярно обеспечивать всех неимущих очень дешевым хлебом — разумеется, за счет поставок из завоеванных провинций. Хлебные раздачи и распродажи случались и раньше, но это были отдельные эпизоды, связанные со стремлением кого-либо из богачей обеспечить себе поддержку на ближайших выборах. Теперь иждивенчество римского плебса становится узаконенной нормой. А поскольку в списки получателей хлеба, согласно закону, включают каждого заявившего о своей нужде жителя города, то в Рим устремляется масса бедноты из деревень, пополняя собой число сторонников трибуна — своего благодетеля.
Для того же, чтобы неимущие граждане действительно могли влиять на решения комиций, Гракх добивается отмены древнего порядка очередности подачи голосов, определявшегося цензовым старшинством центурий. Ведь пример первых голосующих играет подчас решающую роль! Теперь очередность подачи голосов центуриями будет определять жребий.
Полуголодное, буйное и безответственное большинство в собраниях народа лишает обсуждение и решение государственных дел в комициях их прежнего демократического смысла. Логика антисенатской революции толкает Гракха на подрыв самого существа республиканского общественного устройства. Вместо власти народа устанавливается самоуправство толпы люмпенов. Ослепленный ненавистью к сенату, Гай не отдает себе в этом отчета. Римский плебс становится с этих пор обузой и проклятием государства.
Между тем стратегия войны с сенатом продумана основательно. Ее второй этап — внесение раскола в ряды оптиматов. Для этого Гай хочет обеспечить себе поддержку богатой верхушки всадничества. Есть все основания опасаться, что без нее сенатская аристократия сумеет купить симпатии продажной толпы. Гракх предлагает новый закон о доходах из недавно завоеванной провинции Азия. Поначалу в этой наиболее богатой из римских провинций был установлен определенный денежный налог, который азиатские общины вносили через квестора прямо в римскую казну Потом вместо налога решено было взимать десятую часть урожая и прочих доходов жителей провинции. Десятину надлежало каждый год определять заново. До сих пор ее откупали знатные провинциалы. По закону Гракха, все это баснословно выгодное предприятие передавалось ассоциациям римских публиканов из сословия всадников.
Обеспечив себе такими образом надежную опору, Гай наносит сенату сокрушительный удар. Воспользовавшись очередными скандальными разоблачениями подкупа судей и оправдания ими злостных взяточников — управляющих провинциями (что было делом вовсе не новым), он предлагает лишить сенаторов права заседать в судах по рассмотрению жалоб провинциалов на лихоимство, а заодно и в прочих постоянных судебных коллегиях в Риме. Всю судебную власть его закон передает римским всадникам. И оптиматам не удается этому помешать. Вот как описывает Аппиан последствия их поражения:
«Говорят, Гай немедленно после того, как закон был принят, выразился так: я одним ударом уничтожил сенат. Эти слова Гракха оправдались еще ярче позднее, когда реформа, произведенная Гракхом, стала осуществляться на практике. Ибо предоставление всадникам судейских полномочий над римлянами, всеми италийцами и самими сенаторами, полномочие карать их любыми мерами воздействия, денежными штрафами, лишением гражданских прав, изгнанием — все это вознесло всадников как магистратов над сенатом...
И скоро дело дошло до того, что сама основа государственного строя опрокинулась: сенат продолжал сохранять за собой лишь свой авторитет, вся же сила сосредоточилась в руках всадников». (Аппиан. Гражданские войны. I, 22)
Конечно же, по истечении некоторого времени суды всадников окажутся столь же коррумпированными, как ранее сенаторские суды. Но Гаю Гракху уже не придется убедиться в этом. На следующий год Гай вновь избран трибуном, благо теперь это уже разрешено. Он проводит через комиции еще ряд законов, хотя и не столь значительных, как названные выше. Но главное, чем он добивает охваченный параличом сенат, это бурная организаторская деятельность. Реализуются обширные планы нового строительства, в первую очередь — дорог. Всадники получают множество подрядов на производство общественных работ, дающих заработок бедноте. Расширяются торговые связи Рима. Оживление в районе торговой пристани бросается в глаза. За последний год здесь, на берегу Тибра, появилось множество новых контор и складов, в том числе обширных хранилищ для предназначенного к раздаче зерна. Стимулируется развитие ремесленного производства. Плутарх с восхищением пишет, что Гай...
«...во главе всех начинаний становился сам, нисколько не утомляясь ни от важности трудов, ни от их многочисленности, но каждое из дел исполняя с такой быстротой и тщательностью, словно оно было единственным, и даже злейшие враги, ненавидевшие и боявшиеся его, дивились целеустремленности и успехам Гая Гракха. А народ и вовсе был восхищен, видя его постоянно окруженным подрядчиками, мастеровыми, послами, должностными лицами, воинами, учеными, видя, как он со всеми обходителен и приветлив и всякому воздает по заслугам, нисколько не роняя при этом собственного достоинства...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тиберий и Гай Гракхи. XXVII)
Еще недавно всемогущий и всепроникающий сенат теперь практически отстранен от дел. То, что началось как месть, благодаря энергии и таланту Гая Гракха обретает смысл как новая форма государственного управления. По существу говоря, это — единовластие (своего рода демократическая диктатура). Однако время для него еще не наступило. Пройдет еще почти столетие, прежде чем сначала Юлий Цезарь, а потом Август утвердят необходимость замены изживших себя полисно-республиканских институтов единовластием римских императоров. Но их предтечей есть все основания считать народного трибуна Гая Гракха. Это обстоятельство мне кажется поучительным. Оно говорит о том, что дистанция между защитником народа и диктатором может порой оказаться очень небольшой.
Между тем быстрый рост массы люмпенов угрожает стабильности жизни Города. Кардинальное решение этой проблемы путем дальнейшего расширения фронта общественных работ явно невозможно. Гай ищет новые пути для возвращения неимущих горожан в деревню. Возможности конфискации и передела государственных земель явно исчерпаны. Но нельзя ли попытаться решить проблему не в индивидуальном, а как бы в коллективном плане? Еще в начале века, после победы римлян в Пунической войне и покорения Цизальпинской Галлии, на конфискованных у италийских союзников врага землях было основано немало римских колоний. Нельзя ли вновь обратиться к этой практике? Сейчас нет войн и отбирать освоенные земли у союзников или даже данников Рима невозможно. Но есть земли, отданные им в аренду от казны, а также заброшенные с давних военных лет, которые можно сообща вновь освоить. Таковые находятся в окрестностях Капуи и Тарента. Там основываются колонии. Но они слишком малочисленны, чтобы решить проблему расселения римского плебса.
Тогда у Гая Гракха возникает смелая идея создания большой колонии за пределами Италии. Нынешнее могущество Рима надежно обеспечит безопасность колонистов. И здесь тоже Гай интуитивно вступает на путь, предначертанный Империи, когда Риму суждено будет шагнуть далеко за границы Апеннинского полуострова. Вместе со своим единомышленником, бывшим консулом, а ныне тоже трибуном, Фульвием Флакком Гай отправляется на разведку в Северную Африку. Их выбор падает на пустующие земли, некогда принадлежавшие Карфагену. Здесь решено основать обширную колонию Юнония. Гай и Флакк возвращаются в Рим. Решение о создании колонии принято в комициях, и даже составлен список первых шести тысяч колонистов.
В это же время Гай выступает еще с одной законодательной инициативой. Он предлагает предоставить права полного римского гражданства латинянам, а гражданам союзных италийских городов даровать «латинское право» (избирать, но не быть избранными в число римских магистратов). Распространение полного гражданства на весь Лациум будет способствовать расселению римлян из Города, а избирательное право союзников усилит популяров. Эти предложения тоже предвосхищают неизбежную для Империи консолидацию и уравнивание в правах всех италийцев под эгидой Рима. Но сейчас предложение Гая отвергается. И не только сенатом, но и в комициях римским плебсом, который усматривает в нем опасность увеличения числа нахлебников государства.
Ободренный этим успехом, сенат начинает контрнаступление на Гракха. Один из трибунов, противник Гая, Марк Ливий Друз, ссылаясь на одобрение «отцов», предлагает отменить подать, которую должны платить владельцы новых земельных наделов. Кроме того, он вносит проект закона об учреждении в самой Италии двенадцати новых колоний по 3 тысячи человек в каждой. Автор закона не утруждает себя объяснением, откуда возьмется земля для этих колоний. Но легковерная и легкомысленная толпа — детище Гая — этих объяснений и не требует. Ее симпатии смещаются в пользу Друза и сената. Одновременно по городу начинают циркулировать слухи о том, что волки вырыли межевые столбы, поставленные Гракхом и Флакком на земле будущей Юнонии. Авгуры толкуют это как дурное предзнаменование, вспоминают о проклятии, которому была предана карфагенская земля. Они предлагают отменить закон об учреждении злополучной колонии в Африке.
В это время как раз происходят выборы трибунов на следующий, 121-й год. За Гая снова голосуют очень многие, но поссорившиеся с ним трибуны после подсчета голосов не называют Гракха в числе избранных. Плутарх полагает, что это был прямой обман избирателей, хотя явных тому доказательств у него нет. Тут же назначается народное собрание для пересмотра решения об Юнонии. Его созывает новоизбранный консул Луций Опимий — один из наиболее решительных и неразборчивых в средствах вождей оптиматов.
С раннего утра на Капитолии собираются как сторонники, так и противники Гракха и Флакка. Самого Гая еще нет на площади, но атмосфера накалена. Памятуя о насильственной смерти Тиберия и его сторонников, кое-кто из окружения Флакка под складками тоги прячет оружие. Начинается традиционное жертвоприношение. Один из ликторов консула обзывает негодяями стоящих рядом популяров, кто-то из них, теряя самообладание, отвечает ударом кинжала. Ликтор убит. Это — прямое посягательство на власть, и консул распускает собрание. В тот же день он созывает сенат, велит внести труп убитого ликтора и требует полномочий для подавления вооруженного мятежа.
Тогда сенат решается на беспрецедентный поступок, на крайний шаг — впервые за всю историю он в мирное время провозглашает сакраментальную формулу: «Да позаботятся консулы, чтобы государство не понесло ущерба!» Напомню, что эта, на первый взгляд безобидная, рекомендация означала введение чрезвычайного положения. Консул получал право применять к гражданам города любые меры принуждения, вплоть до смертной казни без суда. Нужды в этом сейчас нет. Убийца ликтора известен и можно наказать только его, но оскорбленный и напуганный сенат стремится уничтожить своих противников. Опимий приказывает сенаторам и перешедшим на их сторону всадникам вместе со своими клиентами и рабами явиться на следующий день на Капитолий вооруженными. Той же ночью, узнав об этом, люди Флакка тоже вооружаются и с утра занимают оплот бедноты — Авентинский холм. Впервые в самом Риме возникает вооруженное противоборство. Семена насилия, посеянные еще Тиберием Гракхом, проросли! Свершается следующий, неотвратимый шаг нарастания гражданского противостояния. Теперь в ход пойдут не кулаки и палки, а мечи. Гражданский спор будет решаться пролитием крови!
Флакк отправляет к Опимию своего сына с предложением вступить в переговоры. Оно отвергнуто. Консул требует капитуляции. Флакк отказывается. Гай Гракх не хочет участвовать в кровопролитии. Храбрости ему не занимать — он это доказал в сражениях. Но сейчас ему открывается весь ужас предстоящего братоубийства. На Авентин Гай приходит безоружным.
Как это делается и ныне, для подавления гражданского мятежа консул решает использовать армию. Древний закон и обычай запрещают войску даже находиться внутри городских стен. Но никто уже не считается с законами, не чтит обычаев. На штурм Авентинского холма идет большой отряд римской пехоты и критских наемников. Тем, кто сдастся, обещано помилование. За головы Гракха и Флакка назначена награда золотом — по весу голов. Сражение длится недолго. Силы неравны, ряды сторонников мятежных трибунов быстро тают. Городской плебс, разумеется, предпочитает остаться в стороне. Захвачен и убит Флакк. Гай хочет покончить с собой, но друзья уговаривает его бежать и, жертвуя жизнью, прикрывают мост, по которому он уходит за Тибр. Увидев, что погоня его настигает, Гракх приказывает сопровождающему его рабу убить себя. Головы Флакка и Гракха доставляют Опимию...
В сражении за Авентин убито около 250 человек, а затем следует жестокая расправа над мирными сторонниками Гракха.
Казнено более трех тысяч граждан. После чего сенат повелевает Опимию совершить торжественное очищение города от скверны убийств, а на конфискованные у казненных средства воздвигнуть новый храм Согласия на месте старого, полуразрушенного, построенного в глубокой древности еще Камиллом.
Римляне были потрясены и опечалены свершившимся в тот день, они долго с благодарностью чтили память братьев Гракхов. Как утверждает Плутарх:
«Народ открыто поставил и торжественно освятил их изображения и благоговейно чтил места, где они были убиты, даруя братьям первины плодов, какие рождает каждое из времен года, а многие ходили туда, словно в храмы богов, ежедневно приносили жертвы и молились». (Там же. XXXIX)
Запоздалая любовь народа к «невинно убиенным» его защитникам вполне понятна. А как нам, из нашего далека, зная все, что произошло потом, судить о жизни и делах братьев Гракхов? Чистота и благородство их намерений у меня лично не вызывают сомнений. А вот их действия? Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.
Много лет нас учили, что нет ничего выше, чем освободительная революция. Что ее святые цели оправдывают и беззаконие, и жестокость, и насильственное изменение уклада жизни, и неизбежные человеческие жертвы. Братья Гракхи нам представлялись первыми революционерами и первыми жертвами многовековой борьбы угнетенных со своими угнетателями.
Так ли все просто? Тебе, читатель, судить об этом.
Глава IX Марий (118-86 гг.)
После расправы с Гаем Гракхом и его сторонниками оптиматы пожинают плоды своей победы. Через два года упраздняется комиссия по разделу государственных земель. Неконфискованные участки переходят в законную собственность их захватчиков с обязательством уплаты определенного налога. Еще через восемь лет этот налог отменяют. Одновременно снимаются ограничения на размеры владений и разрешается продажа земли. Снова крупные землевладельцы скупают ее у разоряющихся крестьян. На добрых 30 лет в Риме вновь устанавливается правление сенатской аристократии. Но это уже жалкое подобие прежнего славного правления. Ни понимания и способности решать государственные дела, ни былого достоинства. Беспомощность, мелкая борьба своекорыстных семейных интересов и расцвет коррупции. Никаких сильных и ярких личностей на этом унылом фоне. Тому наглядной иллюстрацией могут служить действия римского сената во время так называемой Югуртинской войны.
Территории нынешних Алжира и Туниса занимало в то время обширное нумидийское царство, объединившееся после поражения Карфагена под властью нашего знакомца — тогдашнего союзника римлян Массиниссы. После смерти его сына, Миципсы, в 118-м году разгорелась борьба за царский престол между внуками Массиниссы — Адгербалом и Югуртой. Последний не только участвовал во взятии Сципионом Эмилианом Карфагена, но во главе нумидийской конницы воевал под его началом и в Испании. С тех пор Югурта сохранил знакомства и связи в кругах римской аристократии и потому хорошо представлял себе характер сенатской власти. Миципса поделил свое наследство между сыновьями, и Рим принял на себя роль гаранта его воли. Спокойствие в Нумидии не было безразлично римлянам, так как с ней граничила римская провинция Африка. Тем не менее сенат в течение нескольких лет уклонялся от вмешательства в конфликт между наследниками нумидийского престола. Когда вмешаться все-таки пришлось, сенаторы явно несправедливо решили спор в пользу Югурты, который, почти не таясь, подкупал их. Адгербалу была оставлена только столица страны, Цирта. Однако, вопреки договоренности, Югурта осаждает и ее. Две вялые сенатские комиссии безрезультатно уговаривают его выполнять принятые решения. Вместо этого в 112-м году Югурта овладевает городом, убивает Адгербала и приказывает перебить все мужское население Цирты, включая и многочисленных италиков, главным образом купцов, в ней находившихся. По всей Италии прокатывается волна возмущения. Сенат вынужден объявить войну Югурте, но тот вскоре покупает выгодные для себя условия заключения мира. Это вызывает энергичный протест народных трибунов, и мирный договор аннулируется. Военные действия возобновляются. Между тем римская армия разложилась, ее командиры подкуплены, и она терпит поражение. В 109-м году новый мирный договор уже продиктован Югуртой и унизителен для Рима. Римское войско должно пройти под ярмом (считавшаяся крайне унизительной процедура, когда все побежденные воины должны пройти через воротца, образованные двумя воткнутыми в землю и одним лежащим на них копьями) и очистить всю территорию Нумидии. Негодование римского народа по этому поводу настолько сильно, что чрезвычайная судебная комиссия всадников при слабом сопротивлении аристократов осуждает на изгнание бывших главнокомандующих римского войска. Сенат вынужден снова кассировать договор и направить в Нумидию единственного дееспособного военачальника, Квинта Цецилия Метелла. Непримиримый и неподкупный аристократ, опытный полководец, Метелл настолько свободен от сословных предрассудков, что в качестве одного из легатов берет с собой Гая Мария, выслужившегося из простых солдат. Новому главнокомандующему удается энергичными мерами восстановить боеспособность находящихся в Африке легионов, и уже весной 109-го года он снова ведет их в Нумидию. В том же году происходит решительное сражение с Югуртой, где римляне одерживают убедительную победу. В этом сражении отлично зарекомендовал себя и Гай Марий. Первому из известных римских полководцев незнатного происхождения предстояло сыграть особую, драматическую роль в римской истории, и потому мы сосредоточим на нем наше внимание.
Гай Марий родился в 157-м году, в деревне близ провинциального города Арпина. Сын даже не крестьянина, а сельского поденщика, он и сам, надо полагать, начинал свой жизненный путь в том же качестве. Движимый честолюбием, он, как только позволил возраст, сумел вступить в римскую армию, воевавшую в Испании, — благо война эта была неудачной и непопулярной. Благодаря своему рвению, выносливости и недюжинной храбрости юный Марий сумел выдвинуться и в 133-м году при осаде Нуманции уже занимал офицерскую должность. Был отмечен Сципионом Эмилианом. Военные заслуги позволили ему в 119-м году добиться избрания народным трибуном. Он провел кое-какие, не очень значительные, законы в пользу плебса. Дальнейшее продвижение по службе и получение магистратур в тогдашнем Риме уже было невозможно без состояния и связей. Марию удалось провести несколько удачных торговых операций и, что еще более важно, жениться на девушке из старинного и знатного патрицианского рода Юлиев. В 115-м году его избирают претором, а затем в звании пропретора назначают наместником в Дальнюю Испанию. Здесь, в борьбе с мятежными испанцами, он получает возможность подтвердить свою репутацию храброго воина и талантливого полководца. Ему удается завоевать уважение и любовь солдат. Он близок им по происхождению, воспитанию и складу ума. На равных делит с ними трудности походной жизни, удивляет своей неприхотливостью и выносливостью, неизменно заботится о подчиненных. От других римских военачальников его отличает еще совершенное бескорыстие, даже презрение к богатству и наслаждениям.
По истечении срока наместничества Марий возвращается в Рим и получает от Метелла предложение сопровождать его на войну с Югуртой. Его отношения с Метеллом имеют, по-видимому, давнюю предысторию. У Плутарха есть неясное упоминание о том, что еще отец Мария служил дому Метеллов. Возможно, что Квинт Метелл помог молодому Гаю вступить в испанское войско римлян, несмотря на отсутствие у него минимально необходимого достатка. С другой стороны, тот же Плутарх пишет о столкновении Мария, уже в качестве народного трибуна, с Метеллом, которому он даже будто бы грозил арестом. Тем не менее Метелл берет Мария с собой в Нумидию и, ценя его военные заслуги, поручает ответственное командование в бою. Но вместе с тем дистанция между знатным аристократом и крестьянским сыном остается неизменной. И потому Метелл был неприятно удивлен, узнав от Мария о его непомерно честолюбивом желании баллотироваться на очередных выборах консулов. К тому же это было вызовом и нарушением традиции. Хотя после того как плебеи добились полного уравнения в правах с патрициями, любой гражданин Рима мог быть избран консулом, до сих пор на высший государственный пост осмеливались претендовать только аристократы. Любые другие магистратуры были уже доступны простому народу, но, как свидетельствует историк Саллюстий:
«...консульскую должность знать пока сохраняла за собой, еще передавая ее из рук в руки. Всякого нового человека, как бы он ни прославился, какие бы подвиги ни совершил, считали недостойным этой чести и как бы оскверняющим ее». (Саллюстий. Югуртинская война. 63, 2)
Римские историки утверждают, что дерзкое решение Мария было подкреплено предсказанием великого и чудесного будущего, будто бы сделанного неким гаруспиком. Реакцию Метелла на претензии его легата и последствия этой реакции живо описывает тот же Саллюстий:
«Марий, — пишет он, — увидя, что слова гаруспика совпадают с тем, к чему его влекут тайные желания, просит у Метелла отпуск, чтобы выступить соискателем на выборах. Хотя Метелл и был щедро наделен доблестью, жаждой славы и другими качествами, желанными для честных людей, он все же отличался презрительным высокомерием — общим пороком знати. Озадаченный необычной просьбой, он сперва удивился намерению Мария и как бы по дружбе стал предостерегать его от столь неразумной затеи и от стремления, не соответствующего его положению... Не переубедив его, Метелл обещал удовлетворить его просьбу, как только позволят обстоятельства. И впоследствии, когда Марий неоднократно обращался к нему с этой же просьбой, Метелл, говорят, советовал ему не спешить с отъездом: для него, дескать, будет не поздно добиваться консулата вместе с его сыном. А тот в это время под началом отца там же проходил военную службу, и было ему лет двадцать». (Там же. 63, 3)
Естественно, что Марий, которому уже сорок семь и немало боевых заслуг за плечами, был оскорблен таким предложением.
«Этот ответ, — продолжает Саллюстий, — разжег в Марии решимость добиться магистратуры, к какой он стремился, и раздражение против Метелла. И он стал слушаться двух наихудших советчиков — честолюбия и гнева, и не останавливался ни перед поступком, ни перед словом, лишь бы они способствовали его избранию: от солдат, которыми он командовал на зимних квартирах, он уже не требовал прежней строгой дисциплины; в присутствии торговцев, весьма многочисленных в Утике, он вел несдержанные и одновременно хвастливые речи о войне — дескать, если бы ему доверили половину войска, то Югурта уже через несколько дней оказался бы в его руках, закованным в цепи. Командующий, по его словам, нарочно затягивает войну, так как он, человек тщеславный и по-царски высокомерный, чересчур упоен своей властью. Все это казалось людям тем более убедительным, что продолжительная война их разоряла, а для человека, охваченного каким-либо желанием, все делается недостаточно быстро...» (Там же. 63, 4)
Агитация Мария, как он и рассчитывал, доходит до простого народа в Риме. По свидетельству Плутарха:
«...все писали из лагеря домой, что не будет ни конца, ни предела войне, пока Гая Мария не изберут консулом». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гай Марий. VII)
Марий и сам пишет в столицу своим друзьям, всадникам и торговцам, а также находящемуся в Риме еще одному внуку Массиниссы, Гауду побуждая их осуждать на форуме Метелла и требовать передачи командования ему Марию. Момент благоприятен еще тем, что недавно закончился суд над бывшими главнокомандующими римского войска, показавший их продажность и измену. Во время этого суда вскрылись и факты подкупа Югуртой римских сенаторов, а потому сенат не осмелится помешать народу избрать Гая Мария консулом.
Между тем Метелл, готовя новое наступление на Югурту решает отпустить Мария, справедливо полагая, что ему сейчас не нужен офицер, настроенный враждебно и находящийся при нем против своей воли. Правда, отпускает он его только за десять дней до выборов. Но Марий успевает с необычайной скоростью, всего за шесть дней, добраться до Рима. Почва там оказывается подготовленной. Вот как описывает Саллюстий дальнейшее развитие событий:
«В Риме народ с удовольствием принял известия о Метелле и Марии, о которых сообщалось в письмах. Для военачальника знатность, ранее служившая ему украшением, стала причиной ненависти; напротив, низкое происхождение Мария усиливало расположение к нему. Впрочем, отношение к каждому из них определялось больше пристрастием враждующих сторон, чем их достоинствами и недостатками. Кроме того, мятежные магистраты возбуждали чернь, на всех сходках обвиняли Метелла в уголовном преступлении, превозносили доблесть Мария. В конце концов, они так распалили народ, что все ремесленники и сельские жители, чье состояние создается трудом их рук, бросив работу, толпами сопровождали Мария и ставили его избрание выше своих собственных интересов. Так после поражения знати, спустя много лет консулат вверяют новому человеку. После этого плебейский трибун Тит Манлий Манцин спросил, кому народ хочет поручить войну с Югуртой, и большинство повелело — Марию. Сенат незадолго до этого назначил Нумидию Метеллу и его постановление оказалось теперь недействительным». (Саллюстий. Югуртинская война. 73, 2-7)
Тем временем Метелл, пройдя через безводную пустыню, после месячной осады берет крепость Фала, где укрылся Югурта. Тому удается бежать на запад к мавретанскому царю Бокху своему тестю. Хотя почти вся Нумидия уже захвачена римлянами, Югурта по дороге набирает среди воинственных южных племен своей страны большой отряд конников и приводит его к Бокху. Метелл начинает переговоры с мавретанским владыкой и одновременно готовится к сражению с ним и Югуртой. Но приходит известие о том, что римский народ поручил продолжение войны Марию. Оскорбленный Метелл передает командование одному из легатов и, не дожидаясь прибытия своего бывшего соратника, а ныне врага, покидает Нумидию.
Между тем Марий не очень-то и торопится. Он в Риме энергично набирает дополнительные войска: требует пополнения легионов, привлекает вспомогательные отряды союзников, созывает из Лациума храбрейших солдат, большинство которых он знает по Испании, уговаривает отправиться с ним в Нумидию отслуживших свой срок ветеранов. Сенат не решается ни в чем ему отказать — ни в деньгах, ни в припасах, ни в вооружении. Однако всего этого Марию кажется недостаточно. Опираясь на поддержку простонародья, новый консул, сам поднявшийся из нищеты, впервые набирает войско, не считаясь с имущественным цензом. Это нововведение имеет столь далеко идущие последствия, что следует привести мнение по этому поводу римского историка:
«Сам он тем временем, — пишет о Марии Саллюстий, — набирает солдат, но не по обычаю предков и не по разрядам, а всякого, кто пожелает, большей частью лично им внесенных в списки. Одни объясняли это недостатком порядочных граждан, другие — честолюбием консула, ибо именно эти люди его прославили и возвысили, а для человека, стремящегося к господству, наиболее подходящие люди — самые нуждающиеся, которые не дорожат имуществом, поскольку у них ничего нет, и все, что им приносит доход, кажется им честным». (Там же. 86, 1-4)
В оправдание своих действий и для привлечения добровольцев Марий обращается к народу с большой речью, дошедшей до нас в пересказе того же Саллюстия. Трудно не заметить в ней проявление своего рода комплекса неполноценности. Вот несколько фрагментов из этой речи:
«Вы поручили мне, — говорит Марий, — вести войну с Югуртой, и знать была этим крайне раздражена. Подумайте, пожалуйста, сами, не лучше ли вам будет переменить решение: не возложить ли выполнение этой или другой подобной задачи на кого-нибудь из круга знати, на человека древнего происхождения, имеющего множество изображений предков и никогда не воевавшего... С этими гордецами, квириты, сравните теперь меня, нового человека. То, о чем они обычно слышат или читают, я либо видел, либо совершил сам; чему они научились из книг, тому я — ведя войны. Теперь сами решайте, что более ценно — действия или слова. Они презирают меня как нового человека, я их — как трусов; мне бросают в лицо мое происхождение, я им — их подлости. Впрочем, я полагаю, что все люди одинакового происхождения, но все храбрейшие — они и самые благородные... слава предков как бы светоч для потомков; она не оставляет во тьме ни их достоинств, ни их пороков. Именно ее мне недостает, признаюсь вам, квириты! Однако — и это намного более славно — я могу говорить о собственных деяниях... Я не могу, ради вящего доверия к себе, похвастать изображениями предков, их триумфами или консулатами, но если потребуется, покажу копья, флажок, фалеры и другие воинские награды и, кроме того, шрамы на груди. Вот мои изображения, вот моя знатность, не по наследству мне доставшаяся, как им, но приобретенная бесчисленными трудами и опасностями». (Там же. 85, 1030)
Далее он признается:
«Не знаю я греческой литературы, да и не нравилось мне изучать ее, ибо наставникам в ней она не помогла достичь доблести. Но тому, что гораздо важнее для государства, я обучен, а именно: поражать врага, нести сторожевую службу, ничего не бояться, кроме дурной славы, одинаково переносить холод и зной, спать на голой земле, переносить одновременно и голод, и тяготы. Так же я буду наставлять и своих солдат...» (Там же. 85, 32)
Заканчивает Марий, как полагается, заверением в успехе войны и апелляцией к доблести слушателей. Ему удается набрать многочисленное подкрепление, с которым он отбывает в Нумидию, где принимает командование над основным войском. Избегая с ним встречи, Метелл возвращается в Рим. В следующем году, когда сменятся враждебные ему трибуны, Метелл получит триумф и почетное прозвание Нумидийский.
Военные предприятия Мария в Нумидии можно назвать успешными не без некоторой натяжки. Он предпринял трудный поход на пустынный юго-запад страны, где в результате продолжительной осады овладел двумя крепостями, до которых не дошел Метелл. Зато во время возвращения оттуда осенью 106-го года римская армия была дважды атакована на марше соединенными силами Бокха и Югурты, так что едва ушла от поражения. Ей это удалось главным образом благодаря умелым и решительным действиям молодого начальника римской кавалерии Луция Корнелия Суллы. Стремительной атакой он сумел опрокинуть, рассеять и отогнать знаменитую нумидийскую конницу. Затем он атаковал с тыла теснившую римлян мавретанскую пехоту и заставил ее отступить, после чего римское войско благополучно добралось до зимних квартир в Цитре.
Зимой Бокх, коварно маневрировавший между Югуртой и римлянами, склоняется в пользу последних, присылает к Марию своего сына и сообщает о готовности вступить в мирные переговоры. Но при условии, что для их ведения к нему прибудет Луций Сулла. Консулу приходится рискнуть жизнью своего лучшего командира. Сам Сулла бесстрашно заявляет о своей готовности отправиться в эту опасную экспедицию. Пройдя без охраны через лагерь Югурты, он прибыл к Бокху и сумел, отклонив компромиссные предложения мавретанского царя, настоять на выдаче Югурты римлянам. Бокх хитростью заманил зятя в ловушку, приказал перебить его свиту, а самого Нумидийца, в кандалах, вместе с детьми, передал Сулле, который благополучно доставил их Марию. Югуртинская война была окончена.
Хотя большую часть ее успешно провел Метелл, а в пленении Югурты немалую роль сыграли отвага и решимость Суллы, римский плебс восторженно славит своего кумира Мария. 1 января 104-го года он с триумфом вступает в Рим. В триумфальной процессии ведут закованного в цепи Югурту, который затем будет задушен в подвале Мамертинской тюрьмы. Во главе своих конников в процессии едет и Сулла. В его душе обида, а в сердце Мария — ревность. Но взаимная неприязнь консула и его легата еще не скоро выльется в открытое и кровопролитное противоборство.
Марий вступает в Рим не только в качестве триумфатора, но и новоизбранного (заочно) на этот год консула. Его повторное избрание вызвано следующими чрезвычайными обстоятельствами. Пока шла затяжная война в Африке, затрагивавшая скорее престиж Рима, чем его жизненно важные интересы, над самой Италией нависла серьезная военная угроза с севера.
К этому времени римляне уже основательно освоили средиземноморское побережье нынешней Франции, обеспечив себе сухопутную связь с Испанией по пути, некогда пройденному Ганнибалом. Главными опорными пунктами здесь служили: недавно основанная колония римских граждан в Нарбонне, близ границы Испании, и крепость Аква Секстия на Роне (ныне Экс-ан-Прованс), неподалеку от заложенного еще финикийцами города Массалии (Марсель), где обосновались римские купцы. Для охраны своих интересов в этой так называемой Трансальпийской Галлии римляне держали войско. Главную опасность для них в ту пору представляло дикое и воинственное бродячее племя кимвров.
Кимвры пришли с севера, от берегов Балтики. Они кочевали всем народом в крытых кожей повозках и, как утверждают античные авторы, своей свирепостью наводили ужас на всю тогдашнюю Европу. Высокие, сильные мужчины с темно-русыми волосами и светло-голубыми глазами и их статные женщины, мало уступавшие ростом и силой своим мужьям, отличались дикостью нравов. Мясо они нередко ели сырым. Своих королей выбирали из самых храбрых воинов. Смерть на поле боя считали единственным достойным концом жизни. Зато после победы приносили в жертву богам всех оставшихся в живых противников. Эти жертвоприношения совершали жрицы — босые, в белых одеяниях. По струившейся крови они пророчествовали о новых подвигах своего странного народа, который то внезапно появлялся, сея смерть и разрушение, то так же внезапно исчезал.
Римляне уже потерпели от кимвров тяжелые поражения в 113-м и 109-м годах. Но тогда варвары неожиданно ушли на северо-запад. В 105-м году они снова появились на юге Галлии, в нижнем течении Роны, и напали на две стоявшие там римские армии. Эти армии на свою беду находились под командованием двух одинаково неспособных, к тому же еще и соперничавших полководцев, что повлекло за собой их полный разгром. Прижатые к широкой реке, римляне потеряли до 80 тысяч солдат убитыми. Это была катастрофа похуже поражения от Ганнибала при Каннах. Дорога на Рим для кимвров была открыта, а людских резервов для организации военного отпора варварам практически не было. Страх охватил Италию. К счастью, закончилась нумидийская война, и все надежды обратились на победителя Югурты Гая Мария. Он был избран консулом на 104-й год и сразу после триумфа проследовал со своим войском в Галлию. Трудно сказать, удалось бы Марию или нет во главе опытного, но сравнительно малочисленного войска задержать лавину кимвров, если бы те сразу двинулись на Италию. Но варвары неожиданно изменили свои намерения и ушли в Испанию. Там они провоевали два года и, не сумев сломить сопротивление мужественных испанцев, отхлынули назад за Пиренеи. Потом кимвры пошли вдоль атлантического побережья на север, в страну белгов. Здесь они соединились с пришедшим тоже с берегов Балтийского моря родственным народом тевтонов и только после этого двинулись на юг, в Италию. Марию предстояло сразиться с ними лишь в 102-м году, и таким образом, для подготовки войска в его распоряжении оказалось целых три года. Он чрезвычайно эффективно использовал это время — произвел коренную реорганизацию войска, которая в этой ситуации, по-видимому, спасла Рим. Надо признать, что римляне предоставили ему для этого все возможности. Неслыханное дело — в течение этих трех лет Марий ежегодно избирается консулом (потом еще два года — до 100-го включительно).
Удивительно, как История, подобно опытному ремесленнику, в нужном месте и в нужный момент находит единственное пригодное орудие для своего продвижения. Военную реформу, которая не только позволила остановить варваров, но и сделала возможным переход от Республики к Империи, мог осуществить только полководец неаристократического происхождения. Пожалуй даже только такой вот бывший поденщик и простой солдат. Конечно, все взаимообусловлено. Замена Метелла на Мария явилась следствием недовольства римлян коррупцией в среде сенатской аристократии. Но если бы Марий не появился на политическом горизонте Рима, военная реформа не была бы проведена и кимвры завоевали бы Италию. Тогда была бы совсем другая История, и мы были бы другие, и, наверное, по поводу совсем других обстоятельств размышляли бы о том, что История всегда вовремя находит необходимые средства для своей реализации.
Революционная сущность военной реформы Мария состояла в том, что он, как мы сейчас говорим, заменил гражданское ополчение на профессиональную армию. Со времен царя Сервия Туллия и до той поры римское войско набиралось путем регулярного призыва граждан, обладающих определенным имущественным достатком. Защита отечества была почетной обязанностью тех, кому было что защищать и в личном плане тоже. В массе своей это были крестьяне. Сохранялся, хотя и был снижен по сравнению с первоначальным, минимальный имущественный ценз, допускавший зачисление в ряды римского войска. Подразделения личного состава легионов и их вооружение, приобретаемое на свои средства, соответствовали различиям в состоятельности солдат. Хотя воины получали жалованье от казны, а во II веке им доставалась еще и доля военной добычи, это лишь частично компенсировало их убытки, связанные с долговременным отсутствием на полях. Марий отменил все имущественные ограничения как на вступление в армию, так и для формирования подразделений войска и вооружения солдат. Теперь в армию вербовались добровольцы. В ту пору ими оказывались преимущественно лишившиеся земли крестьяне, сельские поденщики и люмпены, околачивавшиеся в Риме, число которых неимоверно выросло после введения Гаем Гракхом государственной продажи дешевого хлеба. Эти люди выбирали военное дело как свой постоянный и единственный источник средств существования. В случае большой войны, помимо постоянного профессионального войска, мог быть произведен и дополнительный набор солдат на время военных действий, если, конечно, сенат находил средства на их вооружение и содержание.
Реформа Мария коренным образом меняла ситуацию в отношении численности резервного контингента римских граждан, готовых к вступлению в войско на постоянной или временной основе. Меняла она и возможности его военной подготовки. Теперь не столько личная доблесть и самоотвержение, сколько выучка и выносливость солдат, суровая дисциплина и слаженность действий всех подразделений должны были решать исход сражений. Вооружение и характер обучения всех солдат были одинаковы. Оружие и снаряжение доставляло государство. Место в строю определялось уже не имущественным цензом, а только усмотрением офицеров. Отличия диктовались лишь боевым опытом и заслугами.
Новая организация войска имела и свои важные политические следствия. Завербовавшись в армию, бывший пролетарий жил на жалованье и, хотя минимальный срок вербовки составлял 16 лет, стремился остаться в армии и дольше — пока не обеспечит своей старости. Лагерь был его родиной, война — единственной наукой, а с удачей полководца были связаны все надежды. Общественная жизнь и дела государственные были от такого солдата далеки, а личная заинтересованность в успехе мероприятий, осуществляемых главнокомандующим, каков бы ни был их характер, — очевидна. Кроме того, трудность и продолжительность военных кампаний в дальних странах заставили Рим окончательно отказаться от былой практики ежегодной смены полководцев. Между профессиональным войском и его командующим устанавливались особые отношения боевого братства и преданности. Победоносный полководец в глазах его солдат стоял выше, чем Рим и его законы. 10 когорт (по 6 центурий в каждой), на которые теперь разбивался легион, следовали каждая за своим знаменем, но священным символом всей многолюдной семьи легионеров, их реликвией стал введенный Марием значок легиона в виде серебряного орла.
Были сделаны и еще два нововведения принципиального характера. Во-первых, в состав римской армии Марий стал включать вспомогательные войска, в первую очередь конницу, не только из числа италийских союзников Рима, но и из подвластных ему провинций вне Италии. Во-вторых, отряд личной охраны главнокомандующего (когорта друзей), сформированный впервые еще Сципионом Эмилианом при его отбытии под Нуманцию, получил официальный статус гвардии полководца. Гвардейцы несли службу при штабе командующего (претории) и именовались преторианцами. Они были освобождены от земляных работ, получали повышенное жалованье и пользовались особым почетом. Подчинялись они непосредственно полководцу. По его личному приказанию преторианцы вступали в сражение в критических обстоятельствах как последний резерв. На них же командующий мог опереться в случае какого-либо волнения в легионах.
Три года, которые кимвры отпустили Марию на создание профессионального римского войска, оказались вполне достаточным сроком для обретения военной мощи, способной остановить страшных варваров. Но вместе с тем в Риме появилась и новая сила — армия, стоящая как бы вне гражданского устройства Республики. Именно на нее впоследствии предстояло опереться римским императорам.
А пока что эта армия готовилась встретить катящийся на Италию вал нашествия кимвров и тевтонов. Первый свой лагерь Марий поставил на Роне, километрах в ста пятидесяти севернее Аквы Сестии. Между тем варвары разделились на два отряда, чтобы пройти Альпы одновременно по западному и восточному перевалам. На восток, через верховья Рейна, пошли кимвры, а к перевалу Малый Бернар вдоль средиземноморского побережья — тевтоны. Спускаясь долиной Роны, им предстояло миновать лагерь Мария. В течение трех дней они его штурмовали, но взять не смогли и прошли дальше к югу. Марий вышел вслед за ними и близ Аквы Сестии навязал сражение сначала арьергарду, а потом и основному войску тевтонов. Упорная битва закончилась решительной победой римлян. Воинственные тевтоны были рассеяны и в большинстве своем перебиты. Убитыми и пленными они потеряли более ста тысяч человек. Среди убитых было немало женщин, участвовавших в бою. Это произошло летом 102-го года.
В это время кимвры незащищенными проходами Восточных Альп проникли в Италию. По словам Плутарха, чтобы показать врагу свою выносливость, они шли через альпийские перевалы по снегу и льду обнаженными. В долине их ожидал со своей армией второй консул, Квинт Лутаций Катул. Но когда из горных ущелий хлынули густые потоки кимвров, римлянами овладела паника, и они поспешно отступили за реку По, очистив таким образом всю Цизальпинскую Галлию. Если бы кимвры тем же летом продолжили наступление, Рим оказался бы в очень опасном положении. Но благодатный край, в котором оказались варвары, расположил их к остановке. Зимой же они обычно вообще не двигались с места. Марий успел перебросить в Северную Италию свое победившее тевтонов войско, и весной 101-го года объединенные римские силы под командованием консула Мария и проконсула Катула перешли обратно через По и выступили навстречу кимврам.
Сражение произошло 30 июля на обширной равнине, именуемой Раудийскими полями. Римляне одержали полную победу. Подавляющее большинство кимвров было убито или покончило с собой. Остальных продали в рабство. Бездомный кимврский народ, в течение тринадцати лет наводивший ужас на всю Европу, перестал существовать. Сложилось так, что главная роль в этом сражении выпала на долю солдат Катула, но вся слава и в этой битве досталась Марию. Во-первых, потому что, будучи консулом, он считался главнокомандующим, а во-вторых, потому что Катул как аристократ и, кстати сказать, очень образованный человек, знаток и ценитель искусства, не пользовался симпатией у народа. Народ опять превозносил Мария! Здесь стоит упомянуть, что, отправляясь в Галлию, Марий взял с собой Суллу — своего бесспорно лучшего офицера. Но соперничество и взаимная неприязнь между ними развились уже в такой степени, что Сулла вскоре перешел в войско Катула. Так что и на этот раз он оказался в тени.
Освободившись от страха перед нашествием варваров, римляне ликовали, ожидая возвращения своего кумира, которому назначен был двойной триумф — за победы над тевтонами и кимврами.
Между тем двойная победа Мария была еще и новым серьезным поражением сената. Более того, преданное своему главнокомандующему победоносное войско само по себе представляло огромную силу. Она сочеталась с общенародной славой и популярностью полководца. В тот момент Марий мог бы осуществить то, что пытался сделать Гай Гракх, — полностью отстранить сенат и установить свою личную диктатуру в Риме. Но честолюбие крестьянского сына не поднималось выше страстного желания быть принятым на равных в заветный круг римской аристократии. Недаром он в цитированной выше речи перед народом говорит о предках нынешних аристократов, что у них «как и у меня, знатность порождена доблестью». Да и республиканские традиции еще не были изжиты — время падения Республики еще не пришло.
Марий распускает войско и наивно ожидает, что сенаторы, прежде сопротивлявшиеся его избранию, теперь откроют свои объятия спасителю Рима. Конечно, сенат вместе со всем народом торжественно приветствует триумфатора, но объятия не открываются. Напротив, вскоре Марий с горечью замечает, что прежнее снисходительно-презрительное отношение к нему осталось неизменным. В той же своей речи, произнесенной еще до сражений с варварами, помимо признания в незнании греческой литературы, есть и такой полный обиды пассаж, относящийся к аристократам:
«По их словам, я неопрятен и груб, так как не умею изысканно устроить пирушку и у меня нет актера, да и повар обошелся мне не дороже, чем управитель усадьбы». (Там же. 85, 36)
Надо полагать, что три года, проведенные в военном лагере, не прибавили Марию ни образованности, ни изысканных привычек, а его ратные подвиги на фоне изнеженности теперешней римской элиты не могли породить ничего, кроме зависти и еще большей неприязни. Что же касается признанного лидера сената Квинта Метелла, то, хотя его нельзя было бы упрекнуть в изнеженности, презрение и ненависть к бывшему легату, отнявшему у своего покровителя славу победы над Югуртой, имели под собой достаточно оснований.
В то же время другие, далеко не бескорыстные объятия были широко открыты для Мария. Партия популяров после убийства Гая Гракха пережила длительный период упадка. Теперь она не только вновь объединила свои силы в связи с выдвижением, вопреки сенату, «нового человека» в консулы, но и обрела во время его пребывания на войне полных решимости вожаков. Ими стали Гай Сервилий Главция и Луций Апулей Сатурнин.
Нелегко было бы сыскать двух менее схожих между собой людей. Главция был циничный, грубый и своекорыстный демагог низкого происхождения, увлекавший толпу едким и дерзким остроумием. Сатурнин же происходил из древнего, но не принадлежавшего к сенатским кругам рода. Он был честолюбив, начинал свою карьеру, как полагалось, в качестве квестора, но был обижен сенатом, отнявшим у него обычное для этой должности распоряжение продажей хлеба. После этого Сатурнин перешел в лагерь противников сената и в 103-м году был избран народным трибуном. С присущим ему пылким красноречием он обличает продажность сенатской аристократии, рассказывает на форуме, как подкупали сенаторов послы понтийского царя Митридата. Против Метелла, добивавшегося избрания в цензоры, Сатурнин так настроил толпу плебса, что дело дошло до рукопашной схватки с клиентами сенатора. И вообще бурная антисенатская активность трибуна не склонна была ограничиваться разоблачениями и борьбой в строгих рамках законов. Обида и пылкий темперамент постоянно толкали Сатурнина на путь прямого насилия, тем более что примеры сего были еще недавно преподаны самими сенаторами. Однако достаточной силы для того, чтобы сокрушить законную власть сената, не было. И вот теперь союз с Марием и поддержка его солдатни обещали такую силу.
Эту опасность следовало бы понять римским аристократам, но в своем высокомерном ослеплении они оттолкнули от себя поднявшегося от сохи триумфатора. И союз состоялся! На 100-й год, вопреки сенату и при активной поддержке Сатурнина, Марий еще раз избирается консулом. Сатурнин, не без помощи солдат Мария, вновь проходит в трибуны, а Главция — в преторы. Начинается их совместная атака на сенат. Сатурнин предлагает закон о наделении ветеранов Мария участками по 100 югеров (25 га) в Африке и Трансальпийской Галлии. Причем предполагается при образовании там колоний присваивать права римского гражданства и ветеранам из контингента италийских союзников, служивших под начальством Мария. Такое расширение сферы римского гражданства (его, как мы помним, предполагал осуществить еще Гай Гракх) безусловно подорвало бы власть римской аристократии. Чтобы заручиться поддержкой плебса, с этим законом был «спарен» другой закон — о снижении еще в восемь раз, до чисто символической величины, цены на хлеб, поставляемый государством для неимущих граждан Рима. Кроме того, в этот объединенный законопроект вносится необычное дополнение, обязывающее всех сенаторов поклясться в том, что закон будет приведен в исполнение. Те сенаторы, которые дать клятву не пожелают, должны быть исключены из сената и уплатить штраф. Это дополнение направлено против Метелла, который, как можно ожидать, дать такую клятву откажется.
В день голосования закона в Рим из деревень стекаются ушедшие было в отпуск солдаты и ветераны Мария. Попытка других трибунов и поддержавших их горожан помешать проведению собрания под предлогом неблагоприятных знамений оканчивается очередной потасовкой на форуме. Хотя на этот раз в ход были пущены не мечи, а дубины, солдаты и крестьяне имели численный перевес и одержали верх. Законы Сатурнина в комициях были приняты. Сенаторы принесли клятву верности, а Метелл отказался и покинул Рим. Затем его вынужденное отступление было закреплено декретом об изгнании. Между тем насилие и буйство уличного сброда оттолкнуло от популяров не только всадников, но и всех деловых людей города. Они держались в стороне, пока развитие событий касалось ограничения власти сената, но теперь стало ясно, что Марий как политический лидер несостоятелен, что всем заправляют демагоги и их всевластие приобретает опасный характер. Гай Гракх в свое время понимал, что свергнуть сенат невозможно без поддержки среднего слоя состоятельных граждан и старался привлечь их на свою сторону. Теперешняя агрессивность продолжателей его дела примирила этот слой с аристократией. Тем временем крестьяне и солдаты покинули Рим, и соотношение сил в нем изменилось. Когда на следующих выборах Сатурнин был переизбран в трибуны, а Главция имел наглость добиваться консульства, большинство граждан выступило в поддержку его соперника, оптимата Гая Меммия. Тогда приверженцы Главции, не таясь, убили Меммия. Это вызвало всеобщее возмущение. Сенат объявил государство в опасности и приказал Марию, в тот момент еще консулу, арестовать вдохновителей преступления. Сатурнин и Главция собрали своих сторонников и захватили Капитолий. Марий оказался перед выбором: либо открыто присоединиться к мятежу, либо подчиниться закону и сенату. По-видимому, он надеялся, изменив своим союзникам, заслужить вожделенное признание и расположение аристократов. Собрав солдат нового набора, Марий осадил Капитолий. Главция и Сатурнин в надежде на его покровительство сдались, но были убиты. Историк Аппиан следующим образом описывает финал этого злополучного дня:
«Марий, в то время как все требовали немедленно же их казнить, заключил их в здании сената, чтобы, как он говорил, расправиться с ними, придерживаясь закона. Но народ (аристократическая молодежь. — Л.О.), считая все это только уловкой, разобрал черепицу с крыши здания и бросал ее в сторонников Апулея (Сатурнина. — Л.О.) до тех пор, пока не убил его самого, квестора, трибуна и претора, в то время когда все они еще были облечены знаками своей власти. При этом волнении погибло и много другого народа... Дело дошло до того, что никого уже больше не могли защитить ни свобода, ни демократический строй, ни законы, ни авторитет власти». (Аппиан. Гражданские войны. I, 32-33)
Римская республика спустя двадцать лет после Гракха испытала новый кризис. Вновь против мятежного гражданского населения в самом Риме было направлено войско. И если тогда это были наемники, то теперь — молодые римские воины.
Предательство Мария не принесло ему желанного признания сенаторов. Оптиматы по-прежнему не могли ему простить ни низкого происхождения, ни стремительного возвышения, ни союза с демагогами. Популяры же, естественно, возненавидели его как перебежчика во враждебный лагерь. Заслуги его были забыты. Положение Мария оказалось настолько жалким, что он даже не осмелился выставить свою кандидатуру на происходивших в том году выборах цензоров. Оказавшись не у дел и презираемый всеми, он после сложения консульских полномочий уехал на Восток под предлогом поклонения Матери богов по обету.
В 99-м году в Рим с триумфом возвратился Метелл, но вскоре был отравлен неведомо кем. Между тем римский нобилитет праздновал свою победу над демократической оппозицией. Законы Сатурнина были отменены, а его сторонников всаднические суды подвергали жестоким преследованиям. Власть римского сената, несмотря на все его ничтожество, снова укрепилась.
В 97-м году вернулся и Марий. Он возобновил свои утренние приемы, но никто не являлся к недавнему кумиру, чтобы выразить ему если уже не восхищение и поклонение, то хотя бы дружеское участие. В одиночестве предавался он мрачным мыслям и тешил себя надеждой на новые войны, когда пристыженное отечество вновь призовет его для своего спасения. Но царил глубокий мир, и было непохоже, чтобы фортуна сулила ему новое появление на политическом горизонте Рима.
Здесь уместно сравнить историю возвышения и падения Мария с судьбой Сципиона Африканского. Победитель Ганнибала после возвращения с Сирийской войны, так же как Марий, имел в своем распоряжении преданное войско и восторженную поддержку римского народа. Его тоже ненавидел и пытался преследовать сенат. Он мог взять единоличную власть в Риме и понимал это. Но преданность идее республиканского устройства заставила выдающегося римского гражданина отвергнуть такую возможность и навсегда покинуть Рим. Непреходящая слава в грядущих поколениях была наградой за это гордое и благородное решение. Движимый неуемным честолюбием, но человек мелкий, Марий не решился взять шедшую к нему в руки власть, колебался, менял фронт, заискивал перед сенатом и бесславно закончил этот этап своей жизни.
Выше я написал, что в 97-м году было непохоже, чтобы Марию вновь пришлось начальствовать над римским войском. Но в жизни, как известно, не так уж редко происходят события маловероятные. Спустя еще семь лет, когда ему уже стукнуло шестьдесят пять, Марий снова оказался командующим на полях сражений. Правда, не главнокомандующим, а легатом, и на полях уже два столетия мирных — в срединной Италии. В 91-м году началась война между Римом и коалицией его бывших италийских союзников, известная в истории как «Союзническая война». Назревала она давно. С незапамятных времен римляне заставляли некогда побежденные, а затем зависимые от Рима италийские города поставлять солдат для вспомогательных контингентов римского войска. Их численность все возрастала. Против тевтонов и кимвров под командой Мария сражалось уже больше италиков, чем римских граждан. Между тем солдаты союзников Рима не участвовали в дележе военной добычи, а сами союзные общины не получали никакой доли в завоеванных вне Италии землях. Зато смертная казнь в армии, отмененная для римлян, сохранялась для италиков. Правда, италийские купцы в новых римских провинциях пользовались такими же привилегиями, что и римляне, но зато взятая на себя Римом функция надзора за местным гражданским самоуправлением италиков нередко расширялась до полного беззакония и произвола назначаемых римским претором префектов.
Союзники издавна пытались добиться уравнения в гражданских правах с римлянами. Они обращались за поддержкой то к оптиматам, то к популярам, встречали сочувствие со стороны лучших людей обеих партий, понимавших, что будущее Рима зависит от прочности его союза с италиками. Но все попытки законодательным путем распространить права римского гражданства на союзников наталкивались на упорное сопротивление как узколобых аристократов, так и плебса. И те, и другие с одинаковой тупостью усматривали в этих попытках посягательство на свое неотъемлемое право превосходства над всеми неримлянами. Именно в связи с проектом закона о гражданстве для союзников потерял поддержку римского плебса, а затем и погиб Гай Гракх. Теперь, тридцать лет спустя, такая же участь постигла другого римского трибуна, предложившего аналогичный закон, — Марка Ливия Друза. Он тоже погиб, хотя и не в результате сражения в городе, как Гракх, а от руки убийцы. Парадоксально, что этот Марк Друз был сыном того Марка Ливия Друза, который на стороне сената принял участие в заговоре против Гая Гракха.
Лишившись таким образом последней надежды добиться уравнения в гражданских правах мирным путем, союзные общины объединились и объявили войну Риму. Оставим в стороне перипетии этой довольно кровопролитной и бесславной междоусобицы. С каждой стороны в ней участвовало примерно по 100 тысяч солдат. Война велась одновременно во многих местах по всей Италии. Она закончилась фактической победой союзников. Терпя поражение за поражением, римляне вынуждены были в 89-м году принять закон, предоставлявший полное римское гражданство всем италикам, которые в двухмесячный срок прекратят военные действия против Рима. Этим они добились раскола в лагере союзников и сумели в течение еще одного года одолеть тех из них, кто, не доверяя римлянам, стремился сокрушить до конца их гегемонию в Италии. В результате Союзнической войны почти все население Италии получило права полного гражданства. Число римских граждан, таким образом, по меньшей мере удвоилось и достигло примерно трех миллионов человек. Правда, для уменьшения политического влияния италиков они были приписаны только к восьми из тридцати пяти римских триб, так что при подведении окончательного итога любого голосования в комициях лишь восемь из тридцати пяти голосов могли зависеть от настроения бывших союзников Рима.
Стоит еще отметить, что, оказавшись в крайне затруднительном положении, римский сенат впервые за всю историю Республики вынужден был призвать в армию вольноотпущенников, то есть не вполне полноправных граждан Рима. Им была поручена наименее ответственная миссия охраны побережья. Весьма прискорбным следствием Союзнической войны было падение дисциплины и деморализация римской армии. В нее был мобилизован чуть ли не весь римский сброд. Нередки были случаи не только неповиновения командирам, но самосуда и расправы солдат над некоторыми из них.
Однако вернемся к нашему герою. Общее руководство рассредоточенными по всей Италии военными действиями во время Союзнической войны оставалось за консулами. Марий командовал на одном из ее многочисленных «фронтов» и то лишь недолгое время. Ему пришлось с горечью убедиться в том, что для роли полководца он уже слишком стар, и сложить свои полномочия. Зато более всех других в этой войне отличился командовавший в нескольких важных сражениях Луций Корнелий Сулла — бывший легат, а затем соперник Гая Мария.
Теперь Марий был лишен всякого влияния в Риме. Терзаемый бессильной досадой, он никак не мог помешать восхождению Суллы, который ввиду своих заслуг в этой войне был, вполне естественно, избран консулом на 88-й год (до этого, в 93-м году Сулла уже избирался претором).
Тем временем в Азии и Греции понтийский царь Митридат, воспользовавшись тем, что Рим был занят Союзнической войной, отобрал у римлян чуть ли не все земли, захваченные ими еще в первой половине прошлого века во время Сирийской и Македонских войн. После короткой передышки Рим, весьма заметно ощущавший потерю доходов от своих богатейших провинций на Востоке, должен был начать серьезную войну против Митридата. Так же естественно, что главнокомандующим в качестве проконсула сенат назначил Суллу. Тот начал набирать новую армию и готовился в 87-м году, после сложения консульских полномочий, отправиться в Азию. Однако этот нормальный ход событий был прерван новыми политическими осложнениями в Риме.
Согласие сенаторов и всадников, объединившихся против Сатурнина и Главции, просуществовало недолго. Уже через несколько лет после подавления мятежа соперничество двух сословий римского нобилитета разгорелось с новой силой. Главной причиной тому послужило самоуправство всадников в провинциях. Все их действия после передачи им (по закону Гая Гракха) судов о вымогательстве оставались совершенно безнаказанными. Интересы компаний с участием сенаторского капитала, а порой даже и самих наместников провинций, беззастенчиво ущемлялись корпорациями публиканов. Судебные коллегии всадников грозили парализовать всю деятельность сената. Поэтому даже упомянутый ранее трибун Ливий Друз провел было закон о передаче этих коллегий обратно сенаторам при условии удвоения численности сената путем введения в него трехсот всадников. Впрочем, после убийства Друза весь комплекс его законов был отменен.
Теперь, в 88-м году, когда на повестку дня встал вопрос о возвращении под владычество Рима провинции Азия, где особенно остро сталкивались интересы сенаторов и всадников, выбор главнокомандующего для войны с Митридатом приобретал особое значение. Сенат назначил Суллу, который был бесспорным его сторонником. Трибун Публий Сульпиций Руф предложил народному собранию своим решением, вопреки сенату, назначить главнокомандующим Мария, как это было сделано за двадцать лет до того, во время войны с Югуртой. Впрочем, «революция Сульпиция», как ее иногда называют историки, началась не с этого.
36-летний Сульпиций Руф был вообще фигурой своеобразной. Богатый и знатный патриций, убежденный консерватор, он вместе с тем считал необходимым в интересах римского могущества довести до конца дело Друза и добиться полного уравнения в правах союзников Рима. А для этого включить их равномерно во все 35 избирательных триб. Это в корне изменило бы гражданское положение союзников, так как они получили бы реальную возможность влиять на решения римских комиции. Кроме того, Сульпиций предлагал включить во все трибы по месту жительства и вольноотпущенников. Понимая, что сенат будет всему этому всячески препятствовать, он принял сторону популяров, путем усыновления перешел в плебейский род и добился своего избрания в народные трибуны. Закон о включении союзников во все трибы он предложил одновременно с законом о возвращении из изгнания сторонников Сатурнина и законом об исключении из сената всех сенаторов, имеющих более двух тысяч денариев долга. Последний закон имел своей целью очистить сенат от промотавших свое состояние и морально опустившихся аристократов, склонных ввиду этого к взяточничеству и иным недостойным поступкам. В качестве достаточно весомого и отвечающего новым веяниям аргумента в пользу своих законов, Сульпиций на собственные средства нанял свиту из трех тысяч вооруженных дубинками люмпенов, а шестьсот молодых людей из высшего слоя всадников образовали вокруг него своего рода «антисенат».
Сулла вместе со вторым консулом Квинтом Помпеем объявили юстиции — временную приостановку всех общественных дел, включая и созыв народного собрания. Тогда молодцы Сульпиция напали на консулов. Коллега Суллы бежал, его сын был убит, а Суллу, по утверждению Плутарха, отвели на суд и переговоры к Марию, хотя тот был всего лишь частным лицом. Читатель, вообрази себе эту встречу! Свидетелей, видимо, не было, но результат известен: Сулла отменил юстиции и немедленно покинул Рим. Он отправился в Капую к своей уже почти готовой для азиатского похода армии. Законы Сульпиция были приняты. На том ли самом собрании или позже, но во всяком случае уже после отъезда Суллы, Сульпиций неожиданно предложил и сумел провести в собрании народа то самое назначение Мария командующим против Митридата, с которого я начал рассказ о последних событиях в Риме.
Как понять это странное предложение назначить старого воина, не справившегося с командованием даже в Италии во время Союзнической войны, полководцем в далекую Азию? По мнению Моммзена, Сульпиций боялся, что Сулла вернется в Рим во главе своих легионов и рассчитывал на еще не совсем утраченную среди римского плебса и ветеранов популярность Мария для организации отпора оскорбленному консулу. Сам же Марий так долго мечтал вновь оказаться в роли главнокомандующего, что не сумел отказаться от предложения трибуна. А может быть, он полагал, что справиться с азиатами Митридата будет легче, чем с мятежными италиками. Моммзен считает, что Сульпиций ошибался, и Сулла благополучно отбыл бы в Азию. По мнению историка, именно решение о назначении Мария спровоцировало его на то, чего опасался трибун. А может быть, всадники, на которых опирался Сульпиций, не захотели допустить Суллу в Азию? Так или иначе, но вслед за ним к армии прибыли два римских трибуна с известием, что Сулла отстранен от командования и ведение войны с Митридатом поручено Марию.
Однако не таков был Луций Сулла, чтобы его можно было вот так просто взять голыми руками. Он собрал воинов и прозрачно намекнул им, что, скорее всего, Марий для войны в Азии наберет другое войско. Между тем солдаты Суллы, наслушавшись легенд о сказочной добыче, которая (как раз сто лет назад) после Сирийской войны досталась римским легионерам, рвались в поход против Митридата. Для изложения хода дальнейших событий предоставим слово Аппиану:
«На собрании Сулла, — пишет наш историк, — говорил о наглом в отношении него поступке Сульпиция и Мария, не распространяясь ясно о всем прочем: он не решался еще говорить о предстоящей войне против них, а убеждал лишь войско быть готовым к исполнению его приказаний. Воины понимали, что у Суллы было на уме, и... требовали от него вести их смело на Рим. Обрадованный Сулла тотчас же двинул в поход шесть легионов. Командиры войска, за исключением лишь одного квестора, не соглашаясь вести войско против своей родины, убежали в Рим. На пути Суллу встретили послы оттуда и спросили его: почему он с вооруженной силой идет на родину? Сулла отвечал им: освободить ее от тиранов». (Там же. I, 57)
По дороге к Сулле присоединяется второй консул Квинт Помпей. Сенат просит их обождать, пока он обсудит ситуацию. Сулла, если верить Плутарху, соглашается, делает вид, что разбивает лагерь, но высылает воинов вслед за послами сената и захватывает городские ворота. Затем два легиона в боевом порядке, со значками впереди вступают в город. Это, как мы бы теперь выразились, новый виток эскалации беззакония. Я уже упоминал, что древний республиканский закон запрещал воинам при оружии находиться внутри городских стен. В течение последнего полувека их, тем не менее, туда дважды вызывали для усмирения мятежных трибунов: сначала Гая Гракха, потом Сатурнина. Но все-таки тогда воинские отряды появлялись по вызову находившегося в городе консула и с согласия сената. Теперь же консулы во главе взбунтовавшегося войска входили в Рим как в неприятельский город — под звуки труб, в предшествии знамен, готовые к сражению на его улицах.
Аппиан, писавший свою историю во II веке от Р.Х. и потому знавший все последующее, сопровождает свое описание этих событий следующим полным горечи комментарием:
«Таким образом, междоусобные распри переходили из споров и борьбы на почве честолюбия в убийства, а из убийств в открытые войны, и гражданское ополчение тогда впервые вступило на родную землю как во вражескую страну. С тех пор междоусобные распри, которые решались с применением военной силы, не прекращались, происходили постоянные вторжения в Рим, бои около укреплений и все прочее, что полагается во время войн. Так как среди действовавших насилием пропало всякое уважение к закону, государству, родине». (Там же. I, 60)
События же в Риме развивались следующим образом. Сульпиций и Марий собрали своих приверженцев и попытались дать бой первым легионам Суллы на Эсквилинском холме. Их удалось остановить. Но в это время в город вступают еще четыре легиона, причем часть войска, вошедшая через другие ворота, угрожает зайти в тыл защитникам Эсквилина. Призывы к гражданам, обещание свободы рабам — все тщетно. Никто не является на помощь. Поняв безнадежность своего положения, противники Суллы обращаются в бегство. Значительная их часть, опасаясь расправы, покидает Рим. В том числе Сульпиций и Марий.
А что же победитель? Вопреки исторической славе о его жестокости (впрочем, впоследствии вполне заслуженной), приходится отметить, что в тот раз никаких массовых репрессий не было. И даже наоборот. Если верить Аппиану то Сулла...
«...приказал подвергнуть наказанию на виду у всех некоторых из числа своих воинов, которые попутно занимались мародерством. После этого Сулла поставил во всех частях Рима караулы, обходил их в течение всей ночи сам вместе с Помпеем с той целью, чтобы не произошло какого-либо насилия ни со стороны напуганных граждан, ни со стороны победителей. При наступлении дня Сулла и Помпей созвали народное собрание и в нем печаловались на то, что государство с давнего времени находится в руках лиц, гоняющихся за приобретением расположения народа, и что они вынуждены были предпринять все происшедшее». (Там же, I, 59)
Однако, помимо выражения печали, собранию народа были предложены, а в той ситуации, можно сказать, предписаны, некоторые существенные коррективы политической практики, направленные к реставрации власти сената и прежнего аристократического характера государственного правления. Во-первых, восстанавливался давний порядок обязательного предварительного обсуждения в сенате всех законов и иных предложений, которые народные трибуны или магистраты собирались вносить в комициях. Во-вторых, голосование в них отныне должно было происходить не по трибам, а снова так, как установил еще царь Сервий Туллий: по центуриям различных имущественных классов. Напомню, что согласно этому установлению центурии 1-го класса получали 98 голосов, а все остальные (со 2-го по 5-й класс) — только 95 голосов. Народное собрание утвердило предложения консулов.
Наиболее чувствительным образом эти порядки ударяли по власти и влиянию народных трибунов. Революционная практика послегракховского периода свела на нет возможности сената обуздывать непокорных трибунов с помощью вето их коллег. Эти бунтовщики стали заправлять политической ситуацией в Риме. Теперь они были возвращены под контроль сената.
Законы Сульпиция были, разумеется, отменены. Кроме того, Сулла пополнил сильно обезлюдевший во время Союзнической войны сенат тремястами новыми сенаторами по своему выбору, тем самым присвоив себе полномочия цензоров. Без лишних колебаний он прибрал к рукам и чрезвычайную судебную власть: народный трибун Сульпиций, спаситель Рима, и шестикратный консуляр Марий, его сын и бежавшие из Рима их видные сторонники — всего 12 человек, вопреки древнему праву апелляции к народному собранию, объявлены Суллой вне закона, то есть приговорены к смерти. Любой гражданин мог их убить. Имущество беглецов было конфисковано, в погоню отряжены преследователи. Сульпиций был захвачен и убит. Марию после многих приключений удалось бежать в Африку. Плутарх негодует на эту свирепость, вспоминая, в частности, что Марий незадолго до того спас Суллу когда наемники Сульпиция готовы были расправиться с ним.
Однако более никто из тех, кто участвовал в столкновении на Эсквилинском холме, наказан не был. Можно думать, что намерение установить свою единоличную диктатуру у Суллы в то время еще не возникло. По своим убеждениям он всегда был поборником староримских порядков — сенатской республики, надежно управляемой потомственной римской аристократией, — стремился лишь к их реставрации. А если я ошибаюсь и планы диктатуры уже возникали, то момент для их осуществления еще не наступил. Республиканская традиция была достаточно сильна, а армия, находившаяся под командованием Суллы, недавно набрана и выступила с ним в поход на Рим только ради участия в азиатской войне. Да и с агрессией Митридата надо было покончить прежде, чем пытаться установить какой-либо новый порядок в Риме. Поэтому Сулла отослал войско назад под Капую, а сам, в связи с приближением конца срока своего консульства, стал готовить выборы новых консулов на 87-й год.
Недовольство народа реформами, особенно ущемлением прав трибунов, ощущалось достаточно явно. Зловещим его признаком было анонимное убийство (вне Рима) коллеги Суллы, консула Квинта Помпея. С уходом армии уменьшилась и возможность давления на комиций. В результате из двух предложенных Суллой кандидатов консулом был избран только один, Гней Октавий. Вторым консулом народ выбрал сторонника популяров Корнелия Цинну. Сулле пришлось с этим примириться. Ограничившись тем, что заставил обоих консулов поклясться в верности новым порядкам, он отбыл к армии и вскоре переправился с ней в Грецию.
Как только Сулла и его войско покинули Италию, Цинна предложил в Народном собрании возвратить тех, кто был выслан Суллой из Рима и восстановить отмененный им закон Сульпиция о распределении новых италийских граждан и вольноотпущенников по всем тридцати пяти трибам. Против этого решительно выступил второй консул, Октавий. Его поддержали многие коренные римляне, не желавшие усиления влияния италиков. Между тем последние в большом количестве прибыли в Рим. Те и другие были вооружены, и очень скоро собрание перешло в настоящее сражение. Моммзен утверждает, что «форум был залит потоками крови в такой мере, как этого не бывало ни прежде, ни впоследствии. Число убитых определяли в десять тысяч». Последняя цифра, надо полагать, историками сильно завышена — на форуме площадью менее десяти тысяч квадратных метров столько трупов вряд ли поместилось бы. Тем не менее ясно, что схватка была жаркая. Цинна пытался призвать на помощь рабов, обещая им, как всегда, свободу. Но призыв этот успеха не имел, и ему пришлось бежать из Рима. Дальнейшие его действия Аппиан описывает следующим образом:
«Тогда Цинна устремился в близлежащие города, незадолго до того получившие права гражданства, в Тибур, Пренесте и в прочие, вплоть до Нолы. Всех их он подстрекал отложиться от римлян и при этом собирал деньги на войну. В то время как Цинна был занят этим, к нему прибежали некоторые сенаторы, разделявшие его образ мыслей: Гай Милоний, Квинт Серторий, Гай Марий второй (сын Мария. — Л.О.). Сенат постановил отрешить Цинну от консульства, лишить его гражданских прав за то, что он, будучи консулом, оставил город, находившийся в опасном положении, и объявил свободу рабам. Вместо Цинны консулом был избран Луций Мерула...»(Там же. I, 65)
Итак, побоище на форуме. Один консул мечом изгоняет своего коллегу из Города. Тот в ответ затевает войну против Рима, а сенат, хотя и не без оснований, вопреки закону о невозможности досрочной смены магистратов, отрешает его от должности. Что же остается от древнеримских понятий о долге и чести, от законов Рима? Римская республика тяжело и даже безнадежно больна.
Между тем Цинна добирается до Нолы, где находится еще одна римская армия. Жалобами на бесчинства сулланцев в Риме, подкупом и посулами ему удается склонить солдат на свою сторону. Он объезжает и другие союзные города, старается убедить новых граждан в том, что они обмануты, и призывает поддержать его борьбу за их равноправие с римлянами. Наконец, собрав и вооружив на деньги союзников значительное войско, Цинна, следуя по стопам Суллы, идет военным походом на Рим. Консулы Октавий и Мерула готовятся к обороне.
А что же Марий? Естественно, что в этой ситуации он вновь появляется на сцене. Вместе с другими изгнанниками и их рабами (всего около 500 человек) Марий приплывает в Этрурию, обходит тамошние города и села, силой освобождает рабов, согласных следовать за ним, и, сформировав таким образом целый легион, спускается к югу. Становится лагерем в низовьях Тибра, оснащает корабли и отрезает Город от снабжения продовольствием. Затем посылает гонца к Цинне, предлагая свою поддержку. Тот в это время уже находится под стенами Рима и через глашатаев вновь предлагает свободу рабам. Теперь, видя, что сила на стороне Цинны, они охотно бегут к нему из осажденного города. Цинну готовы поддержать и многие малоимущие граждане Рима (особенно ввиду наступающего голода), и солдаты, находящиеся под командой Октавия. Сенату не остается ничего другого, как вернуть Цинне звание консула и отдать город, а также себя на его милость. Сенаторы лишь просят Цинну воздержаться от кровопролития. Он обещает, но отказывается подкрепить свое обещание клятвой. Предоставим еще раз слово Аппиану:
«Принести клятву Цинна счел ниже своего достоинства, а обещал только, что по своей воле он не будет виновен в убийстве хотя бы одного человека... Марий, стоявший около кресла Цинны, держал себя спокойно, но по насупленному выражению его лица видно было, какая ожидается резня. Сенат принял условие Цинны и пригласил его и Мария войти в город... Марий иронически заметил, что для изгнанников нет входа в город. И тотчас же трибуны постановили аннулировать изгнание Мария и всех прочих, изгнанных в консульство Суллы.
Лишь тогда Марий и Цинна вступили в город. Все встречали их со страхом. И прежде всего стало подвергаться беспрепятственному разграблению имущество тех лиц, которые, по мнению Мария и Цинны, были их противниками. Октавию они еще раньше послали клятвенное ручательство его безопасности, а жрецы и предсказатели предвещали Октавию, что с ним ничего худого не произойдет. Однако друзья его советовали ему скрыться. Но Октавий, объявив, что он, как консул, никогда не покинет города, оставив его центральную часть, прошел со знатнейшими лицами и с частью войск на Яникул (холм на другом берегу Тибра. — Л.О.) и там сел в консульском одеянии на кресло, имея по сторонам, как консул, ликторов с фасками. Когда к Октавию устремился с несколькими всадниками Цензорин, когда снова друзья Октавия и стоявшее около него войско убеждало его бежать и даже привели к нему коня, Октавий и тогда не двинулся с места и ожидал смерти. Цензорин отрубил ему голову и принес ее Цинне. Впервые голова консула была повешена на форуме перед ораторской трибуной. Потом и головы всех прочих убитых стали вешать там же. И эта гнусность, начавшаяся с Октавия, не прекратилась и позже применялась в отношении всех тех, кто был убит их врагами. Тотчас же рассыпались во все стороны сыщики и стали искать врагов Мария и Цинны из числа сенаторов и так называемых всадников. Когда погибали всадники, дело этим и кончалось. Зато головы сенаторов, все без исключения, выставлялись перед ораторской трибуной. Во всем происходившем не видно было ни почтения к богам, ни боязни мести со стороны людей, ни страха перед мерзостью таких поступков». (Там же. I, 70, 71)
Аппиан описывает целый ряд эпизодов этой охоты за людьми, называет еще с дюжину имен и заканчивает свое описание так:
«Никому не разрешено было предавать погребению кого-либо из числа убитых; тела их растерзали птицы и псы. Безнаказанно убивали друг друга политические противники; другие подвергнуты были изгнанию, у третьих было конфисковано имущество, четвертые были смещены с занимаемых ими должностей. Законы, изданные при Сулле, были отменены. Все друзья его предавались смерти, дома их отдавались на разрушение, имущество конфисковывалось, владельцы его объявлялись врагами отечества. Искали даже жену и детей Суллы, но они успели бежать». (Там же. I, 73)
Городские ворота были закрыты. Пять дней и ночей без перерыва продолжалась бойня в Риме. А потом еще в течение нескольких месяцев по всей Италии разыскивали и расправлялись с успевшими скрыться противниками Мария и Цинны. Хотя зачинщиком всей смуты следует считать Цинну, вдохновителем и непосредственным руководителем резни был Марий. Плутарх пишет, что, когда Цинна, убедившись в победе, уже смягчился, свирепость Мария все возрастала. Один его взгляд или молчание в ответ на приветствие означали смертный приговор. Безжалостными исполнителями запоздалой мести полубезумного старика некогда унижавшим его аристократам была толпа приведенных им в Рим рабов. Празднуя свою свободу, они и сами, без приказаний, грабили, убивали и насиловали всех, кто попадался под руку. А Марий называл имена все новых жертв. Когда родственники просили о снисхождении для его бывшего соратника в сражении с кимврами Луция Катула, Марий ответил: «Он должен умереть!» И это была милость с его стороны — Катул покончил самоубийством.
У Цинны не хватало ни сил, ни мужества обуздать ненасытную ненависть своего союзника. Он даже вынужден был провести его избрание вместе с собой консулом на следующий, 86-й год. Так осуществилась лелеянная Марием в течение последних тринадцати лет мечта — он стал консулом в седьмой раз (предание утверждает, что и это ему было предсказано). Но если в первые свои консульства Марий был гордостью своих сограждан, в шестом сделался их посмешищем, то теперь он стал предметом страха и ненависти всего римского народа. Быть может, за исключением некоторых богачей и банкиров из числа популяров, которые сказочно наживались на дешевых распродажах имущества, конфискованного у жертв террора. К счастью для римлян, через шесть дней после вступления в должность Марий заболел горячкой и спустя неделю умер.
С согласия Цинны, Квинт Серторий, наверное, единственный достойный римский полководец, перешедший на его сторону и непричастный к террору, под предлогом выплаты жалованья собрал на площади около четырех тысяч бандитов Мария. Затем окружил их своими надежными войсками и перебил всех до одного. Только тогда Рим и Италия наконец вздохнули с облегчением.
Так закончилась долгая жизнь Мария, сына батрака, семь раз римского консула, победителя Югурты, реформатора войска, спасителя отечества от нашествия варваров, тирана и палача. Главными стимулами этой жизни были неуемное честолюбие, зависть в сочетании с комплексом неполноценности и месть за перенесенные унижения. В ней были и взлеты на вершины славы, и жалкая роль предателя, и восторженное поклонение народа, и бесславное забвение, и, наконец, гнусная жестокость, увенчавшая всеобщей ненавистью ее финал.
Для нас же в контексте всей римской Истории, пожалуй, важнее всего отметить то, что побудительные мотивы действий Мария всегда оставались мелкими. Не слава и могущество Рима, а личный успех и личная обида были движущими силами его чаяний и поступков. Увы, мы вправе расценивать это как еще одно свидетельство падения римского духа и постепенной утраты высоких традиций древней Республики, которыми было отмечено начало I века до Р.Х в Риме.
Глава X Сулла (90-78 гг.)
Наверное, у многих пишущих возникает соблазн как бы отметиться в своем времени, использовав разок-другой некоторые без меры популярные в нем эпитеты. Поддавшись этому соблазну, напишу, что поступки Суллы, наверное, казались римлянам I века до Р.Х. непредсказуемыми, а суждения историков о его личности весьма неоднозначны. Так, например, в своей классической Истории Рима, вышедшей в середине прошлого века, Моммзен начинает итоговую характеристику Суллы словами: «Потомство не оценило по достоинству ни личности Суллы, ни его реформ; оно несправедливо к людям, идущим против потока времени. В действительности же Сулла — одно из поразительнейших явлений в истории, пожалуй, единственное в своем роде...». А заканчивает так: «...полное отсутствие политического эгоизма — и только оно одно — дает Сулле право быть поставленным наравне с Вашингтоном». (Т. Моммзен. История Рима. Т. 2 , с. 345, М., 1937)
Отзыв современного французского историка Борде звучит совсем иначе: «Сулла представляет собой наиболее непонятный персонаж римской истории. Далеко превосходя Мария по уму, он был циничным авантюристом, презиравшим и государственные учреждения, и людей, но в то же время аристократом, преданным традициям и предрассудкам своей касты. Холодный и методичный в расчетах честолюбец, он вместе с тем слепо верил в свою удачу, именовал себя Сулла Счастливый. Великий стратег и великий политик, он без всякого стеснения проявлял вероломство и самую отвратительную жестокость, когда считал это полезным». (М. Bordet. Precis d'his-toire Romaine. Paris, 1969 (перевод Л.О.)) Различие в оценках довольно существенное. Что же до представления о Сулле большинства наших современников, знакомых с римской историей лишь поверхностно, то его, я полагаю, можно выразить одним словом — злодей, что далеко не полно характеризует этого бесспорно яркого и, действительно, несколько загадочного деятеля древнего Рима.
Наше первое знакомство с Суллой уже состоялось в предыдущей главе, где он фигурировал в числе главных персонажей рассказа вплоть до своего отъезда на войну с Митридатом. Прежде чем отправиться вслед за ним в Грецию, дополним кое-какими деталями и биографическими данными наше первоначальное впечатление.
Любопытно, что даже о внешности Суллы мы находим не вполне согласующиеся между собой сведения. Плутарх в биографии Суллы утверждает, что лицо его было покрыто красной сыпью, а взгляд светло-голубых глаз тяжел. У Моммзена же мы читаем: «Сангвиник душой и телом, голубоглазый, светловолосый, с поразительно бледным лицом, которое, однако, заливалось краской при всяком волнении, это был красивый мужчина с сверкающим взглядом». (Там же). Некоторое соответствие есть, но по общему впечатлению два описания противоположны. Впрочем, ни тот, ни другой автор не ссылаются на свидетельства очевидцев. В Ватиканском музее есть скульптурный портрет Суллы. Конечно, судить о цвете лица он не позволяет, но массивный подбородок, крупный, тонкий нос с резко обозначенными складками у его крыльев и глубоко сидящие глаза производят впечатление волевого, сильного характера.
Луций Корнелий Сулла родился в 138-м году до Р.Х. Он принадлежал к обедневшей и второстепенной по своему политическому значению ветви знаменитого патрицианского рода Корнелиев. Того самого рода, к которому принадлежали и Сципионы. Плутарх утверждает, что в молодости Сулла снимал дешевую комнатку в Риме. Тем не менее, он был, по-видимому, хорошо образован и приобщен к эллинистической культуре. Всю жизнь он питал интерес и пристрастие к миру искусств. Часы отдыха и досуга охотно проводил в среде богемы, на веселых пирушках с участием легкомысленных женщин, и даже сам сочинял шутливые сценки, которые там же и исполнялись. Одним из ближайших друзей Суллы был знаменитый римский актер Квинт Росций. О более серьезном аспекте его образованности говорят следующие два факта. Овладев после длительной осады Афинами (они участвовали в войне на стороне Митридата) и дав, как полагалось, своим солдатам основательно пограбить город, Сулла, однако, не только не разрушил колыбель греческой культуры и не посягнул на ее памятники, но вернул афинянам свободу и все окрестные владения. А возвращаясь после Митридатовой войны в Италию через Грецию, он специально заехал в Пирей, чтобы забрать там библиотеку, в которой были почти все сочинения Аристотеля, еще мало известные в Риме. По его распоряжению они были систематизированы, снабжены указателями и опубликованы.
Но все это уже позднее, а сейчас вернемся ненадолго к первому появлению Суллы в войске Мария во время Югуртинской войны. Попал он туда случайно — по жребию после избрания квестором в Риме. И как новичок в военном деле, да еще из аристократов, был встречен демократически настроенными боевыми офицерами Мария не слишком дружелюбно. Однако ему удалось очень быстро преодолеть их предубеждение. Любопытно выслушать по этому поводу свидетельство Саллюстия. Я прошу читателя отметить одну важную, уже тогда проявившуюся особенность поведения Суллы — стремление завоевать благодарность и симпатии простых солдат.
«И вот Сулла, — пишет Саллюстий, — как уже было сказано, прибыв с конницей в Африку, то есть в лагерь Мария, поначалу неопытный и несведущий в военном деле, в короткий срок стал очень искусен в нем. Кроме того, он приветливо заговаривал с солдатами, многим по их просьбе, а иногда и по собственному почину оказывал услуги, сам же неохотно принимал их и воздавал за них быстрее, чем отдают долг; он ничего не требовал ни от кого и старался, чтобы больше людей было у него в долгу. То шутливо, то серьезно говорил он с людьми самого низкого звания; в трудах, походе и караулах неизменно участвовал и при этом не задевал доброго имени консула или иного уважаемого человека, как бывает при дурном честолюбии. Он только не терпел, чтобы кто-нибудь превзошел его в советах или в делах, сам же очень многих оставлял позади. Этими своими качествами и поведением он быстро приобрел величайшее расположение Мария и солдат». (Саллюстий. Югуртинская война. 96, 1-4)
Потом, как мы помним, он, командуя конницей, отличился в сражении, и с тех пор его авторитет в войске был прочно установлен. Не лишено интереса здесь же привести и общую характеристику, которую Саллюстий дает личности Суллы. Он пишет:
«Сулла принадлежал к знатному патрицианскому роду, к его ветви, уже почти угасшей ввиду бездеятельности предков. В знании греческой и латинской литературы он не уступал учёнейшим людям, отличался огромной выдержкой, был жаден до наслаждений, но еще более до славы. На досуге он любил предаваться роскоши, но плотские радости все же никогда не отвлекали его от дел; правда, в семейной жизни он мог бы вести себя более достойно. Он был красноречив, хитер, легко вступал в дружеские связи, в делах умел необычайно тонко притворяться. Был щедр на многое, а более всего на деньги. И хотя до победы в гражданской войне он был счастливейшим из всех, все-таки его удача никогда не была большей, чем его настойчивость, и многие спрашивали себя, более ли он храбр или более счастлив». (Там же. 95; 3,4)
Я думаю, что по поводу храбрости Суллы можно высказаться вполне уверенно. Достаточно вспомнить описанное в предыдущей главе его посольство к Бокху Отправиться без охраны в лагерь известных своим коварством туземцев и, находясь рядом с расположением отряда Югурты, требовать его выдачи римлянам! Для этого надо было обладать железными нервами. Нет, личной храбрости Сулле было не занимать. Когда уже в Греции при очередном столкновении с полчищами Митридата войско римлян начало отступать, Сулла схватил боевой значок легиона и ринулся с ним навстречу врагам, крикнув солдатам: «Если на родине вас спросят, где вы покинули своего вождя, отвечайте: при Орхомене». Пристыженные воины бросились за ним в отчаянную контратаку и одолели неприятеля.
В характеристике Саллюстия отметим упоминание о щедрости Суллы. А между тем мы знаем, что он был небогат. Несомненно, что при наличии еще и вкуса к роскоши, к богемной жизни его самолюбие от недостатка средств весьма страдало. В частности, и по этой причине, наверное, он так ревниво отнесся к попытке лишить его командования на обещавшей быть прибыльной войне в Азии. И тем не менее Сулла не превратился в корыстолюбца. Когда в его руках оказались и все богатства римской казны, и множество конфискованных имуществ, он легко отдавал и растрачивал все это так, что закончил свою жизнь человеком по-прежнему небогатым.
По-видимому, Сулла обладал чрезвычайно сильной волей и мог в любых обстоятельствах вполне владеть собой. Так, например, когда он, 55-летний прославленный полководец, вернулся победителем Митридата и уже в Италии сокрушил всех своих противников, ему случилось от 23-летнего Гнея Помпея услышать дерзкие слова: «Люди больше интересуются восходящим светилом, чем заходящим». Однако он не только не наказал мальчишку, а предоставил ему желанный, но формально противозаконный триумф и даже (я полагаю, не без иронии) наименовал «Помпеем Великим». Зато другого, причем одного из лучших своих военачальников Офелла, которому он в значительной мере был обязан победой над марианцами, Сулла за ослушание приказал убить тут же, на форуме. В первом случае он предпочел сдержаться, так как мог не опасаться дерзкого юношу, хотя и не вполне простил его до конца своих дней. Заботу о сыне завещал не ему, а Лукуллу. Во втором же случае Сулла счел возможным дать волю своему гневу, так как было полезно и своевременно преподать наглядный урок всем недовольным его политической реформой командирам. Плутарх не слишком лестно пишет, что... «крутой нравом и мстительный от природы, Сулла ради пользы умел сдерживать гнев, уступая расчету». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Сулла. XII) Эти несколько штрихов, обрисовывающих личность Суллы, мне хотелось добавить к рассказу о той части его биографии, которая в предыдущей главе «перекрылась» с биографией Мария. Теперь мы обратимся к главным событиям его жизни. Напомню все же, что к этому моменту у Суллы за плечами войны с Югуртой и кимврами, Союзническая война и бурный год его консульства, когда он сначала бежал из Рима от молодцов Сульпиция Руфа, а потом вернулся туда во главе своих легионов, с которыми теперь, в качестве проконсула и главнокомандующего, направлялся в Грецию на войну с Митридатом.
Царь расположенного в восточной части черноморского побережья нынешней Турции крошечного Понтийского царства Митридат VI Эвпатор в начале I века до Р.Х. сумел подчинить себе туземные народы Колхиды, низовьев Кубани, северных берегов Азовского и Черного морей, Крым, обширное Боспорское царство. Используя практически неограниченные людские и материальные ресурсы завоеванных территорий, он сформировал и обучил по македонскому образцу огромное войско. А затем начал расширять свои владения на юг — за счет государств Малой Азии, находившихся под протекторатом Рима. На какое-то время он был остановлен и даже оттеснен обратно Суллой еще в 93-м году, когда тот был пропретором в Киликии — небольшой римской провинции на южном, средиземноморском побережьи Малой Азии. После возвращения Суллы в Рим понтийский царь возобновил свою агрессию.
В 90-м году сенат направил в провинцию Азия (западная часть Малой Азии) бывшего консула Мания Аквилия. Войска он с собой не привел, так как в это время разгоралась Союзническая война в Италии, и полномочий начать войну с Митридатом не имел. Тем не менее, опираясь на римский отряд, уже находившийся в провинции, и сумев вовлечь в свою авантюру западного соседа Митридата, царя Вифинии Никомеда, Аквилий начал военные действия против Понтийца. В 88-м году он был разбит, бежал на остров Лесбос, был выдан Митридату и казнен. Чтобы насытить алчность Аквилия, которая была побудительной причиной его неуместной военной активности, царь повелел влить ему в горло расплавленное золото.
И коренное население, и эллины приморских городов Малой Азии восторженно встречали понтийского царя. Встречали как освободителя от римского владычества, которое вследствие бессовестного ограбления азиатов публиканами и наместниками Рима давно уже воспринималось как тяжкое бремя.
Затем в Азию пришли известия о междоусобной борьбе в Италии и о том, что ожидавшееся прибытие грозного Суллы откладывается на неопределенное время. Это окончательно укрепило решимость Митридата. С восточной жестокостью он повелел в один день умертвить всех италиков-торговцев и публиканов, находившихся в попавших под его власть городах. Трупы их было велено бросить на съедение птицам, имущество конфисковать и половину отдать убийцам, а половину прислать царю. Соучастием в этом преступлении Митридат, кстати, привязывал к союзу с ним покоренные народы и города. Было убито более восьмидесяти тысяч безоружных мужчин, женщин и детей.
Армия понтийского владыки насчитывала в то время не менее 250 тысяч пехотинцев и сорока тысяч всадников, не считая союзных ему войск армянского царя Тиграна. Флот царя безраздельно господствовал в Эгейском море. Вся северная часть Малой Азии и большинство прилегающих к ней островов подпали под его десницу. На этих землях были учреждены сатрапии. Однако расположенные на малоазиатском побережье Эгейского моря греческие города объявлены были свободными. Свою столицу Митридат перенес в Пергам. Окрыленный успехом, он задумал присоединить к своей державе и саму Грецию. Сухопутное войско царя через Фракию и Македонию, а морской десант через остров Эвбею вторглись на Балканский полуостров и овладели западной его частью. В это же время в Афинах тираническую власть захватил некий Аристон — демагог, бывший раб, а затем преподаватель эпикурейской философии, сделавший ставку на поддержку Митридата. (Замечено, что из рабов получаются нередко самые убежденные, а главное — самые ретивые философы.)
Положение Рима становилось серьезным. Италийское восстание еще не вполне окончилось — многие районы, особенно в Апеннинских горах, в Самнии, оставались в руках повстанцев. Демократическая революция в Риме была едва подавлена и угрожала вспыхнуть с новой силой. И вот теперь Эллада, значительная часть Македонии, Эгейское море и, что важнее всего, Малая Азия — главный источник доходов римского государства — находились в руках могучего и свирепого врага. Свою армию Сулла мог использовать для разрешения только какой-нибудь одной из этих трех проблем. Он выбрал последнюю — возвращение Риму Азии. Впрочем, этот выбор был фактически предрешен. Набранное именно для азиатской войны войско рвалось в сулящий наживу восточный поход, и вряд ли было возможно длительное время использовать его по другому назначению.
Весной 87-го года Сулла высадился на западном побережье Греции. У него было пять легионов, то есть около 30 тысяч войска, ни одного военного корабля и практически не было денег, так как все, что с немалым трудом после Союзнической войны было собрано для этого похода, пришлось в связи с междоусобицей истратить еще в Италии. Так что волей-неволей приходилось рассчитывать только на конфискации у местного населения.
Сулла начал действовать чрезвычайно энергично: пересек с запада на восток почти весь полуостров, в Беотии дал сражение полководцу Митридата Архелаю, разбил его и вскоре овладел всей Грецией, кроме Афин и Пирея, где укрылись Архелай и Аристон. Взять город штурмом не удалось, началась его осада. Ввиду того, что Афины получали подкрепления и снабжались морем через Пирей, эта осада затянулась на всю зиму. Сулле пришлось на месте строить громоздкие осадные сооружения. Для этой цели он приказал (быть может, скрепя сердце) вырубить знаменитые пригородные рощи Академии и Лицея. Лишь 1 марта 86-го года ему удалось приступом взять Афины.
Тем не менее положение Суллы становилось все тяжелее. Без поддержки с моря нечего было и думать об экспедиции в Азию против основных сил Митридата. Еще зимой он направил одного из своих лучших офицеров, Лициния Лукулла, на Родос и в Александрию с заданием добыть корабли. Однако денег по-прежнему не было. Хотя Сулла и конфисковал сокровища храмов Зевса в Олимпии, Аполлона в Дельфах и Асклепия в Эпидавре, все эти деньги ушли на содержание войска во время осады Афин. Вследствие неурядиц и междоусобных войн в Италии авторитет Рима настолько упал, что египетский двор вежливо, но решительно отказал Сулле в помощи военными кораблями. А в это время в Риме произошел переворот Цинны. Решением народного собрания Сулла был отстранен от командования войском и объявлен вне закона. Его дом в Риме был разрушен до основания, имения разграблены, а семье еле удалось скрыться и бежать из Италии. Вместо Суллы главнокомандующим азиатской армией был назначен демократический консул Марк Валерий Флакк, который во главе двух дополнительных легионов уже направлялся в Грецию.
Правда, солдаты Суллы оставались ему верны, и он мог поначалу игнорировать свое отрешение от должности. Сказалась его дальновидная политика в отношениях с собственным войском. Трезво оценивая ненадежность ситуации в Риме, Сулла с самого начала сделал ставку на обеспечение преданности лично ему каждого воина. Для этого он, помимо всегдашней заботы о солдатах, готов был воспользоваться и любыми дополнительными средствами, в первую очередь наиболее простым и эффективным из них — поощрением корыстолюбия своих воинов. С самого начала экспедиции в Грецию Сулла предоставил им право безнаказанного грабежа местного населения. Несмотря на все свои эллинистические симпатии, он после взятия Афин, как я уже упоминал, отдал город солдатам на резню и разграбление. Это была рискованная игра. Войско становилось все более недисциплинированным, готово было ослушаться даже своих офицеров, и только главнокомандующий, благодаря своей воле, военному авторитету, сочетанию строгости и потачек, умел не только справляться с этим распущенным воинством, но и постепенно привязать его к себе восхищением и благодарностью.
Митридат сам выручил Суллу из трудного положения. Недовольный падением Афин, он приказал стотысячной армии, находившейся в Македонии под командой одного из его сыновей, двинуться в поход на Римлянина. Куда разумнее было бы дать Сулле сначала столкнуться с Флакком. Но понтийский царь успел возгордиться и ждать не хотел. В марте 86-го года его полчища близ греческого города Херонеи атаковали втрое меньшее по численности римское войско. Но воюют не числом!.. Военный талант Суллы ярко проявился в этом сражении. К примеру, он применил в нем весьма необычные для военных действий в открытом поле фортификационные приемы: фланги своего войска защитил от обходного маневра вражеской конницы рвами, а вдоль фронта воздвиг ряд столбов, спрятанных за первой линией воинов. Во время атаки боевых колесниц врага воины отступили за эти столбы, и наткнувшиеся на препятствие колесницы оказались добычей римских лучников и пращников. Но решающую роль в сражении сыграли стойкость и выучка римской пехоты, а также стремительная атака конницы, которую вел сам Сулла. Битва окончилась полным разгромом армии понтийцев.
После победы Сулла прошел с войском на север в Фессалию, куда уже прибыл Флакк. Был момент, когда две римские армии стояли друг против друга и сражение между ними казалось неизбежным. Но главнокомандующий популяров вскоре убедился, что солдаты Суллы вопреки решениям, принятым в Риме, готовы сражаться за своего победоносного полководца. Учтя невыгодное для него соотношение сил и увидав, что многие из его авангарда вступают в общение с солдатами Суллы и ради более высокой оплаты перебегают на его сторону, консул популяров решил уклониться от сражения. Он поспешил увести свои два легиона на север в Македонию, чтобы через Фракию и Дарданеллы идти в Азию на самого Митридата. Сулла не стал преследовать Флакка, полагая выгодным выполнить часть работы по разгрому понтийского царя руками своего политического противника. Кроме того, он был рад избежать кровопролитного столкновения между двумя римскими армиями, дальновидно предвосхитив момент, когда новоприбывшее войско само перейдет на его сторону. Сулла возвратился в Афины, где провел зиму 86-85 года.
Здесь, пожалуй, уместно процитировать горькое замечание Плутарха, который по поводу того, что Сулла ради подкупа своих солдат обирает греческие храмы, сравнивает его и римских полководцев нового времени с освободителями Греции Титом Фламинином и Луцием Эмилием Павлом:
«Да, но ведь они, — пишет Плутарх об этих последних, — в согласии с законом распоряжались людьми воздержанными, привыкшими беспрекословно повиноваться начальствующим, и сами, обладая царственной возвышенностью духа, соблюдали умеренность в расходах, ограничивались скромными и строго определенными тратами, а лесть войску почитали более позорной, нежели страх перед врагом. Теперь же полководцы добивались первенства не доблестью, а насилием, и, нуждаясь в войске больше для борьбы друг против друга, чем против врагов, вынуждены были, командуя, заискивать перед подчиненными и сами не заметили, как, бросая солдатам деньги на удовлетворение их низменных потребностей и тем покупая их труды, сделали предметом купли-продажи и самое родину, а желая властвовать над лучшими, оказались в рабстве у худших из худших».
И добавляет тут же:
«...едва ли не главным виновником, положившим начало этому злу, был Сулла, который, чтобы соблазнить и сманить тех, кто служил под чужою командой, слишком щедро оделял своих солдат. Тем самым он развращал и чужих воинов, толкая их на предательство, и своих, делая их людьми безнадежно распущенными». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Сулла. XII)
Весной 85-го года, пока армия Флакка еще совершала свой долгий кружной путь к Пергаму, Митридат направил морем в Грецию еще одно войско, решительно приказав ему уничтожить римлян. Битва разыгралась близ Орхомена в Беотии — неподалеку от того места, что и первое сражение. И вновь значительный численный перевес был на стороне азиатов. Кроме того, на этот раз понтийский командующий действовал более успешно. В какой-то момент римляне дрогнули. Вот тогда-то Сулла и совершил свой отчаянный бросок вперед со значком легиона в руках, о котором я упомянул в начале этой главы, и таким образом решил исход сражения в свою пользу.
После этой победы ситуация существенно изменилась. Греция была освобождена окончательно. За прошедших два года Лукуллу в сирийских приморских городах и на Кипре удалось добыть корабли и составить из них боеспособную эскадру. Ее пополнили военные суда, построенные по приказу Суллы в портах Северной Греции. Переправа через Геллеспонт (Дарданеллы) была обеспечена. Сплоченная и закаленная в боях армия Суллы могла начать поход в Азию.
Между тем войско популяров успешно продвигалось к Пергаму. Правда, командовал им уже не консул Флакк. Благодаря интриге одного из своих старших офицеров, некоего Фимбрии, он был смещен солдатами, а затем и убит. Гай Фимбрия, демагог самого низкого пошиба, во всем потакал разнузданному войску, но военное дело, в отличие от Флакка, знал хорошо и командовал толково. В неожиданном для противника ночном бою он наголову разбил армию второго сына понтийского царя и в конце лета 85 года подошел к его новой столице. Митридату удалось бежать на Лесбос. Вскоре он предложил римлянам начать переговоры о мире. В другой ситуации Сулла потребовал бы безоговорочной капитуляции или постарался бы добить и казнить царя, истребившего 80 тысяч мирных италиков. Но на это ушел бы не один год, а следовало думать о скорейшем возвращении в Рим и о войске Фимбрии, с которым до того надо было как-то покончить. Поэтому Сулла от своего имени устно договорился с Митридатом о мире на очень умеренных условиях. Царь должен был уйти из всех захваченных в Малой Азии областей, отдать часть флота и уплатить три тысячи талантов контрибуции. В ходе этих переговоров Митридат пытался предложить Сулле помощь против популяров в Риме, но это предложение было с презрением отвергнуто.
Хотя Митридат принял все продиктованные ему условия мира, Сулла переправил свое войско через пролив и двинулся к Пергаму, где находился Фимбрия. Когда превосходившая по своей численности, дисциплине и боевому опыту армия Суллы стала лагерем против лагеря популяров, солдаты Фимбрии начали в большом количестве перебегать к Сулле, а когда их полководец в отчаянии отдал приказ о сражении, они отказались его выполнять. Фимбрия был проходимец, но не трус. Он отверг предоставленную ему Суллой возможность бежать и покончил с собой. Войско его перешло под начальство Суллы.
Еще год он оставался в Малой Азии и Греции для их обустройства. Ненадежные легионы Фимбрии Сулла решил оставить в провинции Азия под началом одного из своих офицеров. Самые видные приверженцы Митридата и виновники массовых убийств италиков были казнены. Население провинции было обязано выплатить все накопившиеся за пять лет недоимки и еще двадцать тысяч талантов контрибуции. Для ее взыскания и для прочего устроения как самой провинции Азия, так и граничащих с ней зависимых от Рима государств там оставался Лукулл.
После отдыха на удобных зимних квартирах Сулла со своим войском отплыл на 1600 кораблях от берегов Малой Азии в Грецию, чтобы затем переправиться в Италию. Предварительно он послал в сенат отчет о своих походах и сражениях, словно ничего не зная об отставке. Это было недвусмысленным предупреждением о предстоящей реставрации. Известие об окончании войны в Азии и, следовательно, предстоящем возвращении Суллы сильно встревожило популяров, в первую очередь самого Цинну. В течение двух лет после смерти Мария он оставался во главе государства — фактически в качестве тирана, так как дважды, не спросив согласия народа, назначал себя и своих сообщников консулами. Разумеется, были отменены все постановления Суллы, принятые перед его отъездом в Грецию, и восстановлен закон Сульпиция о распределении италийских союзников Рима и вольноотпущенников по всем римским трибам. К 84-му году равные с римлянами права получило почти полтора миллиона новых граждан. Отдельно стоит отметить, что Цинне удалось достигнуть соглашения с воинственными горцами Самния, населявшими южную часть Апеннин. Самниты добивались не столько римского гражданства, сколько своей полной независимости от Рима и потому еще не сложили оружия после Союзнической войны. Еще, в угоду плебсу, Цинной были на три четверти сокращены все частные долги. Вот, пожалуй, и все. Диктатура Цинны опиралась главным образом на италиков, опасавшихся, что олигархия может вновь лишить их гражданских прав, а также на поддержку большинства провинций, кроме Азии и Македонии, находившихся под властью Суллы.
В начале 84-го года, когда в Риме стало известно о заключении мира с Митридатом, Цинна решил было воспрепятствовать возращению Суллы в Италию. Он набрал войско, с которым намеревался переправиться в Грецию, чтобы встретить своего врага там. Но приказ отправиться в плавание в неблагоприятное время года вызвал бунт недисциплинированных новобранцев, в результате чего Цинна был убит.
Весной 83-го года 40-тысячное войско Суллы высадилось в порту Брундисия, на самом юге Италии. Никто не попытался помешать высадке. В своем первом послании сенату Сулла требовал лишь наказания по суду зачинщиков насилий, совершенных марианцами, решительно отказывался от террора и твердо обещал сохранить за новыми гражданами обретенные ими политические права. Он даже заставил всех своих солдат поклясться, что те будут относиться к италикам как к согражданам и друзьям. Однако популяры в Риме да и большинство италиков не поверили Сулле. Они вспоминали его жестокость, проявленную в Союзнической войне. Перед их глазами проходили сцены недавней расправы бандитов Мария с олигархами. Им казалось, что у них нет иного выбора, кроме отчаянного сопротивления победителю Митридата. Пожалуй, эту точку зрения разделяло и большинство народа. Вот как описывает настроение того момента Аппиан:
«Сулла шел в Рим, питая жесточайшую, хотя и скрываемую вражду против своих врагов. Римляне, остававшиеся в городе, хорошо знавшие нрав Суллы и помнившие его прежний штурм и захват Рима, были в страхе при мысли об изданных против Суллы декретах, о разрушении его дома, о конфискации его имущества, об убийстве его друзей, о случайном спасении его потомства. Они считали, что середины для них нет — либо победа, либо окончательная гибель. Поэтому в страхе они примкнули к консулам против Суллы, послали в Италию за войском, продовольствием, деньгами; как бывает всегда во время крайней опасности, были проявлены тут большая энергия, огромное рвение». (Аппиан. Гражданские войны. I, 81)
Возможно, римляне ошибались. Во всяком случае, ошибались италики, ибо, даже разгромив и уничтожив впоследствии своих врагов, захватив неограниченную власть в Риме, Сулла не лишил их новообретенных гражданских прав. Он был слишком хорошим политиком и патриотом Рима, чтобы недооценивать важность сохранения надежного союза с италийскими общинами и племенами. Возможно, что террор действительно не входил в первоначальные намерения Суллы, ведь, одержав в начале своего похода на Рим бескровную победу над одним из противостоявших ему консулов, он отпустил и консула, и его офицеров под честное слово, что те прекратят борьбу с ним, и даже отрядил конвой всадников для их охраны. И только после того как это обещание было вероломно нарушено, Сулла, как он потом неоднократно утверждал, принял решение быть беспощадным к своим политическим противникам. А может быть, это была лишь уловка, чтобы ослабить их сопротивление.
Страх перед неминуемой расправой Суллы в Риме и опасения италиков обеспечили возможность мобилизовать против него огромную армию — более чем сто тысяч солдат. Победоносная азиатская война получила неожиданное если не для самого Суллы, то для его воинов продолжение на земле Италии. Это было обидно и несправедливо. Разве не они в кровопролитных сражениях разгромили полчища варваров? Не они ли вернули Риму его владения на Востоке? Они заслужили триумфальные венки, а их встречают мечи! И чем дольше и упорнее будет военное сопротивление армий популяров, тем сильнее будет нарастать озлобление солдат и военачальников Суллы.
Войско популяров было первоначально разбито на две консульские армии, во главе которых стали только что избранные консулы Гай Норбан и Луций Сципион. Оба они могли соперничать друг с другом только мерой своей бездарности в качестве военачальников. Кое-какое подкрепление получил и Сулла. Кроме рассеянных по стране изгнанников-оптиматов, к нему в лагерь явилось и несколько дельных офицеров, перешедших от популяров. Они немедленно получили назначения.
Но, конечно, самым приятным сюрпризом было появление 23-летнего Гнея Помпея, приведшего к Сулле три легиона добровольцев, набранные им на свои средства в Пицене, на северо-восточном побережье Италии, где находились обширные поместья его отца. Несмотря на свою молодость, Помпей уже успел снискать себе славу смелого воина и талантливого полководца. Его марш на юг к Сулле, когда он сумел обойти или разбить поодиночке трех посланных против него военачальников, закрепил эту славу. Естественно, что Сулла встретил его с большой радостью и даже приветствовал как императора, то есть победителя и полководца, командующего не под его, Суллы, началом, а самостоятельно. Хотя, разумеется, это был лишь жест благоволения.
Вскоре усиленное таким образом войско Суллы вступило в сражение с первой консульской армией Норбана и разгромило ее. Остатки этой армии укрылись в Капуе. Окружив город, Сулла не стал тратить время на организацию его осады, а двинулся дальше на север, навстречу второй консульской армии Сципиона. Здесь даже не случилось сражения. В то время, когда происходила предложенная Суллой для мирных переговоров его встреча со Сципионом, солдаты обеих армий вступили в непосредственный мирный контакт между собой. Воины Суллы, которым он очень хорошо платил, без труда уговорили волонтеров Сципиона перейти на их сторону. Вот тогда-то Сулла и отпустил консула и его штаб под честное слово. Наверное, он рассчитывал на то, что, потеряв обе армии, популяры прекратят сопротивление и позволят ему беспрепятственно войти в Рим. Но он ошибся.
На зиму войско Суллы остановилось в Кампании, где теперь уже по всем правилам военного искусства шла осада Капуи. А в это время, приложив отчаянные усилия, популяры сумели собрать новое войско. Для его оплаты они решились даже на чеканку монет из золотой и серебряной утвари храмов. Набор солдат вели по всей еще не занятой Суллой территории Италии, особенно на севере — в Этрурии и долине реки По. Консулами и командующими новых армий на этот раз были избраны способные и решительные военачальники: Карбон и Гай Марий-сын, на чей призыв отозвались многочисленные ветераны его отца. Готовился выступить против Суллы и незамиренный Самний, оставшийся у него в тылу. Воинственные самниты понимали, что восстановленная Суллой олигархия не будет мириться с их независимостью от Рима, согласованной было с Цинной.
Весной 82-го года военные действия возобновились с новым ожесточением. Часть своей армии под командой Метелла Сулла отправил в обход через Пиценскую область на север с тем, чтобы отрезать столицу от снабжения и подкреплений из Этрурии, а сам с главными силами двинулся прямо на Рим. Навстречу Метеллу выступил с большой армией Карбон, а Суллу на дальних подступах к Городу ожидало 40-тысячное войско Мария. Его юный командующий, которому едва исполнилось 20 лет, по своей энергии и мужеству был достойным сыном своего отца. Но опыта ему не хватало, а его солдаты, хотя среди них и были ветераны, в целом по своей подготовке уступали спаянному и закаленному в боях войску Суллы. Битва была жестокой. Более половины воинов Мария пало на поле боя или попало в плен. Другие рассеялись по окрестностям. Сам Марий с остатками верных ему ветеранов укрылся в хорошо укрепленной крепости Пренесте, километрах в тридцати восточнее Рима.
Путь на Город был открыт. Сопротивляться было бесполезно — столица, не позаботившаяся запастись продовольствием, не выдержала бы даже кратковременной осады. Увидав, что сражение им проиграно, консул Марий послал командовавшему в Риме претору приказ оставить город и увести гарнизон, предварительно умертвив всех еще оставшихся в живых видных оптиматов. Как видим, жестокостью сын тоже не уступал отцу. Под каким-то предлогом претор созвал сенат и намеченные заранее сенаторы были умерщвлены прямо в зале заседаний. В безмолвном ужасе смотрели римляне, как убийцы волочили по улицам и бросали в Тибр трупы этих последних жертв марианского террора.
Поручив блокаду Пренесте одному из своих лучших офицеров, Квинту Офеллу (тому самому, кого он впоследствии за непослушание убьет на форуме), Сулла двинул свои войска в Рим, куда и вступил, не встретив сопротивления. Между тем положение Метелла было трудным, и потому Сулла решил, на задерживаясь в городе, двинуть свои легионы дальше на север. Хотя войско Карбона теперь как будто оказывалось между двух огней, война была еще далеко не окончена. В поддержку популяров выступила новая грозная сила. На выручку Мария двинулась армия самнитов. По дороге она сняла осаду Капуи, присоединила часть ее гарнизона и, увеличившись таким образом до 70 тысяч человек, двинулась к Пренесте. Сулла был вынужден, оставив часть войска против Карбона, с основными силами срочно возвратиться в окрестности Рима. Он занял единственный удобный подход к Пренесте и укрепил там свою позицию. Ему пришлось упорно и отчаянно обороняться. Так же, как и Офеллу, который должен был помешать осажденным пробиться навстречу самнитам. Ситуация вокруг Пренесте довольно долго оставалась неопределенной, до тех пор, пока на севере сулланцам не удалось все же разбить Карбона, бежавшего затем в Африку. Победившее войско под командованием Помпея направлялось на помощь Сулле к Пренесте. Узнав об этом, самниты поняли, что кампания ими проиграна. Движимые теперь уже одной только ненавистью к римлянам, они снялись со своих позиций и пошли на Рим.
С военной точки зрения это было вполне бессмысленно. Заняв город, самниты никак не смогли бы в нем удержаться. Но в данном случае решающую роль играл уже не смысл. Сулла прекрасно отдавал себе отчет в том, какая кровавая баня ожидает жителей города. Поэтому, не дожидаясь прибытия Помпея, он направился вслед за самнитской армией к Риму. В середине следующего дня его войско нагнало повстанцев перед Коллинскими воротами. Офицеры уговаривали Суллу не рисковать, не посылать в бой изнуренных быстрым переходом солдат, а подождать до утра или, еще того лучше, дождаться подхода войск Помпея. Но Сулла слишком хорошо представлял себе, что может произойти в Риме за одну ночь, если туда войдет войско самнитов. Быть может, в своей не дошедшей до нас автобиографии он рассказал о том, как с горечью думал о легкой возможности жестоко наказать неблагодарных римлян. Для этого достаточно было пропустить в город исполненных отчаянной ненависти самнитов. Он такую возможность отверг.
Упорная и кровопролитная битва началась в тот же вечер и длилась всю ночь. Был момент, когда левое крыло римского войска, хотя им командовал сам Сулла, вынуждено было отступить. Однако на правом фланге молодой офицер Марк Красс (будущий партнер Помпея и Цезаря по триумвирату 60-го года) обратил неприятеля в бегство, так что вскоре и левое крыло перешло в контратаку К утру следующего дня армия самнитов была разбита, окружена и практически полностью уничтожена. Рим был спасен.
Сопротивление в Италии было сломлено. Защитники Пренесте, узнав о разгроме самнитов и армии в Этрурии, капитулировали. Гай Марий-сын покончил с собой. Некоторые города на севере держались еще около двух лет, но это уже не имело значения. В Сицилию и Африку вслед за Карбоном отправился Помпей. Он действовал настолько успешно, что к концу 80-го года полностью разгромил местные силы популяров и их африканских союзников. Карбона он захватил и казнил еще раньше. К этому времени сенатское правление в Риме стараниями Суллы было уже полностью восстановлено. Сенат предписал Помпею распустить войско. Это означало отказ в предоставлении триумфа, на каковой Помпей формально по закону не имел права, так как не был ни консулом, ни претором. Однако африканская армия готова была взбунтоваться, и Помпей ее распустить не пожелал. А когда он вернулся в Рим, то Сулла предпочел не ссориться с ним, простил неповиновение сенату, дерзкие речи, адресованные ему самому, и распорядился удостоить Помпея вожделенного триумфа. Впервые в римской истории триумфатором стал молодой человек, еще не бывший сенатором. Но это уже значительно позже. А пока, в конце 82-го года, Сулла готовился вернуться во главе своего победоносного войска в Рим.
Теперь он мог расправиться со своими гонителями-популярами и восстановить правление олигархии. Но сделать это он хотел по своему усмотрению, отнюдь не путем передачи государственного руля недееспособному и коррумпированному сенату. В руках Суллы была неограниченная власть. Однако приверженность староримской республиканской традиции заставила его искать хотя бы псевдодемократического ее оформления. Он направил сенату письмо, в котором объявил, что для восстановления порядка в государстве требует предоставления ему неограниченных диктаторских полномочий.
Уже более столетия в Риме не практиковалось назначение на пост диктатора. Ранее это назначение, согласно закону, по решению сената производил один из консулов на срок не более полугода, а полномочия диктатора были хотя и велики, но в определенной степени ограничены. Консулов в Риме не было (оба погибли), и по поручению сената его принцепс Луций Валерий предложил Народному собранию закон, предоставлявший Сулле власть, далеко выходящую за рамки прежней диктатуры. Помимо утверждения всех его распоряжений и действий, совершенных ранее в качестве консула и проконсула в Азии, Сулле на будущее время предоставлялось единоличное право решать все дела, касающиеся жизни и имущества граждан, без возможности апелляции граждан к народу, распоряжаться по своему усмотрению государственными землями, провинциями и зависимыми от Рима государствами, назначать проконсулов, пропреторов и главнокомандующих в войске, а также путем чрезвычайных законов устанавливать новый порядок в государстве. Полномочия эти предоставлялись на неопределенное время — до тех пор, пока Сулла не сочтет свою задачу выполненной и пожелает сложить их с себя. Сохранять ли на время диктатуры под своим началом прежние магистратуры, он вправе был решать сам. Эта фактически царская власть именовалась «диктатурой для издания законов и введения порядка в государстве». Народное собрание в присутствии солдат Суллы безропотно одобрило закон Валерия. Вряд ли кто-нибудь при этом полагал, что эта «супердиктатура» будет действительно временной. Сулле было только 56 лет, и его честолюбие было общеизвестно.
Только после утверждения своих неограниченных полномочий он вернулся в Рим. Тогда-то и начались события, окрасившие зловещим светом злодейства облик Суллы в исторической памяти цивилизованных народов. На первом же собрании граждан он объявил, что намерен жестоко наказать своих врагов и тех, кто им помогал. По свидетельству Аппиана:
«Он заявил, что улучшит положение народа, если его будут слушаться, зато по отношению к своим врагам он не будет знать никакой пощады вплоть до причинения им самых крайних бедствий. Точно так же он жестоко расправится со всеми преторами, квесторами, военными трибунами, со всеми прочими, кто помогал его врагам с того дня, когда консул Сципион не сдержал заключенного с Суллой соглашения». (Там же. I, 95)
Памятуя о происходившей без всяких границ кровавой расправе, учиненной в Риме солдатами Мария старшего, сенат, согласно Плутарху, стал просить Суллу назвать имена тех, кого он намеревался покарать:
«Ведь мы просим у тебя, — умоляли сенаторы, — не избавления от кары для тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от неизвестности для тех, кого ты решил оставить в живых». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Сулла. XXXI)
Тогда Сулла, по данным того же Плутарха, назвал 80 имен, спустя день — еще 220 и на третий день — столько же. При этом он предупредил, что список остается открытым и по ходу расследований может пополняться в течение полугода, до 1 июня 81-го года. Этот список, или, точнее, списки именовались «проскрипциями». Внесенные в них люди приговаривались к смерти и объявлялись вне закона. Любой человек мог их безнаказанно убить. Разные древние авторы называют разное число «проскрибированных» и разную динамику пополнения зловещих списков. Так, например, Аппиан утверждает, что уже в первом списке содержались имена 40 сенаторов и 1600 всадников.
«Сулла, — пишет он далее, — кажется, первый составил списки приговоренных к смерти и назначил при этом подарки тем, кто их убьет, деньги — кто донесет, наказание — кто приговоренных укроет. Немного спустя он к проскрибированным сенаторам прибавил еще других. Все они, будучи захвачены, неожиданно погибали там, где их настигли, — в домах, в закоулках, в храмах. Некоторые в страхе бросались к Сулле и их избивали до смерти у ног его, других оттаскивали от него и топтали. Страх был так велик, что никто из видевших эти ужасы даже пикнуть не смел. Некоторых постигло изгнание, других — конфискация имущества. Бежавших из города всюду разыскивали сыщики и кого хотели предавали смерти. Были убиты, подверглись изгнанию, конфискации имущества многие из числа тех италийцев, которые повиновались Карбону, Норбану, Марию или их подначальным командирам. По всей Италии учреждены были над этими лицами жестокие суды...» (Аппиан. Гражданские войны. I, 95)
Проскрипционные списки пополнялись именами командиров Мария и Цинны, всадников, участвовавших в судах над сенаторами, просто крупных коммерсантов и банкиров. У Аппиана есть замечание, что «всего более свирепствовали против богатых». Другой древний автор, Валерий Максим, называет общее число жертв сулланского террора в 4700 человек. Можно не сомневаться, что погибло значительно большее число людей, чем было занесено в проскрипционные списки. Вспомним, что солдаты Суллы были приучены к грабежу; надо полагать, что они воспользовались благоприятной обстановкой для ограбления и тех, кто не попал в список, и что для сокрытия следов своих преступлений не останавливались перед убийством. Тем более что смертью могло караться и укрывательство проскрибированных, а доказательства сего вряд ли кто-нибудь требовал от убийц. Даже если бы Сулла захотел их обуздать, он вряд ли смог бы это сделать. Во-первых, накопившиеся в связи с неожиданно враждебным приемом на родине обида, злоба и желание отомстить за гибель товарищей должны были получить выход. Во-вторых, он обязан был своим солдатам за то, что они остались ему верны, когда Рим пытался отнять у него войско. Пришло время расплатиться за эту рискованную верность. И, наконец, на попустительстве войску были построены все военные кампании Суллы — уклониться от этого в одночасье было невозможно. Кое-кто, пользуясь таким попустительством, и сам дополнял проскрипционные списки. Известно, например, что один из военачальников Суллы, некий Катилина, отпетый негодяй, убил своего брата и для прикрытия этого гнусного преступления упросил диктатора внести его в роковой список задним числом.
Если солдаты Суллы заняты были прямым грабежом, то его офицеры баснословно наживались на дешевых распродажах имущества, конфискованного в пользу государства у жертв. Для распродажи назначались аукционы, но вряд ли кто-либо посторонний осмеливался конкурировать на них с приближенными диктатора. Впрочем, некоторых видных граждан Сулла понуждал к участию в аукционах, что возлагало и на них долю ответственности за все происходившее. Именно на этих распродажах составил себе огромное состояние один из высших военачальников Суллы Марк Красс, что впоследствии определило его своеобразную роль в политической жизни Рима. Многие конфискованные дома и имения не поступали в продажу а раздаривались Суллой своим любимцам, женщинам, актерам и вольноотпущенникам.
Однако следует признать, что террор, учиненный диктатором, не носил характера личной мести. Даже бывшему консулу Луцию Сципиону, нарушившему свое обещание неучастия в борьбе, было позволено доживать свой век в изгнании. Упомяну еще о двух фактах, благодаря чему уже в этой книге будут названы имена двух молодых современников Суллы, которым, наряду с Помпеем и Крассом, предстоит играть главные роли в грядущей гражданской войне.
Марк Туллий Цицерон был ровесником Помпея. Его первое заметное выступление в суде состоялось в 80-м году. Некий Хрисогон, вольноотпущенник самого Суллы, купил на распродаже за смехотворно низкую цену имение неизвестно кем убитого Секста Росция. А когда сын Росция упрекнул в этом Хрисогона, тот обвинил его в отцеубийстве и привлек к суду. Цицерон взялся защищать юного Росция и выиграл дело. Несмотря на весьма вероятные жалобы Хрисогона, Сулла не стал преследовать Цицерона. Впрочем, молодой адвокат вскоре уехал на пару лет в Грецию.
Гай Юлий Цезарь, 17-летний патриций из древнего и знатного рода Юлиев, еще до возвращения Суллы из Азии женился на дочери Цинны. Воцарившись в Риме, Сулла предложил Цезарю развестись с дочерью своего злейшего врага. Цезарь отказался и тоже не подвергся особому преследованию, хотя, так же как Цицерон, счел благоразумным уехать из Рима. И в том, и в другом случае для гибели ослушников достаточно было бы одного слова Суллы. Но, видимо, он не был болезненно самолюбив и мстителен по мелочам.
Единственно, кого Сулла ненавидел люто, даже после их смерти, были члены семьи Мария. Могила победителя Югурты и германцев была по его приказу вскрыта, прах извлечен и брошен в реку. Все памятники побед разрушены. Останки Мария-сына, видимо, были скрыты от Суллы. Зато единственный остававшийся в живых родственник Мария, его племянник, был замучен на могиле бывшего соратника победителя кимвров — казненного им Катула.
Хладнокровие, почти безучастность того, чьим именем и попустительством творились массовые расправы над гражданами, производили, надо полагать, страшное впечатление на современников. Как, впрочем, и на потомков. Вместе с тем просматривается и хорошо продуманная забота об устрашении. Отрубленные головы особо высокопоставленных жертв, в частности, всех сенаторов, было велено складывать кучей в одном месте на форуме. Сие отвратительное действо, хотя и в куда меньших масштабах, было впервые осуществлено, как мы помним, не Суллой, а его бывшими гонителями, Марием и Цинной. Однако и он, несмотря на совсем иной уровень образования и культуры, не пренебрег этим сильнодействующим средством.
Отвратительной во всей этой кровавой вакханалии была прямая связь охоты на людей с корыстным интересом охотников. Помните, о чем свидетельствует Аппиан? Доносчики и убийцы получали немедленное денежное вознаграждение. А те, кто рассчитывал поживиться на распродаже, намечали свои жертвы, прикидывая степень их достатка. Но самым гнусным делом явились введенные Суллой проскрипционные списки. Казалось бы, предварительное обнародование списка осужденных должно было успокоить большую часть населения, а самим проскрибированным давало шанс спастись бегством. На самом деле, в сочетании с объявленными одновременно вознаграждениями за предательство и убийство, а также карой за помощь и укрывательство, проскрипции породили ни с чем не сравнимую по своей мерзости массовую охоту на людей — в самом прямом смысле этого слова. Она не только обрекала на практически неизбежную гибель преследуемых, но и развращала, лишала человеческого облика преследователей.
По своему численному итогу террор Суллы, наверное, даже уступал опытам его предшественников. Вспомним цифру в десять тысяч убитых на форуме в связи с изгнанием Цинны из Рима. Я высказывал сомнение в ее достоверности, но то же самое можно отнести и к цифре 4700 — максимальному числу жертв проскрипций, названному римским историком Максимом. А расправа обезумевшего Мария с ненавистными аристократами и их клиентами в Риме и по всей Италии после его возвращения к власти! Источники не называют число его жертв, но если вспомнить, что Серторий после смерти Мария перебил около четырех тысяч его сподручных, которые свирепствовали в течение нескольких месяцев...
И все же во время кровавого произвола Мария общий страх как-то сплачивал людей. Угроза неожиданной расправы висела над головой едва ли не каждого более или менее обеспеченного римлянина или италика. Теперь же одна строчка в проклятом списке превращала человека в затравленного зверя, которому каждый из окружающих его людей рисовался охотником. Это было ужасно. Припомним еще, что в течение полугода проскрипционные списки пополнялись, благодаря чему гнетущий душу страх не отпускал и тех, кто в первую минуту вздохнул с облегчением, не увидав там своего имени.
С середины 81-го года, как и было обещано, террор прекратился. За полгода Сулла успел физически уничтожить почти всех потенциальных противников своей диктатуры и сковать ужасом все гражданское население Республики. Наступило время государственных преобразований, долженствующих учредить и закрепить новый порядок политической и гражданской жизни Рима. Суллой был продиктован, а затем утвержден сенатом и комициями (хотя закон Валерия позволял ему обходиться без утверждения) целый ряд законов, которые историки иногда называют «Корнелиевыми законами», по имени Корнелия Суллы, а иногда — Сулланской конституцией. Что же это были за законы?
Во-первых, имея в виду предстоящий роспуск армии, насчитывавшей уже более двадцати легионов, Сулла позаботился о том, чтобы обеспечить всех своих отставников землей. Для этой цели у италийских городов и областей, участвовавших в войне на стороне противника, особенно в Этрурии и Кампании, он отобрал обширные земли — как те, что были некогда отданы Римом в аренду, так и их собственные. На них было нарезано 120 тысяч участков, большей частью в виде компактных поселений ветеранов. Во-вторых, для уменьшения влияния столичной черни и предотвращения любой смуты в городе Сулла выбрал десять тысяч самых молодых и сильных рабов, принадлежавших репрессированным, даровал им свободу, всю полноту гражданских прав и объявил их как бы своими клиентами — все они стали по названию рода Суллы именоваться корнелиями. Личная их преданность диктатору гарантировалась очевидной зависимостью положения этих новых граждан от сохранности его власти. Это означало и безусловную поддержку любого предложения Суллы в комициях.
Обеспечив таким образом прочность своей диктатуры, Сулла принялся за реконструкцию государственного строя Римской республики в соответствии со своим давно и хорошо продуманным планом. Совокупность проведенных им законов и распоряжений не оставляет сомнений в том, что существо этого плана состояло в реставрации полновластия римского сената. Начал он, как мы знаем, с того, что своим распоряжением пополнил сам сенат тремя сотнями новых членов — очевидно, имея в виду улучшение его «личного состава». В числе новых сенаторов оказались и его приближенные офицеры, и наиболее знатные, консервативно настроенные представители сословия всадников. Фактически Сулла ликвидировал должность цензора и тем самым обеспечил несменяемость сенаторов. Для пополнения естественной убыли сената он провел закон, по которому сенаторами автоматически становились все граждане, избранные в комициях на низшую государственную должность квестора, а число квесторов было увеличено до двадцати. Таким образом сенат становился если не непосредственно выборным, то демократически пополняемым органом власти.
Принимая во внимание характерный для римлян консерватизм, Сулла не ликвидировал традиционные властные институты Республики, но так трансформировал условия их деятельности, что они стали целиком зависеть от сената. В первую очередь это касалось института народных трибунов — зачинщиков всех революционных выступлений последних десятилетий. Им было оставлено право предложения законов Народному собранию, формально сохранившему свой статус высшего законодательного органа. Но эти предложения должны были в обязательном порядке быть предварительно одобрены сенатом. То же было постановлено относительно права трибунов привлекать к ответственности должностных лиц после сложения ими своих полномочий. Право трибунского вето (интерцессии) в отношении распоряжений действующих магистратов сохранялось. Но если последующее судебное разбирательство приходило к выводу о злоупотреблении интерцессией, то на бывшего трибуна мог быть наложен колоссальный денежный штраф. Наконец, был принят закон, запрещавший трибунам впредь претендовать на какие-либо государственные должности. Это отвратило от трибуната всех честолюбивых молодых людей.
Влияние сословия всадников, за исключением его верхушки, вошедшей в состав сената, также было существенно ограничено. Во-первых, все суды присяжных для рассмотрения дел о вымогательстве в провинциях, коррупции, злоупотреблениях по службе, тяжких уголовных преступлениях, подкупе избирателей, государственной измене, оскорблении достоинства римского народа и прочих было решено отобрать у всадников, которым их передал Гай Гракх, и вернуть сенатскому сословию. Во-вторых, в богатейшей провинции Азия — главной кормушке публиканов — десятинная подать была вновь заменена на фиксированный денежный налог, взимаемый администрацией наместника. Сословие всадников при Сулле перестало играть сколь-нибудь существенную политическую роль.
Римская чернь, чуявшая в регулярных раздачах хлеба слабость правительства и его старание откупиться от ее возможного бунта, тоже ощутила тяжесть руки Суллы, разом отменившего эти раздачи. О бунте в присутствии десяти тысяч корнелиев и находившихся неподалеку ветеранов Суллы нечего было и помышлять.
Наконец, были приняты серьезные меры по защите власти сената от посягательства на нее высших магистратов, в первую очередь, с опорой на военную силу. Сулла хотел исключить на будущие времена возможность повторения своего собственного опыта. Для этого высшая военная и государственная власти были раз и навсегда разделены, причем первая из них фактически оставалась за сенатом. Римским армиям отныне было запрещено находиться не только в стенах Рима, но и на всей территории Италии южнее границы с Цизальпинской Галлией, которая была установлена по небольшой речке Рубикон — немного севернее нынешней Флоренции. Этими находящимися в провинциях армиями могли командовать только проконсулы и пропреторы, бесконтрольно назначаемые сенатом. Консулы же и преторы, порядок избрания которых в комициях Сулла сохранил, обязаны были в течение года своего пребывания в должности оставаться сугубо гражданскими лицами и заниматься только внутренними делами Республики. Командование войском им было запрещено. Таким образом было покончено с возможностью опасного совмещения в одном лице высшей гражданской и военной власти.
Чтобы избежать слишком быстрого выдвижения новых сильных личностей, способных подорвать влияние сената и узурпировать власть, был принят закон, строго регламентировавший порядок занятия магистратур. В нем фигурировали, во-первых, возрастные ограничения. На должность квестора не могли претендовать граждане моложе 30-ти лет, на должность претора — 39-ти лет, консула — 42-х лет. Во-вторых, предписывался не менее чем двухлетний перерыв между занятием двух последующих должностей на иерархической лестнице и, наконец, не менее, чем десятилетний срок ожидания для повторного избрания претором или консулом.
Были разработаны также основы муниципального устройства городов, вошедших теперь в состав Республики на почти равных правах с Римом. Приняли ряд законов по ограничению роскоши и исправлению нравов высшего общества.
Хочу еще раз обратить внимание читателя на то, что Сулла сохранил за италиками после Союзнической войны право полного римского гражданства, хотя, ввиду участия многих из них в военных действиях на стороне популяров, мог бы вполне его отобрать. Кроме того, расселением ста двадцати тысяч своих отставников на землях, конфискованных главным образом у крупных италийских землевладельцев, он вновь основательно укрепил крестьянский средний слой граждан Республики. Тем самым Сулла реализовал то, чего добивались братья Гракхи — самые ярые противники сената. Такова сила объективной необходимости, хотя пути ее реализации могут быть совсем разными. Гай Гракх стремился осуществить свои законы вопреки сопротивлению деградировавшего римского сената и для этого намеревался отстранить его от управления государством. Сулла же осуществил или подкрепил важные для сохранения могущества Рима преобразования своей личной, диктаторской властью с тем, чтобы трансформированный им сенат принял их и поддержал. Зато такому сенату он намеревался передать всю полноту законной власти в государстве. Действительно, оценивая совокупность названных выше «Корнелиевых законов», мы должны сделать заключение, что они обеспечивают именно полновластие сената. Но когда же должна была произойти эта передача власти? Очевидно, после смерти Суллы. Ведь его диктатура никак не вписывалась в конституированное им новое римское государство, а от неограниченно и надежно обеспеченного единовластия добровольно не отказывается никто. Но тут-то произошло нечто невероятное и до того невиданное в Истории.
Еще в 81-м году, в разгар репрессий, Сулла провел избрание двух консулов. Это были личности незначительные, их роль была явно бутафорской. На следующий год он сам пожелал быть избранным консулом вместе со своим ближайшим сподвижником Метеллом. Вместе с тем он сохранял за собой все диктаторские полномочия и для проведения в жизнь своей «Конституции» опирался именно на них. Для чего же ему нужно было еще консульское звание? Для проформы или для возвращения престижа самому званию? Ответ на этот вопрос начал вырисовываться летом того же года, когда происходили выборы консулов на 79-й год. Законодательная программа Суллы была, по-видимому, реализована им полностью. И вот неожиданно для всех... Но предоставим лучше слово Аппиану. О таких исключительных событиях в истории человечества лучше узнавать из первоисточника.
«На следующий год, — пишет историк, — народ, ублажая Суллу, снова избрал его консулом. Но Сулла не принял этого избрания, назначил консулами Сервилия Исаврика и Клавдия Пульхра, а сам добровольно сложил с себя свою большую власть, хотя никто его к этому не побуждал. И этот его поступок мне также представляется удивительным, именно, что один только Сулла, хотя никто на этом не настаивал, первый передал такую большую власть не своим детям... а тем, над кем он властвовал. Странно также и то, что Сулла добровольно сложил с себя ту власть, которой он овладел после того, как произвел для получения ее столько насилий, подвергся стольким опасностям...»
Повторы римского историка мне очень понятны. Он не может прийти в себя от изумления, оторваться от этого потрясающего факта.
«Не менее удивительно также и то, — продолжает Аппиан, — что он не побоялся сделать это после того, как в веденной им войне было истреблено более 100 000 цветущего населения, после того, как он убил и изгнал из числа своих врагов 90 сенаторов, до 15 консулов, 2600 так называемых всадников... причем у многих из всех этих лиц имущество было конфисковано, тела многих из них выброшены без погребения. Сулла, не побоявшись ци оставшихся в Риме, ни изгнанников, ни тех городов, которых он лишил цитаделей, стен, укреплений, денег, привилегий, объявил себя частным человеком. Столько было в этом человеке смелости, такое сопутствовало ему счастье! Говорят, когда Сулла сложил с себя власть, он прибавил на форуме, что если кто-нибудь потребует, он готов дать ответ во всем происшедшем; что он отменил ликторов для себя, отставил своих телохранителей и в течение долгого времени один, лишь со своими друзьями, появлялся среди толпы, которая и теперь еще смотрела на него со страхом...» (Там же. I; 103, 104)
Вскоре после того Сулла уехал из Рима в свое поместье близ Неаполя и оставался там в течение двух лет до самой своей внезапной смерти. Мотивы его отречения от власти для историков всех времен, от античности до наших дней, остаются загадкой и служат пищей для самых различных домыслов. Послушаем дальше того же Аппиана, хотя мне его объяснение не кажется убедительным. Он пишет так:
«Причина, почему Сулла пожелал стать из частного человека тираном и из тирана обратиться снова в частного человека, и после этого проводить жизнь в сельском уединении, заключается, на мой взгляд, в том, что он за всякое дело брался с пылом и проводил его со всей энергией. Сулла переехал в свое поместье в Кумах, в Италии, и там в тишине развлекался рыбной ловлей и охотой не потому, что он остерегался вести жизнь частного человека, проживая в городе, и не потому, что он не чувствовал в себе достаточно силы для новых предприятий. Он находился еще в цветущем возрасте и обладал полным здоровьем. В Италии к его услугам были 120 000 человек, недавно служивших под его начальством и теперь получивших от него большие подарки, обильные земельные наделы; в его распоряжении были в Риме 10 000 корнелиев и прочий народ, принадлежавший к числу его сторонников, преданный ему, страшный для других. Все они, как действовавшие раньше вместе с Суллой, видели свою безопасность в том, чтобы он долго жил. Мне кажется, Сулла пресытился войнами, властью, Римом, и после всего этого полюбил сельскую жизнь». (Там же. I, 104)
Итак, попросту говоря, все надоело. Что-то не верится! В Азии терпеливо провел четыре года, а в Риме уже через два стало невмоготу? Еще в прошлом году развивал колоссальную законотворческую деятельность, и вдруг все будто оборвалось — уехал в деревню. Нет, так не бывает! Здесь скрыта какая-то цель, какое-то решение.
А может быть, раскаяние в преступлениях? Или неизлечимая болезнь, породившая безразличие, — ведь умер, едва достигнув шестидесяти? Послушаем свидетельства Плутарха. Он сообщает, что еще за десять дней до смерти к Сулле обратились знатные граждане находившегося по соседству города Путеолы с просьбой помочь разрешить возникший в городе конфликт. И он составил для них закон об управлении городом. Значит, не надоело! А накануне смерти, узнав, что некий магистрат этого города в связи с известием об опасной болезни Суллы не возвращает долг казне, он вызвал должника к себе в спальню и велел слугам его удавить. Так что версия с раскаянием тоже не проходит. Болезнь же его, по всем сведениям, была неожиданной и скоротечной. Аппиан утверждает, что Сулла увидел во сне, будто его зовет к себе его гений, в тот же день поспешно составил завещание, к вечеру заболел лихорадкой и ночью умер. По данным Моммзена, еще за два дня до смерти Сулла писал свою автобиографию, когда вдруг у него пошла кровь горлом. Увы! Эта автобиография утеряна. Быть может, она бы пролила свет на загадку добровольного ухода от дел грозного диктатора.
Похороны Суллы были грандиозны. Естественно предположить, что это было продиктовано страхом перед его ветеранами. Однако при внимательном чтении нижеследующего описания Аппиана остается впечатление, что такое объяснение отчасти и справедливо, но недостаточно. Впрочем, судите сами.
«Тело Суллы, — пишет Аппиан, — провезено было по всей Италии и доставлено в Рим. Оно покоилось в царском облачении на золотом ложе. За ложем следовало много трубачей, всадников и прочая вооруженная толпа пешком. Служившие под начальством Суллы отовсюду стекались на процессию в полном вооружении, и по мере того как приходили, они тотчас выстраивались в должном порядке. Сбежались и другие массы народа, свободные от работы. Пред телом Суллы несли знамена и секиры, которыми он был украшен еще при жизни, когда был правителем. Наиболее пышный характер приняла процессия, когда она подошла к городским воротам и когда тело Суллы стали проносить через них. Тут несли больше 2000 золотых венков, поспешно изготовленных, дары от городов и служивших под командой Суллы легионов, от его друзей. Невозможно исчислить другие роскошные дары, присланные на похороны. Тело Суллы, из страха перед собравшимся войском, сопровождали все жрецы и жрицы по отдельным коллегиям, весь сенат, все должностные лица, с отличительными знаками их власти. В пышном убранстве следовала толпа так называемых всадников и отдельными отрядами все войско, служившее под начальством Суллы...
...Бесконечное количество было трубачей, игравших по очереди печальные похоронные песни. Громкие причитания произносили сначала по очереди сенаторы и всадники, далее войско, наконец, народ. Одни истинно скорбя по Сулле, другие из страха перед ним — и тогда они не меньше, чем при его жизни, боялись и его войска, и его трупа...
...Когда труп Суллы был поставлен на кафедре на форуме, откуда произносятся речи, надгробную речь держал самый лучший из тогдашних ораторов, потому что сын Суллы, Фауст, был еще очень молод. После того наиболее сильные из сенаторов подняли труп на плечи и понесли его к Марсову полю, где хоронили только царей. Траурный костер был окружен всадниками и войском». (Там же. I; 105, 106)
В начале этой главы я процитировал два мало схожих между собой суждения о личности Суллы маститых специалистов-античников. Главное расхождение в них, как мне кажется, касается мотивов деятельности этого в высшей степени неординарного персонажа римской истории.
«Полное отсутствие политического эгоизма — и только оно одно — дает Сулле право быть поставленным наравне с Вашингтоном», — писал в середине прошлого века Моммзен. «Холодный и методичный в расчетах честолюбец», — столетие спустя утверждает Борде. Изложенные выше факты позволят, я надеюсь, читателю решить для себя, какое из эти суждений ближе к истине. Лично мне кажется, что первое. Действительно, добровольный отказ от неограниченной власти как-то не вяжется по крайней мере с обычным понятием честолюбия. Я думаю, что Сулла действительно ставил перед собой патриотическую в его понимании задачу восстановления могущества Рима в форме Республики, безраздельно управляемой, согласно древней традиции, сенатской аристократией. Для необратимого решения этой задачи он счел необходимым физически уничтожить оппозицию такому управлению. Тем более, что оппозиция была представлена не массами граждан и даже не такими бескорыстными и достойными защитниками их интересов, как братья Гракхи, а беззастенчивыми, с его точки зрения, демагогами, эгоистами и тиранами вроде Сатурнина, Главции, Мария, Цинны и их приспешников.
Кстати сказать, бесчеловечное, с нашей точки зрения, решение Суллы не должно было выглядеть таковым в те суровые времена. Вспомните о нередко практиковавшемся поголовном истреблении жителей захваченных во время войны городов. Да и масштабы террора, развязанного Суллой, были, как мы видели, скромнее, чем чередовавшиеся до него взаимные расправы олигархов и популяров. И неизвестно еще, какого размаха достиг бы маятник этих расправ, если бы Сулла не остановил его качание и не избавил Рим от нараставшей, как снежный ком, анархии.
Все это так, и цели, которые он, по-видимому, ставил перед собой, заслуживают определенного уважения. Но средства!
Полное пренебрежение нормами нравственности, существовавшими, несмотря на отмеченную жестокость, в определенных рамках и для древнего мира, равно как и равнодушное хладнокровие, с каким он направлял и наблюдал свои расправы, заставляют в какой-то мере согласиться с мнением того же Борде, утверждающего, что Сулла «презирал и государственные учреждения, и людей». Пожалуй, придется даже признать, что именно это спокойное попрание общепринятых нравственных основ общественных взаимоотношений явилось наиболее серьезным вкладом Суллы в эволюцию общественно-политической жизни Рима. Действительно, впервые в его истории доносительство и убийство политических противников с такой циничной откровенностью оплачивалось наличными деньгами. С неведомым до той поры бесстыдством имущество жертв тут же продавалось с молотка. А гнусное зрелище окровавленных голов, наваленных кучей на плитах римского форума! И, наконец, проскрипции — дьявольское изобретение, породившее отвратительную охоту на людей. А вокруг всего этого — бесчинство разнузданной солдатни, стихия насилия, разбоя, грабежей и убийства граждан, вовсе не причастных к политической борьбе. Да, после Суллы уже все было возможно! Через сорок лет проскрипции будут повторены Октавианом и Антонием в еще более отвратительном виде.
О преступлениях, совершенных в молодости Октавианом, ставшим впоследствии императором Августом, забудут настолько, что вплоть до наших дней будет принято царствующие особы почтительно именовать «августейшими». А имя Суллы останется в памяти бесчисленных поколений синонимом злодейства. И это можно понять. Кто интуитивно, кто сознательно, но все люди воспринимают долгую предысторию своего времени как непрерывную борьбу добра и зла, подлости и благородства, справедливости и произвола — того, что многие религии приписывали божественному и сатанинскому началам в душе каждого человека и, как следствие этого, в поведении сообщества людей. И каждая значительная победа в этой борьбе сказывалась не только на образе жизни ее современников. То ли изменением путей и скорости общественной эволюции, то ли возникновением новой практики и традиции взаимоотношений, то ли просто своим опытом и примером, но каждая такая победа отражалась на судьбе всех грядущих поколений.
В действиях Суллы, несмотря на его, в общем-то, благие цели, сатанинское начало восторжествовало. Ему принадлежит честь если не открытия, то открытого утверждения и использования в политической практике государства таких аспектов психологии человека, которые до того времени считались постыдными. Он был первым на этом, увы, впоследствии торном пути, потому Каинова печать легла навеки на его чело.
Ну, а непосредственные результаты? Спасла ли Рим жестокая хирургическая операция, осуществленная Суллой? Кстати, я думаю, что он считал эту операцию оконченной, свою миссию выполненной и удалился от дел ради того, чтобы освободить поле деятельности для воскрешенной, как он надеялся, сенатской республики. Внезапная смерть избавила Суллу от разочарования в связи с крушением этой надежды. В следующей книге этой Истории мы увидим, как очень скоро Рим и Италия окажутся ввергнутыми в пучину продолжительной и жестокой гражданской войны. Мы увидим, что, как ни парадоксально, эта война явится детищем самого Суллы, ибо вести ее будут не различные социальные слои римских граждан, а честолюбивые полководцы, опирающиеся на лично им преданные войска. Более того, некоторые из них, например уже знакомый нам Гней Помпей, будут прямо ссылаться на опыт Суллы.
Злая ирония судьбы состоит в том, что Сулла продал душу дьяволу понапрасну, ради призрачной цели. Построенный им на грязи и крови карточный домик обречен был рухнуть незамедлительно после его смерти. Мы, правда, еще встретимся в стенах сената с несколькими яркими и сильными личностями, но в целом сенатское сословие во все последующие годы окажется столь же недееспособным, своекорыстным и продажным, как во времена Мария и Суллы, и будет деградировать дальше. Ход истории невозможно обратить вспять. Развращенная излишествами богатства, погрязшая в слабостях и пороках, давно утратившая верность суровым идеалам своих предков, которыми она, тем не менее, не переставала кичиться, сенатская аристократия окажется неспособной нести бремя управления раскинувшимся на полмира римским государством.
Еще менее будет соответствовать грандиозности этой задачи архаичная и окостеневшая структура римской демократии, пригодная лишь для управления жизнью городской общины. В муках гражданской войны неизбежно должна будет появиться на свет императорская власть, подминающая под себя равно аристократов и демократов. Именно для нее опыт Суллы, помимо его воли, послужит в свое время ценным подспорьем.
Заканчивая первый период истории Древнего Рима, уместно хотя бы очень кратко отметить наиболее существенные результаты эволюции римского государства за более чем четыре века существования Республики.
Во-первых, произошло колоссальное увеличение территории и народонаселения римского государства. То, что начиналось как небольшая городская община, включило в свой состав на правах полного гражданства всю Италию и ряд римских колоний вне ее. А в качестве подчиненных Риму завоеванных провинций и зависимых сопредельных государств — почти все страны огромного средиземноморского бассейна.
Во-вторых, к концу описанного периода совершенно определенно выявилось несоответствие государственного устройства Республики ее новому положению как по отношению к другим народам, так и внутри нее самой.
Народные собрания (комиций) в Риме, некогда воплощавшие законодательную власть и избирательную волю римского народа, потеряли всякий смысл. Собравшиеся на форуме несколько десятков тысяч человек, по большей части люмпенов, не могли представлять ни власть, ни волю приблизительно миллиона полноправных римских граждан, проживавших вдали от города.
То же самое относится к избиравшимся на этих собраниях народным трибунам. Тем более что после реформ Суллы их реальное влияние и возможность законодательной инициативы были почти сведены на нет.
Сенат — некогда мозговой центр и средоточие римской государственности, а еще того важнее, римской традиции, достоинства и системы жизненных принципов — теперь полностью утратил свой авторитет, на котором только и основывались в прежние годы его влияние и власть. Эта утрата происходила постепенно, где-то с начала II века до Р.Х., когда в результате контакта с деспотичным и изнеженным Востоком сенатское сословие обрело вкус к роскоши, расточительству, разврату и устремилось к источникам быстрого обогащения, не только растеряв по дороге суровую римскую нравственность, но и опустившись до взяточничества и казнокрадства. Вливание, которое сделал Сулла, не улучшило качественного состава сената. В него вошли знатные всадники и приближенные диктатора, развращенные ничуть не меньше тех, кто и ранее заседал в сенатской курии.
Консулы и преторы уже не рассматривали свои магистратуры как высокую честь и выражение доверия народа, обязывающего к величайшей ответственности. Теперь это были лишь ступени к будущему наместничеству, сулившему верное обогащение.
Подданные Рима в его провинциях, обложенные сверх меры налогами и всевозможными поборами, страдали не только от произвола и вымогательства аристократов-наместников, но и от грабительских процентов на ссуды и отсрочки платежей, за которыми им поневоле приходилось обращаться к римским откупщикам-публиканам. Ясно, что при таком управлении провинции нищали и деградировали, а между тем они были основным источником поступления денег в римскую казну.
Вымогательства наместников в провинциях, так же как хищения и злоупотребления подрядчиков, откупщиков общественных работ и государственных пошлин в самой Италии, оставались безнаказанными благодаря откровенной коррумпированности сначала всаднических, а потом и сенатских судов.
В качестве третьей особенности заключительной фазы эволюции римской Республики следует отметить быстрое падение ранее незыблемого уважения к закону Да и о какой законности можно было говорить, если споры на форуме решались дубинами или мечами, неприкосновенных народных трибунов убивали, солдаты бесчинствовали в городе, куда закон запрещал им даже входить, а диктатор, присвоив права народного суда, одним своим словом приговаривал сотни граждан к смерти?
Весьма заметным результатом развития римской Республики явились и произошедшие в ней социальные сдвиги. Я уже упоминал, что широкое использование рабского труда в крупных землевладениях вело к разорению крестьян-собственников, к постепенному исчезновению среднего по достатку слоя граждан — гаранта стабильности любого государства, а в Риме еще и основы его военного могущества. Земельная реформа Тиберия Гракха и расселение ветеранов Суллы несколько восполнили ряды крестьянства, но это были разовые акции, и возможностей для их повторения в Италии явно не было. А между тем процесс обнищания сельского населения продолжался. Очень многим из ветеранов Суллы в условиях конкуренции с крупными рабовладельческими хозяйствами не удалось даже закрепиться на своих участках, и они были вынуждены вскоре их продать. Бурными темпами шла имущественная поляризация в Риме и других городах Италии. Баснословно богатели крупные собственники — всадники и сенаторы. Последние больше не стеснялись заниматься коммерцией, а закон, некогда запретивший им это, был всеми забыт. В их руках сосредоточились доходы от сельскохозяйственных угодий по всей Италии, ростовщические проценты на монополизированный капитал, торговая прибыль со всего государства и весьма значительная часть государственных доходов через аренду и откуп. Впрочем, некоторые из олигархов, чаще всего молодые наследники, проматывали свои состояния, залезали в долги и пополняли собой авантюрно-опасный и даже криминогенный контингент горожан. Рядом с ними грозно разрасталась масса беспокойных и наглых люмпенов, непрерывно требующих бесплатного хлеба и зрелищ. Для всех этих новых категорий граждан Республики была характерна идеология паразитирования и глубокое падение нравов — различное по формам своего проявления в разных имущественных слоях, но всюду одинаково тлетворное.
Наконец, чрезвычайно существенным фактором стало коренное изменение характера римского войска. Конечно, в случае большой войны в него призывали и крестьян, возвращавшихся после окончания военных действий на свои поля. Но ядро армии составляли профессионалы, в большинстве своем из неимущих граждан, добровольно завербовавшихся в ее ряды на многие годы. Их отечество находилось внутри ограды военного лагеря, их согражданами были только те, с кем они рубились плечом к плечу, в боевых порядках легиона. Постоянное местопребывание назначено им было вне Италии, а весь уклад лагерной и походной жизни, все грубые удовольствия, какие им сулила военная служба в мирное время, деньги, что им удавалось отложить на старость, и, наконец, добыча, какой они могли поживиться на войне, не говоря уже о шансах остаться в живых — все зависело исключительно от таланта, удачи и расположения к ним их полководца. Только его власть они признавали, а если случалось под его командой совершить длительную и успешную военную кампанию, то только ему были преданы душой и телом.
Глубокий кризис республиканского государственного устройства и обособление армии создали предпосылки для установления военной диктатуры. Примитивно-коллегиальная форма управления огромным государством доказала свою неэффективность. Форма представительной (парламентской) власти еще не появилась на свет. Оставалось одно — возврат к монархии, но в новом качестве. Не к той царской власти, что на заре существования Рима предполагала все-таки акт народного избрания или выражения доверия, а к единовластию, опирающемуся на грубую военную силу.
Сулла достаточно наглядно показал, как это делается. И хотя сам он еще был в плену традиционных представлений о возможности «хорошей» сенатской республики и потому не захотел сохранить за собой неограниченную власть, его опыт бесспорно лег в основу будущей трансформации римского государства. Однако эта трансформация для своей необратимости требовала изживания многовековой республиканской традиции в сознании всего общества. Между тем нет ничего более инерционного, чем историческая традиция. Она изживается относительно быстро только в пожаре гражданской войны. Насущная необходимость коренного и безотлагательного изменения старого государственного устройства, с одной стороны, и его искусственное укрепление, совершенное Суллой, — с другой, обусловили неизбежность жестокой гражданской войны в Риме. Знакомство с ее главными персонажами ожидает читателя в следующей книге нашей истории.
ТОМ II ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Глава I Помпей и Лукулл
Уважаемый читатель, следует предупредить тебя, что в этой книге, в отличие от 1-го тома, мне не удастся так же четко выстроить изложение исторического материала вокруг рассказов о судьбах отдельных знаменитых граждан древнего Рима. История Римской Республики растянулась на добрых пять веков. В ее «постлегендарный» период, на котором главным образом было сосредоточено наше внимание, одна яркая и сильная личность сменяла другую, как бы передавая из рук в руки эстафету лидерства в Риме. С деяниями этих лидеров легко было связать весь ход истории зрелой Республики, посвятив каждому из них отдельную главу.
Цепь гражданских войн, через которые пролегал трудный переход от Республики к Империи, укладывается примерно в полвека. На этом отрезке времени появляются почти одновременно несколько очень крупных фигур римской Истории. Достаточно назвать имена Помпея, Цицерона, Цезаря, Антония и Августа (при этом список лиц, достойных нашего внимания, далеко не исчерпан). Поэтому вынесение в названия глав этой книги определенных имен достаточно условно. Признаюсь, оно продиктовано стремлением автора сохранить конструкцию, которую вполне естественно будет использовать и в следующем томе, где в оглавлении появятся имена римских императоров. Впрочем, и здесь, выбирая название главы, я старался отдать предпочтение тому из выдающихся современников, кто в этот момент оказывался на авансцене исторических событий.
Имя Помпея уже упоминалось в самом конце предыдущей книги. Сразу после возвращения Суллы из Азии 23-летний Гней Помпей привел к нему три легиона солдат. Он их набрал на севере, в Пицене, где находились обширные владения его отца, снарядил на свои средства и провел с боями чуть ли не через всю Италию. Будущий грозный диктатор уважительно и с благодарностью назвал его при встрече «императором» (то есть победоносным полководцем. Напомню, что в ту эпоху слово «император» имело только такое значение). Легионы Помпея сыграли важную роль в обеспечении успеха похода Суллы на Рим. Затем юному императору была поручена ответственная миссия ликвидации остатков разгромленной армии «популяров» в Сицилии и Африке. Блестяще справившись с этой задачей, Помпей, впервые в Римской истории, еще не став сенатором, был удостоен торжественного триумфа. Сулла великодушно-иронически нарек его еще и «Магном», то есть «Великим». Это прозвище (уже без всякой иронии) сохранилось за Помпеем на всю жизнь. Кстати, двухлетнее пребывание вне Италии счастливо избавило его от соучастия в кровавом терроре, развернутом в эти годы Суллой.
Плутарх в биографии Помпея с явной симпатией несколькими штрихами набрасывает портрет молодого человека: «В юности Помпей имел довольно привлекательную внешность, которая располагала в его пользу прежде, чем он успевал заговорить. Приятная наружность соединялась с величием и человеколюбием, и в его цветущей юности уже предчувствовались зрелая сила и царственные повадки. Мягкие откинутые назад волосы и живые блестящие глаза придавали ему сходство с изображениями царя Александра». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, II)
Историк не называет Помпея красавцем. Судя по сохранившимся (правда, более поздним) скульптурным портретам, черты его крупного лица: низкий лоб, большой и широкий нос, массивный подбородок, — можно назвать мужественными, но не красивыми. Вместе с тем, хранящийся в Ватиканском музее мраморный бюст оставляет впечатление какой-то разлитой в этих чертах горечи недоумения или даже неуверенности в себе. Судя по всему, это — портрет Помпея в пожилые годы (в юности-то ему самоуверенности было не занимать. Вспомним хотя бы цитированный в первом томе его дерзкий ответ Сулле по поводу триумфа). Добавлю еще, что Помпей был высокого роста и атлетического телосложения. Отличную физическую форму ему удалось сохранить до конца дней. Даже готовясь к своему последнему, роковому сражению, он сам показывал новобранцам приемы ратного дела. По свидетельству того же Плутарха:
«Личный пример полководца имел громадное влияние на мужество воинов. Они видели, как пятидесятивосьмилетний Помпей Магн то состязался пешим в полном вооружении, то верхом, на полном скаку, ловко вытаскивал и вновь вкладывал в ножны меч, то в метании дротика показывал не только необыкновенную точность попадания, но и такую силу броска, что даже многие из молодых воинов не могли его превзойти». (Там же, XIV)
Несомненно, сохранить такую форму Помпею помогло то, что он никогда не был склонен к излишествам, которым предавались многие аристократы. Когда он уже был в зените славы и построил в Риме великолепный театр, то рядом велел пристроить для себя дом — до того скромный, что тот, кто стал его владельцем после Помпея, войдя в него впервые, с удивлением спросил: «Где же обедал Помпей Магн?»
Плутарх утверждает, что юный Помпей пользовался любовью сограждан. Он перечисляет его личные качества, служившие тому основанием: «...умеренный образ жизни, любовь к военным упражнениям, убедительность в речах, честный характер, приветливое обращение, так что никто не был менее его назойливым в своих домогательствах, никто не умел более приятно оказывать услуги нуждающемуся в них». (Там же, I)
Это перечисление относится к ранней молодости Помпея. После трех лет войны под руководством Суллы он, быть может, и не утратил приветливости, не научился назойливости, но, несомненно, обрел твердость характера, а главное — взлелеял свое честолюбие.
Гней Помпей родился в 106-м году до Р.Х. Его отец, знаменитый полководец Страбон, заслужил всеобщее осуждение и даже ненависть своим ненасытным корыстолюбием. Однако Гней, по-видимому, отца любил. Он с юных лет находился при войске под его началом. Когда однажды солдаты возмутились против своего командующего, юный Гней сумел удержать их от насильственных действий. Для воинов он был скорее «сын полка», чем сын полководца. Страбон умер в 86-м году, пораженный ударом молнии, и двадцатилетний Помпей уехал в свое наследственное имение в Пицене. Спустя три года неправедно нажитое богатство отца позволило Гнею укомплектовать те три легиона, с которыми он прибыл к Сулле.
Пополнив полученные ранее впечатления от знакомства с молодым Гнеем Помпеем, перейдем к событиям, которые начали разворачиваться после смерти диктатора. Вполне естественно, что в Риме, да и по всей Италии, стали подниматься из праха остатки антисулланской оппозиции. Либерально настроенные аристократы, оттертые от власти приближенными Суллы, ратовали за восстановление демократических порядков. Родственники казненных требовали возвращения конфискованных земель. Сословие «всадников» было недовольно исключением из суда присяжных. Недовольство знатных поддерживал и плебс — ведь Сулла отменил почти бесплатные раздачи хлеба и сильно урезал права народных трибунов. Власть и влияние укомплектованного Суллой сената подрывались. Надвигалось смутное время. Хотя пока что не раз отмеченные нами консерватизм и законопослушание римлян позволяли сенатскому сословию удерживать свои позиции. Более серьезная угроза для преемников Суллы заявляла о себе за морем, в Испании. Она именовалась Квинт Серторий.
Это имя уже мелькнуло в первом томе, в конце главы, посвященной Марию. Там речь шла о ликвидации под руководством Сертория банды бывших рабов, служивших для полубезумного старика орудием его кровавой мести. Упоминалось, что Серторий был, наверное, единственным талантливым римским офицером, перешедшим на сторону Цинны. К развернутому тем террору он был, бесспорно, не причастен. Добавлю теперь, что это был опытный и прославленный полководец. Еще 20-летнего юношу отметил Марий во время войны с кимврами. Спустя десять лет, уже в должности военного трибуна, он успешно воевал в Испании и, наконец, своей энергией и отвагой отличился в «Союзнической» войне 90-88-х годов.
Затем Серторий добивался избрания в народные трибуны, но этому помешал Сулла, быть может, ревновавший к его военной славе. Что и привело Сертория в лагерь популяров. Когда Цинна был убит, Сулла двинулся к Риму, а высланные против него консулы продемонстрировали свою полную бездарность. Серторий понял, что их дело проиграно. В конце 83-го года он вновь уехал в Испанию, в надежде превратить эту страну в убежище для противников Суллы.
Уважительным отношением к местной аристократии, пресечением вымогательства римских чиновников и отменой постоя войск в городах ему удалось расположить к себе испанцев. Спустя два года Сулла послал в Испанию регулярное войско. Серторий был вынужден бежать в Мавретанию (северо-западная Африка). Там он принял непосредственное участие в междоусобной борьбе, возглавив военные силы тех, кто сражался с инсургентами. Добившись победы, Серторий проявил чрезвычайную умеренность: он передал мавретанцам все захваченные им города и деньги, довольствуясь только тем, что они сами решили ему уплатить.
Прослышав о военных талантах и бескорыстии Сертория, лузитанцы, населявшие юго-западную часть Испании, пригласили его к себе в качестве главнокомандующего (они не без основания опасались дальнейшей экспансии римлян, уже владевших северными и восточными областями полуострова). Объединив под своей командой отважных лузитанцев, воинов некоторых соседних племен, а также римских эмигрантов, Серторий сумел создать организованную по римскому образцу немногочисленную, но очень мобильную и сильную армию. Действуя методами партизанской войны, он в течение трех лет (уже после смерти Суллы) разбил одно за другим четыре римских войска, несмотря на их многократное численное превосходство. И это при том, что общее руководство борьбы с Серторием осуществлял Метелл Пий — знаменитый и заслуженный, хотя уже очень немолодой, полководец.
В 76-м году римский сенат вынужден был отправить в Испанию новое большое войско под командованием Гнея Помпея Великого. Ситуация представлялась настолько опасной, что ему на неопределенный срок предоставили полномочия (империй) проконсула, хотя он еще не был консулом. Помпей домогался этого назначения. Прежние победы принесли ему славу, но славу лишь одного из лучших генералов великого Суллы. По соизволению диктатора ему был дарован и триумф. Теперь честолюбивый молодой человек хотел доказать Риму, что он и сам, без чьего-либо покровительства, может заслужить высшие воинские почести. Неудачи прославленного Метелла выгодно подчеркнули бы его, Помпея, победу над Серторием. А в ней он не сомневался! Даже вложил в эту экспедицию свои личные, уже порядком поистраченные в начале сулланской кампании средства (в отличие от других офицеров Суллы, Помпей вовсе не нажился на проскрипциях, да его, как мы помним, и не было тогда в Италии).
Однако молодой полководец недооценивал своего многоопытного противника. Пользуясь знанием местности, Серторий искусно маневрировал. Его войско то появлялось неожиданно, то, в случае неудачи, как будто разбегалось во все стороны так, что командующий чуть ли не в одиночестве должен был по горным тропам уходить от преследования. Но -затем он неожиданно вновь оказывался во главе сильного отряда. Устраивал засады, совершал обходные маневры, отрезал пути снабжения продовольствием. Его войско росло так же быстро, как ранее рассеивалось. И вот он уже навязывал римлянам битву на выгодных для себя условиях. Сражения проходили с переменным успехом. Надо отдать должное Помпею: он был не только полководцем, но и умелым, отважным воином. И в Испании, и во многих последующих военных кампаниях он не раз принимал непосредственное участие в сражении, подавая пример бывалым легионерам. И все же по истечении года успехи римских легионов в Испании были более чем сомнительны. Метеллу и Помпею даже пришлось отвести войска через Пиренеи на отдых в Галлию. Кончились и деньги. Пришлось настоятельно просить их у сената.
В течение еще почти двух лет военные действия продолжались столь же безуспешно. Не исключено, что испанская война завершилась бы на этот раз плачевно для римлян, но спасла вездесущая зависть (вот что надо бы ввести в руководство по военному искусству!). В окружении Сертория росла слепая ревность к его успехам и могуществу. Возник заговор, душой которого был Перперна — один из бывших военачальников популяров, которого Помпей почти десять лет тому назад выгнал из Сицилии. Серторий был предательски убит. Перперна попытался занять его место, но большинство испанцев покинуло самозванца, изъявив покорность римлянам. В первом же бою войска, оставшиеся под командой Перперны, были разбиты наголову, а сам он попал в плен к Помпею. Так неожиданно благополучно, хотя и без особой славы, завершилась испанская кампания. Впрочем, в самом конце ее, если верить Плутарху имел место эпизод, который, как мне кажется, добавляет к чести Помпея больше, чем это могла бы сделать победа над Серторием:
«И этот последний удар судьбы, — пишет историк, — Перперна не перенес так, как подобает полководцу. У него в руках была переписка Сертория, и он обещал Помпею показать собственноручные письма бывших консулов и других наиболее влиятельных в Риме лиц, которые призывали Сертория в Италию, утверждая, что там многие готовы подняться против существующих порядков и совершить переворот. Но Помпей повел себя не как неразумный юноша, а как человек зрелого и сильного ума, и тем самым избавил Рим от великих опасностей и потрясений. Поступил он так: собрав послания и письма Сертория, он все предал огню, и сам не читая их, и другим не разрешив, а Перперну немедленно казнил... (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Серторий, XXVII) Я думаю, что помимо государственных интересов, поступок Помпея был продиктован чувством чести и отвращением к интриге.
Упорядочив дела в Испании, Помпей в конце 72-го года вернулся с войском на родину Тем временем критическая ситуация возникла в самой Италии. По всей стране полыхало восстание гладиаторов и рабов под руководством Спартака. Нельзя сказать, что оно было совершенно неожиданным. Рабов в стране было слишком много. Эксплуатировали их — нещадно. Особенно в рудниках, да и в сельской местности тоже. Грозные предупреждения прозвучали в конце предыдущего века из Сицилии, где восстания рабов дважды выливались в затяжные и кровопролитные войны. Но то — Сицилия, а на этот раз восстание (в 73-м году) вспыхнуло в одной из наиболее оживленных областей самой Италии — в большом и богатом городе Капуя.
Началось оно со сговора о побеге из местной школы гладиаторов, хозяин которой отличался особенной жестокостью. Сговор был раскрыт, но семидесяти восьми гладиаторам все-таки удалось бежать. Они укрылись на склонах Везувия. Вожаком избрали фракийца Спартака, отличавшегося выдающейся физической силой, отвагой и умом. К несчастью, эти превосходные качества сочетались с излишней мягкостью характера, что для командующего буйной армией рабов впоследствии обернулось роковым недостатком. Но пока что посланные против беглецов местные полицейские силы были разбиты и разоружены. Такая же участь постигла трехтысячный отряд римского претора Глабра. Он запер гладиаторов на плато, откуда не было другого выхода, кроме узкой тропы. Но они сплели из лоз дикого винограда длинные лестницы, спустились по крутым отвесам, вышли в тыл осаждавшим и обратили; не ожидавших нападения римлян в бегство. После этого к мятежникам стали во множестве стекаться местные рабы, главным образом пастухи — народ крепкий и бывалый. Войско Спартака быстро росло. В том же году он в нескольких сражениях разгромил еще более крупный отряд претора Вариния.
Осознав меру опасности, сенат, как на одну из труднейших войн, выслал против повстанцев обоих консулов с их армиями. Одного из них мятежники разбили, второго — обошли. К Спартаку сбегались рабы уже со всей Италии. Под его командой теперь было более пятидесяти тысяч человек. С такими силами он мог бы идти на Рим. Но, отлично понимая безнадежность длительной войны против римлян, Спартак вел свое войско на север, к Альпам, намереваясь покинуть Италию. Попытка наместника Цизальпинской Галлии остановить армию рабов окончилась его полным разгромом. Путь к альпийским перевалам был открыт. Вот тут-то и сказалась недостаточная твердость характера Спартака. Еще на пути от Капуи до Северной Италии он не сумел пресечь грабежи и бесчинства, которые беглые рабы с понятным ожесточением учиняли в имениях своих вчерашних хозяев. Теперь оказалось, что грабители вошли во вкус, уверовали в свою силу и не желают уходить из Италии. Они принудили своих начальников и самого Спартака повернуть обратно на юг.
Об этом стоит поразмыслить. За Альпами рабов ждала свобода. Разделившись на вооруженные отряды по направлениям следования, они могли вернуться к себе на родину: в Галлию, Македонию, Сирию, на просторы скифских степей. Они предпочли остаться в Италии. Почему?
Я рискну подвергнуть сомнению, казалось бы, бесспорный тезис: «Рабы мечтают о свободе». Не о свободе, а в лучшем случае — о «воле», понимаемой как произвол. Свобода — понятие общественное. Она предполагает свободу всех, а значит, соперничество или сотрудничество, но в любом случае — труд и признание законов, запрещающих произвол. Изуродованная рабством психология не приемлет такой свободы. Раб легко становится грабителем, насильником и трудно — землепашцем и гражданином. Он научился ненавидеть труд и завидовать всевластию господина. Ненависть и зависть — родимые пятна раба. Его помыслами владеет жажда мести за перенесенные унижения. Чтобы стать свободным, надо убить в себе раба. Это труднее, чем убить своего господина.
Между тем, не на шутку перепуганный сенат счел за лучшее поступиться формальностями и, отозвав консулов, поставил во главе всего римского войска претора Марка Красса — одного из лучших полководцев Суллы (и давнего соперника Помпея). Прибыв к войску, Красс суровыми мерами восстановил его дисциплину и боеспособность. В связи с одним случаем бегства с поля боя он для пятисот беглецов даже назначил децимацию (кстати, в военно-уголовном законодательстве европейских государств децимация сохранялась до середины прошлого века. В России она была отменена лишь в 1868 году!). После этого Красс повел свое войско на повстанцев.
Спартак благоразумно уклонился от сражения и прошел на самый юг Италии. Оттуда он с помощью пиратов рассчитывал перебраться в Сицилию, чтобы поднять на восстание многочисленных сицилийских рабов. Пираты обманули, и подошедший вскоре Красс запер его в самом «носке» итальянского «сапога». Римский полководец приказал своим солдатам вырыть глубокий ров поперек всего полуострова (длиной в 55 километров) и вдоль него возвести стену. Наступила зима. Припасы у осажденных подошли к концу. Снежной и бурной ночью Спартак засыпал на малом участке ров хворостом и, прежде чем римляне заметили, успел перевести через него значительную часть своего войска. Красс вынужден был снять блокаду и последовать за Спартаком.
Вот в этот-то драматический момент и прибыл в Италию Помпей. Красс ранее писал сенату о необходимости вызвать войско из Испании. Теперь он об этом сожалел. Ему стало известно о раздоре в лагере повстанцев, и он мог рассчитывать справиться с ними сам. Он понимал, что в случае участия в заключительных сражениях Помпея вся слава достанется победителю Сертория. Красс форсировал военные действия. Сначала ему удалось разгромить отделившуюся от основной массы часть рабов. Вскоре и сам Спартак под давлением своих воинов вынужден был дать решительное сражение. Плутарх сообщает, что перед началом битвы к нему подвели коня, но он убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем. Так и случилось. Сражение было проиграно, рабы бежали, Спартак пытался пробиться к Крассу, но это ему не удалось. Окруженный со всех сторон, он сражался до тех пор, пока не пал мертвым. Восстание гладиаторов и рабов было подавлено. (Поразительно могущество литературы! Ну кому известно имя Евна — руководителя первого восстания сицилийских рабов, которого римляне не могли одолеть в течение шести лет?! А бессмертное имя Спартака носят сотни спортивных клубов во всем мире, скандируют тысячи болельщиков на футбольных матчах. И все благодаря сентиментальному роману Джованьоли!)
Все же Помпею удалось сделаться соучастником этой «великой победы» римского оружия. Отряд примерно из шести тысяч рабов сумел оторваться от Красса и уйти на север. Здесь он наткнулся на испанское войско Помпея, спешившее к театру военных действий. Рабы были окружены, схвачены и распяты на крестах вдоль всей дороги от Капуи до Рима. Помпей поспешил донести сенату, что Красс разбил гладиаторов в открытом бою, а он, по его выражению, «вырвал победу с корнем».
Гней Помпей был, бесспорно, отважным воином и недурным полководцем. Вспомним, как он проявил себя, воюя на стороне Суллы. Но ему еще и порядочно везло! Сертория, конечно же, измотал Метелл, а слава победы досталась Помпею. Теперь ему без больших усилий удалось разделить успех с Крассом. Особой щепетильностью он, видимо, не отличался — да и редко кто из полководцев ею страдал! К тому же жаркий туман честолюбия мешал, надо полагать, ему разглядеть изъяны своих победных реляций. А римский плебс избрал молодого полководца (еще даже не сенатора!) своим кумиром и готов был рукоплескать ему по любому поводу.
Сенат начал опасаться Помпея, подозревая его в намерении стать преемником Суллы. Однако под давлением народа он вынужден был назначить триумф за победу в Испании. В 35 лет — уже второй триумф! Заслуги Красса отцы-сенаторы отметили скромнее — овацией, то есть пешим триумфальным шествием более низкого ранга. Самолюбие победителя Спартака было уязвлено. Здесь уместно чуть ближе познакомиться с Марком Крассом, поскольку его дальнейшая судьба будет сплетаться с судьбами Гнея Помпея и Юлия Цезаря.
Марк Лициний Красс родился в 115-м году и, следовательно, был на девять лет старше своего соперника. Отец Марка занимал высшие посты государства: консула, наместника в Испании и цензора. За усмирение очередного восстания испанцев он удостоился триумфа. Но был небогат (видно, честный и достойный был человек, если не разбогател, будучи победителем и наместником. Однако добрые дела не пропадают! Спустя десять лет признательность испанцев спасет жизнь его сына. Об этом — чуть позже). Наверное, гордость Марка страдала от ограничений, налагавшихся скромным достатком семьи. Юноша был честолюбив и очень рано сумел оценить могущество денег. Возможно, что именно по этой причине, они играли такую важную роль в его последующей жизни.
Плутарх укоряет Красса за недостойную жажду наживы, а мы бы вполне могли назвать его первым в истории «предпринимателем» крупного масштаба. «Первоначальный капитал» он нажил на дешевых распродажах конфискованного имущества во время проскрипций Суллы (не очень-то благородно. Но коммерция и благородство нечасто идут рядом даже в наш просвещенный век!). Затем, в связи с непрестанными пожарами в Риме, он стал скупать обгоревшие руины и участки земли под ними. Обучил более пятисот рабов — строителей и архитекторов. Восстанавливал и строил дома с таким размахом, что постепенно добрая половина жилых зданий Рима стала принадлежать ему. Он их продавал или сдавал внаем. Доходы вкладывал в покупку земли и серебряных рудников. Себе, между прочим, построил только один дом — отнюдь не дворец! Зато на широкую ногу поставил дело подготовки рабов высокой квалификации: писцов, чтецов, поваров и домоправителей. Такие рабы ценились очень высоко. Сам наблюдал за их обучением. Ко времени восстания Спартака состояние Красса оценивалось в сорок пять миллионов денариев. Это — огромная сумма. Марк стал, наверное, самым богатым человеком в Риме.
Притом он не был ни мотом, ни скрягой. Жил относительно скромно, но был щедр, дом держал для всех открытым. Плутарх свидетельствует: «На обедах его приглашенными были преимущественно люди из народа, и простота стола соединялась с опрятностью и радушием более приятными, чем роскошь». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Красс, III) Но и промотавшиеся аристократы хорошо знали дорогу к этому дому. Красс давал деньги взаймы, часто без процентов, строго взыскивал возврат в срок, а неаккуратных должников лишал кредита. Таким образом он расширял свое влияние в нобилитете. В народе Марк старался завоевать популярность не только благотворительными обедами, но и своей обходительностью со всеми без различия звания и положения.
«Не было в Риме, — пишет Плутарх, — такого безвестного и незначительного человека, которого он при встрече, отвечая на приветствие, не назвал бы по имени». (Там же). Впрочем, не только такими «популистскими» приемами старался Красс добиться расположения римского народа. Упорными упражнениями в красноречии он завоевал славу одного из лучших ораторов. Римляне это ценили. Тем более что Красс брался безвозмездно защищать в суде трудные дела, от которых отказывались иные знаменитые ораторы. Был он, к тому же, хорошо образован, сведущ в истории и не чужд философии. Он уже дошел до ранга претора и теперь, после подавления восстания рабов, надеялся подняться на высшую ступень почета — стать консулом. И вот Помпей — давний соперник, баловень судьбы, любимец плебса — явился в последний момент, чтобы похитить у него лавры с таким трудом одержанной победы!.. Но я должен вернуться немного назад и рассказать, каким образом впервые пересеклись жизненные пути Красса и Помпея.
Когда Цинна и Марий, как это описано в первом томе нашей истории, после своего возвращения в Рим учинили кровавую расправу над аристократами, в числе их жертв были брат и отец Красса. Брат был убит, а отец покончил с собой. Марк, которому в ту пору было 28 лет, бежал в Испанию. Испанские друзья спрятали его от глаз шпионов Мария и Цинны в пещере, где он пробыл около года (сплетник Плутарх утверждает, что, отнесясь сочувственно к молодости Красса, в дополнение к его собственным слугам друзья прислали в пещеру двух красивых прислужниц-испанок). Из своего убежища Марк вышел только после смерти Цинны. Возвращаться в Рим было все еще опасно. Во главе многочисленного отряда «эмигрантов» Красс через Африку перебрался в Грецию к Сулле. Воевал храбро, заслужил уважение и доверие будущего диктатора. После высадки в Италии тот ему поручил ответственную миссию: пройти на север, в земли племени марсов, набрать там войско и действовать в тылу у армий популяров. Марк справился с этим заданием весьма успешно. Затем, в решающей битве у стен Рима ему было поручено командование правым флангом, где сулланцы и одержали победу, так как левый фланг, несмотря на присутствие там самого Суллы, вынужден был с большими потерями отступить. С той поры и началось соперничество Красса и Помпея (об успехах последнего в качестве полководца Суллы упомянуто в начале этой главы, а также в последней главе 1-го тома).
Далее их дороги временно разошлись. Помпей воевал в Сицилии и Африке, а Красс закладывал фундамент своего богатства. После смерти Суллы Помпей убыл на войну с Серторием. Слава его росла, а у Красса возрастал капитал. Оба пользовались популярностью в народе. Но по римским понятиям, военная слава Помпея котировалась куда выше, чем благодеяния и услуги Красса (да и когда рядом с богатством не бродила зависть?). И вот теперь, когда жизненные пути соперников вновь скрестились, Помпей отнимал у Красса плоды его нелегкой победы над Спартаком.
Сенаторы с тревогой ожидали — распустит ли Помпей войско? Он заявил, что сделает это после триумфа, который откладывался до прибытия в Италию второго эшелона испанской армии под командованием Метелла. Тогда и Красс (скорее всего — по согласованию с сенатом) объявил, что не распустит войско до тех пор, пока Помпей не распустит свое. Логики в этом не было никакой, но смысл был. Сенат хотел сохранить силу, которую можно было бы противопоставить Помпею, если тот попытается установить новую диктатуру в Риме. Было совершенно очевидно, что народ изберет Гнея Помпея консулом на следующий, 70-й год. Это избрание шло вразрез с законом, поскольку Помпей еще не занимал ни одной младшей должности. Тем не менее, вряд ли было возможно ему помешать. В свое время народ так же выбрал консулами Сципиона и Мария (демократия порой выходит из-под контроля властей!). Теперь сенаторам надо было хотя бы провести вторым консулом Красса. Но и это возможно только при поддержке Помпея. Крассу самому придется просить своего соперника о рекомендации собранию народа, так как отношения сената с победителем Сертория натянутые (едва согласились на триумф). Просить и горько, и обидно, но упускать благоприятный момент нельзя — ведь Марку уже сорок пять.
Как это нередко бывает, и подозрения сената, и опасливая ревность Красса были лишены основания. Далее мы сможем не раз убедиться в том, что Помпей честолюбив, но простодушен. Помыслов о диктатуре он не питал никогда. Ему хотелось славы, восхищения и любви римского народа. На протяжении своей жизни он это признание заслужил и получил сполна.
Полудетское или, скорее, актерское пристрастие Помпея к успеху у зрителей проявилось, между прочим, в забавном эпизоде, относящемся к моменту его избрания в консулы. Формально Помпей все еще принадлежал к сословию всадников. А всадникам полагалось по истечении установленного законом срока военной службы являться на форум со своим конем (для его осмотра) и докладывать цензорам о том, как и под чьим начальством они служили, какие подвиги совершили. Каждому, в зависимости от его поведения, присуждалась похвала или порицание.
Срок военной службы кончился и у Помпея. Смешно было бы напоминать об этом прославленному полководцу, триумфатору и новоизбранному консулу! Но он сам не пожелал отказаться от столь роскошного театрального эффекта. В день, когда происходил парад и отчет всадников, в их череде перед многочисленной толпой зрителей неожиданно показался и консул. Вот как описывает Плутарх эту сцену:
«Цензоры Геллий и Лентул восседали тогда на своих креслах в полном облачении, и перед ними проходили всадники, подвергавшиеся цензу. Среди этих всадников показался и Помпей: он спускался на форум, имея на себе знаки отличия своей должности и ведя под уздцы своего коня. Когда Помпей приблизился настолько, что цензоры могли его видеть, он приказал ликторам расчистить дорогу и повел лошадь к возвышению, на котором сидели власти. Среди изумленного народа воцарилось молчание, а у цензоров это зрелище вызвало смешанное чувство почтительного уважения и радости. Затем старший из них спросил: «Помпей Магн, я спрашиваю тебя, все ли походы, предписанные законом, ты совершил?» Помпей отвечал громким голосом: «Я совершил все походы, и все под моим собственным начальством». После этих слов раздались ликующие крики народа, которые уже невозможно было прекратить. Цензоры встали со своих мест и проводили Помпея домой в угоду согражданам, которые, рукоплеща, следовали за ними». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, XXII)
Давнее соперничество с Помпеем на полях сражений, вероятно, заставляло Красса сомневаться в успехе своего ходатайства о поддержке на выборах.
«Помпей, однако, — свидетельствует Плутарх, — с удовольствием принял просьбу Красса, так как давно уже хотел оказать ему какую-нибудь услугу и любезность, и обратился к народу, настоятельно рекомендуя ему Красса; он заявил открыто, что будет столь же благодарен гражданам за товарища по должности, как и за саму должность». (Там же)
Это не помешало тому, что год своего совместного консульства Помпей и Красс провели далеко не в полном согласии. Они ведь стояли на весьма различных позициях. Убедившись в нежелании сената одобрить его избрание в консулы, Помпей принял сторону народа, добивавшегося, вопреки противодействию сената, восстановления власти народных трибунов и возобновления продажи дешевого хлеба. В пику сенаторам кумир римского плебса готов был поддержать партию демократов, впервые поднимавшую голову после разгрома, нанесенного ей Суллой. Красс же поначалу намеревался следовать завету бывшего диктатора и всеми силами поддерживать всевластие сената. Впрочем, намеревался не очень решительно. Так, например, он не рискнул наложить вето на предложение Помпея о восстановлении в полном объеме былых полномочий трибунов. Кое в чем консулы находили и взаимопонимание. Например, относительно необходимости восстановить систему откупов налогов в Азии. Эта система ущемляла интересы сенаторов-наместников, но зато была выгодна публиканам и коммерсантам — деловым партнерам Красса. Согласились между собой консулы и в том, что следует отобрать у сенаторов исключительное право заседать в судах присяжных, особенно в суде о вымогательствах. До Суллы, как мы помним, это право, так же исключительно, принадлежало сословию всадников. Отныне суды должны были составляться на равных началах из сенаторов, всадников и близкого к всадникам, наиболее богатого слоя рядовых граждан. Фактически две трети голосов присяжных тем самым передавались всадникам. Это было определенное поражение сената. К тому же новоизбранные в 72-м году цензоры (сторонники демократов) весьма основательно пощипали его состав. Они исключили из списка 64 сенатора — главным образом тех, кто был введен в сенат Суллой.
По окончании срока консульских полномочий Помпей как-то вдруг оказался не у дел. Отправиться наместником в провинцию казалось ему ниже его достоинства, тем более что возможность наживы его никогда особенно не волновала. Война в Азии против Митридата, о которой читателю еще предстоит многое узнать, казалась в тот момент почти оконченной. Самолюбие мешало Помпею вернуться к рядовой гражданской деятельности — хотя бы в сенате, куда он автоматически вступал после сложения обязанностей консула. После окончания консульского срока...
«Красс, — свидетельствует Плутарх, — не изменил прежнего образа жизни, что же касается Помпея, то он теперь избегал брать на себя защиту граждан в суде, мало-помалу оставил форум и редко посещал общественные места...
Охотнее всего Помпей появлялся в сопровождении многочисленной толпы клиентов, думая, что придает себе этим важности и величия; он был убежден, что слишком частое и близкое общение с народом может умалить его достоинство». (Там же, XXIII)
Защитники интересов народа добились своего: права народных трибунов и раздача хлеба были восстановлены. Вождя, подобного Гаю Гракху у них нет, но и Помпей им больше не нужен (да они его и опасаются). Сенаторам возомнивший о себе недавний триумфатор тем более ни к чему Через Красса они заигрывают с богатой верхушкой всадничества и публиканами. На три года Помпей исчезает с политической арены Рима.
О нем вспоминают лишь в 67-м году при обстоятельствах критических, угрожающих самому существованию Города. Эта угроза проистекает из небывалого засилья и дерзости пиратов. Междоусобицы в Италии, потом военные действия в Испании и Азии заставили римлян ослабить охрану морских путей. Пиратский промысел начал бурно расцветать. Добыча была легкой, а риск — небольшим. Немало еще недавно солидных, состоятельных, а иногда и знатных граждан, либо из корысти, либо в силу политических преследований, вступили на борт разбойничьих кораблей. Это были по большей части легкие и быстроходные суда, предназначенные специально для такого промысла. Число их в ту пору перевалило за тысячу. Главная база пиратов находилась в Киликии — небольшом государстве на юге Малой Азии (на средиземноморском побережье нынешней Турции).
Пираты не только захватывали грузы торговых кораблей, но и совершали опустошительные набеги на острова и прибрежные города, особенно италийские. Уводили и продавали в рабство мирных жителей. Из-за перебоев в заморской торговле цены на хлеб повысились чрезвычайно. В 74-м году против пиратов сенат направил претора Марка Антония (отца будущего соратника Юлия Цезаря). Пираты разгромили его флот, пленили самого претора и дочиста разграбили торговую базу Рима на острове Делос. В своей наглости они уже отваживались заходить в устье Тибра — только что не поднимались по нему до стен города.
Морская блокада Рима становилась опасной, и это заставило вспомнить о Помпее. Трибун Авл Габиний предложил поручить герою Африканской и Испанской войн главное командование на всем Средиземном море от Геркулесовых столбов до Сирии, подчинив ему десятимильную береговую полосу во всех подвластных Риму прибрежных провинциях и краях. Закон Габиния обязывал выдать Помпею деньги для немедленного набора войска и снаряжения двухсот боевых кораблей.
Все это было открытым покушением на прерогативы сената, и, разумеется, не было им одобрено. Тем не менее, Габиний внес свой проект закона на рассмотрение в Собрание народа, где все чрезвычайные полномочия главнокомандующего были с надеждой и великим воодушевлением утверждены. Помпею даже удалось вопреки сенату добиться более чем удвоения предоставляемых в его распоряжение сил. Так что он получил право и средства, чтобы снарядить 500 кораблей и набрать 120 тысяч человек пехоты.
Всю акваторию Средиземного моря Помпей разбил на тринадцать районов и в каждом сосредоточил определенное число военных судов. Затем начал систематическую охоту за пиратами. За сорок дней ему удалось очистить от них все море. Сумевшие спастись пиратские корабли укрылись в бухтах Киликии. Помпей самолично, во главе эскадры из шестидесяти крупных военных судов, атаковал их там. Многие пираты сдались без боя римскому главнокомандующему. Другие, запятнанные особо гнусными преступлениями, решились на морское сражение, которое Помпей выиграл, а потом пытались обороняться в своих крепостях. Где осадой, а где штурмом оборона эта была повсеместно сломлена. Вместо предоставленных ему для войны с пиратами трех лет, Помпей, благодаря продуманной организации, сумел покончить с морским разбоем за три месяца. Полностью и надолго! Он казнил многих, но далеко не всех, захваченных им злодеев. Около двадцати тысяч бывших пиратов были им поселены (и наделены землей) вдали от моря — в маленьких, почти безлюдных городках Киликии и Ахайи (в Греции). По тогдашним меркам Помпей обошелся с побежденными пиратами весьма великодушно. Плутарх утверждает, что:
«Помпей исходил из убеждения, что по природе своей человек никогда не был и не являлся диким, необузданным существом, но что он портится, предаваясь пороку вопреки своему естеству, мирные же обычаи и перемена образа жизни и местожительства облагораживают его». (Там же, XXVII)
У нас нет уверенности в том, что историк имел достаточные основания приписать Помпею столь возвышенные мысли. Но, во всяком случае, его действия следует признать разумными и гуманными. Кстати сказать, такое признание, как мы увидим, будет вполне справедливым и в отношении его последующих распоряжений в завоеванных провинциях.
А пока что победитель пиратов даже не успевает вернуться к своим пенатам. В то время как он объезжает с инспекцией города Киликии, Народное собрание в Риме, по предложению трибуна Манилия, принимает решение о назначении Помпея главнокомандующим в Азии на войне против Митридата (с сохранением за ним командования и на море). Фактически это означало подчинение ему всей военной мощи Римской державы. Сенат и римский нобилитет не посмели возражать против нового возвышения любимца народа. Цицерон, который в этом году был избран претором и в таком качестве имел право обращаться с речью к Народному собранию, горячо выступил в поддержку закона Манилия. Взаимоотношения Цицерона и Помпея будут далее немало нас занимать. Поэтому я воспользуюсь моментом, чтобы процитировать короткий фрагмент из этой речи:
«О, если бы к вашим услугам, квириты, было так много храбрых и честных мужей, что вам было бы трудно решить, кому именно можно поручить столь важную задачу и ведение столь трудной войны! Но теперь, когда Гней Помпей является единственным человеком, мужеством своим затмившим не только своих современников, но также и тех, о ком повествуют преданья старины, что может при решении этого вопроса вызывать сомнения у кого бы то ни было?» (Цицерон. Речь о предоставлении империя Гнею Помпею. X, 27)
Пока в Киликию плывет письмо о новом назначении Помпея, мы можем проследить за цепью событий в Азии, предшествовавших постановлению Народного собрания. Во-первых, я должен рассеять недоумение внимательного читателя, который, быть может, вспомнил оброненное выше замечание о том, что к окончанию консульского срока Помпея война с Митридатом казалась законченной. Это — только казалось, на самом деле до конца войны было еще далеко. Кроме того, нам сейчас предстоит познакомиться со вторым героем этой главы — очень незаурядным современником и оппонентом Помпея — проконсулом Луцием Лукуллом.
Луций Лициний Лукулл родился в 117-м году в знатной патрицианской семье. Он является третьим по счету государственным деятелем, известным нам под этим полным именем. Дед его был консулом, а отец — наместником в Сицилии. Последняя должность всегда была очень доходной, а родитель Лукулла младшего был, видимо, весьма корыстолюбив, если не того хуже. Плутарх даже утверждает, что он был изгнан из Рима за присвоение казенных денег. Однако упоминания о конфискации нет, и надо думать, что последний из трех Луциев Лукуллов унаследовал очень крупное состояние. Это следует отметить. Бытует представление о Лукулле как о богаче и кутиле — «Лукулловы пиры», «Лукулловы сады» и проч. Все это относится к последним годам его жизни. О них речь еще впереди. Но когда читатель будет знакомиться с биографией Лукулла-полководца, то может заподозрить, что тот свои богатства награбил в Азии. По-видимому, это предположение ошибочно. Разумеется, захватывая сокровищницы азиатских владык и наделяя своих солдат, Лукулл не забывал и себя. Но это было в пределах общепринятой «нормы». Никаких указаний на мздоимство, вымогательство или присвоение несметных богатств в жизнеописании Лукулла у Плутарха мы не находим. Кроме одной фразы, принадлежащей интригану Клодию, который, стараясь возмутить солдат Лукулла, говорил им, что...
«...их заставляют биться со всеми народами, сколько их ни есть, и гоняют по всей земле, между тем как достойной награды за все эти походы им нет, а вместо этого приходится сопровождать повозки и верблюдов Лукулла, нагруженных золотыми чашами в драгоценных камнях!» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лукулл, XXXIV)
С другой стороны, у того же историка легко найти немало свидетельств великодушия и щедрости Луция. Он прогнал из провинций римских публиканов, беззастенчиво грабивших местных жителей (и уж, наверное, отказался принять крупные взятки, которыми эти хищники пытались откупиться). Когда Митридат застрял с осадой города Кизик, где находился римский гарнизон, Лукулл отверг предложение идти походом на беззащитную столицу царя. Этот поход сулил огромную добычу, но Луций твердо сказал солдатам, что «предпочел бы вызволить из рук врагов хоть одного римлянина, нежели завладеть всем достоянием вражеским» (Там же, VIII). Отбив у союзников Понтийского царя захваченный ими город Синопу он повелел вернуть горожанам деньги и имущество, награбленные захватчиками. Наконец, когда перед ним пала столица армянского царя Тигранокерта, он всех насильно переселенных в нее греков и варваров отпустил на родину, щедро наделив деньгами не только на дорогу, но и для восстановления их разрушенных городов. Число примеров такого рода можно было бы умножить. Ограничусь лишь еще одной, как бы итоговой, цитатой из Плутарха. Он пишет:
«Успешно шли у Лукулла и все прочие дела, и он заслуживал этого — ведь он больше стремился к тем похвалам, которые воздаются за правосудие и человеколюбие, нежели к тем, которыми награждают военные подвиги. Последними он в немалой степени был обязан войску, а еще более — судьбе, в первых же сказывалась его душевная кротость и отличное воспитание, и именно этими качествами Лукулл без оружия покорял чужеземные народы». (Там же, XXIX)
Выражение «душевная кротость» как-то не очень вяжется с обликом римского полководца. По-видимому, его следует понимать не в том смысле, что он был слабовольным и мягкотелым. Далее мы будем иметь случаи убедиться, что в бою и походе Лукулл умел быть требовательным, строгим и суровым, как и подобает римлянину старого закала.
Плутарх свидетельствует также, что в юности Луций получил очень хорошее образование, прекрасно говорил, легко писал — прозой и стихами. Как по-латыни, так и по-гречески. В Союзнической войне он проявил отвагу, сметливость, незлобивость и постоянство. Сулла приблизил его к себе, а затем взял в Азию, на первую войну с Митридатом. В предыдущем томе упоминалось, что он поручил Лукуллу, несмотря на полное отсутствие денег, создать необходимый для ведения войны флот. Умело воспользовавшись весом и влиянием Рима, Луций сумел блестяще справиться с этой задачей.
Возвращаясь в Италию, Сулла оставил Лукулла своим доверенным лицом в Азии. Это счастливое обстоятельство избавило его (так же, как Помпея) от какой бы то ни было причастности к кровавой вакханалии проскрипций. Но, разумеется, имения и имущество семьи Лукуллов при этом не пострадали. Сулла до конца своих дней сохранил расположение к Луцию. В завещании он назначил его воспитателем сына и поручил издание своих «Воспоминаний».
Лукулл вернулся в Рим уже после смерти своего покровителя. На 74-й год он был избран консулом — как раз в то время, когда Помпей просил у сената денег для продолжения войны с Серторием. Новоиспеченный консул всячески поддерживал просьбу Помпея, и Плутарх подозревает, что не без умысла. Хорошо зная обстановку в Азии и нрав понтийского царя Митридата, Лукулл был уверен, что война с ним возобновится. Он надеялся на назначение командующим в этой войне и потому опасался досрочного возвращения возможного соперника.
По окончании консульского срока, в 74-м году Лукуллу не без интриги удалось получить назначение наместником в Киликию — ту самую провинцию Рима, откуда в свое время начинал свой поход против Митридата Сулла и где Помпей спустя семь лет будет громить пиратов. Лукуллу пиратами заняться не пришлось — в том же году, как он и предполагал, Митридат вновь выступил против римлян. Поводом для этого послужило то, что усопший царь соседней Вифинии завещал свое царство Риму. Митридат объявил себя защитником интересов обиженного наследника вифинийского престола.
Военные таланты и потенциальное могущество понтийского царя нам уже известны. На этот раз Митридат подготовился к войне более основательно.
«Задумав начать войну во второй раз, — пишет Плутарх, — он ограничил свои силы и их вооружение тем, что было действительно нужно для дела. Он отказался от пестрых полчищ, от устрашающих разноязыких варварских воплей, не приказывал больше готовить изукрашенного золотом и драгоценными камнями оружия, которое прибавляло не мощи своему обладателю, а только жадности врагу. Мечи он велел ковать по римскому образцу, приказал готовить длинные щиты и коней подбирал таких, что хоть и не нарядно разубраны, зато хорошо выучены. Пехоты он набрал сто двадцать тысяч и снарядил ее наподобие римской; всадников было шестнадцать тысяч, не считая серпоносных колесниц. К этому он прибавил еще корабли, на сей раз без раззолоченных шатров, без бань для наложниц и роскошных покоев для женщин, но зато полные оружием, метательными снарядами и деньгами». (Там же, VII)
Лукулл прибыл из Италии всего лишь с одним легионом (6 тысяч солдат), да принял под свое начало римское войско, оставленное в Азии Суллой. Это те самые воины, которые когда-то, во главе с Фимбрией, убили своего консула и полководца Флакка, а затем и самого Фимбрию предали Сулле.
«Все это были, — по словам Плутарха, — люди строптивые и буйные, хотя в то же время храбрые, выносливые и обладавшие большим военным опытом. Однако Лукуллу удалось в короткое время сломить дерзость фимбрианцев и навести порядок среди остальных. Должно быть, им впервые пришлось тогда столкнуться с настоящим начальником и полководцем, ведь до сей поры перед ними заискивали, приучая их обращать воинскую службу в забаву». (Там же)
Всего у Лукулла было тридцать тысяч пехотинцев и две с половиной тысячи конников, то есть вчетверо меньше, чем у Митридата. Военные действия развернулись на севере Малой Азии. Митридатово царство Понт располагалось у берегов Черного моря, на территории нынешней Турции — к востоку от Синопа. Отсюда царь двинулся на запад через соседнюю Вифинию и осадил стратегически важный город Кизик на берегу Мраморного моря. Лукулл подошел вслед за ним и стал укрепленным лагерем на позиции, господствовавшей над дорогой, по которой только и могло идти снабжение огромного войска царя. Сам же в первую очередь позаботился запастись продовольствием на много дней. Кизикийцы держались стойко, а Лукулл, избегая сражения в открытом поле, всячески мешал жизнеобеспечению армии противника. Вскоре там воцарился такой голод, что, если верить Плутарху, дошло до людоедства. Пытаться штурмовать укрепленный римский лагерь было делом безнадежным — Митридат это хорошо знал. Зимней ночью он отправил наименее боеспособную часть своего войска обратно на восток, надеясь, что римляне не станут отвлекаться на преследование. Однако наутро Лукулл во главе отряда в шесть тысяч воинов пустился в погоню. Хотя римляне попали в снежную бурю, они сумели настигнуть и разгромить беглецов, убив при этом великое множество и захватив в плен пятнадцать тысяч солдат противника. Колонну пленных Лукулл провел в виду лагеря Митридата. После чего впечатлительный царь снял осаду Кизика, сам бежал морем, а войско его стало отступать в более плодородные края, дальше на запад. Численное соотношение сил было по-прежнему не в пользу римлян, но отличная физическая форма солдат и их боевой дух сулили победу над врагом. Теперь Лукулл сам навязал понтийцам генеральное сражение и наголову разбил их.
Между тем Митридату удалось не без приключений добраться до своего царства. Многие советовали Лукуллу прекратить на время военные действия и дать отдых солдатам. Но он повел войско обратно — на восток, через Вифинию в Понт. Дорога была дальняя и трудная. Порой остро не хватало съестных припасов. Лукулл шел по сельской местности, оставляя в стороне богатые города, осада которых задержала бы его надолго. Солдаты, жаждавшие добычи, были этим крайне недовольны. Однако, подобно Сципионам, Эмилию Павлу и другим прославленным римским полководцам прошлого века, Лукулл не считал нужным потакать их вожделениям. Вместе с тем он не очень торопился сойтись с Митридатом. Некоторые из офицеров даже упрекали его за то, что он дает царю возможность накопить силы. Разумеется, не дословно, но, надо думать, по существу верно, Плутарх передает ответ Лукулла:
«Это-то мне и нужно, — возражал он им, — я медлю с умыслом: пусть царь снова усилится и соберет достаточные для борьбы войска, так, чтобы он оставался на месте и не убегал при нашем приближении. Или вы не видите, что за спиной у него беспредельные просторы пустыни, а рядом — Кавказ, огромный горный край с глубокими ущельями, где могут найти защиту и прибежище хоть тысячи царей, избегающих встречи с врагом». (Там же, XIV)
Из этих слов видно, что Лукулл был стратегом, умевшим пожертвовать легким, но временным успехом ради достижения полной победы над противником. К тому же он учитывал, что Понт соседствует с Великой Арменией (в те времена занимавшей немалую часть территории нынешних Турции, Сирии, Ирака и Ирана), а армянский «царь царей», как он себя величал, могущественный Тигран был зятем Митридата.
«Как бы нам, — продолжает, согласно Плутарху, Лукулл, — торопясь выгнать Митридата из его владений, не связаться на свою беду с Тиграном! Ведь он уже давно ищет предлога для войны с нами, а где же он найдет лучший, чем помочь в беде царственному родичу? К чему нам добиваться этого, зачем учить Митридата, к чьей помощи прибегнуть в борьбе против нас? Зачем загонять его в объятия Тиграна, когда он сам этого не хочет и считает за бесчестие?» (Там же). Как видим, здесь римский полководец проявляет себя еще и тонким психологом.
Наконец Митридату удалось собрать новое войско, насчитывавшее сорок тысяч пехотинцев и четыре тысячи отборных всадников. Воины Лукулла были порядком утомлены длительным походом, численность их уменьшилась, а Митридату теперь предстояло сражаться у себя дома. Он счел возможным попытаться взять реванш за прежнее поражение. Я не буду пересказывать подробности баталий, проходивших с преимуществом то одной, то другой стороны. В конце концов римляне одержали верх. Митридату вновь пришлось спасаться бегством — на этот раз верхом. Римские солдаты его преследовали и едва не захватили в плен. Царя выручил счастливый случай: в поле зрения преследователей оказался один из мулов, на котором вывозили золото (возможно, кто-то из царских слуг подсунул его нарочно). Солдаты стали расхватывать поклажу мула, драться из-за нее и упустили царя. Этот эпизод хорошо представляет моральные качества воинов, которыми приходилось командовать Лукуллу. Однако воле полководца удавалось восполнять недостаток воинской доблести его солдат. Вот один из наглядных примеров:
«...случилось так, — пишет Плутарх, — что воины царя погнались за оленем, а наперерез им бросились римляне. Завязалась стычка, и к тем, и к другим на подмогу все время подходили товарищи, наконец, царские солдаты победили. Те римляне, которые из лагеря видели бегство своих товарищей, в негодовании сбежались к Лукуллу, упрашивая его вести их на врага и требуя подать сигнал к сражению. Но Лукулл решил показать им, чего стоит в трудах и опасностях войны присутствие умного полководца, и поэтому велел им не трогаться с места, а сам спустился на равнину (лагерь был разбит на горе. — Л.О.) и первым же беглецам, которые попались ему навстречу приказал остановиться и идти с ним на врага. Те повиновались, а когда и остальные повернули назад и собрались все вместе, они без особого труда обратили врагов в бегство и гнались за ними до самого лагеря. Возвратившись к своему войску, Лукулл наложил на беглецов обычное в таких случаях наказание: они должны были на глазах других воинов в одних туниках, без пояса, вырыть ров в двенадцать футов длиной». (Там же, XV)
Как и предполагал Лукулл, Митридат, смирив гордыню, бежал к Тиграну. Царь царей не принял на себя миссию отмщения за поражение тестя, не вознамерился вернуть ему царство и даже не допустил к своему двору. Но убежище предоставил. Между тем, с начала войны прошло почти три года. По существу, она была уже выиграна: Митридат был изгнан отовсюду, даже из своего Понта. Вторгаться в глубь Армении, в неведомую горную страну, да еще с не очень надежным войском, было крайне рискованно. Но и смириться с тем, что кто-то смеет помешать римлянам завершить войну наказанием обидчика, означало допустить сомнение в могуществе Рима, уронить его добытую предками славу. Так воспринимал эту ситуацию Лукулл.
Пока что он демонстративно поставил римские гарнизоны в городах так называемой Малой Армении — на дальних южных подступах к Кавказу — и отправил ко двору Тиграна посла с категорическим требованием выдать Митридата. Скорого ответа он не ждал и пока что вернулся в римскую провинцию Азия (западная часть нынешней Турции). Римлянин старого закала, Лукулл твердо решил покончить с преступным ограблением этой провинции римскими ростовщиками. Ему стало известно, что первоначальная контрибуция в двадцать тысяч талантов, наложенная на Азию Суллой после первой Митридатовой войны, была уже выплачена дважды. Однако, благодаря грабительским процентам, ростовщики ухитрились довести долг азиатов до ста двадцати тысяч. Вот как описывает Плутарх положение населения некогда богатого и процветающего края:
«Откупщики налогов и ростовщики грабили и закабаляли страну: частных лиц они принуждали продавать своих красивых сыновей и девушек-дочерей, а города — храмовые приношения, картины и кумиры. Всех должников ожидал один конец -рабство, но то, что им приходилось вытерпеть перед этим, было еще тяжелее: их держали в оковах, гноили в тюрьмах, пытали на «кобыле» и заставляли стоять под открытым небом в жару на солнцепеке, а в мороз в грязи или на льду, так что после этого даже рабство казалось им облегчением». (Там же, XX)
Для пресечения этих преступлений Лукулл предпринял самые решительные меры. Ссудный процент он ограничил двенадцатью процентами в год, максимальный прирост суммы долга за счет процентов — ее удвоением. И то при условии, что эта сумма не превысит четвертой части доходов должника. Благодаря таким мерам в течение следующих четырех лет азиаты смогли полностью освободиться от долгового бремени. Конечно же, ростовщики и нередко стоявшие за их спиной римские сенаторы не могли с этим примириться.
«Теперь эти ростовщики, — свидетельствует Плутарх, — кричали в Риме, что Лукулл-де чинит им страшную несправедливость, и подкупами натравливали на него кое-кого из народных вожаков. Эти дельцы пользовались большим влиянием и держали в руках многих государственных деятелей, которые были их должниками. Зато, - добавляет Плутарх, — Лукулла теперь любили не только облагодетельствованные им общины, но и другие провинции считали за счастье получить такого правителя». (Там же)
Между тем, Тигран, который долгое время находился в походах, получил послание Лукулла. Он был глубоко уязвлен — особенно тем, что римлянин в письме именовал его просто царем, а не царем царей. Гордость оказала дурную услугу обоим! Тигран ответил, что Митридата он не выдаст, а если римляне начнут войну, то поплатятся. Понтийский царь был вызван ко двору армянского владыки и всячески обласкан. Римскому проконсулу ничего не оставалось, как начать, по существу говоря, новую (не санкционированную сенатом и народом!) войну против победителя парфян, могущественного Тиграна.
С тревогой замечаю, что мой рассказ о Лукулле угрожающе разросся, едва достигнув середины азиатской кампании под его командованием. Но мне, признаюсь, жаль расстаться с этим далеко не заурядным персонажем римской Истории. Ведь он в ту пору был, пожалуй, единственным продолжателем традиций славных полководцев времен расцвета Республики, которые, я надеюсь, не только воинским искусством, но и личным достоинством завоевали симпатии читателей первого тома. Кроме того, хотя к концу этой кампании Лукуллу едва исполнится пятьдесят лет, он уже безвозвратно сойдет с политической арены римского государства (чтобы завоевать совсем иную «славу», которая будет связана с его именем навечно). Наконец, Луцию вскоре предстоит столкнуться с Помпеем, и отблеск его ратных подвигов поможет своеобразно высветить личность нашего главного героя. Поэтому я продолжу рассказ о Луций Лукулле, без необязательных подробностей.
Итак, в 70-м году Лукулл снова пошел в Понт, взял на южном берегу Черного моря город Синопу, а весной следующего года повел войско в Армению.
«Могло показаться, — пишет Плутарх, — что какой-то дикий, враждебный здравому смыслу порыв гонит его в средоточие воинственных племен с их бесчисленной конницей, в необозримую страну, отовсюду окруженную глубокими реками и горами, на которых не тает снег. Его солдаты, которые и без того не отличались послушанием, шли в поход неохотно, открыто выражая свое недовольство. Тем временем в Риме народные вожаки выступали с шумными нареканиями и обвинениями против Лукулла: он-де бросается из одной войны в другую — хотя государство не имеет в том никакой надобности — лишь бы оставаться главнокомандующим и по-прежнему извлекать выгоду из опасностей, в которые он ввергает отечество. Со временем эти наветы достигли своей цели». (Там же, XXIV) Но все это не могло остановить Лукулла.
Царь царей находился в своей недавно отстроенной южной столице — Тигранокерте. К известию о продвижении римлян он, убаюканный славословием былых побед, отнесся с высокомерным пренебрежением. И лишь когда Лукулл перешел верховья Евфрата, а затем Тигра, царь выслал против него отряд из трех тысяч конников и множества пехоты, приказав командующему взять римского полководца живым, а остальных растоптать. Исполнитель царского приказа честно пал на поле боя с оружием в руках, а его солдаты, за исключением немногих, были перебиты во время бегства. Лукулл двинулся к Тигранокерте. Тигран оставил огромный, хорошо укрепленный город и отошел на север, чтобы собрать там большое войско. Лукулл благоразумно не пошел за ним на Кавказ, а осадил изобиловавшую сокровищами столицу, правильно рассчитав, что жадный и самолюбивый деспот вернется, чтобы дать генеральное сражение римлянам.
И действительно, осенью того же года армянский царь появился в виду осаждающих во главе огромной армии, где было полтораста тысяч человек тяжеловооруженной пехоты, пятьдесят пять тысяч всадников, треть из которых была закована в броню, и двадцать тысяч лучников. Тигран не стал даже поджидать Митридата, тоже набравшего войско, чтобы не делить с ним несомненную победу. По рассказам, царь жаловался своим придворным на «великую досаду, охватывающую при мысли, что придется помериться силами с одним Лукуллом, а не со всеми римскими полководцами сразу» (Плутарх).
Лукулл оставил шесть тысяч воинов блокировать город, а сам с остальными десятью тысячами легионеров и тремя тысячами всадников выступил навстречу царю. Когда он стал лагерем по другую сторону реки, Тигран блеснул остроумием, произнеся знаменитые слова: «Для посольства их много, а для войска мало!» Тем не менее, на следующее утро Лукулл вывел из лагеря свое малочисленное войско, переправился через реку, лично стал, обнажив меч, во главе колонны и повел своих солдат в атаку. Тигран, не веря своим глазам, воскликнул: «Это они на нас?» Его полки стали строиться в боевые порядки. Лукулл же сосредоточил удар всех своих сил на стоявшей чуть в стороне броненосной коннице царя, приказав солдатам подбегать к всадникам вплотную и разить мечами в бедра и голени — единственные части тела, которые не закрывала броня. При этом он велел окружить их так, чтобы единственным открытым для отступления конников направлением оставалось направление на собственную пехоту. Расчет оправдался. Броненосные всадники не выдержали стремительного натиска римлян, обратились в паническое бегство, врезались отягощенными броней конями в боевые порядки своей пехоты и смяли их прежде, чем те успели принять какое-либо участие в сражении. Тиграновы воины пытались бежать, но это им не удалось из-за густоты и глубины своих же рядов. Воцарилось полное смятение, и подоспевшие римляне учинили страшную резню.
«Говорят, — пишет Плутарх, — что у неприятеля погибло свыше ста тысяч пехотинцев, а из всадников не ушел живым почти никто. У римлян было ранено сто человек и убито пять». (Там же, XXVIII)
Возможно, эти цифры недостоверны, но результат сражения сомнению не подлежит. Огромное войско царя было разбито наголову вдесятеро меньшим отрядом римлян, сам царь бежал в глубь страны, а Тигранокерта вскоре была взята приступом. Плутарх далее замечает:
«Что касается самых способных и опытных в военном деле римских полководцев, то они больше всего хвалили Лукулла за то, что он одолел двоих самых прославленных и могущественных царей двумя противоположными средствами — стремительностью и неторопливостью: если Митридата, находившегося в то время в расцвете своего могущества, он вконец измотал, затягивая войну, то Тиграна сокрушил молниеносным ударом». (Там же)
Намереваясь в полной мере воспользоваться плодами своей победы и не обращая внимания на ропот солдат (впрочем, хорошо пограбивших Тигранокерту), Лукулл отправился вдогонку за Тиграном. Армяне по возможности избегали открытых столкновений с римским войском. В тех случаях, когда это не удавалось, их отряды неизменно терпели поражение и рассеивались. Нового генерального сражения напуганный Тигран давать не хотел. Тогда Лукулл решил идти походом к главной столице Великой Армении — Артаксатам (в 30 километрах от нынешнего Еревана), где находились жены и дети царя. Он полагал, что ее Тигран без боя не уступит. И опять не ошибся. Царь царей попытался остановить Лукулла у реки Арсаний, километрах в двухстах от столицы. В большом сражении принимало участие и войско Митридата. И вновь римляне одержали решительную победу. Солдаты обоих царей бежали, легионеры их преследовали всю ночь, пока не устали рубить и собирать добычу. Путь к Артаксатам был свободен.
Лукулл было двинулся дальше, но... наверное, он слишком долго испытывал свое счастье и высокомерно пренебрегал глухими предвестиями беды. Послушаем рассказ Плутарха о драме, разыгравшейся в южных предгорьях Кавказа более двух тысяч лет тому назад:
«Воодушевленный и ободренный таким успехом, Лукулл вознамерился продолжить свой путь в глубь страны и окончательно сломить сопротивление врага. Но уже в пору осеннего равноденствия неожиданно наступила жестокая непогода: почти беспрестанно сыпал снег, а когда небо прояснялось, садился иней и ударял мороз. Лошади едва могли пить ледяную воду; тяжело приходилось им на переправах, когда лед ломался и острыми краями рассекал им жилы. Большая часть этой страны изобилует густыми лесами, ущельями и болотами, так что солдаты никак не могли обсушиться: во время переходов их заваливало снегом, а на привалах они мучились, ночуя в сырых местах. Поэтому после сражения они всего несколько дней шли за Лукуллом, а затем начался ропот. Сначала они обращались к нему с просьбами через военных трибунов, но затем их сходки стали уже более буйными, и ночью они кричали по своим палаткам, а это служит признаком близкого бунта в войске. И хотя Лукулл перепробовал множество настоятельных увещаний, упрашивая их запастись терпением, пока не будет взят «армянский Карфаген» но ничто не помогало, и он вынужден был повернуть назад». (Там же, XXXII)
И вот жизнь, в своем стремительном движении целиком отданная сражениям во славу римского оружия, заботам о могуществе и достоинстве Рима — властелина и покровителя эллинского востока, — эта жизнь не то что остановилась. Она обрушилась! Только что не оборвалась. Вернувшись на юго-запад, в теплые края, солдаты Лукулла не желали больше покидать зимние стоянки. Между тем, следуя за ним по пятам, спустился на равнину и Митридат со своими воинами. Он стал очищать от римских гарнизонов Понт. Затем явился и начал продвигаться дальше на юг Тигран с новым многочисленным войском. А Лукулл не мог даже тронуться с места. Солдаты ему не подчинялись, да у него, собственно говоря, уже и не было права им приказывать. Как только военное счастье изменило Луцию, римский сенат в 67-м году отстранил его от командования войском и управления восточными территориями. Бывшим солдатам Фимбрия, прибывшим из Италии еще в 86-м году давно уже вышли все сроки службы. Они держали себя нагло, насмехались над своим полководцем, припоминали ему не победы над полчищами врага, а ежегодные холодные зимовки в палатках, нетронутые богатые города и обледенелое армянское плоскогорье. Все, что было в многочисленных сражениях завоевано у варваров, Митридат и Тигран без труда забрали обратно. Итог семилетней тяжелой кампании оказался нулевым. Последним делом чести для Лукулла стала необходимость не дать разбрестись солдатам, сохранить войско для передачи новому командующему. Для этого в его распоряжении было только одно средство — униженные уговоры солдат — чуть ли не поодиночке. И он этим средством не пренебрегал — дело чести было выше гордости!
Подводя печальный итог кампаниям Лукулла в Азии, Плутарх довольно строго осуждает его характер. Я не хочу скрывать от читателя это осуждение:
«Не последней причиной тому, — пишет историк, — было его собственное поведение: он никогда не умел быть ласковым с солдатской толпой, почитая всякое угождение подчиненным за унижение и подрыв власти начальствующего. А хуже всего было то, что с людьми могущественными и равными ему по положению он тоже ладил плохо, глядел на всех свысока и считал ничтожествами по сравнению с собой. Да, такие недостатки, говорят, соседствовали с многочисленными достоинствами Лукулла». (Там же, XXXIII)
Относительно отказа от угождения подчиненным, это мы, действительно, видели, а вот упрек в высокомерии по отношению к равным по положению неясен. Кого имели в виду те, кто «говорили»? Ведь за семь лет неотлучного пребывания в Малой Азии Лукулл (проконсул, между прочим!) мог встретить из числа лиц, причисляющих себя к римской аристократии, только уполномоченных сената при дворах восточных царьков, управителей провинций и провинциальных чиновников. Это, по большей части, были люди корыстолюбивые и бесчестные. Мздоимцы, летевшие на Восток, как мухи на мед. Быть может, они и не заслуживали лучшего отношения, и тогда Лукулла можно упрекнуть только в недостатке лицемерия? А может быть, и впрямь характер у него был не сахар!?
После отстранения Лукулла командующим азиатским войском был назначен консул Глабрион, но не успел он прибыть к месту назначения, как все полномочия вместе с поручением возобновить войну против Митридата были переданы Помпею (на этом месте я и прервал рассказ о нем, чтобы познакомить читателя с Лукуллом). Из-за этой чехарды с командующими Лукуллу пришлось оставаться в унизительном положении бывшего полководца при донельзя распущенном войске в течение еще одного года. Помпей прибыл со своим, набранным еще до войны с пиратами, войском. Два проконсула встретились для «передачи дел». Если верить Плутарху, встреча началась в тональности вполне достойной, но потом эмоции выплеснулись наружу:
«Лукулл был старше по консульству и по летам, но Помпей — выше достоинством, так как имел два триумфа. Впрочем, при первой встрече они обошлись друг с другом как можно более вежливо и любезно, прославляли подвиги друг друга и поздравляли друг друга с победами. Однако при дальнейших переговорах, не придя ни к какому справедливому и умеренному соглашению, они стали упрекать друг друга: Помпей упрекал Лукулла в алчности, а Лукулл его — во властолюбии, и лишь с великим трудом друзьям удалось прекратить ссору. Лукулл распределил часть захваченных в Галатии земель и другие награды по своему усмотрению. Помпей же, расположившись лагерем в некотором отдалении, запретил повиноваться Лукуллу и отнял у последнего всех его воинов, кроме тысячи шестисот, которых из-за строптивого нрава считал для себя бесполезными, а для Лукулла — опасными. Кроме того, открыто издеваясь над подвигами Лукулла, он говорил, что тот сражался с театральными и призрачными царями, ему же предстоит борьба с настоящим войском, научившимся воевать на неудачах... В ответ на это Лукулл говорил, что Помпей явился сюда сражаться с тенью войны, он привык-де, подобно стервятнику, набрасываться на убитых чужою рукой и разрывать в клочья останки войны. Так, Помпей приписал себе победы над Серторием, Лепидом (малосущественный эпизод с мятежом Лепида мною опущен. — Л.О.) и Спартаком, которые принадлежали, собственно, Метеллу Катуллу и Крассу Поэтому неудивительно, что человек, который сумел присоединиться к триумфу над беглыми рабами, теперь всячески старается присвоить себе славу армянской и понтийской войны». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, XXXI) Не очень интеллигентная, на наш взгляд, беседа. Но выпад, порочащий противника, был одним из элементов латинского красноречия и даже носил специальное название — «инвектива». А оба собеседника в молодости, без сомнения, брали уроки красноречия.
Сдав дела, Лукулл вскоре уехал в Рим. Чтобы, не отвлекаясь, посвятить оставшуюся часть главы Помпею, я позволю себе очень кратко закончить биографию Лукулла. В Риме его ждал далеко не ласковый прием. Обиженные публиканы и их приспешники набросились на него, обвиняя перед народом в преднамеренном затягивании войны ради добычи. Оснований для судебного преследования у них, разумеется, не было, и они добивались того, чтобы сенат отказал Лукуллу в триумфе. Поначалу им это удалось. Триумфальное шествие в честь побед над Митридатом и Тиграном было назначено лишь спустя три года — в тот момент, когда сенат с тревогой ожидал возвращения из Азии чересчур усилившегося Помпея. В триумфе были пронесены несметные царские сокровища, переданные государству, и показаны народу доски, где значилось, сколько денег было в свое время внесено в казну, сколько передано Помпею для войны с пиратами и сколько выплачено солдатам. Назначая триумф, сенаторы, видимо, рассчитывали оживить в памяти триумфатора все обиды, нанесенные ему Помпеем, так, чтобы Лукулл возглавил сенатскую оппозицию против своего обидчика. Этот расчет не оправдался. Хотя Лукулл и предпринял кое-какие шаги для восстановления в силе ряда своих, отмененных Помпеем, распоряжений на Востоке, до прямого противостояния дело не дошло. А вскоре Луций и вовсе покинул форум и курию.
Душа его исполнилась горечи. Политическая деятельность представлялась ему достойной лишь презрительной усмешки. Особым честолюбием он не страдал и к тому же успел узнать, чего стоила в это жалкое новое время заслуженная на поле брани слава. Увидел, во что превратился римский сенат и какой благодарности можно ожидать от народа. Семейная жизнь принесла Лукуллу не меньше разочарований. Его жена Клодия за время пребывания мужа на войне успела снискать себе в Риме куда более громкую, чем у него, славу своим распутством. По приезде он с ней развелся. Женился на Сервилии, сестре Катона. Но и этот брак не был удачным. Плутарх пишет:
«Чтобы сравняться с Клодией, Сервилии недоставало одного — молвы, что она согрешила с родным братом, в остальном она была такой же гнусной и бесстыдной. Уважение к Катону долго заставляло Лукулла терпеть ее, но в конце концов он с ней разошелся». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лукулл, XXXVIII)
Чем заполнить пустоту жизни? Куда направить неизрасходованный запас сил? Ему только 54 года. Детей нет. Любимый брат Марк — почти ровесник. Огромное состояние даже некому оставить. Удивительно ли, что в этой ситуации творческая фантазия Лукулла обращается к тому, что Плутарх с явным осуждением именует «забавами». Что же он при этом имеет в виду?
«Ведь к забавам, — пишет Плутарх, — следует отнести, по-моему, и расточительное строительство, расчистку мест для прогулок, сооружение купален, а особенно — увлечение картинами и статуями, которые Лукулл собирал, не жалея денег. На эти вещи он щедро тратил огромное богатство, накопленное им в походах, так что даже в наше время, когда роскошь безмерно возросла, Лукулловы сады стоят в одном ряду с самыми великолепными императорскими садами. К этому надо добавить постройки на побережье и в окрестностях Неаполя, где он насыпал искусственные холмы, окружал свои дома проведенными от моря каналами, в которых разводили рыб, а также воздвигал строения посреди самого моря». (Там же, XXXIX)
Другая забава — гурманство и угощение на широкую ногу — знаменитые «Лукулловы пиры». Плутарх брюзжит и по этому поводу. Но и в этом его описании я, право же, не нахожу ничего предосудительного.
«Лукулл, — пишет он, — устраивал ежедневные пиры с тщеславной роскошью человека, которому внове его богатство. Не только застланные пурпурными тканями ложа, украшенные драгоценными камнями чаши, увеселительное пение и пляски, но также разнообразные яства и не в меру хитро приготовленные печенья вызывали зависть у людей с низменными вкусами». (Там же, XL)
Выражение «богатство внове» вряд ли подходит к человеку, выросшему в очень богатой семье. Да Бог с ним! Но ведь никаких намеков на пьяные дебоши (нередкие в ту пору в Риме) или на какие-нибудь извращения. Просто — хлебосольство на широкую ногу. Наверное, не без похвальбы! А какие хозяин или хозяйка не любят похвалиться перед гостями каким-нибудь «эдаким» произведением своего кулинарного искусства, равно как и убранством стола? Были бы возможности!
Наконец, даже Плутарх отдает дань уважения еще одной, более серьезной «забаве» Лукулла. Он пишет: «Однако следует с похвалой упомянуть о другом его увлечении — книгами. Он собрал множество прекрасных рукописей и в пользовании ими проявлял еще больше благородной щедрости, чем при самом их приобретении, предоставляя свои книгохранилища всем желающим. Без всякого ограничения открыл он доступ грекам в примыкавшие к книгохранилищам помещения для занятий и портики для прогулок, и, разделавшись с другими делами, они с радостью хаживали туда, словно в некую обитель муз, и проводили время в совместных беседах. Часто Лукулл сам заходил в портики и беседовал с любителями учености, а тем, кто занимался общественными делами, помогал в соответствии с их нуждами...» (Там же, XLII)
В таком, несмотря на все излишества, привлекательном (на мой взгляд) виде предстает перед нами Лукулл в последние пять лет жизни. Он умер своей смертью в 56-м году, шестидесяти лет от роду.
Теперь я могу наконец вернуться в основное русло рассказа о Помпее. Мы его оставили в тот момент, когда после бурного свидания с Лукуллом он вступил в права римского главнокомандующего, назначенного для продолжения, точнее, возобновления войны с Митридатом. Но прежде чем приступить к описанию событий этой войны, хотелось бы уяснить причину тех мелочных преследований, которым Помпей подвергал Лукулла еще до передачи полномочий — с первых дней своего пребывания в Азии. Вот как пишет об этом Плутарх:
«Помпей всюду издавал распоряжения, созывая воинов, приглашал к себе подвластных римлянам правителей и царей и, проезжая через провинции, не оставлял неприкосновенным ни одного указа Лукулла: он отменял наложенные наказания, отнимал полученные награды и вообще ревностно старался во всем показать сторонникам Лукулла, что тот уже не имеет никакой власти». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей. XXXI)
Нужды в этом не было — вполне можно было подождать отъезда Лукулла. Здесь явно проступает стремление оскорбить, унизить своего предшественника именно здесь, в Азии, на глазах у тех, кто был свидетелем его побед и предметом его благодеяний. Все это как-то не вяжется с обычной приветливостью и даже мягкостью характера Помпея, которые отмечал Плутарх (и будет иметь возможность подтвердить нам Цицерон). Я не вижу другого объяснения, кроме ревности — ослепляющей, постыдной ревности, которая питалась в данном случае безмерным честолюбием. Ведь Помпей хорошо знал, что Митридат был вовсе не призрачным противником. Он не мог не слышать рассказы соратников Суллы о тяжелых, кровопролитных сражениях с войсками царя в Греции, во время первой войны с ним. А блестящая операция Лукулла под Тигранокертой, когда он разгромил десятикратно превосходившее по численности войско армянского царя с помощью его же собственной броненосной конницы!? И конечно же, Помпей помнил, что победа в Испании была добыта при содействии кинжала убийцы Сертория, а к решающей битве со Спартаком он опоздал... Но разве не его, Помпея, сам Сулла после африканской кампании назвал «великим»?.. А если это была дьявольская насмешка? В свое время он был в этом даже уверен и выказывал недовольство, когда кто-нибудь из подчиненных именовал его Помпеем Великим. Но после смерти Суллы недовольство постепенно слабело. А потом в Испании он согласился с тем, что имеет право на такое прозвище. Сертория убили именно потому, что он был сокрушен им, Помпеем. От какой страшной опасности он спас тогда Рим! Ему государство обязано не меньше, чем Великому Сципиону — победителю Ганнибала. Ведь Серторий успел сговориться с Митридатом... Но червь сомнения шевелится в глубине души. И потому Помпей питает такую острую неприязнь к Лукуллу.
Но вот развенчанный полководец наконец отбыл из Азии, и Помпей выступает против Митридата. У понтийского царя теперь всего тридцать тысяч человек пехоты да две тысячи конницы. И хотя под командованием Помпея еще меньше воинов, царь не решается сразиться с римлянами в открытом поле — уроки, преподанные Суллой и Лукуллом, не забыты. Сначала Митридат выдержал полуторамесячную осаду в хорошо укрепленном лагере, потом, перебив всех неспособных носить оружие и больных, бежал с лучшей частью своего войска. Помпей настиг его в верховьях Евфрата, прижал к берегу реки и чуть ли не с ходу, в ночном бою нанес понтийцам сокрушительное поражение. Царю во главе отряда из восьмисот всадников удалось прорваться сквозь окружение римлян, однако отряд этот быстро рассеялся, и Митридату пришлось бежать в сопровождении лишь трех спутников. (Плутарх, конечно, не забывает упомянуть, что в их числе будто бы была не оставлявшая царя в походах отважная наложница Гипсикратия). Митридат, естественно, опять направился в Армению к Тиграну. Но на этот раз царь царей благоразумно отказал ему в убежище и даже объявил награду в сто талантов за голову своего тестя. Было ясно, что владыка Армении сопротивляться римлянам не намерен. И действительно, когда Помпей вторгся в его страну и подошел к Артаксатам, то, по свидетельству Плутарха:
«...царь Тигран, совсем недавно разбитый Лукуллом, узнав о мягком и добром характере Помпея, впустил римский караульный отряд в свой дворец, а сам в сопровождении друзей и родственников отправился к Помпею, чтобы отдаться в его руки». (Там же, XXXIII)
Тигран не ошибся, доверившись великодушию Помпея. Римский историк живописует трогательную финальную сцену бескровного покорения Великой Армении:
«Когда царь верхом прибыл к лагерю, двое ликторов Помпея, подойдя к нему, велели сойти с коня и идти пешком, так как никогда в римском лагере не видели ни одного всадника. Тигран повиновался и даже, отвязав свой меч, передал им. Наконец, когда царь предстал перед Помпеем, он снял свою китару (царский головной убор. — Л.О.), намереваясь сложить ее к ногам полководца и, что самое постыдное, упасть перед ним на колени. Помпей, однако, успел схватить царя за правую руку и привлечь к себе. Затем он усадил его рядом с собой, а сына по другую сторону. Он объявил царю, что виновник всех прежних его несчастий — Лукулл, который отнял у него Сирию, Финикию, Киликию, Галатию и Софену. Землями же, которые еще остались у него, пусть он владеет, выплатив римлянам за нанесенную обиду семь тысяч талантов, а царем в Софене будет его сын. Эти условия Тигран охотно принял, и тогда римляне приветствовали его, как подобает царю, а Тигран, чрезвычайно обрадованный, обещал дать каждому воину по полмины серебра, центуриону — по десять мин, трибуну по таланту. Сын, напротив, сильно досадовал, и, когда его пригласили на угощенье, заявил, что не нуждается в таких почестях со стороны Помпея, ибо может найти себе другого римлянина. Тогда Помпей велел наложить на него оковы и содержать в тюрьме для триумфа». (Там же) Недовольство сына объясняется тем, что он рассчитывал заполучить трон отца, восстал было против него и встречал Помпея на дальних подступах к столице.
Однако победа над Тиграном была не слишком убедительна, а Митридат тем временем укрылся где-то на территории нынешнего Закавказья. Пока этот неукротимый враг римлян оставался на свободе, они не могли быть уверены в надежности своих азиатских владений, и Помпей решился на преследование понтийского царя в горной стране, населенной дикими кавказскими племенами. Из Армении он двинулся на северо-восток в страну альбанцев (примерно нынешний Азербайджан). Альбанцы сначала согласились пропустить Помпея, затем вероломно напали на него, но были разбиты. Потом, вслед за бежавшим от него Митридатом, Помпей пошел на запад, в теперешнюю Грузию, населенную тогда воинственным племенем иберов. Иберы оказали ему серьезное сопротивление, однако в большом сражении римляне разгромили и их, убив девять тысяч и взяв в плен больше десяти тысяч иберийских воинов. Затем через легендарную Колхиду Помпей вышел к берегу Черного моря. Там он узнал, что Митридат ускользнул от него и скрывается среди диких племен Приазовья. Идти за ним так далеко, через земли многочисленных враждебных народов, было слишком рискованно. Помпей решил пока ограничиться морской блокадой Боспорского царства. А тут еще поступили известия о новом военном выступлении альбанцев. Пришлось вернуться на восток, в жестокой битве усмирить восставших, а затем и вовсе уйти с Кавказа.
Сначала Помпей пошел в Понт, завершил его покорение и образовал новую римскую провинцию «Вифиния и Понт». Оттуда, в 64-м году он двинулся на юг в Сирию, которую, в качестве «правопреемника» армянского царя, объявил достоянием римского народа и римской провинцией. Надо отдать должное Помпею — он потратил немало сил на устройство дел в этой раздираемой внутренними распрями стране. И вообще его гражданская деятельность на Востоке оставила очень хороший след (быть может, и в этом он старался превзойти Лукулла). Он основал около сорока новых городов, которые стали дополнительными центрами эллинской цивилизации. Уже существующие городские общины получили от него уложения об их гражданском статуте. На эту работу Помпей потратил целый год. Плутарх в лестных выражениях отзывается о миротворческих усилиях Помпея:
«Что касается городов, то многие он основал, а многие освободил, подвергая наказанию тиранов, захвативших их. Больше всего времени он посвящал разбирательству судебных дел, улаживая споры городов и царей. Куда он сам не мог прибыть, он посылал своих друзей. Так он послал трех посредников и третейских судей к армянам и парфянам, которые попросили его решить их спор об одной области. Действительно, слава его могущества была велика, но не меньшей была и слава его справедливости и милосердия. Эта его слава, — добавляет Плутарх, — покрывала большинство проступков его друзей и доверенных лиц, так как по натуре он был неспособен обуздывать или карать провинившихся. Сам же он оказывал такой ласковый прием всем, кто имел с ним дело, что обиженные легко забывали и прощали алчность и грубость его помощников». (Там же, XXXVIII)
Затем честолюбие погнало Помпея дальше на юг. Он вознамерился пройти через Аравию к Красному морю, чтобы «победоносно достигнуть Океана, окружающего со всех сторон обитаемый мир» (Плутарх. Там же). Первой на его пути лежала Иудея. Здесь тоже царили хаос и междоусобицы.
Еще в 168-м году до Р.Х. сирийский царь Антиох IV Эпифан обложил подвластную ему Иудею огромной данью, захватив Иерусалим, ограбил храм, поселил в городе чужеземцев-язычников и всячески издевался над религией иудеев: запретил празднование субботы, обряд обрезания, заставлял есть свинину Храм Иерусалимский был наречен святилищем Зевса. В следующем году началось восстание. Его возглавил Маттатия — священник из рода Хасмонеев. После его смерти руководство партизанской войной перешло к сыну Маттатии — Иуде Маккавею. Четыре военных похода, предпринятых против повстанцев, окончились неудачей. В 164-м году, после смерти Антиоха, воины Иуды Маккавея овладели Иерусалимом. Храм был очищен от языческих идолов (в честь чего был установлен праздник иудеев — Ханука). Спустя три года был заключен союз с Римом, а в 142-м году Иудея обрела полную независимость. Во главе государства с тех пор неизменно стояли цари-первосвященники из рода Хасмонеев.
В 64-м году этот сан оспаривали два брата из этого рода: Аристобул и Гиркан. Последнего поддерживали «фарисеи» — знатоки Торы, религиозные ортодоксы, а также жрецы храма. Аристобул же опирался на «саддукеев» — высшие светские круги и наемную армию. В разгар этой распри к стенам Иерусалима подошел Помпей со своим войском. Жрецы, поступившись патриотизмом, открыли ему ворота города. Аристобул был пленен. Его войско еще в течение трех месяцев оборонялось в храме, который римлянам пришлось брать приступом. Гиркана провозгласили первосвященником и «этнархом» — правителем (но не царем) Иудеи, которую Помпей объявил частью римской провинции Сирия.
После этого он двинулся было еще дальше на юг, к Петре, но тут прибыли гонцы из Понта с известием, что Митридат в своем пантикапейском дворце (близ Керчи) приказал рабу убить себя после того, как его собственный сын Фарнак поднял против него восстание, а все приближенные царя покинули повелителя. Фарнак написал в письме, что пошел против отца ради Помпея и римского народа. Такому повороту событий не следует слишком удивляться: боспорцы были очень угнетены блокадой, а родственные отношения в семье понтийского царя были, мягко говоря, не слишком теплыми. Известно, что сам Митридат убил свою мать, брата, двух сестер, троих сыновей и столько же дочерей, не считая жен и наложниц (!).
Получив известие о смерти Митридата, Помпей отказался от аравийского похода, намереваясь без задержки возвратиться в Рим. В азиатском городе Амис он нашел множество присланных Фарнаком подарков и, в качестве вещественного доказательства оказанной услуги, набальзамированный труп Митридата. Помпей отказался взглянуть на тело своего недавнего врага и велел отослать его для захоронения в Понт. Фарнаку он пожаловал Боспорское царство, им, впрочем, не завоеванное, щедро расплатился с солдатами (наверное, не обидел и себя), а более пятидесяти миллионов денариев отослал в римскую казну. Затем через Метилену, Родос и Афины во главе большей части своего войска Помпей с великой пышностью отплыл в Италию. По свидетельству Плутарха:
«Театр в Метилене так понравился Помпею, что он велел снять план его, чтобы построить в Риме подобное же здание, но большего размера и более великолепное (этот замысел был осуществлен в 55-м году. — Л.О.). На Родосе он слушал выступления всех софистов и подарил каждому по таланту... В Афинах Помпей выказал подобную же щедрость по отношению к философам; на восстановление города он пожертвовал пятьдесят талантов». (Там же, XLII)
Поздней осенью 62-го года после пятилетнего отсутствия Помпей вновь ступил на землю Италии. Пока он собирается торжественно отправиться в Рим, у нас есть время оглянуться на происходившее в Вечном городе за эти годы.
Глава II Цицерон
Название главы, наверное, заставит многих читателей предположить, что в ней речь пойдет об ораторском искусстве. Как же иначе? Разве само имя Цицерона не стало в нем символом совершенства? Разве не ему обязан он своей бессмертной славой? Увы, я бы рад хоть ненадолго прервать невеселый рассказ о войнах, заговорах и интригах, даже о подвигах и славе, чтобы воспарить вместе с тобой, читатель, в блистательную сферу красноречия. Но, как сказал поэт: «Латынь из моды вышла ныне...» А рассуждать о красноречии по переводам?!. Нет уж, увольте! Зато на протяжении почти всей книги я буду широко использовать речи, письма и сочинения Цицерона как бесценные свидетельства очевидца интересующей нас эпохи. Одновременно в этих свидетельствах будет разворачиваться такая понятная нам драма и нравственная эволюция этого, наверное первого, интеллигента глубокой древности, волею судеб оказавшегося не только свидетелем, но и участником трагических событий смутного времени и гражданской войны (да простится мне употребление здесь современного понятия «интеллигент». По отношению к Цицерону оно мне представляется наиболее точным определением его нравственной и гражданской позиции). Бесконечной чередой видятся мне «в снегу веков, в дали времен» те, кто вслед за ним будут обречены пережить крушение дорогих и, казалось бы, незыблемых общественных идеалов. Но об этом позже, а пока...
Пока если не о самом ораторском искусстве Цицерона, то хотя бы об отношении к нему, о тех задачах, которые он ставил перед собой, готовясь к выступлениям, я должен, пусть самую малость, рассказать. Хотя бы для того, чтобы читатель мог по достоинству оценить красноречие некоторых современных государственных деятелей.
Специально ораторскому искусству Цицерон посвятил три обширных трактата: «Об ораторе», «Брут» и «Оратор». Не буду пересказывать его соображения о логике и структуре речи, об использовании метафор, старинных или, наоборот, новообразованных слов, о ценности уместной шутки и других, как он их называет, «украшений речи». Что касается логики и структуры, мы можем найти тому прекрасные примеры и сегодня — если не в речах, то в публицистике. А оценить блеск латинских украшений в речах Цицерона нам здесь не удастся. Поэтому я ограничусь тем, что процитирую без всяких комментариев несколько коротких отрывков из названных трактатов, где фигурируют такие приемы речи, о которых большинство современных ораторов, наверное, и не подозревает.
«Итак, тем красноречивым оратором, — пишет Цицерон, — которого мы ищем... будет такой, речь которого как на суде, так и в совете будет способна убеждать, услаждать и увлекать. Первое вытекает из необходимости, второе служит удовольствию, третье ведет к победе — ибо в нем больше всего средств к тому, чтобы выиграть дело. А сколько задач у оратора, столько есть и родов красноречия: точный, чтобы убеждать, умеренный, чтобы услаждать, мощный, чтобы увлекать, — и в нем-то заключается вся сила оратора». (Цицерон. Оратор. 21, 69)
«...необходимо придать красоту самой речи, и не только отбором, но и расположением слов; и все движения души, которыми природа наделила род человеческий, необходимо изучать до тонкости, потому что вся мощь и искусство красноречия в том и должны проявляться, чтобы или успокаивать, или возбуждать души слушателей. Ко всему этому должны присоединиться юмор и остроумие, образование, достойное свободного человека, быстрота и краткость как в отражении, так и в нападении, проникнутые тонким изяществом и благовоспитанностью». (Цицерон. Об ораторе. 5, 17)
«...музыканты, бывшие некогда также и поэтами, придумали два приема доставлять удовольствие — стих и пение, чтобы и ритмом слов и напевом голоса усладить и насытить слушателей. Вот эти два приема, то есть управление тоном голоса и ритмическую законченность фраз, поскольку их допускает строгость прозаической речи, они сочли возможным из поэтики перенести на красноречие... в человеческом слухе от природы заложено чувство меры. А оно бывает удовлетворено лишь тогда, когда в речи есть ритм... И нечего удивляться, каким образом невежественная толпа слушателей умеет замечать такие вещи: ибо здесь, как и повсюду, действует несказанная сила природы...» (Там же. 44, 174; 48, 185)
«Размещаться слова будут или так, чтобы наиболее складно и притом благозвучно сочетались окончания одних с началом следующих; или так, чтобы самая форма и созвучие слов создавали своеобразную цельность; или, наконец, так, чтобы весь период заканчивался ритмично и складно». (Цицерон. Оратор. 44, 149)
И еще: «...движениям души должно сопутствовать движение тела, но движение не сценическое, воспроизводящее каждое слово, а иное, поясняющее общее содержание мыслей не показом, но намеком... кисть руки — не слишком подвижная, сопровождающая, а не разыгрывающая слова пальцами; рука — выдвинутая вперед, вроде как копье красноречия, удар ступней — то в начале, то в конце страстных частей. Но главное дело в лице. А в нем вся мощь — в глазах...» (Цицерон. Об ораторе. 59, 220) Отдав таким образом хотя бы минимальную дань Цицерону-оратору я могу приступить к основному рассказу о Цицероне-гражданине и политическом деятеле. Конечно же, на фоне тех событий Римской Истории, в которых он играл одну из главных ролей.
Марк Туллий Цицерон родился в 106-м году до Р.Х. в небольшом провинциальном поместье, находившемся в ста с лишком километрах от Рима. Всаднический род его был небогат и ничем значительным в истории не прославлен. Второму по своему положению в Республике сословию — всадникам — были, согласно законам, доступны все государственные должности («магистратуры»), но в силу почти незыблемой традиции, на высшие посты консулов и цензоров избирались только патриции. Вместе со своим младшим братом Квинтом Марк учился в Риме, готовясь к карьере судебного оратора или, как мы бы сказали, адвоката. Один год он прослужил в войске, но к военной карьере был явно не расположен, да и по слабости здоровья она ему была, пожалуй, недоступна. Его первое заметное выступление в суде состоялось в 80-м году, когда Цицерону едва исполнилось двадцать шесть лет. Оно было неординарным ввиду особой политической ситуации, в которой происходил этот суд. В конце предыдущего тома я мельком упомянул об этом выступлении, здесь будет уместно рассказать о нем немного подробнее.
Не прошло и двух лет после того, как диктатор Сулла истребил несколько тысяч своих противников и среди них более полутора тысяч всадников — сословия, ему особо ненавистного. Имущество убитых тут же распродавалось. Некий Хрисогон, вольноотпущенник и приближенный самого Суллы, купил имение одного из погибших, Секста Росция, за смехотворную цену, не составлявшую и тысячной доли стоимости. Когда же сын Росция упрекнул в этом Хрисогона, тот обвинил его в отцеубийстве и привлек к суду. Цицерон взялся защищать Росция-сына и выиграл процесс. Я полагаю, что диктаторы всегда потакали своим клевретам, и опасаться их мстительности приходилось во все времена. Поэтому поступок юного Цицерона представляется мне свидетельством немалого мужества. Жизнь предложила испытание его достоинству, справедливости и отваге — качествам, которые воспитывали философия и пример славных мужей древности. Молодой адвокат принял этот вызов. Победа в суде вполне могла закончиться расправой над победителем.
Этого, слава Богу, не случилось, но Цицерону пришлось спешно покинуть Рим. Два года он провел в Греции, где занимался философией и совершенствовал свое ораторское искусство. Вернулся уже после смерти Суллы. Женился на Теренции — богатой и знатной римлянке.
Спустя три года Цицерон был избран квестором и направлен в подвластную Риму Сицилию. Эта провинция уже более века снабжала римлян хлебом. «Командировка» была ответственной — год выдался голодный. Последуем и мы за Цицероном. Не столько для того, чтобы проследить за его действиями, сколько чтобы посмотреть как он себя чувствует, впервые ступив на стезю государственной службы. О чем он размышляет? К чему готовится? Итак...
...Сицилия. Лето 75-го года. Утро. Безоблачное, ярко-синее небо. По мягкой пыльной дороге, бегущей почти прямо на запад среди уже наливающихся золотом пшеничных полей, не спеша едет запряженная парой двухколесная повозка с откидным кожаным верхом. В Италии их называют «карцентум». Лошадьми правит молодой еще человек, одетый в светлую, тонкого сукна тунику с короткими рукавами. Редкие в этот час встречные сицилийцы — рабы или мелкие торговцы — уступая дорогу, с почтительным любопытством разглядывают его задумчивое и очень характерное лицо: большой, тонкий, благородный, орлиной формы нос, глубоко сидящие глаза, округлый, не тяжелый, но сильно выдвинутый вперед подбородок, открытый, высокий и выпуклый лоб. Хорошие лошади, нарядная коляска, а главное — строгая, прямая осанка и гордая посадка головы. Это — римлянин. Быть может, римский квестор, о приезде которого поговаривают в округе. Но почему тогда он правит сам и едет без охраны? Впрочем, после жестокого подавления последнего восстания рабов, тому уже двадцать лет назад, на дорогах Сицилии спокойно...
Да, наместник предлагал охрану. Цицерон мягко, но категорически отказался. Куда лучше разбираться в обстановке самому, без соглядатаев и советчиков, которых, к тому же, будут опасаться люди на местах. Кроме того, ему хотелось побыть одному, отдохнуть от столичной суеты и поразмышлять. Поручение сената — лестно. Справиться с ним — значит сделать первый успешный шаг к славе. В Риме ожидают заметного увеличения поставок хлеба из Сицилии.
Наместник встретил его вежливо и настороженно. Похоже, что он не из худших, но, как и все, озабочен в первую очередь собственным обогащением. Впрочем, делать выводы еще рано. Он здесь совсем недавно. Хотя успел заметить много несправедливого. Вчера отстранил от должности корыстного чиновника, обиравшего горожан. Сейчас едет в другой город, где, скорее всего, застанет такую же картину. Конечно же, виноват наместник: и тем, что все отдал на откуп чиновникам, и тем, что сам подает пример мздоимства. И почему такая страсть к наживе? Эти люди роняют величие Рима. Неужели они не понимают, что счастье совсем не в этом? А в чем? Ради чего и как надо жить?..
В ранней молодости он отвечал себе просто — ради славы! А в чем слава? Подлинная, непреходящая? Сейчас ему уже тридцать один год. Хочется обдумать все глубже. Два года в Греции прошли в оживленных спорах, обсуждениях учений знаменитых философов. С одними он соглашался, других отвергал, но времени для углубленного размышления, для сосредоточенного ухода в свое, сокровенное, все как-то не хватало. Собственное понимание смысла и цели жизни еще не вполне сложилось — отдельные мысли бродят пока разрозненно. Сейчас эти долгие переезды между бескрайних полей, в виду голубых гор на горизонте, так счастливо располагают к спокойному раздумью! Простор проникает в душу голова ясная, мысли логично следуют друг за другом... Да, конечно, Эпикур в главном прав: смысл жизни человека — в радости, наслаждении. Не суетливом, жадном и чувственном, а возвышенном, духовном. В наслаждении красотой, вообще всем прекрасным. Но не в отстраненном, пассивном наслаждении. Здесь он не согласен. Нравственно-прекрасное — вот источник наивысшего наслаждения. А оно проявляется в поступках и взаимоотношениях людей. И для меня прежде всего в моих собственных поступках!
Но что отнести к нравственно-прекрасному? Можно ли перечислить? Ну, конечно же, познание истины. Беспредельный полет мысли. Какое счастье, что удалось на заброшенном кладбище у ворот Сиракуз отыскать могилу Архимеда! Он определил ее по шару и цилиндру на надгробии. Но если бы не знакомое стихотворение, которое удалось прочитать, очистив поверхность наполовину ушедшего в землю камня, то он бы сомневался... Не отвлекаться! Нравственно-прекрасное?.. Так. Познание истины! Что еще? Служение обществу, верность своим обязанностям по отношению к другим людям, к Государству, воздаяние каждому по его истинным заслугам? Да, так! Ну, а величие духа, подвиг, слава? Без сомнения. Но слава подлинная! Не тщеславие. А это означает еще и достоинство, и подобающую истинно великому мужу воздержанность. Итак: познание истины, общественное служение, подлинная слава и мудрая умеренность. Пока хватит! А какой же из этих четырех источников радости поставить на первое место? Какому отдать предпочтение, если они вдруг окажутся несовместимыми? Так может случиться? Почему нет? Допустим, я занят познанием природы вещей и даже думаю, что вот-вот сумею сосчитать звезды и измерить вселенную. И вдруг я узнаю, что отечеству грозит опасность, а я могу что-то сделать для его спасения. И даже не отечеству, а отцу или другу. Разве я не оставлю свои занятия, как бы прекрасны они ни были, и не приду на помощь? Конечно, оставлю! Несомненно: на первое место мы поставим общественное служение...
...Ровной, неспешной рысью бегут кони. Мерно покачивается коляска. Верх ее откинут, утреннее солнце еще не печет, легкий ветерок приятно освежает лицо. Вспомнился процесс Росция. И огромная радость, когда суд объявил свое решение. Это ведь было не только спасение славного юноши, но и призыв к римлянам поднять голову, очнуться от страха. Можно ли это назвать служением обществу? Можно! А разве ему самому не было страшно? Еще как! Пять лет уже прошло. Три года, как умер Сулла. Жуткое все-таки было время...
Общественное служение... А в нем что главное? Конечно, справедливость! Но еще и доброжелательность, доброта и щедрость. Без них — холод и бездушие. В чем справедливость? Никому не делать вреда, если только тебя не спровоцировали противозаконней. И ни в коем случае не позволять себе присваивать и даже пользоваться общественной собственностью как своей личной.
А в чем доброта, щедрость? Помочь тому, кто нуждается. Деньгами? Иногда и деньгами, но лучше делами. Первое легче, особенно для человека состоятельного, но второе — лучше и более достойно прославленного гражданина. Доброта, выражающаяся в труде и деятельности, прекраснее в нравственном отношении. И может принести пользу сразу многим...
Начальная школа доброты — благодарность! Оказать ли благодеяние кому-то, можно решать в зависимости от обстоятельств, но не воздать за благодеяние не дозволено честному мужу...
...Между тем окрестный ландшафт меняется. По обе стороны дороги все чаще появляются мягко очерченные холмы с разбросанными по их склонам рощицами и фруктовыми садами. Показались и другие дороги, сходящиеся все в одном направлении. На них видны влекомые волами прочные телеги с низкими сплошными колесами без спиц. Это значит, что город уже близко.
Теперь третье нравственно-прекрасное начало — величие духа, слава. Оно безусловно? Может быть сведено к выдающемуся личному мужеству, несравненной храбрости? Нет, конечно! Величие духа — в сочетании доблести и великой цели. Если душевный подъем, какой бывает виден в опасностях и трудах, чужд справедливости и борется не за общее благополучие, а только ради собственной выгоды, то назовем ли мы его прекрасным?
Наконец, воздержанность. Можно ли ее поставить в один ряд со служением обществу, поисками истины и величием духа? Да, можно! Ибо без обуздания низменных инстинктов человек не может достигнуть подлинной высоты ни в чем. Если мы рассмотрим, в чем заключается превосходство и достоинство человеческой природы, то поймем, как позорно погрязнуть в разврате, жить роскошно и изнеженно, но как прекрасно жить воздержанно, строго и трезво... Сколь немногие, однако, сегодня ценят воздержанность, сколь умножаются излишества и распущенность! Законы против роскоши? Не раз уже они доказывали свое бессилие. Не запреты, а общественное мнение, общий нравственный уровень! Особенно личный пример лучших людей — наиболее уважаемых и заслуженных, которые у всех на виду. А законы должны основываться на самой природе человеческой души, сходной у подавляющего большинства людей. Какой народ не ценит приветливости, благожелательности, сердечной доброты и способности помнить оказанные благодеяния? Какой народ не презирает, не ненавидит надменных, злокозненных, жестоких и неблагодарных людей? Мы по природе своей, если не отказываемся от нее и не ожесточаемся, склонны любить людей. Это и есть единственная основа права...
Любезный читатель, не торопись упрекать автора за необузданную фантазию. Все изложенные только что мысли ты можешь найти в опубликованных трудах Цицерона, особенно в его последнем трактате «Об обязанностях» (например: Цицерон «Об обязанностях» Кн. 1. V, 15; VII, 20; XV, 47; XVIII, 61; XXX, 106; XLIII, 154; Кн. 2. XV, 52, 54. А также «О законах» Кн. 1. XI, 32; XV, 42), адресованном сыну в качестве духовного завещания. Правда, трактат этот был написан в 45-м году и в перенесении размышлений автора на тридцать лет вперед есть определенный произвол. Но и в 75-м году Цицерон уже далеко не юноша. Понимание смысла жизни и ее подлинных ценностей у него уже сложилось или складывается. Согласись или спорь, любезный читатель, но ознакомься с более ранними сочинениями Цицерона, его речами, а главное — с его поступками...
Мы оставили Марка в Сицилии при исполнении его ответственной миссии. Следующая наша встреча с ним снова в Риме, спустя пять лет, незадолго до события, которое сыграет большую роль в его политической карьере. После своего возвращения он занимается адвокатской деятельностью, о которой мало что известно, и присутствует на заседаниях сената, куда он автоматически после квестуры вступил в качестве «младшего сенатора», то есть с правом участия в голосовании, но не в прениях.
Надо сказать, что его успешная деятельность в Сицилии имела еще одно, как оказалось, весьма важное последствие. В качестве квестора Цицерон в такой мере выказал свою справедливость и уважение к сицилийцам, что в 70-м году они попросили его выступить от их имени обвинителем в суде против последнего управителя Сицилии Гая Верреса. За три года своего правления этот сенатор буквально разграбил провинцию. В Риме, как я уже упоминал, существовал специальный суд присяжных, куда провинциалы могли обращаться с жалобами на лихоимство сенаторов-наместников (но только после сложения теми своих полномочий). Суд этот составлялся тоже из сенаторов, ожидавших своей очереди нажиться на конфискациях и вымогательстве в провинциях. Поэтому его приговоры почти всегда были в пользу притеснителей, к тому же не скупившихся на подкуп судей.
Цицерон с исключительной ответственностью отнесся к поручению сицилийцев. В течение нескольких месяцев он вновь объезжает хорошо знакомый ему остров и собирает массу свидетельств и документальных доказательств преступлений наместника. Они оказались настолько вескими, что, не дожидаясь окончания процесса, Веррес удалился в изгнание. А Цицерон приобрел славу защитника народа. Я думаю, что читателю для знакомства с характером прений в римском суде и, в частности, с манерой выступлений Цицерона будет интересно прочитать несколько небольших фрагментов из его обвинительных речей против Верреса:
«Я утверждаю, — говорит Цицерон, — что во всей Сицилии, столь древней провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота или слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканной картины, которых бы он не разыскал, не рассмотрел, и, если они ему понравились, не забрал себе... он ничего не оставил ни в одном частном доме, не исключая также и домов своих гостеприимцев; ни в одном общественном месте, не пощадив даже храмов...» (Цицерон. Вторая речь против Гая Верреса. I, 1, 2)
Цицерон язвит грабителя едкой иронией. Рассказав, например, о присвоении Верресом замечательной статуи древнегреческой поэтессы Сапфо, он продолжает так: «Другое дело — Сапфо. Похищение ее статуи из пританея (место собрания выборного правления города. — Л.О.) вполне оправданно и его, пожалуй, следует признать допустимым и простительным. Неужели возможно, чтобы столь совершенным, столь тщательно отделанным произведением Силаниона владел кто-нибудь другой, не говорю уже — частное лицо, но даже народ, а не такой утонченный знаток и высоко образованный человек — Веррес?.. « И заканчивает свой рассказ так:
«Трудно выразить словами ту скорбь, какую вызвало похищение этой статуи Сапфо. Ибо, помимо того, что это было само по себе редкостное произведение искусства, на ее цоколе была вырезана знаменитая греческая эпиграмма, которую этот образованный человек и поклонник греков, умеющий так тонко обо всем судить, он, этот единственный ценитель искусства, наверное, тоже утащил бы к себе, если бы знал хотя бы одну греческую букву...» (Там же. VII. 126, 127)
Цицерон доказывает документально, что Веррес награбил в Сицилии более десяти миллионов денариев. Но его обличительные речи направлены не только в адрес самого грабителя. Он называет его высоких покровителей, демонстрирует пристрастие и продажность судей, угрожает сенаторам возмущением римского народа:
«...уже установилось, — говорит Цицерон, — гибельное для государства, а для вас опасное мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов передается из уст в уста, — будто при нынешних судах ни один человек, располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. И вот, в годину испытаний для вашего сословия и ваших судов, когда подготовлены люди, которые речами на сходках и внесением законов будут стараться разжечь эту ненависть к сенату, перед судом предстал Гай Веррес, человек за свой образ жизни и поступки общественным мнением уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам и утверждениям, оправданный». (Цицерон. Первая речь против Гая Верреса. I, 1)
Вслушавшись в интонацию Цицерона, легко заметить, что он не заодно с теми, кто старается разжечь ненависть к сенату. Сенатская республика будет до конца дней ему представляться наилучшей формой государственного устройства. Но сенат должен быть достоин своего высокого призвания. В продолжении этой речи он говорит сенаторам-судьям:
«Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен. Но если его огромные богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-таки достигну одного: все увидят, что в государстве не оказалось суда...» (Там же. I, 3)
Эффект разоблачительных речей Цицерона выходит за рамки суда над Верресом. В значительной мере под их впечатлением в том же 70-м году (при консулах Помпее и Крассе), как мы помним, был принят закон о преобразовании сенатских судов в смешанные. Цицерон приобрел колоссальную популярность в Риме и за его пределами.
На следующий год его избирают эдилом. Эта должность была связана со значительными расходами, так как, наряду с наблюдением за сохранностью храмов, исправностью водопроводов, раздачей хлеба неимущим и прочими муниципальными заботами, эдилы должны были за свой счет устраивать праздничные игры и представления для народа. Между тем, по свидетельству Плутарха:
«Состояние Цицерона было довольно скромным — хотя целиком покрывало его нужды и расходы — и все же ни платы, ни подарков за свои выступления в суде он не брал, вызывая восхищение, которое стало всеобщим после дела Верреса... У него было хорошее поместье близ Арпина и два небольших имения, одно подле Неаполя, другое около Помпей. Кроме того, в приданое за своей супругой Теренцией он взял сто двадцать тысяч драхм и еще девяносто тысяч получил от кого-то по завещанию. На эти средства он жил и широко, и вместе с тем воздержанно, окружив себя учеными греками и римлянами...»
Эту цитату из Плутарха, описывающую материальное положение Цицерона, я позволю себе чуть-чуть продолжить. В ней далее следуют некоторые любопытные штрихи его натуры и быта. Плутарх замечает, что Цицерон...
«...редко когда ложился к столу до захода солнца — не столько за недосугом, сколько по нездоровью, опасаясь за свой желудок. Он и вообще необычайно строго следил за собой, и ни в растираниях, ни в прогулках никогда не преступал назначенной врачом меры. Таким образом он укреплял свое тело, делая его невосприимчивым к болезням и способным выдерживать многочисленные труды и ожесточенную борьбу». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, VII, VIII)
В 66-м году Цицерон был избран на вторую в государственной табели о рангах должность претора. Читатель припомнит, что в этом качестве он выступил перед народом с речью в поддержку назначения Помпея командующим против Митридата вместо Лукулла. Наконец, в 63-м году Цицерон поднимается на высшую ступень государственной власти в Риме. Несмотря на свое скромное происхождение, он избран консулом. Это избрание было продиктовано особыми обстоятельствами. Возникла опасность заговора и захвата диктаторской власти неким бесчестным, жестоким и вместе с тем, как это, увы, нередко случается, популярным честолюбцем, сенатором Луцием Катилиной, бывшим сподвижником диктатора Суллы (тем самым, который убил своего брата и задним числом внес его имя в проскрипционный список). Катилина выдвинул свою кандидатуру на должность консула. Надо было противопоставить ему соперника не менее популярного и, кроме того, пользующегося поддержкой могущественного сословия всадников. Сенаторы остановили свой выбор на Цицероне. Перед общей опасностью диктатуры два высших сословия, традиционно противостоявшие друг другу, вынуждены были объединиться. Цицерон одержал победу на выборах.
На посту консула его ожидают жестокие испытания и необходимость принимать Очень ответственные решения. От одного такого решения будет, без преувеличения, зависеть судьба Рима. Поэтому, пока он еще не вступил в должность, нам интересно будет познакомиться с его взглядами на обязанности консула и на то, чем можно заслужить в глазах народа «наивысшую и совершенную» славу, которую венчает избрание на пост главы государства.
«...наивысшая и совершенная слава, — писал он, — зависит от трех условий: если народ любит нас, если он нам доверяет, если он, наряду с некоторым восхищением нами, считает нас достойными магистратур» (сдается мне, что, несмотря на два минувших тысячелетия, ни один из сегодняшних кандидатов в президенты или премьеры не назвал бы ничего иного, столь неизменна психология людей или, если угодно, — избирателей. — Л.О.). «...Из названных мною трех условий, — продолжает Цицерон, — рассмотрим сначала наставления насчет доброжелательности (т.е. любви народа. — Л.О.). Ее достигают, главным образом, благодеяниями; во вторую очередь, доброжелательность заслуживают готовностью совершать благодеяния, хотя средств для этого, пожалуй, и недостаточно. Но любовь толпы необычайно сильно возбуждается уже одной молвой и толками о щедрости, благотворительности, справедливости, верности слову и обо всех добродетелях, связанных с мягкостью нрава и доступностью...
Доверие можно снискать двумя качествами: если нас признают дальновидными и справедливыми... Из этих двух качеств более могущественна в деле снискания доверия справедливость, так как она, даже без дальновидности, достаточно убедительна (за что порой приходится расплачиваться — Л.О); дальновидность без справедливости бессильна в этом отношении...
...Из трех условий для снискания славы третье состояло в том, чтобы нас, восхищаясь нами, признавали достойными магистратур... Но люди восхищаются теми, кого они считают превосходящими других доблестью и чистыми как от какого бы то ни было позора, гак и от пороков, устоять перед которыми другим людям нелегко». (Цицерон. Об обязанностях. Кн. 2. IX, 31 — X, 37)
В речи, произнесенной в том же 63-м году, Цицерон говорит:
«Важна также и высоко ценится способность, часто имевшая место при избрании консула, — умение своей разумной речью увлечь за собой и сенат, и народ, и людей, творящих суд. Людям нужен консул, который своей речью мог бы иногда обуздать бешенство трибунов, возбуждение в народе успокоить, подкупу дать отпор». (Цицерон. Речь в защиту Луция Лициния Мурены. 24)
В той же речи Цицерон излагает свое понимание нравственной позиции консула. Делает он это в форме спора со своим знаменитым современником Катоном: «Жил некогда муж необычайного ума, Зенон, ревнителей его учения называют стоиками. Его мысли и наставления следующие: мудрый никогда не бывает лицеприятен, никогда и никому не прощает проступков; никто не может быть милосердным, кроме глупого и пустого человека; муж не должен ни уступать просьбам, ни смягчаться... Мудрец ни над чем не задумывается, ни в чем не ошибается, своего мнения никогда не изменяет.
Вот взгляды, которые себе усвоил Марк Катон, человек высокого ума, следуя ученейшим наставникам, и не для того, чтобы вести споры, как поступает большинство людей, но чтобы так жить. ... А вот мои учителя (признаюсь, Катон, и я в молодости своей, не полагаясь на свой ум, искал помощи в изучении философии), повторяю, мои учителя, последователи Платона и Аристотеля, люди умеренные и сдержанные, говорят, что хорошему человеку свойственно проявлять сострадание, что проступки бывают разные, потому неодинаковы и наказания; что и непоколебимый человек может прощать; что даже мудрец иногда высказывает предположение насчет того, чего он не знает, что он иногда испытывает чувство гнева, доступен просьбам и мольбам, изменяет ранее сказанное им, если это оказывается более правильным, порой отступает от своего мнения; что все доблести смягчаются соблюдением известной меры.
Если бы судьба направила тебя, Катон, к этим учителям, то ты, при своем характере, конечно, не был бы ни более честным, ни более стойким, ни более воздержанным, ни более справедливым мужем (ведь это и невозможно), но несколько более склонным к мягкости». (Там же. 61-64) Но вместе с тем...
«...мягкость и милосердие заслуживают одобрения только при условии, что в интересах государства будет применяться строгость, без которой управлять гражданской общиной невозможно. Однако ни выговор, ни порицание не должны быть оскорбительны... Надо следить за тем, чтобы тяжесть наказания не превышала тяжести проступка и чтобы не получилось так, что за одни и те же проступки одних людей постигала кара, а другие даже не были привлечены к ответственности. Но при наказании более всего надо удерживаться от гнева; ведь человек, в состоянии гнева приступающий к наказанию, никогда не сможет соблюсти середину между чрезмерным и малым». (Цицерон. Об обязанностях. Кн. 1. XXV, 88) Итак, заключает Цицерон:
«Долг великого мужа среди потрясений карать виновных, но большинство людей щадить, при любых обстоятельствах оставаться верным справедливости и нравственной красоте». (Там же. Кн. 1. XXIV, 82). Отметим это заключение. Вскоре нам представится случай о нем вспомнить.
Теперь, уважаемый читатель, мы достаточно хорошо познакомились с Цицероном, чтобы с полным пониманием и ситуации, и чувств нашего героя быть рядом с ним в надвигающуюся годину тяжелых испытаний и далее — вплоть до трагического конца его дней.
Заговор Катилины
Итак, Цицерон одержал победу на выборах. Он — скромный провинциал, не полководец, не герой, — удостоен наивысшей чести и славы в Риме! В первой же своей речи, обращенной к народу, на следующий день после вступления в должность он так говорит о своем избрании:
«Я — новый человек, которого вы, впервые на нашей памяти, после очень долгого промежутка времени, избрали в консулы. К тому званию, которое знать всячески обороняла и ограждала валом, вы, под моим водительством, пробили путь и сделали его впредь открытым для доблести. При этом вы меня не только избрали так, как в нашем государстве были избраны консулами из знатных людей лишь немногие, а из новых людей — до меня ни один... самое прекрасное и лестное для меня то, что во время моих комиций вы не табличками, этим безмолвным залогом свободы, но громкими возгласами выразили свое расположение ко мне и свое рвение. Таким образом, я был объявлен консулом не после окончательного подсчета голосов, но в первом же вашем собрании, не голосами отдельных глашатаев, а единым голосом всего римского народа». (Цицерон. Вторая речь о земельном законе Публия Сервилия Рула. I, 3; П, 4)
Простим Цицерону то, что он не может скрыть переполняющую его радость. Он ведь не знает, какие его ожидают испытания и какая последует расплата... Гроза над Римом, которую должен был принять на себя консул, разразилась в конце 63-го года. В истории она получила наименование заговора Катилины. События, связанные с этим заговором, довольно подробно пересказаны Плутархом в жизнеописании Цицерона. Но Плутарх родился спустя столетие после смерти великого оратора, а в данном (редком!) случае мы располагаем подробным свидетельством очевидца — историка Саллюстия. Естественно воспользоваться им. Поэтому изложение хода самого заговора, а также некоторые оценки личностей и мотивов поведения связанных с ним людей будут заимствованы из книги Саллюстия «О заговоре Катилины». Описание римского историка мне кажется настолько ярким и живым, что я вижу свою задачу только в том, чтобы, исходя из допустимого объема главы, отобрать фрагменты, прочерчивающие основную линию развития событий, и снабдить их минимальными пояснениями. Надеюсь, что читатель не упрекнет меня за такой подход — знакомство с подлинником интересней самого высокохудожественного пересказа. Начну с характеристики самого инициатора заговора:
«Луций Катилина, человек знатного происхождения, отличался большой силой духа и тела, но злым и дурным нравом. С юных лет ему были по сердцу междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские смуты, и в них он и провел свою молодость. Телом он был невероятно вынослив в отношении голода, холода, бодрствования. Духом был дерзок, коварен, переменчив, мастер притворяться и скрывать что угодно, жаден до чужого, расточитель своего, необуздан в страстях; красноречие его было достаточно, разумности мало. Его неуемный дух всегда стремился к чему-то чрезмерному, невероятному, исключительному. После единовластия Суллы его охватило неистовое желание встать во главе государства, но как достичь этого — лишь бы заполучить царскую власть — ему было безразлично. С каждым днем все сильнее возбуждался его необузданный дух, подстрекаемый недостатком средств и сознанием совершенных преступлений; и то и другое усиливалось из-за его наклонностей, о которых я уже говорил. Побуждали его, кроме того, и испорченные нравы гражданской общины, страдавшей от двух наихудших противоположных зол: роскоши и алчности». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 5, 1-8)
Упрек гражданской общине, в соответствии с другими свидетельствами, относится главным образом к «золотой молодежи» той поры. Ее наш историк живописует, не жалея красок: «...Катилина (сделать это было совсем легко) окружил себя гнусностями и преступлениями, словно отрядами телохранителей. Ибо любой развратник, прелюбодей, завсегдатай харчевен, который игрой в кости, чревоугодием, распутством растратил отцовское имущество и погряз в долгах, дабы откупиться от позора или от суда, кроме того все паррициды (т.е. убийцы родичей. — Л.О.) любого происхождения, святотатцы, все осужденные по суду или опасающиеся суда за свои деяния, как и те, кого кормили руки и язык лжесвидетельствами или убийствами граждан, наконец, все те, кому позор, нищета, дурная совесть не давали покоя, были близкими Катилины и своими людьми для него. А если человек, еще не виновный ни в чем, оказывался в числе друзей Катилины, то он от ежедневного общения с ними и из-за соблазнов легко становился равен и подобен другим» (там же. 14, 1-4).
Начало заговора относится к лету 64-го года. Приближаются выборы новых консулов. Ступенью к диктатуре для Катилины должна послужить консульская власть. Саллюстий продолжает: «Положившись на таких друзей и сообщников, а также потому, что долги повсеместно были огромны и большинство солдат Суллы, прожив свое имущество и вспоминая грабежи и былые победы, жаждали гражданской войны, Катилина и решил захватить власть в государстве. В Италии войска не было. Гней Помпей вел войну на краю света. У самого Катилины, добивавшегося консулата, была твердая надежда на избрание. Сенат не подозревал ничего, все было безопасно и спокойно...» (Там же. 16, 4)
«И вот приблизительно в июньские календы (1 июня. — Л.О.)... он сначала стал призывать сообщников одного за другим — одних уговаривать, испытывать других, указывать им на свою мощь, на беспомощность государственной власти, на большие выгоды от участия в заговоре. Достаточно выяснив то, что он хотел знать, он собирает к себе тех, у кого были наибольшие требования и кто был наиболее нагл». (Там же. 17. 1) Саллюстий называет одиннадцать сенаторов, четырех всадников, многих влиятельных людей из римских колоний и итальянских городов. По его словам, еще большее число знатных, особенно юношей, сочувствовали заговору. Небезынтересно послушать — в пересказе Саллюстия — речь Катилины, обращенную к собравшимся (Саллюстий вполне мог находиться в контакте с кем-то из окружения Катилины — историку в то время было немногим более двадцати лет.). Поражает современность, или, вернее, извечность демагогической аргументации вождя заговорщиков:
«Не будь доблесть и верность ваша достаточно известны мне, — говорит Катилина, — от благоприятного случая нам было бы мало проку великие надежды и та власть, что у нас в руках, были бы тщетны, а сам я с трусливыми и ничтожными людьми не стал бы гоняться за неверным вместо верного. Но так как я во многих, и притом трудных, случаях оценил вас как храбрых и преданных людей, то я потому и решился приступить к величайшему и прекраснейшему делу...
О том, что я задумал, все вы, каждый порознь, уже слыхали ранее. Впрочем, с каждым днем меня охватывает все большее негодование всякий раз, как я подумаю, в каком положении мы окажемся, если сами не защитим своей свободы. Ибо с того времени, как кучка могущественных людей целиком захватила власть в государстве... мы — все остальные, деятельные, честные, знатные и незнатные, были чернью, лишенной влияния, лишенной авторитета, зависевшей от тех, кому мы, будь государство сильным, внушали бы страх. Поэтому всякое влияние, могущество, магистратуры, богатства находятся у них в руках там, где они хотят. Нам оставили они неудачи на выборах, судебные преследования, приговоры, нищету. Доколе же вы будете терпеть это, о храбрейшие мужи?..»
(Ну конечно же! Зависть всегда была наилучшей пищей для возмущений и заговоров. — Л.О.). «Не лучше ли мужественно умереть, — продолжает Катилина, — чем позорно лишиться жалкой и бесчестной жизни, когда ты был посмешищем для высокомерия других? Но поистине — богов и людей привожу в свидетели! — победа в наших руках. Сильна наша молодость, дух могуч. Напротив, у них с годами и вследствие их богатства все силы ослабели. Надо только начать, остальное придет само собой...»
Заключает свою речь Катилина так:
«...Располагайте мною либо как военачальником, либо как простым солдатом. Я «буду с вами духом и телом». (Там же. 20, 2-16) Заговор окружен глубокой тайной, но один из его участников, чтобы добиться благосклонности своей переменчивой любовницы, похваляется ей будущим влиянием, богатством и рассказывает о замыслах Катилины. Подруга незадачливого заговорщика, конечно же, разболтала об услышанном всему городу. Зная нрав и решимость Катилины, римляне, особенно сенаторы, не на шутку встревожились.
«Это обстоятельство, — свидетельствует Саллюстий, — более всего и внушило людям желание вверить консулат Марку Туллию Цицерону... И вот после комиций консулами объявили Марка Туллия и Гая Антония (дядя будущего соратника Цезаря. — Л.О.). Это вначале потрясло заговорщиков. Но все же бешенство Катилины не ослабевало. Наоборот, с каждым днем замыслы его ширились. Он собирал оружие в удобных для этого местностях Италии. Деньги, взятые в долг им самим или по поручительству друзей, отправлял в Фезулы к некоему Манлию (бывшему центуриону Суллы. — Л.О.), который впоследствии был зачинщиком войны. В это время он, говорят, завербовал множество разных людей, а также и нескольких женщин, которые вначале могли давать огромные средства, торгуя собой...» (Там же. 23, 5; 24, 1-4) Саллюстий продолжает:
«Манлий возмущал в Этрурии народ, который ввиду нищеты и несправедливости жаждал переворота, так как он при господстве Суллы лишился земель и всего своего достояния (Этрурия была наказана диктатором за поддержку популяров. — Л.О.). А, кроме того, всех разбойников (в этой области их было великое множество) и кое-кого из жителей сулланских колоний — тех, кто из-за распутства и роскоши из огромной добычи не сохранил ничего.
Когда Цицерону сообщили об этом, он, сильно встревоженный, ... доложил сенату о положении, уже ставшем предметом всеобщих толков. И вот, как большей частью и бывает в угрожающих обстоятельствах, сенат постановил: «Да позаботятся консулы, чтобы государство не понесло ущерба». Это наибольшая власть, какую сенат по римскому обычаю предоставляет магистрату». (Там же. 28, 4; 29, 1-3)
Действительно, пришедшая из древних времен и как будто безобидная, формула означала многое. Она наделяла консулов чрезвычайными полномочиями. Консул получал право набирать войско, вести войну и применять к гражданам Рима любые меры принуждения — даже казнить их без суда!
В разные концы страны были разосланы уполномоченные для набора солдат. За донос о заговоре назначена была награда, а рабам обещан еще и отпуск на свободу. Усилили ночную стражу в самом Риме. По свидетельству Саллюстия: «События эти потрясли гражданскую общину и даже изменили внешний вид Города. После необычайного веселья и распущенности, порожденных долгим спокойствием, всех неожиданно охватила печаль. Люди торопились, суетились, не доверяли достаточно ни месту, ни человеку, не вели войны и не знали мира. Каждый измерял опасность степенью своей боязни». (Там же. 31, 1) (Как сказано! «Степенью своей боязни!»)
Цицерон организовал слежку за Катилиной и его сообщниками. В ночь на 7-е ноября 63-го года на своем тайном собрании они решили убить ненавистного консула и начать восстание. Узнав об этом, Цицерон созвал экстренное заседание сената. Катилина, полагаясь на знатность своего происхождения, решил попытаться нейтрализовать усилия консула и сам явился на это заседание. Цицерон произнес против него обличительную речь:
«Доколе же ты, Катилина, — начал он, — будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город?.. Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последней, что предыдущей ночью, где ты был, кого сзывал, какое решение принял. О, времена! О, нравы! Сенат все это понимает, консул видит, а этот человек все еще жив... Казнить тебя, Катилина, уже давно следовало бы по приказанию консула, против тебя самого обратить губительный удар, который ты против всех нас уже давно подготовляешь». (Цицерон. Первая речь против Луция Сергия Катилины. I. 1, 2) Действительно, почему Цицерон, обладая чрезвычайными полномочиями, не решается хотя бы арестовать или выслать Катилину? Да потому, что он живет, как ныне принято говорить, в правовом государстве и хорошо знает, что донос осведомителей о намерениях Катилины не является достаточным основанием для преследований. Они могут возмутить римлян. Поэтому Цицерон продолжает свою речь так:
«Но что уже давно должно было быть сделано, я, имея на это веские основания, все еще не могу заставить себя привести в исполнение. Ты будешь казнен только тогда, когда уже не найдется ни одного столь бесчестного, столь низко падшего, подобного тебе человека, который не признал бы, что это совершено законно. Но пока есть хотя бы один человек, который осмелится тебя защищать, ты будешь жить, но так, как живешь ныне, — окруженный моей многочисленной и надежной стражей, дабы у тебя не было ни малейшей возможности даже пальцем шевельнуть во вред государству». (Там же. II, 5, 6)
Изложив далее все предшествовавшие события, связанные с заговором, вплоть до последнего ночного сборища, Цицерон предлагает Катилине опровергнуть его обвинения добровольным отъездом из Рима: «Итак, — говорю это уже не в первый раз, — уезжай, причем если ты, как ты заявляешь, хочешь разжечь ненависть ко мне, своему недруг), то уезжай прямо в изгнание. Тяжко будет мне терпеть людскую молву, если ты так поступишь, тяжко будет мне выдержать лавину этой ненависти, если ты уедешь в изгнание по повелению консула. Но если ты, напротив, предпочитаешь меня возвеличить и прославить, то покинь Рим вместе с наглой шайкой преступников, отправляйся к Манлию и призови пропащих граждан к мятежу, порви с честными людьми, объяви войну отчизне, предайся нечестивому разбою, дабы казалось, что ты выехал из Рима не изгнанный мною к чужим, но приглашенный к своим». (Там же. IX. 23)
Замысел Цицерона удался не вполне. Катилина, действительно, отбыл к Манлию, но его сообщники остались в Риме в качестве «пятой колонны». Как утверждает Саллюстий: «Цетегу, Лентулу и другим, в чьей неизменной отваге он убедился, он поручает любыми средствами укреплять главные силы заговора, поторопиться с покушением на консула, готовиться к резне, поджогам и другим преступлениям, связанным с войной. Сам же он в ближайшие дни с многочисленным войском подступит к Городу». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 32, 2)
Положение стало критическим. Тем более, что, кроме непосредственных участников заговора, Катилина мог рассчитывать на поддержку римского простонародья. Саллюстий вынужден признать это: «Безумие, — пишет он, — охватило не одних только заговорщиков; вообще весь простой народ в своем стремлении к переменам одобрял намерения Катилины. Именно они, мне кажется, и соответствовали его нравам. Ведь в государстве те, у кого ничего нет, всегда завидуют состоятельным людям, превозносят дурных, ненавидят старый порядок, жаждут нового, недовольные своим положением, добиваются общей перемены, без забот кормятся волнениями и мятежами, так как нищета легко переносится, когда терять нечего... многие вспоминали победу Суллы, видя как одни рядовые солдаты стали сенаторами, другие — столь богатыми, что вели царский образ жизни. Каждый надеялся, что он, взявшись за оружие, извлечет из победы такую же выгоду». (Там же. 37, 1-6)
9 ноября Цицерон выступает с речью на форуме перед народом. Он разъясняет ситуацию в городе и предупреждает сообщников Катилины (катилинариев):
«Что же касается людей, которые застряли в Риме, или, вернее, были оставлены Катилиной на погибель Риму и всем вам в городе, то я, хотя это и враги, все же, коль скоро они родились гражданами, хочу настоятельно предостеречь их. Я, при своей мягкости, которая до сего времени кое-кому могла показаться слабостью, ждал только, чтобы вырвалось то, что оставалось скрытым. Но отныне я уже не могу забыть, что здесь моя отчизна, что я — консул этих вот людей, что мой долг — либо вместе с ними жить, либо за них умереть. У городских ворот нет сторожей, на дороге нет засад. Если кто-нибудь захочет уехать, я могу на это закрыть глаза. Но тот, кто в Риме, хотя бы чуть-чуть шевельнется, тот, за кем замечу, не говорю уже — какое-нибудь действие, но даже стремление или попытку действовать во вред отчизне, поймет, что в этом городе есть бдительные консулы, есть достойные должностные лица, есть стойкий сенат, что в нем есть оружие, есть тюрьма, которая, по воле наших предков, карает нечестивые преступления, когда они раскрыты». (Цицерон. Вторая речь против Луция Сергия Катилины. XII, 27)
Консул Антоний с набранным войском выступает против Манлия и Катилины. Цицерон остается в городе, чтобы подавить заговор в его стенах. Между тем, в Рим прибывают послы могущественного галльского племени аллоброгов, в свое время покоренного римлянами. Послы привезли жалобу на римских ростовщиков и тщетно умоляют сенат о помощи их общине. Сподвижник Катилины, претор Лентул, встречается с послами, сулит им помощь, открывает план заговора и приглашает поддержать его восстанием своего племени. Аллоброги обещают, колеблются и, в конце концов, через сенатора — патрона их общины — доносят обо всем консулу. Цицерон понимает, что у него появился шанс получить документальные доказательства намерений заговорщиков. Он, в свою очередь, тайно встречается с послами и подробно инструктирует их.
Тем временем Лентул и остальные главари заговора заканчивают приготовления к восстанию в городе. Срок назначен, роли распределены. По утверждению Саллюстия, события должны были развернуться следующим образом: «Статилий и Габиний с большим отрядом одновременно подожгут город в двенадцати удобных местах, дабы вызванной этим суматохой облегчить доступ к консулу и другим людям, на которых готовились покушения. Цетег осадит двери в доме Цицерона и нападет на него с оружием в руках. Каждый убьет указанного ему человека. Сыновья, живущие в семье, главным образом знати, убьют своих отцов. Затем, когда резня и пожары приведут всех в смятение, они прорвутся к Катилине». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 43, 2)
Чтобы читатель представил себе степень опасности, следует пояснить, насколько Рим той поры был уязвим для пожаров. Многоэтажные (до семи этажей!) дома теснились вдоль узких улочек. Если нижние этажи были сложены из кирпича, то верхние, легкие — из самана. Деревянные перекрытия и стропила, прокаленные в жарком климате, готовы были вспыхнуть, как порох. Средств пожаротушения не было — воду ведрами передавали из рук в руки от ближайшего уличного колодца. Подожженный одновременно во многих местах город неминуемо превратился бы в сплошной костер.
Однако и консул не терял времени. Послушаем продолжение рассказа Саллюстия: «Между тем аллоброги, следуя наставлениям Цицерона, через посредство Габиния встречаются с другими заговорщиками. Они требуют от Лентула, Цетега, Статилия, а также от Кассия запечатанных писем с клятвенными обязательствами, чтобы доставить их соплеменникам: иначе им нелегко будет склонить их к столь важному делу. Все соглашаются, ничего не подозревая...» (Там же. 44, 1, 2)
«Когда все было сделано и назначена ночь отъезда, Цицерон узнав обо всем от послов, приказывает преторам Луцию Валерию Флакку и Гаю Помптину устроить засаду на Мульвиевом мосту и захватить весь поезд аллоброгов... Преторы, люди военные, без шума расставив посты, как им было приказано, незаметно занимают подходы к мосту. Когда послы вместе с Вольтурцием (гонец от Лентула с письмом к Катилине. — Л.О.) подошли к этому месту и по обеим сторонам моста одновременно раздались крики, то галлы, сразу же поняв, что происходит, немедленно сдались преторам...
Когда все было кончено, преторы через гонцов быстро сообщили консулу А того охватило беспокойство и радость. Радовался он, понимая, что раскрытие заговора избавило государство от опасности; тревожило его, однако, то, что он не знал, как поступить со столь видными гражданами, схваченными на месте величайшего преступления. Наказание их, полагал он, ляжет бременем на него, а безнаказанность их погубит государство». (Там же. 45, 1-3; 46, 1, 2)
На заре следующего дня, надо полагать, после бессонной, полной сомнений ночи (Помните? «Долг великого мужа среди потрясений карать виновных...»), Цицерон переходит в наступление. Саллюстий ведет свой рассказ дальше:
«Наконец, собравшись с духом, он приказывает позвать к себе Лентула, Цетега, Сетилия... Лентула, так как он был претором, консул, держа за руку, приводит в сенат, остальных приказывает отправить под стражей в храм Согласия. Туда он созывает сенат и в многолюдное собрание этого сословия велит ввести Вольтурция вместе с послами. Претору Флакку он приказывает сюда же принести ящичек с письмами, которые тот получил от послов». (Там же. 46, 3, 5, 6)
Письма в те времена писали на вощеных дощечках, связывали их нитью, концы которой скрепляли личной печатью. Письма были прочитаны, печати опознаны, заговорщикам пришлось признать свое авторство. Сенат постановил: вплоть до решения их судьбы передать всех порознь на поруки видным людям города. В тот же день вечером Цицерон снова выступает на форуме перед народом. Начало его речи скромностью не блистает:
«Государство, — говорит он, — ваша жизнь, имущество и достояние, ваши жены и дети, квириты, и этот оплот прославленной державы — богатейший и прекрасный город — сегодня, по великому благоволению бессмертных богов, моими трудами и разумными решениями, а также ценой опасностей, которым я подвергался у вас на глазах, как видите, спасены от огня и меча, можно сказать, вырваны из пасти рока, сохранены и возвращены вам...» (Цицерон. Третья речь против Луция Сергия Катилины. I)
Простим оратору некоторую выспренность и самовосхваление: момент уж очень волнующий. К тому же, как говорится, еще не вечер... Неизвестно, на чьей стороне окажется толпа. Цицерон подробно излагает документально подтвержденные планы заговорщиков и свои действия по их раскрытию. Особо подчеркивает намерение сжечь город. Опытный оратор, он видит, как постепенно настороженность слушателей сменяется одобрением, а затем и восхищением. Саллюстий свидетельствует о причине этой перемены:
«...у простого народа, который вначале жаждал переворота и не в меру сочувствовал войне, настроение переменилось, и он стал замыслы Катилины проклинать, а Цицерона превозносить до небес... Ибо, по его мнению, другие бедствия войны принесли бы ему не столько убытки, сколько добычу, но пожар был бы жестоким, неумолимым и чрезвычайно губительным для него: так как все его имущество — предметы повседневного пользования и одежда». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 48, 1, 2)
Выиграв таким образом одобрение народа, Цицерон в конце своей речи уже не может сдержать ликования:
«В памяти вашей, квириты, — восклицает он, — будут жить мои деяния, в речах ваших расти, в памятниках слова приобретут долговечную славу. Я думаю, судьбой назначен один и тот же срок, который, надеюсь, продлится вечно, — и для благоденствия Рима и для памяти о моем консульстве...» (Цицерон. Третья речь против Луция Сергия Катилины. I. 26)
Однако на следующий день выяснилось, что Цицерон торжествовал рано. Сделанное разоблачение еще не означало поражения заговорщиков. Их многочисленные сообщники организуют в городе смуту. Согласно Саллюстию:
«...вольноотпущенники и кое-кто из клиентов Лентула, обходя город по разным улицам, подбивали ремесленников и рабов в кварталах вырвать его из-под стражи. Некоторые разыскивали главарей шаек, привыкших за плату учинять смуту в государстве. Цетег же через гонцов просил свою челядь и вольноотпущенников, людей отборных и испытанных, проявить отвагу и всем скопом пробиваться к нему с оружием в руках». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 50, 1, 2)
Судьбу арестованных надо было решать срочно, и Цицерон вновь созывает заседание сената. Оно было бурным. Большинство ораторов настаивало на казни заговорщиков. Юлий Цезарь, тогда еще молодой и не очень влиятельный сенатор, предложил держать их в оковах и различных городах Италии, конфисковав имущество. Когда сенаторы было заколебались, Марк Катон своей гневной и полной сарказма речью сумел восстановить их решимость. Цицерон тоже вполне определенно высказался за казнь. В частности, он сказал:
«Таково и наше положение по отношению к этим людям, которые хотели убить нас, наших жен и детей, пытались разрушить наши дома и это государство, наше общее обиталище, старались поселить на развалинах нашего города и на пепелище сожженной ими державы племя аллоброгов. Если мы будем беспощадны к ним, то нас сочтут сострадательными, если же мы захотим оказать им снисхождение, то молва осудит нас за величайшую жестокость к нашей отчизне и согражданам, которым грозила гибель». (Цицерон. Четвертая речь против Луция Сергия Катилины. V, 12)
В тот же вечер приговор был приведен в исполнение. Зловещую картину этой казни мы можем найти у того же Саллюстия:
«Когда сенат, как я уже говорил, одобрил предложение Катона, консул, сочтя за лучшее не дожидаться ночи, поскольку за это время могло произойти что-нибудь неожиданное, приказывает тресвирам приготовить все необходимое для казни. Сам он, расставив стражу, отводит Лентула в тюрьму, преторы поступают так же с другими заговорщиками. В тюрьме, если немного подняться влево, есть подземелье, называемое Туллиевым (по имени древнего царя Сервия Туллия. — Л.О.) и приблизительно на двенадцать футов уходящее в землю. Оно имеет сплошные стены и каменный сводчатый потолок; его запущенность, потемки, зловоние производят отвратительное и ужасное впечатление. Как только Лентул спустился туда, палачи, исполняя приказание, удавили его петлей. Так этот патриций из прославленного Корнелиева рода, когда-то облеченный в Риме консульской властью, нашел конец, достойный его нрава и поступков. Цетег, Статилий, Габиний и Ценарий были казнены таким же образом». (Саллюстий. О заговоре Катилины. 55, 1-5)
Цицерон всю жизнь гордился проявленными им решимостью и мужеством. Были ли для этого основания? Пожалуй, да. И не только потому, что сторонники осужденных могли попытаться отбить их силой по дороге в тюрьму. Дело в том, что одобрение сената носило характер лишь рекомендации. Сенат вообще не имел права приговорить римского гражданина к смерти. Древняя традиция и закон наделяли этим правом только Народное собрание. Консул, облеченный чрезвычайными полномочиями, мог, как упоминалось, казнить любого гражданина, но вся ответственность за это падала на него лично. После окончания годичного срока консульства он мог быть привлечен к суду и, в случае признания его решения недостаточно обоснованным, жестоко поплатиться за него. Тем более что казнил он не рядовых, а знатных и заслуженных граждан Республики. Между прочим, до конца консульского срока Цицерону оставалось всего двадцать пять дней.
Закончить хронику событий заговора Катилины я хочу заключительными строчками рассказа о нем Плутарха. По окончании казни:
«Видя многих участников заговора, которые толпились на форуме и, не подозревая правды, ждали ночи в уверенности, что их главари живы и что их можно будет похитить, Цицерон громко крикнул им: «Они жили!» — так говорят римляне о мертвых, не желая произносить зловещих слов.
Было уже темно, когда он через форум двинулся домой, и теперь граждане не провожали его в безмолвии и строгом порядке, но на всем пути приветствовали криками и рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки сияли огнями факелов, выставленных чуть ли не в каждой двери. На крышах стояли женщины со светильниками, чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении самых знаменитых людей города. Едва ли не все это были воины, которые не раз со славою завершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули рубежи римской державы на суше и на море, а теперь они единодушно говорили, что многим тогдашним полководцам римский народ был обязан богатством, добычей и могуществом, но спасением своим и спокойствием — одному лишь Цицерону, избавившему его от такой великой и грозной опасности. Удивительным казалось не то, что он пресек преступные действия и покарал преступников, но что самый значительный из заговоров, какие когда-либо возникали в Риме, подавил ценой столь незначительных жертв, избежав смуты и мятежа. И верно, большая часть тех, кто стеклись под знамена Катилины, бросили его, едва узнав о казни Лентула и Цетега; во главе остальных Катилина сражался против Антония и погиб вместе со всем своим отрядом». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон. XXII)
Если читатель вспомнит или перечитает начало рассказа Саллюстия о заговоре, то у него не останется сомнения в том, что личность Катилины и его замыслы глубоко отвратительны историку. И все же Катилина — римлянин! Саллюстий отдает дань мужеству, с которым он встречает свою смерть:
«Заметив, что его войско рассеяно и он остался с кучкой солдат, Катилина, помня о своем происхождении, бросается в самую гущу врагов, и там в схватке его закалывают. Только тогда, когда битва закончилась, можно было увидеть, как велики были отвага и мужество в войске Катилины. Ибо чуть ли не каждый, испустив дух, лежал на том же месте, какое он занял в начале сражения... Самого Катилину нашли далеко от его солдат, среди вражеских тел. Он еще дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой он отличался при жизни...» (Саллюстий. О заговоре Катилины. 60, 7)
Пора заканчивать главу. Но с Цицероном мы расстаемся ненадолго. В нескольких последующих главах он, хотя и отойдет на второй план, но будет играть важную роль пусть не беспристрастного (в этом свой интерес!), зато хорошо осведомленного свидетеля и участника событий гражданской войны в Риме. Если не на его, то на наше счастье, в этот кровавый переплет попал, как я уже позволил себе выразиться, интеллигент, способный одинаково горячо отдаваться как практической общественной деятельности, так и ее отражению в публицистике и личной переписке. По уровню таланта речи, трактаты и письма Цицерона равно заслуживают наименования высокой литературы. Что же касается прямого участия в политической борьбе, то в его жизни оно дважды выходило на первый план. Первый раз — как рассказано выше, второй — двадцатью годами позже, чтобы оборваться насильственной смертью. Поэтому не случайно, что именно в связи с подавлением заговора Катилины, мы можем найти высказывания Цицерона о связи общественной деятельности с литературой и о роли последней в его жизни. Например, в одной из судебных речей на следующий год после описанных выше событий Цицерон говорит:
«Ведь если бы я в юности, под влиянием наставлений многих людей и многих литературных произведений, не внушил себе, что в жизни надо усиленно стремиться только к славе и почестям, а преследуя эту цель — презирать все телесные муки, все опасности, грозящие смертью и изгнанием, то я никогда бы не бросился, ради вашего спасения, в столь многочисленные и в столь жестокие битвы и не стал бы подвергаться нападениям бесчестных людей. Но таких примеров полны все книги, полны все высказывания мудрецов, полна старина. Все это было бы скрыто во мраке, если бы этого не озарил свет литературы. Бесчисленные образы храбрейших мужей, созданные не только для любования ими, но и для подражания им, оставили нам греческие и латинские писатели! Всегда видя их перед собой во время своего управления государством, я воспитывал свое сердце и ум лишь размышлением о выдающихся людях». (Цицерон. Речь в защиту поэта Авла Лициния Архия. IV, 14) И далее, в той же речи:
«Ведь доблесть не нуждается в иной награде за свои труды, кроме награды в виде хвалы и славы. Если она у нас будет похищена, то к чему, судьи, на нашем столь малом и столь кратком жизненном пути так тяжко трудиться?.. Но теперь в каждом честном человеке живет доблестное стремление, которое днем и ночью терзает его сердце жаждой славы и говорит о том, что память о нашем имени не должна угаснуть с нашей жизнью, но должна жить во всех последующих поколениях. ... Я, по крайней мере, думал, что все деяния, какие я совершал, уже в то время, когда они совершались, становились семенами доблести, рассыпающимися по всему миру, и что память о них сохранится навеки. Но будут ли эти воспоминания, после моей смерти, далеки от моего сознания или же, как думали мудрейшие люди, они будут соприкасаться с какой-то частью моей души, теперь я, несомненно, услаждаю себя размышлениями об этом и питаю какую-то надежду». (Там же. XI, 28, 29; XII, 30)
Да послужит и этот рассказ к исполнению надежды Цицерона!
Глава III Цезарь
Не без робости и смущения приступаю я к рассказу о Юлии Цезаре. Удастся ли мне, хотя бы в самой малой степени, приблизиться к пониманию замыслов и побуждений одного из гениев истории человечества? Удастся ли убедить тебя, читатель, в правомерности этого приближения? Причем сделать это, оставаясь на реальной почве исторически достоверных фактов, свидетельств древних авторов и единственного дошедшего до нас сочинения самого Цезаря. А сколь ответственна эта задача! Ведь для большинства из нас древний Рим — это в первую очередь Юлий Цезарь. Подобно Эльбрусу среди заснеженных хребтов Кавказа, возвышается он над всей блистательной цепью великих полководцев и государственных деятелей римской истории. Его облик, свершения и планы представляются нам в зареве пожара гражданской войны как кульминация героической и трагичной эпопеи римской Республики и вместе с тем как предтеча блеска, тирании и всемирного могущества Империи.
Без устали всматриваюсь в различные ракурсы фотографий скульптурного портрета Цезаря, хранящегося в Британском музее. Главное впечатление — могучий ум. Его создают размеры геометрически правильного полушария черепа, лишь немного уступающего по высоте всему остальному лицу, и широкий, чистый лоб, прорезанный двумя вертикальными морщинами над переносицей. Второе впечатление — пристальность и спокойная вдумчивость взгляда широко расставленных, глубоко сидящих глаз (непостижимо, как это удалось передать древнему мастеру). И сила воли! Она — в резких складках, идущих от крыльев хорошо очерченного, крупного носа с римской горбинкой, в глубоких впадинах на щеках под скулами, в твердой лепке подбородка и четком рисунке губ. Но вместе с тем никаких признаков высокомерия, нередко заметных на такого рода сильных лицах. Здесь — сила, направленная более внутрь себя, чем вовне... Цезарю, наверное, около пятидесяти. Лицо чистое — без морщин или мешков под глазами. На нем следы суровых испытаний, пожалуй, даже печать некоторого аскетизма. Но не жестокости! Лицо не повелителя полумира, а скорее ученого, мыслителя.
Светоний утверждает, что глаза у Цезаря были черные и живые, что он был светлокожий, высокого роста и хорошо сложен. Здоровьем отличался превосходным. Лишь под конец жизни у него стали случаться внезапные обмороки и пару раз были приступы падучей. Это несколько расходится с представлением Плутарха, который в биографии Цезаря пишет, что:
«...всех поражало, как он переносил лишения, которые, казалось, превосходили его физические силы, ибо он был слабого телосложения, с белой и нежной кожей, страдал головными болями и падучей... Однако он не использовал свою болезненность как предлог для изнеженной жизни, но, сделав средством исцеления военную службу, старался беспрестанными переходами, скудным питанием, постоянным пребыванием под открытым небом и лишениями победить свою слабость и укрепить свое тело». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XVII)
Мне кажется, что информация Плутарха лучше совместима с другими свидетельствами об облике и характере Цезаря. Да и у того же Светония мы можем прочитать, как Цезарь, говоря современным языком, заботился о поддержании физической формы:
«...выносливость его превосходила всякое вероятие. В походе он шел впереди войска, обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой головой, несмотря ни на зной, ни на дождь. Самые длинные переходы он совершал с невероятной быстротой, налегке, в наемной повозке, делая по сотне миль в день, реки преодолевая вплавь...» (Светоний. Божественный Юлий, 57) Упоминание Плутарха о намеренно скудном питании и неприхотливости Цезаря тоже находит подтверждение у Светония:
«Вина он пил очень мало: этого не отрицают даже его враги. Марку Катону принадлежат слова: «Цезарь один из всех берется за государственный переворот трезвым». В отношении же еды он, как показывает Гай Оппий, был настолько неприхотлив, что когда у кого-то на обеде было подано старое масло вместо свежего, и остальные гости от него отказались, он один брал его даже больше обычного, чтобы не показать, будто он упрекает хозяина в небрежности или невежливости». (Там же, 53)
Этот эпизод фигурирует и у Плутарха. В изложении Светония читатель, наверное, отметил тактичность Цезаря. Кстати, ссылка на Гая Оппия, соратника по Галльской войне и времени после нее, позволяет думать, что эпизод относится отнюдь не к ранней поре жизни Цезаря.
Завершая наш первый эскизный набросок облика Юлия Цезаря, нельзя не упомянуть его исключительную работоспособность. «Спал он, — свидетельствует Плутарх, — большей частью на повозке или на носилках, чтобы использовать для дела и часы отдыха. Днем он объезжал города, караульные отряды и крепости, причем рядом с ним сидел раб, умевший записывать за ним, а позади — один воин с мечом. Он передвигался с такой быстротой, что в первый раз проделал путь от Рима до Родана (нынешняя река Рона во Франции. — Л.О.) за восемь дней ... во время этого похода он упражнялся еще и в том, чтобы, сидя на коне, диктовать письма, занимая одновременно двух или, как утверждает Оппий, еще большее число писцов. Говорят, что Цезарь первым пришел к мысли беседовать с друзьями по поводу неотложных дел посредством писем, когда величина города и исключительная занятость не позволяли встречаться лично». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XVII)
У Светония есть упоминание о том, что свой филологический трактат «Об аналогии» Цезарь продиктовал во время перехода с войском через Альпы, а политический памфлет «Против Катона» — в пору решающей и крайне тяжелой битвы при Мунде, где сама жизнь его была под угрозой, о чем читатель узнает в одной из последующих глав.
О дате рождения Юлия Цезаря давно идет ученый спор: то ли в 100-м, то ли в 102-м году до Р.Х. Отец Юлия принадлежал к старинному и знатному патрицианскому роду. Цезарь гордился этим и в своих публичных выступлениях возводил начало рода к самой Венере, имея в виду Юла, сына Энея, о котором я рассказывал в первой главе предидущего тома. Не думаю, что он всерьез верил в столь «знатное» происхождение, но понимал, что в глазах римской толпы такое утверждение придает ему дополнительный вес. Отец Цезаря в 92-м году был претором в Риме, затем наместником в Азии. Он умер, когда Юлию едва исполнилось шестнадцать лет. Его мать Аврелия тоже происходила из старинного и знатного, но плебейского рода. Она прожила долго, была женщиной образованной и очень достойной. Цезарь ее любил и глубоко уважал. Но главную роль в воспитании, да и судьбе юноши сыграла сестра отца, Юлия. Она была женой Гая Мария, выходца из батраков, вождя популяров, победителя Югурты и кимвров, семь раз избиравшегося консулом, кумира римского народа. В первом томе нашей истории Марию и его «компаньону» Цинне была посвящена отдельная глава. Напомню, что Марий умер в 86-м году Цезарю еще не было и пятнадцати лет. В этом романтическом возрасте он, вероятно, гордился славой своего дяди, пылко ненавидел его недавних обидчиков-сенаторов и не понимал маниакальной природы свирепого террора, которым был отмечен последний год жизни Мария. В 84-м году Юлий женился на Корнелии, дочери Цинны.
В том же 84-м году, благодаря протекции родственников, Цезарь, несмотря на свою молодость, был избран на малозначащую, но почетную должность жреца Юпитера. Два года спустя Рим капитулировал перед Суллой. Распоряжением диктатора Цезарь был смещен со своего поста. Кроме того, ему было велено развестись с дочерью Цинны. Но, несмотря на кровавый разгул проскрипций, у девятнадцатилетнего Юлия достало мужества отказаться выполнить это повеление. Разумеется, ему пришлось бежать из Рима и скрываться. Однажды, во время болезни он был обнаружен сулланским патрулем и едва сумел откупиться от неминуемой гибели. Потом, благодаря хлопотам матери, имевшей связи в аристократическом окружении Суллы, юный Цезарь был помилован и благоразумно отбыл в Азию, где догорали остатки войны с Митридатом. Между прочим, Светоний утверждает, что, уступив настойчивым ходатайствам о помиловании Юлия, Сулла пророчески изрек:
«Ваша победа, получайте его! но знайте: тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью для дела оптиматов, которое мы с вами отстаивали: в одном Цезаре таится много Мариев». (Светоний. Божественный Юлий, 1)
На востоке Цезарь успел принять участие в осаде Митилен, еще сохранявших верность понтийскому царю. И даже заслужить дубовый венок, которым обычно награждали за спасение товарища в бою. В Рим он возвращается в 78-м году, уже после смерти Суллы. Военные действия в Азии возобновятся еще только через четыре года. В Испании идет вялая война с Серторием — бывшим союзником покойного тестя. Там Цезарю, при всем его расположении к ратным подвигам, делать тоже нечего. Успехи на государственной службе при нынешнем, еще сулланском сенате ему явно «не светят». Остается поприще адвокатуры. Цезарь отважно вступает на него и уже в следующем году добивается заметного успеха. Ему еще только двадцать четыре года, а он уже признан вторым оратором после Цицерона. Да и сам Цицерон в своем трактате «Брут» отзывается о нем весьма лестно:
«Когда же к этой отборной чистоте латинской речи, — пишет он, — ...Цезарь присоединяет еще и ораторские украшения, то кажется, что этим он сообщает блеск хорошо нарисованной картине. А поскольку это особенное достоинство — выбор слов — соединяется у него с другими достоинствами, общими всем ораторам, я не вижу никого, кто с ним мог бы спорить о первенстве. Красноречие его блистательно и чуждо всяких хитросплетений; в его голосе, движениях, облике есть что-то величественное и благородное». (Цицерон. Брут. 75, 261)
Упомяну заодно, что не меньшим талантом отмечено и рукописное наследие Юлия Цезаря. Он оставил несколько сочинений, из которых до нас дошли только «Записки» о галльской и гражданской войнах. Не считая возможным судить о литературных достоинствах «Записок» по переводам и не рискуя отсылать читателя к латинскому оригиналу, я еще раз воспользуюсь суждением Цицерона — тем более ценным, что, как мы узнаем позже, Цицерон Цезаря не любил:
«Конечно, ими нельзя не восхищаться, — пишет Цицерон, — в них есть нагая простота и прелесть, ибо они, как одежды, лишены всяких ораторских прикрас. Его целью было снабдить тех, кто захочет написать историю, готовым материалом для обработки. Но разве что глупцы обрадуются случаю приложить к написанному им свои щипцы для завивки. Люди же здравомыслящие никогда не возьмутся за перо после него, так как незатейливая и ясная краткость — самое лучшее украшение истории». (Там же. 75, 262)
Кстати сказать, в этом же сочинении Цицерона мы находим упоминание о том, что Цезарь написал не дошедший до нас подробный трактат о правилах латинской речи и посвятил его Цицерону. Ввиду того, что взаимоотношениям Цезаря и Цицерона будет в дальнейшем уделено немалое внимание, уместно здесь привести слова Цезаря из этого трактата, адресованные Цицерону
«Некоторые ораторы неустанным старанием и опытом достигли умения блистательно выражать свои мысли — и здесь не кто иной, как ты, должен быть признан как бы первооткрывателем всех богатств красноречия, столь много послужившего во славу и величие римского народа...» (Там же. 72, 253)
Глубокое уважение Цезаря к литературе засвидетельствовано еще и тем, что, будучи уже фактически властителем Рима, он домогался дружбы не только Цицерона, принявшего в гражданской войне против него сторону Помпея, но и поэта Катулла, легко простив ему оскорбительные эпитеты в его сатирах («Ты сам развратник, и игрок, и взяточник»).
В 76-м году Цезарь на два года уезжает на Родос для того, чтобы под руководством знаменитого оратора Молона совершенствоваться в искусстве красноречия. Кроме уроков ораторского искусства, Цезарь на Родосе с увлечением погружается в изучение наследия великой культуры древней Греции (из нашего далека век Цезаря и век Сократа кажутся почти одинаково древними, а между тем их разделяли четыре столетия). Цезарь преклонялся перед бессмертными творениями греков, перед философами и героями древней Греции, но особенно сильное впечатление на него произвел облик Перикла — правителя Афин поры их наивысшего расцвета.
Возвратившись в 73-м году в Рим, Юлий Цезарь входит в круг наиболее просвещенных людей столицы. Пристрастие к высокому искусству сохранится на всю жизнь. Сообщив о том, что Цезарь с увлечением собирал резные камни, чеканные сосуды, статуи и картины древней работы, построил, а затем, недовольный постройкой, разрушил виллу в Лациуме, Светоний упрекает его в «великой страсти к изысканности и роскоши». Этот упрек опровергают не только неизменная до конца дней простота образа жизни Цезаря, но и то, что он довольствовался принадлежавшим ему скромным домом на Субуре — в отнюдь не престижном торговом районе Рима. А после избрания Великим понтификом и вовсе перебрался в полагавшееся по должности «служебное помещение» — дом в начале форума рядом с храмом Весты. Это при том, что Цезарь тратил колоссальные деньги на строительство общественных зданий и сооружений в Городе. Достаточно назвать огромную и великолепную базилику на старом форуме и весь новый форум, названный впоследствии Юлиевым.
Что же касается «убийственного» обвинения Светония, написавшего, что Цезарь-де в походах «возил с собой штучные и мозаичные полы», то это если не выдумка, то чистое недоразумение. Настилать мозаичный пол в лагерном шатре полководца?! Такая дикая мысль вряд ли кому-нибудь могла прийти в голову. Ведь даже трибуна, с которой он обращался к войску, обычно сооружалась из дерна. А вот вывозить в качестве трофея произведения искусства, в том числе и штучные полы, Цезарь вполне мог. В его время, увы, эта практика стала общепринятой.
Но вернемся в Рим 73-го года. Цезаря кооптируют вместо умершего родственника в коллегию понтификов, а Народное собрание избирает его на год военным трибуном. Все это лестно, но не очень существенно. Тем более что, хотя в Азии возобновилась война с Митридатом, командовать там будет один из ближайших сподвижников Суллы, Лициний Лукулл. Цезаря в его войске никто не ждет. В Испании Помпей добивает Сертория. Юлий в этом участвовать не намерен. Наконец, вот уже год, как идет восстание Спартака, но пока что его стараются подавить местными силами. В ранг серьезной войны эти операции перерастут только к концу следующего года. Таким образом, проку от избрания военным трибуном не видно никакого. А между тем Цезарю уже двадцать восемь лет.
О следующих четырех годах его жизни у нас нет почти никаких конкретных сведений, кроме одного, но весьма существенного. К 68-му году на нем висит огромная сумма долгов — почти восемь миллионов денариев! Для оценки величины этого долга напомню, что вся сумма контрибуции, которой после своей победы Помпей вскоре обложил царя Великой Армении, составила семь тысяч талантов, то есть всего сорок два миллиона денариев! У аристократической молодежи той поры считалось особым шиком жить в долг, проматывая в шумных пирах и у куртизанок будущие наследства солидных родителей (из этих кутил Катилина вскоре будет вербовать заговорщиков). Но восемь миллионов — это чересчур! К тому же такое буйство вовсе и не похоже на Цезаря. Куда же он мог истратить эдакую сумму? Женщина? Нет — он вроде по-прежнему предан своей Корнелии. Однако заметим: в 68-м году его избирают квестором, а еще через два года — эдилом. Это при том, что в сенатских кругах у него связей нет, а его военные заслуги в Азии, так же, как первые недолгие успехи в суде, за время отсутствия в Риме всеми забыты. К адвокатской практике Юлий, по-видимому, не вернулся — нет ни одного свидетельства об его участии в процессах.
Чему же приписать такую популярность у народа? Судя по хорошо засвидетельствованной последующей практике Цезаря, именно этим восьми миллионам он и обязан своим стремительным продвижением по двум первым ступеням государственной службы в Риме. Частично эти деньги пошли на ремонт и обустройство древней Аппиевой дороги, смотрителем которой он был назначен (а какой римлянин по многу раз в год не проезжал по этой главной римской дороге?). Но большая часть суммы потрачена на угощения и развлечения римского плебса. Популярность, конечно, не слишком благородного толка, но зато вполне действенная. Зачем Цезарь ее домогался? Разумеется, для того, чтобы в конце концов подняться на самый верх служебной лестницы — стать консулом. А что потом? Этого он, наверное, не знал еще и сам. Но хорошо знал другое: на поддержку сформированного Суллой сената ему рассчитывать не приходится. Об этом периоде жизни Цезаря у Плутарха мы читаем следующие строки:
«Цезарь ... своей вежливостью и ласковой обходительностью стяжал любовь простонародья, ибо он был более внимателен к каждому, чем можно было ожидать в его возрасте. Да и его обеды, пиры и вообще блестящий образ жизни содействовали постепенному росту его влияния в государстве. Сначала завистники Цезаря не обращали на это внимания, считая, что он будет забыт сразу же после того, как иссякнут средства. Лишь когда было поздно, когда эта сила уже так выросла, что ей трудно было что-либо противопоставить, и направилась прямо на ниспровержение существующего строя, они поняли, что нельзя считать незначительным начало ни в каком деле». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, IV)
В этом отрывке два момента заслуживают краткого комментария. Первый — вежливость, обходительность, внимание Юлия к людям из простонародья. Нет ли здесь лицемерного заискивания перед толпой? Не думаю. Скорее смесь высокой личной культуры, которая запрещает отношение к людям ставить в зависимость от их социального положения, и воспитанного с ранних лет уважения к народу. Напомню, что дядя Юлия, великий Марий, был выходцем из батраков и всю жизнь испытывал на себе высокомерие аристократов. Кроме того, точно такое дружески-отеческое внимание будет в течение пятнадцати лет, до последнего дня жизни, характеризовать отношение Цезаря к его солдатам. И, наконец, Цезарь, при всей твердости и силе своего характера, в отношениях с другими людьми, как правило, проявлял себя просто добрым человеком — в чем мы будем иметь возможность убедиться далее. И вообще: подлинное величие всегда великодушно!
Второй момент: недооценка противниками Цезаря масштабов его предприятия — в данном случае усилий по завоеванию популярности в народе. Они ожидали, и не без основания, что при таком размахе финансовые возможности Юлия будут исчерпаны очень скоро. Ведь в наказание за непослушание Сулла в свое время лишил его отцовского наследства, не говоря уже о наследстве Мария. Кто мог предположить, что, находясь в столь стесненном положении (не было даже своего имения... И не будет!), Цезарь решится сделать такие чудовищные долги? Надо иметь в виду, что тайна займов в Риме соблюдалась не менее строго, чем в современных банках. Способны ли были римские сенаторы понять непреклонную уверенность Юлия Цезаря в конечном выигрыше этой крупной игры? Подозрения зародились только у одного Цицерона. Эта недооценка дерзости и размаха замыслов Цезаря не раз в дальнейшем окажется залогом успеха его рискованных предприятий. Великий психолог, он смело будет делать ставку на такую недооценку.
В 68-м году Цезаря избирают квестором. Вскоре после этого умирает его тетка, вдова Мария. Во время ее похорон Цезарь, согласно обычаю, произносит на форуме похвальное слово об усопшей, а среди масок ее предков и родственников выставляет посмертную маску Мария. Это был открытый вызов сулланскому сенату, поскольку Марий и его сторонники были во времена диктатуры Суллы официально объявлены сенатом вне закона. По свидетельству Плутарха:
«Некоторые подняли голос против этого поступка, но народ криками и громкими рукоплесканиями показал свое одобрение Цезарю, который спустя столь долгое время как бы возвратил честь Мария из Аида в Рим». (Там же. V) Миллионы были потрачены не зря! Цезарь уже может опереться на свою популярность в народе. Вскоре умерла и Корнелия. На похоронах молодых женщин не принято было говорить надгробные речи. Но Юлий этим пренебрег и произнес на форуме прочувствованное слово прощания с любимой женой, что, по свидетельству того же Плутарха, «вызвало одобрение народа и привлекло его симпатии к Цезарю». После похорон Юлий отбыл в Испанию в качестве квестора при ее наместнике. Напомню читателю, что должность квестора, согласно закону Суллы, обеспечивала последующее возведение Цезаря в ранг сенатора.
Цезарь направляется в дальнюю, как ее называли римляне, то есть южную, Испанию. Светоний рассказывает, как, прибыв однажды по делам в город Гадес, он увидел в храме статую Александра Македонского и «вздохнул, словно почувствовал отвращение к своей бездеятельности, — ведь он не совершил еще ничего достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте уже покорил мир». (Александр Великий умер тридцати трех лет). Известный российский исследователь античной истории С. Л. Утченко (С. Л. Утченко. Юлий Цезарь. М., 1976 г.) считает рассказ Светония «позднейшим домыслом». С ним легко согласиться хотя бы потому, что трудно себе представить, чего ради и кем в далекой Испании, в храме Геркулеса мог быть поставлен памятник Александру Македонскому. Однако Плутарх, хотя и в иной версии, приписывает Цезарю те же мысли. Он их отодвигает на шесть лет позднее, до второго пребывания Юлия Цезаря в Испании — уже в качестве наместника. Статуя Александра здесь не фигурирует. Цезарь читает «на досуге» (так у Плутарха. — Л.О.) что-то о деяниях Македонского и погружается в задумчивость. Друзья спрашивают о причине. Он отвечает: «Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!»
Как объяснить такое совпадение по существу и, вместе с тем, расхождение в отношении обстоятельств? Быть может, какое-то высказывание или воспоминание самого Цезаря об этом инциденте действительно имело место, но за прошедшие с тех пор почти полтора века (Плутарх и Светоний писали в конце I и начале II века после Р.Х.) в пересказах две версии заметно разошлись? А, может быть, Плутарх тоже эти слова Цезаря «домыслил»? Тогда возникает другой вопрос: случайно ли оба историка приписали Юлию Цезарю одни и те же чувства? (Один у другого их не заимствовал — тогда бы не было отмеченного расхождения). Ответом может быть стремление обоих предложить побуждение для великих деяний Цезаря, которые начнутся как раз в это время. Разница в шесть лет здесь несущественна, тем более, если речь идет еще только о мотивах последующих действий. Такими мотивами оба историка, естественно для римлян, полагают честолюбие и жажду славы. Наверное, они правы. Цезарь — римлянин, и желание славы у него в крови. Но он не просто римлянин, а великий римлянин! Быть может, его замыслы шире, крупнее? Попробуем и мы, вслед за древними историками, «домыслить» за Цезаря. А почему бы и нет? Мы же не будем претендовать на подлинность мыслей Цезаря. Но постараемся не предаваться и беспочвенной фантазии. Критериями вероятности будет, во-первых, учет уже известных нам обстоятельств жизни Цезаря (вслед за Светонием остановимся на первой поездке в Испанию). А, во-вторых, знание всех его последующих надежно документированных поступков и высказываний. Цезарь уже не юноша. Его жизненным ориентирам и целям пора сформироваться. Здесь в Испании, «на досуге», им самое время отлиться в форму четких суждений и замыслов. Приглашаю и тебя, читатель, принять участие в этой «игре ума». Мое преимущество в том, что я знаю (насколько это доступно Истории), как сложится судьба Цезаря дальше. Ты, быть может, это подзабыл и будешь вспоминать по мере дальнейшего чтения. Поэтому первый ход за мной. Я начинаю домысливать. А ты, приняв с умеренной дозой скептицизма мои предположения, при чтении последующих глав сможешь проверить, достаточно ли было для них оснований. Итак...
По пути в Дальнюю Испанию Цезарь непременно проезжал или проплывал мимо Нового Карфагена. Он, конечно же, вспомнил, что именно здесь начиналась блистательная военная биография одного из самых великих римских полководцев — Публия Корнелия Сципиона Африканского. Когда Публий вел своих солдат через обмелевшую лагуну на штурм городской стены, ему было всего двадцать шесть лет. Горько думать, что Цезарю уже тридцать три, а за его плечами нет ничего, если не считать пустякового венка под Митиленой. Когда Сципиону было тридцать три года... Юпитер Великий и Всеблагой!.. Это же в 202-м году. Он уже разбил Ганнибала в битве при Заме! Консул римского народа, Сципион был уже увенчан бессмертной славой и удостоен величайшего триумфа. А он, Цезарь, всего лишь квестор в покорной после Помпея римской провинции... У Сципиона впереди еще победа над Антиохом... Потом этот постыдный суд... Как он ответил тем жалким трибунам! Их имена справедливо забыты. Впрочем, они были лишь орудием в руках сената, который боялся Сципиона. Великий Сципион!.. Затем он навсегда покинул Рим. Не мог подчиниться власти сената, но и не захотел властвовать сам. А ведь мог бы! Воины были преданы ему безоглядно. А народ — боготворил! Как они все пошли за ним на Капитолий, покинув жалкое судилище! С дозволения великих богов Сципион мог бы стать новым царем в Риме... Но для него Республика была неприкосновенна! Он сказал тогда: «Если я стал больше, чем тебе полезно, родина, — я ухожу». Замечательные слова! Поступил бы я так же на его месте! Не знаю. А сейчас? Ушел бы Сципион из Рима сейчас? Нет, наверное, нет! Тогда была великая Республика, великий сенат. На его скамьях в те времена сидели Тит Фламинин, Марк Катон, Эмилий Павел, потом Сципион Эмилиан и другие им подобные мужи. Затем Гракхи и, наконец, дядя Марий. Но с них начались междоусобицы. Республика стала больна, а теперь и вовсе умирает. Не Сулла ее погубил, а сенат! Его падение началось еще со времени войны с Югуртой. Сейчас не любят вспоминать те скандальные разоблачения подкупа сенаторов, бездействия и измены полководцев. Покойная тетя рассказывала ему об этом позоре. Не любят вспоминать потому, что нынешние сенаторы такие же взяточники, думают только о наживе, о выгодном наместничестве, о своих дворцах и виллах. А народные трибуны — беспомощны или продажны. Комиции в Риме после того, как государство так разрослось — бессмыслица. Большая часть сходящегося на них народа — это римская чернь, толпа, которую может увлечь на что угодно каждый ловкий демагог. Разве могут они решать судьбу великого Рима и множества народов, зависящих теперь от него? Нет! Плебс не способен, а сенат не желает спасти Республику. Она обречена! И Сципион сегодня не ушел бы. Он бы взял власть в свои сильные и честные руки. Важна ведь не оболочка республики, не учреждения — важна ее суть: верность традициям, честь и достоинство римлян, их мужество, их преданность Риму. Все это почти забыто и утрачено, но при твердом, достойном правлении может воспрянуть вновь.
Но такое правление уже не должно быть советом или собранием. В огромном государстве, в сегодняшнем опасном положении на его границах ни самый лучший сенат, ни самое превосходное Народное собрание не могут быстро принимать решения, которых требует новое время. Любое собрание, когда дело доходит до важных государственных решений, либо увязает в спорах, либо оказывается во власти страстей и общего ослепления. И нельзя голосованием решать вопросы, требующие подлинного знания дела. А ежегодная смена консулов!? Какая нелепица — каждый год заново учиться руководить государством. Ведь учиться можно только на практике, решая каждодневные проблемы. И не год, не два, а много лет. Значит, нужен один достойный правитель. Его достоинство, умение и право управлять пусть будут, хоть ежегодно, подтверждаться решением народа, которому он отчитается в своих действиях. В этом отношении закон пусть будет непреложен и строг. Но пока доверие не утрачено, менять правителя не должно! Сенат? А что сенат? Пусть советует правителю, как это было при царях. Пусть следит за сохранением традиций, пресекает пороки и злоупотребления чиновников. Пусть будет высшим судом чести, подобно афинскому ареопагу. Да, вот в Афинах — Перикл ведь был именно таким превосходным правителем! Целых пятнадцать лет до самой своей смерти. И разве личный пример правителя, который у всех на виду, не наилучшее средство воспитания граждан? Пока Перикл был жив, афиняне были достойны Перикла. Конечно, то была крошечная республика. Так что из этого? Для огромного государства единовластие еще более необходимо: важнее знания и опыт, сложнее задачи, быстрее надо их решать, энергичнее, без споров и колебаний действовать. А достоинство и весь нравственный облик правителя пусть будут примером для подражания его помощникам и наместникам во всех отдаленных уголках государства. Личное достоинство и честь должны быть отличительными чертами большинства граждан государства. Тогда честь и достоинство правителя станут обязательным условием подтверждения народом его полномочий. Или выбора нового на его место. Нет, сейчас Сципион не ушел бы! И он, Цезарь, если бы у него было такое войско и его так же обожал народ, он не ушел бы, а взял власть и возродил бы величие Рима. Он знает, что сумел бы это сделать! Да, а пока... пока он всего лишь квестор в покоренной Испании, и хотя народ в Риме к нему расположен, силы у него нет никакой — одни долги...
«Однако хватит домыслов и рассуждений, — воскликнет нетерпеливый читатель, — твоему Цезарю пора действовать!» И будет прав. Вернемся же на землю. Пока что на землю Испании. О деятельности Цезаря там за время квестуры нам ничего существенного не известно. Через год он возвращается в Рим.
Но это уже не тот Цезарь, что год назад, влекомый смутным честолюбием, добивался популярности в народе. Теперь он знает, чего хочет. Право заседать в сенате не кружит ему голову. Он понимает, что ему, племяннику Мария, не получить поддержки сената. Его путь наверх будет опираться на любовь народа! Разве не она, вопреки сенату, вознесла Мария на вершину власти в Риме? Полезно было бы заручиться поддержкой и тех, кто уже пользуется влиянием в народе, обладает реальной силой и не очень ладит с сенатом. Это, конечно же, Помпей и Красс. Как раз сейчас, в 67-м году, трибун Габиний, в пику сенату, призывает народ вручить Помпею чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами. Цезарь открыто выступает в поддержку закона Габиния. Через год он точно так же (вместе с Цицероном) поддержит назначение Гнея Помпея командующим против Митридата (кроме того, сразу после возвращения из Испании он женится на Помпее — дальней родственнице Гнея.)
Когда Помпей убывает из Рима на войну с пиратами, Цезарь старается сблизиться с Крассом. Очевидно, ему это удается. Вскоре Красс его выручит в трудную минуту. Опытный политик, Красс способен разглядеть незаурядные возможности Цезаря и хочет заручиться его поддержкой в своем соперничестве с Помпеем.
Однако главную свою ставку Цезарь делает на народ. Он выдвигает свою кандидатуру на следующую государственную должность и благодаря проявленной ранее щедрости и обходительности избирается эдилом на 65-й год. Для Цезаря это — крайне рискованное, если не сказать авантюрное предприятие. Вспомним, что, помимо забот о порядке и городском хозяйстве, в обязанности эдилов входила организация угощений и праздников для народа. Причем за свой счет — казна на это денег не давала. Успех этих празднеств определял популярность устроителя, а тем самым и его шансы на дальнейшее продвижение по государственной службе. Состязаясь со своими предшественниками, эдилы от года к году увеличивали пышность зрелищ и угощений, а, значит, и свои расходы. Одновременно росли и аппетиты плебса. Обмануть его ожидания означало погубить всю дальнейшую карьеру. Цезарь понимал, что без блестящего эдилата не быть ему претором. А денег не было. Вместо денег — восемь миллионов долгу! Пока что эта общая сумма была известна только ему. Но если она заметно вырастет, терпение кредиторов лопнет и один за другим они предъявят свои претензии — дело кончится судом. Однако другого пути нет. Надо опередить заимодавцев, успеть пройти в преторы, а затем получить в управление доходную провинцию. Это позволит расплатиться с наиболее нетерпеливыми и двинуться дальше, к консульству. Слава богам, чем выше положение, тем лучше и кредит! Тот, кто, рискуя, остановится на полпути, обязательно проиграет. Цезарь умеет рисковать. Размахом устроенных им торжественных церемоний, игр, театральных представлений и обедов он сумел поразить даже избалованный римский народ. Отмечая двадцатилетие со дня смерти своего отца, он вывел на арену цирка триста двадцать пар гладиаторов, все убранство, латы, щиты и даже оружие которых было из серебра. Такое еще не приходило в голову никому! Зато и народ, по свидетельству Плутарха, «...стал настолько расположен к нему, что каждый выискивал новые должности и почести, которыми можно было вознаградить Цезаря».
Вскоре представился серьезный случай. В 63-м году умер Верховный понтифик Метелл. В борьбу за избрание на этот почетный и влиятельный пост вступило два известных сенатора. Цезарь имел дерзость в Народном собрании выставить свою кандидатуру и был избран значительным большинством, несмотря на все заслуги его соперников. Это, естественно, повлияло на настроение кредиторов, а сенат получил серьезное предупреждение об опасности такой популярности одного из своих молодых членов. Впрочем, первое предупреждение он получил раньше. За год до того Цезарь предпринял дерзкую акцию, привлекшую к нему массу простого народа и ветеранов, сохранявших память о Марии — своем былом кумире. По свидетельству Плутарха:
«Цезарь, когда воспоминания о его щедрости в должности эдила были еще свежи, ночью принес на Капитолий и поставил сделанные втайне изображения Мария и богинь Победы, несущих трофеи. На следующее утро вид этих блестевших золотом и сделанных чрезвычайно искусно изображений, надписи на которых повествовали о победах над кимврами, вызвал у смотрящих чувство изумления перед отвагой человека, воздвигнувшего их (имя его, конечно, не осталось неизвестным). Слух об этом вскоре распространился, и римляне сбежались поглядеть на изображения. При этом одни кричали, что Цезарь замышляет тиранию, восстанавливая почести, погребенные законами и постановлениями сената, и что он испытывает народ... Марианцы же, напротив, сразу появившись во множестве, подбодряли друг друга и с рукоплесканиями заполняли Капитолий; у многих из них выступили слезы радости при виде изображения Мария и они превозносили Цезаря величайшими похвалами... По этому поводу было созвано заседание сената, и Лутаций Катул, пользовавшийся тогда наибольшим влиянием у римлян, выступил с обвинением против Цезаря, бросив известную фразу: «Итак, Цезарь покушается на государство уже не путем подкопа, но с осадными машинами». Но Цезарь так умело выступил в свою защиту, что сенат остался удовлетворенным, и сторонники Цезаря еще более осмелели и призывали его ни перед чем не отступать в своих замыслах, ибо поддержка народа обеспечит ему первенство и победу над противниками». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, VI)
Как видим, Цезарь весьма успешно осуществляет свою программу. О его далеко идущих замыслах смутно догадывался, быть может, один только Цицерон. У Светония есть упоминание о не дошедшем до нас письме Цицерона к некоему Аксию, где он замечает, что Цезарь помышлял о царской власти в ту пору, когда был еще только эдилом.
Однако следовало спешить — сумма долгов выросла до чудовищной величины в двадцать пять миллионов денариев. Сразу после избрания Верховным понтификом Цезарь выдвигает свою кандидатуру в преторы на 62-й год и успешно проходит на эту должность. Из событий политической жизни за время его претуры стоит упомянуть следующий эпизод. Читатель, я надеюсь, не забыл, что в конце 63-го года Цицероном в Риме был раскрыт и подавлен заговор Катилины. Его сподвижники были без суда казнены, но сам Катилина успел покинуть город и стал во главе армии мятежников. В самом начале 62-го года один из трибунов, Метелл Непот, выступает с предложением вызвать из Азии Помпея с войском, чтобы он покончил с Катилиной, а заодно наказал оптиматов за самовольную расправу с видными римскими гражданами. Его энергично поддерживает Цезарь. В городе начинается смута, на форуме разыгрывается настоящее сражение. На предложение Метелла Непота другие трибуны накладывают свое вето. Сенат объявляет чрезвычайное положение, приостанавливает полномочия Непота и отстраняет Цезаря от исполнения обязанностей претора. Цезарь пытается не подчиниться, ему грозят насилием, и он вынужден запереться в своем доме.
«Через день, — свидетельствует Светоний, — к его дому сама собой, никем не подстрекаемая, собралась огромная толпа и буйно предлагала свою помощь, чтобы восстановить его в должности, но он сумел ее унять...»
Другой, менее трезвый политик на месте Цезаря, быть может, решился бы использовать момент для восстания против сената. Но Юлий понимал, что без опоры на войско эта попытка, даже в случае первоначального успеха, обречена на провал. Поэтому он, угомонив толпу, извлек из данного эпизода совсем другую выгоду
«Так как этого никто не ожидал, — продолжает Светоний, — то сенат, спешно созванный по поводу этого сборища, выразил ему благодарность через лучших своих представителей; его пригласили в курию, расхвалили в самых лестных выражениях и, отменив прежний указ, полностью восстановили в должности». (Светоний. Божественный Юлий, 16) Этим благоволением сената Цезарь сумел воспользоваться для того, чтобы по окончании претуры получить назначение наместником в хорошо знакомую и расположенную к нему Испанию.
В конце того года, что Цезарь был претором, в его доме случился скандал, впрочем, не нанесший ему никакого существенного урона (скорее наоборот), но имевший иные, весьма серьезные последствия. Женщины высшего общества собирались ежегодно в доме консула или претора для того, чтобы отметить «праздник Доброй богини», как его тогда официально называли. Что это за богиня, каково ее имя, чем она помогала женщинам и в чем состоял ритуал самого празднества, держалось в тайне и осталось тайной до наших дней. Женщины во все времена обожали секреты, знатные римлянки были в этом деле удивительно солидарны — никто не разболтал! Во время празднества в доме не мог находиться ни один мужчина, мальчик, даже раб. В тот год Добрую богиню чествовали в доме Цезаря. А у его жены Помпеи то ли был роман с красивым, знатным и богатым, но легкомысленным и испорченным молодым аристократом по имени Клодий Пульхр, то ли она была лишь невинным предметом его преступных вожделений. Так или иначе, но Клодий, переодетый в женское платье, с помощью служанки Помпеи проник в дом во время таинств и был обнаружен. Светский скандал неожиданно принял политическую окраску. Римский Дон Жуан принадлежал к числу открытых противников сената и пользовался популярностью у простонародья. Он уже был избран квестором на следующий год. Сенаторы решили на его примере продемонстрировать свою власть. В начале января 61-го года сенат рассматривал это дело на специальном заседании. Было запрошено мнение коллегии понтификов, она квалифицировала происшедшее как святотатство. Консулы назначили чрезвычайный трибунал для суда над Клодием. Он собрался лишь в мае того же года. Пока все это тянулось, Цезарь с Помпеей развелся, но на суде решительно заявил, что ему по существу дела ничего не известно и претензий к Клодию у него нет! А на вопрос о причине развода ответил, что жена Цезаря должна быть недоступна даже для подозрений (в общеизвестном изречении «Жена Цезаря — выше подозрений» смысл его ответа несколько искажен).
На форуме во время суда собралась большая толпа народа, выражавшая, и весьма решительно, свое сочувствие Клодию. Часть судей даже потребовала от консула вооруженной охраны. Однако, к вящему негодованию сенатской партии, Клодий большинством голосов членов жюри (31 против 25) был оправдан. Давление ли толпы было тому причиной, или сочувствие любви, или же, как утверждали некоторые, подкуп судей — не столь важно. Упоминание о сем банальном происшествии здесь оправданно ввиду немаловажных его последствий. Во-первых, популярность Клодия выросла. Во-вторых, в лице этого беспутного кумира римского плебса Цезарь имел теперь не соперника, а благодарного и ревностного союзника. И, в-третьих, злополучный суд стал отправным моментом лютой ненависти, которую Клодий до конца своих дней питал к Цицерону. Случилось это так. За давностью происшедшего Клодий поначалу пытался уверить суд, что в день праздника его вовсе не было в Риме. Но Цицерон, который до того времени был дружен с Клодием, неожиданно опроверг это утверждение, заявив, что тем же утром Клодий заходил к нему домой. Трудно сказать, что побудило Цицерона выступить с разоблачением — принципиальность ли поборника древнеримской нравственности или какие-то личные мотивы. Но расплачиваться за это Цицерону предстояло долго и тяжело.
В связи с процессом Клодия Цезарь отбыл в Испанию лишь в середине 61-го года. Кстати, отбытие это едва вообще не сорвалось. Некоторые из кредиторов Цезаря потребовали возврата ссуды. Дело могло кончиться серьезными неприятностями. Спасла дружба Цезаря с Крассом. Самый богатый человек в Риме предоставил наиболее агрессивным заимодавцам гарантию в общей сложности на пять миллионов денариев, и тучи, скопившиеся над головой Цезаря, рассеялись.
В качестве наместника Юлий Цезарь действовал в Испании успешно и умно. Он покорил племена лузитанцев и каллаиков и таким образом расширил сферу влияния Рима на Пиренейском полуострове до берегов Атлантики. Далее, ему удалось уладить споры между испанскими кредиторами и должниками так, что это получило всеобщее одобрение. Кроме того, он добился у сената отмены некоторых податей, наложенных на местное население. Наконец, летом 60-го года Цезарь отбыл из Испании, «где, — как пишет Плутарх, — он и сам разбогател, и дал возможность обогатиться своим воинам, которые провозгласили его императором». (Плутарх. Цезарь, XII)
За словами «сам разбогател» кроется некая загадка. Каким образом разбогател? Нареканий или даже намеков на мздоимство, вымогательство или иные, обычные в провинциях, злоупотребления мы не встречаем ни у кого из древних авторов. Светоний, ссылаясь на воспоминания некоторых анонимных современников Цезаря, роняет не слишком лестное замечание: «Он, как нищий, выпрашивал у союзников деньги на уплату своих долгов». Но это — не преступление. Более того, известно, что испанцы и впоследствии относились к Цезарю дружелюбно. То ли военные трофеи, отобранные у покоренных племен, были очень значительными, то ли благодарность испанцев за хлопоты по их гражданскому устройству была столь ощутима, то ли они «спонсировали» его будущую карьеру (могло быть и такое!), но в Рим Цезарь возвращается богатым человеком.
Настолько ли богатым, чтобы сразу расплатиться со всеми долгами? Мы не знаем. Быть может, добытого богатства хватило на погашение лишь самых неотложных. Это уже неважно. Вскоре Цезаря изберут консулом, а затем он отправится воевать в Галлию. Оттуда богатство потечет к нему такой рекой, что несколько миллионов долга окажутся пустяком. Юлий Цезарь выиграл свою азартную игру!
Избрания в консулы Цезарь добился в значительной мере благодаря поддержке его кандидатуры Помпеем и Крассом. Для того, чтобы понять, почему они оба, отложив на время свое соперничество, решили выступить на форуме с рекомендацией ничем не замечательного сенатора, нам придется вернуться немного назад и посмотреть, в какой ситуации они сами оказались летом 60-го года, когда Цезарь возвратился из Испании.
Как мы уже знаем, в конце 62-го года Помпей с войском вернулся в Италию. Вот уж у кого были вполне реальные, не худшие, чем некогда у Сципиона, возможности взять безраздельную власть в Риме. После побед над пиратами и Митридатом популярность Помпея в народе приобрела прямо-таки легендарный характер, а сплотившееся в трудных кавказских походах (и отменно за них вознагражденное) войско было беззаветно предано своему полководцу. Но Помпей был далек от столь честолюбивых устремлений. Для них у него не хватает фантазии. Его мировоззрение вполне традиционно, а законопослушание, как большинству римлян, привычно с ранних лет. Он честолюбив и даже очень, но... в рамках римской республиканской традиции — ни в коем случае не за ее пределами. Сейчас он мог бы, пусть и без всякого повода, двинуть свои войска по пути Суллы — с юга Италии на Рим. Кое-кто этого весьма серьезно опасался. Красс, например, после высадки Помпея, забрав свои капиталы, уехал из Рима и увез всю свою семью.
Но эти опасения напрасны. Сразу по прибытии в порт Брундизий, что на юге Италии, Помпей созвал воинов на общую сходку, в прочувствованных словах поблагодарил за верную службу и приказал разойтись по домам до того момента, когда он призовет их в Рим для участия в триумфе. В своей речи Помпей, конечно же, обещал добиться у сената наделения их земельными участками. Он не сомневался в том, что Рим его встретит восторженно. После покорения Азии и Кавказа даже великие полководцы прошлого — не только Сулла, но и сам победитель Ганнибала — должны уступить ему первенство. А то, что он подойдет к воротам Рима не под звуки труб и не во главе могучего войска, покажет всем его скромность. Он... как бы скажет: «Я такой же римлянин, как вы». Поначалу все выглядело именно так, как ожидал Помпей:
«После того, как войско таким образом разошлось и все узнали об этом, — пишет не без почтительного изумления Плутарх, — случилось нечто совершенно неожиданное. Жители городов видели, как Помпей Магн без оружия, в сопровождении небольшой свиты, возвращается, как будто из обычного путешествия. И вот из любви к нему они толпами устремлялись навстречу и провожали его до Рима, так что он шел во главе большей силы, чем та, которую он только что распустил. Если бы он задумал совершить государственный переворот, для этого ему вовсе не нужно было бы войска». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, XLIII)
Но подобного замысла у Помпея не было, и провожающие мирно вернулись в свои города и селения. В самом же Риме победителя Митридата ждала далеко не столь восторженная встреча. Конечно, плебс на улицах и форуме приветствовал его громкими кликами. Но сенаторы приняли Помпея холодно. Сенат боялся его, как до того боялся Лукулла, а впоследствии, с куда большим основанием — Цезаря. Вообще в ту пору, предчувствуя свое падение, сенат действовал нерешительно и даже глупо, опасаясь доверить свою защиту хоть кому-нибудь из тех, за кем стояла реальная военная сила. Опасаться Помпея не было причин, тем не менее, сенат старается натравить на него Лукулла. Тому, как мы помним, уже надоели столичные интриги, но верность слову заставляет попытаться восстановить сделанные им некогда в Азии и отмененные Помпеем распоряжения. Он требует обсудить их пункт за пунктом. Лукулла немедленно поддерживают Красс и Катон. Понимая, что это привело бы к бесконечной дискуссии, Помпей требует утверждения сенатом всех своих установлений в Азии разом, одним решением. Под предлогом занятости расследованием дела Клодия сенат откладывает рассмотрение этого требования. Победителя Митридата опять водят за нос.
То же самое происходит и с ходатайством Помпея о наделении землей ветеранов азиатских войн. Свободных земель в Италии почти нет. Помпей предлагает покупать земли для ветеранов в течение ближайших пяти лет за счет доходов от завоеванных им провинций. Но лидеры «демократов» из верхушки сословия всадников имеют свои виды на эти доходы. Они торопятся откупить у государства сбор контрибуций и налогов, которыми обложены азиатские провинции, и отнюдь не склонны упускать часть, предназначенную для пополнения собственных сундуков. Положение Помпея становится все более шатким. Народные восторги недолговечны и, если их вовремя не использовать, ничего реального принести не могут. А расхождение с сенатом все усиливается.
Триумф, который Помпей получает лишь осенью 61-го года, через девять месяцев после возвращения, великолепен, длится два дня и убедительно показывает его заслуги. Только чеканной монеты, серебряных и золотых сосудов он внес в государственную казну на 120 миллионов денариев. Доходы от податей в завоеванных провинциях составят ежегодно 85 миллионов. Взято почти девятьсот крепостей и городов. В триумфальной процессии ведут главарей пиратов, сына Тиграна, альбанских и иберийских князей, царя Иудеи Аристобула, детей Митридата. За ними в окружении блестящей свиты, на изукрашенной жемчугом колеснице едет сам триумфатор. После двух триумфов за победы над Африкой и Испанией, этот — за Азию — как бы завершает впечатление о покорении Помпеем всего обитаемого мира. Народ восторженно рукоплещет. Но... отгремели триумфальные дни. Ветераны в весьма сомнительном ожидании обещанных земель покидают Рим, и Помпей вновь остается в одиночестве, мучительно ощущая, что почва уходит у него из-под ног.
В то же самое время становится затруднительным и положение Красса, примкнувшего было к сенатской обороне против Помпея. Поспешив противостоять попытке обратить доходы из Азии на покупку земель для ветеранов, всадники и публиканы согласились на слишком высокую цену откупа налогов из новообретенных провинций. Это делает сомнительной прибыльность заключенной сделки. Красс должен поставить в сенате вопрос о пересмотре условий откупа, но понимает, что шансы на успех у него ничтожны.
В таком безрезультатном противостоянии проходит еще полгода. И вот в июне 60-го года из Испании возвращается Цезарь. Он предлагает Помпею и Крассу поддержать его избрание в консулы, обещая взамен провести в жизнь решения, которых они оба, порознь и противодействуя друг другу, безуспешно добиваются от сената. Ни Помпею, ни Крассу, утверждает Цезарь, не приходится рассчитывать на уступки сенаторов. Но все, чего они добиваются, можно получить от Народного собрания. Сенат следует просто отодвинуть в сторону, и он готов это сделать, если будет облечен полномочиями консула. Цезарь знает,, что ни Красс, ни Помпей, воспитанные в аристократически-республиканских традициях, сами на это не решились бы. Но и отвергнуть его предложение они не захотят. Между тем до выборов остаются считанные дни. Цезарь готов отказаться от полагающегося ему триумфа (до него он не вправе появиться в Риме и потому не успеет выставить свою кандидатуру). Он предлагает Крассу и Помпею заключить мир и совместными усилиями обеспечить его, Цезаря, победу на выборах. Тогда и он выполнит свои обязательства перед ними. Сделка состоялась. В истории она получила название «первого триумвирата».
Цезарь был избран консулом на 59-й год. Немалую роль в этом сыграли остававшиеся в городе ветераны Помпея. Поддержали кандидатуру Цезаря и демократы, надеявшиеся обрести в его лице своего лидера (и свое войско). Вот что пишет по этому поводу Плутарх:
«Ему удалось примирить Помпея и Красса, двух людей, пользовавшихся наибольшим влиянием в Риме. Тем, что Цезарь взамен прежней вражды соединил их дружбой, он поставил могущество обоих на службу себе самому и под прикрытием этого человеколюбивого поступка произвел незаметно для всех настоящий государственный переворот». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XIII) Суть переворота в том, что Цезарь, став консулом, но в тот момент еще ни в чем особенном не отличившись, сумел, опираясь на своих уже прославленных союзников, подвигнуть Народное собрание на принятие решений «в пику» сенату и тем добился его изоляции, что отвечало далеко идущим «стратегическим» планам Юлия (мы далее убедимся, что именно с этого времени сенат навсегда утратит свою власть в Риме). Вот как, согласно Плутарху, произошел этот «тихий переворот»:
«Итак, Цезарь, поддерживаемый с двух сторон, благодаря дружбе с Помпеем и Крассом, добился успеха на выборах и с почетом был провозглашен консулом вместе с Кальпурнием Бибулом. Едва лишь он вступил в должность, как из желания угодить черни внес законопроекты, более приличествовавшие какому-нибудь дерзкому народному трибуну, нежели консулу...»
Внес, как полагалось, в сенат, но...
«...В сенате все лучшие граждане высказались против этого, и Цезарь, который давно уже искал к тому повода, поклялся громогласно, что черствость и высокомерие сенаторов вынуждают его против его воли обратиться к народу для совместных действий. С этими словами он вышел на форум. Здесь, поставив рядом с собой с одной стороны Помпея, с другой — Красса, он спросил, одобряют ли они предложенные законы. Когда они ответили утвердительно, Цезарь обратился к ним с просьбой помочь ему против тех, кто грозится противодействовать этим законопроектам с мечом в руке. Оба обещали ему свою поддержку, а Помпей прибавил, что против поднявших мечи он выйдет не только с мечом, но и со щитом. Эти слова огорчили аристократов, которые сочли это выступление сумасбродной, ребяческой речью, не приличествующей достоинству самого Помпея и роняющей уважение к сенату, зато народу они очень понравились». (Там же. XIV)
В первую очередь был внесен аграрный закон. Он предписывал комиссии из двадцати человек (ее потом возглавят Красс и Помпей) наделить участками земли ветеранов, а заодно — для обеспечения популярности закона — еще и двадцать тысяч отцов, имеющих троих детей. Землю для этой цели можно было покупать за счет доходов в Азии, но по цене, объявленной ее владельцами при цензовой переписи. Однако большую часть наделов Цезарь предложил нарезать из обширного Кампанского поля (близ Капуи), объявленного еще в старину неприкосновенной собственностью государства. Фактически эту землю незаконно поделили между собою аристократы из сенатского окружения.
Сенат пытался сопротивляться. Собраться официально сенаторы не могли, так как на это требовалось согласие обоих консулов. Цезарь же, идя ва-банк, в течение всего срока своего правления созывать сенат отказывался. Лидеры сената собирались в доме Бибула, который по их совету пробовал помешать созыву Народного собрания, объявив на форуме, что небесные знамения указывают неблагоприятность всех дней текущего года для собраний. Цезарь, естественно, с этим не посчитался и комиции созвал. Явившегося было с тем же запретом на форум Бибула ветераны Помпея попросту прогнали, переломав фаски у его ликторов (Плутарх утверждает, что ему еще и высыпали на голову корзину с навозом. Но откуда бы оказаться этой корзине на форуме среди народа?). С тех пор и до конца консульского срока Бибул отсиживался дома. Аграрный закон был принят, а вслед за ним и еще два закона, обещанные Цезарем своим партнерам по триумвирату: об утверждении всех распоряжений Помпея на Востоке и о снижении на одну треть суммы откупов налогов с Азии. По поводу этого последнего закона Аппиан пишет:
«Так называемые всадники по своему положению занимали среднее место между сенатом и народом. Они пользовались большой силой и влиянием благодаря своему богатству и откупу налогов и податей, уплачиваемых провинциями, и владели массой надежнейших в этом отношении рабов. Эти всадники давно уже просили сенат о снятии с них части откупной суммы. Сенат медлил, а Цезарь, который тогда не нуждался в сенате, но имел дело только с народом, простил им треть откупной суммы. Всадники, получив эту неожиданную милость — даже больше того, что они просили, — начали боготворить Цезаря. Таким образом у него, благодаря ловкому политическому ходу, прибавилась новая группа сторонников, более сильная, чем народ». (Аппиан. Гражданские войны. II, 13)
Так же откровенно против сената был направлен проведенный Цезарем позднее тщательно разработанный (101 пункт!) закон о вымогательствах, где была точно определена и ограничена власть наместников, а также записаны строгие наказания за взяточничество и другие злоупотребления в провинциях.
Цицерон был глубоко возмущен самоуправством триумвиров. В апреле 59-го года он пишет своему ближайшему другу Аттику:
«...если власть сената была ненавистна, то что, по-твоему, будет теперь, когда она передана не народу, а троим людям, не знающим меры? Ведь они, пожалуй, будут делать, кого захотят, консулами и народными трибунами...» (Письма Марка Туллия Цицерона, т. 1, № 36) В другом письме тому же адресату (месяцем позже) уже не возмущение, а апатия:
«Бессмертные боги! Меня утешает не столько добрая надежда, как раньше, сколько безразличие, которого я ни к чему не испытываю в такой степени, как к этим общественным и государственным делам...» (Цицерон. Письма... т. 1, № 44)
Между тем, Цезарь вел с сенатом бескомпромиссную войну. Он заставил всех сенаторов поклясться в соблюдении принятых законов. Некоторые отказывались поначалу, но Цезарь провел в Народном собрании решение о том, что каждый, кто не даст клятву, подлежит смерти. Почтенные сенаторы поняли, что угроза нешуточная, и, затаив ненависть, покорились. Кстати, Цезарь был первым, кто оценил силу «средств массовой информации». Он учредил Acta populi («правительственный вестник») — первую газету, где регулярно публиковались изложения всех прений в сенате и Народном собрании.
Наконец, все обязательства Цезаря по отношению к коллегам по триумвирату были выполнены. Наступил его черед с их помощью получить под свое командование войско. Желательно в таком районе, где боевые действия, а следовательно, и сплочение войска вокруг полководца, были бы вероятны. Случай представился. Умер наместник Цизальпинской Галлии (по эту сторону Альп) и Иллирии (югославское побережье Адриатики). Народное собрание по предложению одного из трибунов-цезарианцев назначило эти провинции в управление Юлию Цезарю сроком сразу на пять лет и с правом набора трех легионов. (Решение было принято 1 марта 59-го года и вступило в силу немедленно. Это означало, что до конца того же года Цезарь лишь номинально числился наместником Галлии, а срок его наместничества должен был окончиться 1 марта 54-го года. Такое уточнение необходимо для понимания некоторых последующих обстоятельств и событий). Право набора означало содержание этих легионов за счет казны. С кислой миной сенаторы вынуждены были согласиться — повторять унижение, связанное с принесением клятвы, не хотелось. То ли по настоянию Красса и Помпея, то ли в надежде на то, что Цезарь в прямом и переносном смысле свернет там себе шею, но сенат неожиданно назначил Цезарю в управление еще и Нарбонскую Галлию — то есть весь юг нынешней Франции, где в то время было очень неспокойно. С правом набора еще одного легиона. Лучшего подарка сенаторы сделать Цезарю не могли!
Прежде чем покинуть Рим, Юлий принял меры, обеспечивающие его интересы в столице во время долгого отсутствия. Во-первых, он женил Помпея на своей дочери Юлии. Во-вторых, сам женился на Кальпурнии — дочери Луция Кальпурния Пизона, которого провел в консулы на 58-й год вместе с Авлом Габинием, адъютантом Помпея. Как ни странно, но оба «брака по расчету» оказались удачными. Сорокасемилетний Гней Помпей горячо полюбил Юлию, которая была вдвое его моложе. Но и она вплоть до своей ранней кончины отвечала ему взаимностью. Брак Цезаря с Кальпурнией тоже прервала лишь смерть — на этот раз смерть мужа. Судя по отзывам современников, Кальпурния оказалась верным другом Цезаря. Свою связь с Крассом Цезарь закрепил тем, что пригласил с собой его сына в качестве легата — командующего легионом. Забегая вперед, могу сказать, что молодой Красс оказался превосходным полководцем. Четвертая вперед оплаченная «страховка» Юлия Цезаря была связана с именем Клодия — героя известного нам скандала в его доме. В качестве верховного понтифика Цезарь оформил переход Клодия путем усыновления в плебеи (такая процедура нам уже встречалась). Затем, уже в качестве консула, он добился избрания Клодия трибуном на 58-й год.
Читатель, я надеюсь, не забыл, что Клодий ненавидел Цицерона — одного из самых серьезных противников Цезаря в сенате. Став трибуном, Клодий сколачивает из бывших гладиаторов и прочего отпетого люда шайку головорезов, которые, разумеется, именуют себя защитниками народа. Тучи над головой Цицерона сгущаются. Апатию сменяет страх. Есть все основания бояться физической расправы — на улицах Рима уже нередки убийства. Цицерон бросается было за защитой к Помпею, которого он в свое время так решительно поддержал при назначении полководцем в Азию. Но Помпей, связанный союзом с Цезарем, уклоняется от встречи. Искал Цицерон покровительства и у самого Цезаря. Тот предложил ему ехать с ним легатом в Галлию. Цицерон отказался. Он понимал, что командовать легионом Цезарь ему не поручит — да Цицерон и не взялся бы, — а будет просто держать под присмотром (через три года, когда в Рим с Сицилии возвратится родной брат Цицерона, Квинт, Цезарь пригласит его в качестве легата и доверит легион, о чем жалеть ему не придется).
Друзья советовали Марку Цицерону бежать из Рима. Ранней весной 58-го года он последовал их совету. Клодий немедленно провел в Народном собрании официальное постановление о его изгнании (на основании того, что Цицерон казнил катилинариев без суда), приказал конфисковать все имущество, разрушить дом в Риме и сжечь виллы, принадлежавшие Цицерону. Изгнанник поселяется в Греции. Вскоре и второй решительный оппонент Цезаря, Марк Катон, тем же Клодием будет удален из Рима — послан с дипломатической миссией на Кипр. Обеспечив таким образом тылы и закончив набор солдат, Цезарь в апреле 58-го года отбывает в Галлию.
Галльская война
Вряд ли он предполагал, что покидает Рим на целых девять лет. Ведь ему уже сорок три! Война в Галлии должна лишь сыграть роль подготовительного этапа к осуществлению планов великих преобразований римского государства. Но, в отличие от Помпея, Цезаря Фортуна не баловала. Каждый успех на пути к намеченной цели приходилось вырывать, проявляя необыкновенное терпение и упорство, мобилизуя все силы, всю волю.
Я не буду подробно рассказывать о многочисленных сражениях и походах, которыми были заполнены эти долгие девять лет. Вместо этого я постараюсь в описании некоторых военных эпизодов представить наиболее яркие черты облика Цезаря-полководца, а также проследить, каким образом он продвигался к цели, ради которой затеял столь грандиозную войну. Для того, чтобы эти эпизоды не повисли в воздухе, мне придется в самых общих чертах описать ситуацию в еще почти неведомой римлянам дикой Галлии (ныне это территория Франции, Бельгии, части Голландии и левобережья Рейна в Германии).
Написав «почти» неведомой Галлии, я имел в виду, что отважные римские купцы проникали в эти края вдоль течения рек задолго до Цезаря. К тому же юг нынешней Франции был уже давно завоеван и «освоен» римлянами. Ведь пеший переход из Испании в Италию впервые совершил еще Ганнибал. Потом этот маршрут не раз в обоих направлениях отмеряли шагами римские легионеры. На побережье Средиземного моря, как уже упоминалось, с незапамятных времен существовала греческая колония Массилия (Марсель), а позднее, близ границы с Испанией, был основан город Нарбон, по имени которого вся эта прибрежная полоса именовалась Нарбонской Галлией. Она имела статус римской провинции. Говоря о Галлии, римляне нередко называли ее просто «Провинция», откуда и пошло современное французское название этой области — Прованс. В иных местах прибрежная полоса сужалась до нескольких десятков километров, в предгорьях Пиренеев Провинция доходила до района нынешней Тулузы, а вверх по течению Роны, в долине между отрогами Альп и хребтом Севенны, поднималась до самого Лиона (в ту пору — город Лугдун). В этой долине проживало, в частности, и племя аллоброгов, упоминавшееся в связи с заговором Катилины. Из множества галльских племен, населявших остальную, огромную территорию Галлии, назову лишь несколько наиболее значительных. Западнее хребта Севенны располагались арверны. К северу от них, в бассейне Луары — эдуи. В среднем течении Сены — парисии. По их имени теперь названа столица Франции. Еще дальше на север обширную территорию занимали племена воинственных белгов. На юго-западе, вдоль атлантического побережья страны, жили венеты и битуриги. Если же двигаться вдоль восточных окраин страны, то севернее аллоброгов, вдоль Соны (притока Роны) размещалось племя секванов. Еще к востоку от них, на территории нынешней Швейцарии, жили гельветы. А севернее секванов, в левобережье среднего течения Рейна — треверы. Римляне называли все эти обширные и неведомые им края «Косматая Галлия», так как свою одежду галлы шили главным образом из шкур.
Первые сведения о нравах и обычаях этих «варваров» римляне почерпнули из «Записок» Юлия Цезаря, о которых еще будет рассказано подробнее. Вот некоторые штрихи из его описания:
«Во всей Галлии существует вообще только два класса людей, которые пользуются известным значением и почетом, ибо простой народ там держат на положении рабов: сам по себе он ни на что не решается и не допускается ни на какое собрание. Большинство, страдая от налогов и обид со стороны сильных, добровольно отдается в рабство знатным, которые имеют над ними все права господ над рабами. Но вышеупомянутые два класса — это друиды и всадники». (Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне; 6, 13) Далее Цезарь подробно рассказывает о тех и других. Друиды возглавляют жертвоприношения, вершат суд по делам общественным и частным.
Могут отлучить от жертвоприношения, а следовательно, и от покровительства богов как одного человека, так и целый народ. В жертву приносят не только животных, но и людей — преступников и пленных. Друиды назначают награды и наказания, к ним относятся с суеверным почетом. Они выбирают главного друида и время от времени собираются в священном месте на общегалльский совет. Непосредственного участия в военных действиях не принимают, хотя и влияют на них своими пророчествами. Только друиды владеют письменностью (алфавит — греческий). В специальных школах они готовят свою смену, рассказывая ученикам «о светилах и их движении, о величии мира и земли, о природе и о могуществе и власти бессмертных богов» (Цезарь. Там же). Согласно учению друидов душа человека бессмертна и только переселяется из одного тела в другое.
Мужья у галлов имеют право жизни и смерти как над детьми, так и над женами. Похороны знатных людей происходят очень пышно. В огонь отправляется все, что покойнику было любо при жизни, включая животных. По свидетельству Цезаря: «...еще незадолго до нашего времени по соблюдении всех похоронных обрядов сжигались вместе с покойником его рабы и клиенты, если он их действительно любил». (Там же, 19) Всадники выступают на войну вместе со своими многочисленными слугами и, как их называет Цезарь, клиентами. Тем временем поля знатных всадников обрабатывают зависимые от них крестьяне и рабы. Из числа наиболее богатых, могущественных и отважных всадников каждое племя выбирало себе вождя или царя. Существовали у галлов и советы старейшин, и сходки воинов, которые Цезарь именует народными собраниями. Любопытно процитировать еще одно наблюдение Цезаря:
«В общинах наиболее благоустроенных существует строгий закон, чтобы всякий, кто узнает от соседей — будет ли это просто болтовня или определенная молва — нечто, касающееся общественных интересов общин, доносил властям и не сообщал никому другому, так как опыт показал, что ложные слухи часто путают людей безрассудных и неопытных, толкают их на необдуманные действия... Власти, что найдут нужным скрыть, скрывают, а то, что найдут полезным, объявляют народу, но вообще о государственных делах позволяется говорить только в народном собрании». (Там же. 6, 20) (Таким образом, доносительство и политическая цензура в Европе имеют весьма давнюю историю!)
Общая численность всех племен Галлии в ту пору составляла примерно двадцать миллионов человек. Сельское хозяйство, как хлебопашество, так и скотоводство, было высоко развито. Ремесленное производство, особенно изготовление оружия, ювелирных и стеклянных изделий, находилось, пожалуй, на более высоком уровне, чем в Италии. Галлы умели возводить надежные крепостные стены и строить корабли — в том числе и для морского плавания. Существовала и интенсивная торговля — внутренняя и внешняя. Последняя — главным образом меновая, через иноземных купцов.
Поскольку Цезарю придется воевать не только с галлами, но и с германцами, скажем несколько слов и о них. Германцами Цезарь называет племена, жившие за Рейном — к северу и востоку от Галлии. По его свидетельству, эти народы в то время были заметно менее цивилизованными, чем галлы. В мирное время они занимались охотой и скотоводством. Главная их пища — мясо, сыр и молоко. Одевались в шкуры. Земледелие было развито слабо, земля даже не находилась в постоянном владении (современные исследователи это утверждение оспаривают). Старейшины племени наделяли земельными участками роды в соответствии с их численностью и время от времени заставляли переходить на другое место. Цезарь дает следующую, не лишенную одобрения, оценку этому странному обычаю:
«...чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интереса к войне на занятия земледелием, чтобы они не стремились к приобретению обширных имений и люди сильные не выгоняли бы слабых из их владений. Чтобы люди не слишком основательно строились из боязни холодов и жары. Чтобы не нарождалась у них жадность к деньгам, благодаря которой возникают партии и раздоры». (Там же. 6, 22)
Германцы были более сильными и свирепыми воинами, чем галлы. Война у них считалась главным занятием мужчины. В военное время племя избирало вождя с правом жизни и смерти над всеми своими членами. Воином становился каждый, способный управляться с конем и мечом. Нередко они выступали в поход всем племенем, с огромными обозами, как за полстолетия до того знакомые нам кимвры и тевтоны. Смысл таких переселений состоял в захвате новых земель, поскольку культурного землепользования германцы не знали и земля их быстро истощалась. Обширные и таинственные зарейнские края были почти сплошь покрыты густыми лесами.
Девственно-дикие лесные массивы покрывали в те времена и немалую часть Галлии. Население теснилось главным образом в бассейнах крупных рек и вдоль океанского побережья. Реки служили основными путями сообщения и торговли. Сеть лесных дорог была редка и римлянам поначалу неизвестна. Непонятны были и разнообразные (хотя и родственные) наречия многочисленных кельтских племен, населявших «Косматую Галлию». Я предлагаю читателю вообразить себя на месте римских легионеров и их полководца, углубившихся на несколько сотен километров в эти неведомые и враждебные края. Среди нескончаемых, густых и диких лесов, в чаще которых скрываются свирепые, незримые враги. Когда приходится следовать за силой захваченными проводниками, ночью и днем ожидая внезапного нападения, окружения или засады. Неуютно, не правда ли?
Теперь уместно поставить кардинальный вопрос: нужна ли была Риму Галльская война? В тот момент, когда Цезарь получал назначение в Галлию, там было все спокойно. Поэтому, в частности, он мог себе позволить задержаться с отбытием из Рима на четыре месяца. Только когда появились неожиданные известия о том, что гельветы, предав огню свои города и села, всем племенем снялись с альпийских плоскогорий и направляются через всю Галлию к устью нынешней Гаронны, чтобы поселиться на побережье Атлантического океана. Что их толкнуло на это? То ли слухи, что в тех краях есть пустующие земли, то ли истолкование божественных знамений, то ли иные причины, остается неизвестным до сих пор. Наиболее удобный путь лежал через Провинцию, и гельветы просили у римлян разрешения им воспользоваться. Речь шла о передвижении более чем 300-тысячной массы людей, большая часть которой была при оружии. Быть может, в таком движении и не содержалось ничего опасного для господства римлян в южной Галлии, если, конечно, можно верить объявленным намерениям варваров! Но уже тем более ничем не угрожало решение гельветов (после того, как Цезарь отказал им в просьбе) двинуться на запад через земли своих непосредственных соседей секванов. Но опасен был прецедент! Римляне не забыли те страшные времена, когда из-за Рейна сначала в Косматую Галлию, затем в Провинцию и, наконец, в Италию хлынули полчища кимвров и тевтонов. Вот и сейчас до Рима доходили неясные сведения о том, что зарейнские германские племена неспокойны и могут опять появиться в Галлии. Даже если новое вторжение германцев не угрожало непосредственно Риму, оно бы нарушило весь баланс сил в самой Галлии. Теснимые с северо-востока галлы могли бы явиться в Италию, и кто знает, не докатились бы их орды вновь до римского Капитолия, как в те полулегендарные времена. С этой точки зрения пресечение движения гельветов и демонстрация защищенности северо-восточной границы Галлии по Рейну были, пожалуй, стратегически оправданны.
Но целесообразность затраты чрезвычайных усилий (и связанного с ними риска) для завоевания всей территории Косматой Галлии была явно сомнительной. Этот обширный и мало освоенный край был сравнительно беден и сулил куда меньше доходов Риму, чем, например, расширение его владений в Азии или завоевание Египта. Да и не только покорение, но и последующее сохранение покорности этих диких племен потребовало бы от римлян немалых усилий и постоянных расходов на содержание многочисленного войска. Между тем, Цезарь намеревался именно покорить всю Галлию. Это стало выясняться уже на второй год войны, когда, остановив гельветов, а затем отбросив за Рейн переправившихся оттуда германцев, он двинулся войной на запад в сторону белгов. Затем он направил свои легионы вдоль атлантического побережья к югу а потом в течение еще четырех лет вел непрерывные войны по всей Галлии, пока не покорил ее полностью. Зачем? Согласуются ли такие действия с предположенными выше планами государственных преобразований в Риме? Согласуются — и преотлично! Расширяя масштабы Галльской войны. Цезарь непрерывно увеличивал численность своего войска (на содержание новых легионов расходовались трофеи самой войны). Начав с четырех, он к концу войны имел уже двенадцать легионов. Притом каких! Опытных, закаленных в непрерывных боях и походах, сплоченных и безгранично ему преданных. Возвращаясь с такой силой в Италию, он становился хозяином положения. Кроме того, победы над полчищами некогда грозных галлов и свирепых германцев восхищали римлян, льстили их самолюбию и на недосягаемую высоту поднимали популярность Цезаря в народе. И, наконец, эти победы приносили несметные богатства. А уж он-то хорошо знал, как использовать деньги и для поддержания все той же популярности у плебса, и для вербовки сторонников среди разоряющихся римских аристократов.
Но вот вопрос: имел ли Цезарь в виду и более далекую историческую перспективу? Предвидел ли романизацию Галлии? Не просто подчинение, а постепенное включение ее в состав римского государства, как это произошло в течение последующих двух веков? Оценивал ли последствия такого включения для самого Рима? Не узнать: Цезарь погиб слишком рано.
Теперь об основном источнике предлагаемого описания военных действий. Галльскую войну, разумеется, не могли обойти в биографиях Цезаря ни Плутарх, ни Светоний, ни все последующие авторы. Но первоисточник у всех один — «Записки о Галльской войне» самого Юлия Цезаря. Эти «Записки», литературным стилем которых, как я упоминал, восхищался сам Цицерон, по мнению одних исследователей, были опубликованы сразу — зимой 52/51 годов, по мнению других, выходили по одной книге в конце каждого года войны. Цель их очевидна: оправдать действия Цезаря в Галлии — не всегда безупречные с точки зрения как «высокой морали», так и интересов римского государства. Достоверность изложенного в «Записках» сопоставить не с чем. Со стороны галлов никаких документов не сохранилось. Офицеры Цезаря позднейших воспоминаний об этой войне не оставили. А их текущие записи, если и велись, могли послужить материалом для книги Цезаря. Считается, что последняя, восьмая книга «Записок» принадлежит перу его адъютанта Гирция, но, конечно же, была Цезарем отредактирована. Вместе с тем, именно потому, что «Записки» выходили «по горячим следам», когда их могли прочесть сами участники событий, а сенаторы — сопоставить с текущими донесениями, мы можем вполне доверять фактической стороне их содержания. Что же касается оценок и трактовок описываемых событий, равно как указаний на побуждения их участников, то они, разумеется, субъективны. Но это нас как раз и устраивает, ибо мы интересуемся в первую очередь взглядами и мыслями самого Цезаря. Впрочем, так же, как и мотивами для их сокрытия или умышленного искажения, если у нас будут основания таковые заподозрить.
Итак, в пересказе эпизодов Галльской войны я буду следовать описаниям Цезаря, а некоторые наиболее интересные их фрагменты — цитировать. Между прочим, «Записки» Цезаря были, по-видимому, популярны в среде просвещенных людей России в прошлом веке. Не случайно в самом начале «Войны и мира», когда Толстой еще только знакомит нас со своими героями, Пьер Безухов, ожидая Андрея Болконского, читает с середины, как хорошо знакомую книгу, «Записки» Цезаря, взяв их с книжной полки в кабинете князя.
Я не собираюсь излагать последовательно весь ход военных действий. И даже позволю себе иногда группировать эпизоды, относящиеся к различным периодам, — для того, чтобы выделить какую-нибудь одну характерную особенность личности Цезаря. Но именно ввиду такой вольности, чтобы вовсе не потерять ориентировку во времени и пространстве, имеет смысл очень кратко обозначить четыре этапа, на которые, как мне кажется, можно разбить весь ход этой войны:
1 этап (58 и 57 годы). Летом 58-го года Цезарь остановил и вернул к месту их прежнего проживания гельветов. Осенью того же года в бассейне верхнего течения Рейна он наголову разбил и отбросил за реку германцев под командованием вождя Ариовиста. В летнюю кампанию 57-го года в нескольких сражениях были разгромлены белги, ничего не замышлявшие против Рима, кроме... готовности отстаивать свою свободу. Многочисленное племя эдуев, занимавшее центральную часть страны, считалось дружественным Риму, а народы, жившие на берегу океана в тот момент, соглашались без борьбы признать владычество римлян. Таким образом, к концу этого этапа казалось, что вся Косматая Галлия покорена и война заканчивается. По этому поводу даже были назначены пятнадцатидневные благодарственные молебствия. Но это был далеко не конец! Однако заметим, что к исходу второго года войны у Цезаря уже восемь легионов. В дополнение к четырем, разрешенным сенатом, он набрал (главным образом в Цизальпинской Галлии) еще четыре.
2 этап (56, 55 и 54 годы). Он начинается уже настоящим покорением Риму Аквитании — обширной области, прилегающей к атлантическому побережью от Бретани до Пиренеев. Первоначальная покорность ее народов оказалась ложной — образовав союз, они в течение почти всего 56-го года сопротивлялись агрессии Цезаря. Я вынужден употребить здесь сей нелестный термин, ибо уж от жителей тех мест Риму никакой угрозы проистекать точно не могло. Да и Светоний как раз об этом моменте Галльской эпопеи пишет так:
«С этих пор он не упускал ни одного случая для войны, даже несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие, так что сенат однажды даже постановил направить комиссию для расследования положения в Галлии, а некоторые прямо предлагали выдать его неприятелю. Но когда его дела пошли успешно, в его честь назначались благодарственные молебствия...» (Светоний. Божественный Юлий, 24)
Однако я отвлекся от краткого перечня событий 2-го этапа войны. В 55-м году около четырехсот тысяч германцев вновь перешли Рейн в нижнем его течении. Быстро подойдя с войском к району переправы и обманув бдительность своих противников, Цезарь нанес им сокрушительное поражение. Для острастки и демонстрации могущества римлян по приказу Цезаря за десять дней был построен настоящий деревянный мост на сваях через широкий и полноводный в этом месте Рейн. Легионеры перешли на правый берег и в течение восемнадцати дней совершали устрашающий рейд по зарейнским лесам. Германцы прятались и сопротивления не оказывали. Возвратившись, римляне мост разрушили.
В том же году осенью и в следующем, 54-м году Цезарь с войском переплывал Ла-Манш и вторгался в Британию. С военной точки зрения нужды в этом не было никакой. Ходили слухи о несметных богатствах острова — железе, серебре и золоте. Но скорее всего решающим мотивом для этих рискованных предприятий явилось стремление к громкому эффекту, каковой должны были произвести (и произвели) в Риме экспедиции на загадочные северные острова. Хотя вполне успешными их назвать было нельзя: ни территориальных приобретений, ни огромной добычи. Лишь довольно скромное соглашение об уплате британцами некоторой дани Риму.
3 этап (54 и 53 годы) — «Великое Галльское восстание». Зимой 54-го года, ввиду неурожая, Цезарь вынужден был рассредоточить свои легионы по разным общинам. Этим воспользовались галлы, восставшие под руководством вождя Амбиорикса. Римлянам пришлось обороняться. Из одного зимнего лагеря их удалось выманить. В результате галлы окружили и уничтожили полтора легиона. Другой лагерь, которым командовал Квинт Цицерон, подвергся жестокой осаде, но Цезарю с двумя легионами удалось вовремя прийти на помощь (в ту зиму он оставался в дальней Галлии). Третья атака была направлена на лагерь ближайшего соратника Цезаря, Лабиена, но ее тоже удалось отбить. Цезарь больше не обманывал себя иллюзией, что сопротивление галлов сломлено. Он набирает на свой счет еще три легиона, а один заимообразно просит у Помпея. Весь 53-й год он совершает упреждающие рейды в неспокойные районы страны и, преследуя Амбиорикса, второй раз переходит по вновь наведенному мосту Рейн.
4 этап (52 и 51 годы). Кампания 52-го года оказалась для Цезаря самой трудной, но зато решающей. На этот раз главную силу восставших составляет могущественное племя арвернов, чьи земли непосредственно примыкали к Провинции. Во главе восстания встает очень энергичный и талантливый молодой вождь по имени Верцингеторикс. Ему удается вовлечь в восстание еще двенадцать соседних общин, его избирают общегалльским царем. В течение всего года в центральной части Галлии идет напряженная, почти на равных, борьба между Цезарем и Верцингеториксом. Маневрирование армий, сражения в открытом поле и под стенами крепостей образуют сложный тактический рисунок этой борьбы. Успехи и неудачи сторон чередуются. Цезарю после долгой осады удается приступом овладеть большим и хорошо укрепленным городом Аварик (ныне Бурж). Зато осада и штурм крепости Герговия в стране арвернов заканчивается неудачей, и римлянам приходится отступить. Заключительный, наиболее драматический эпизод главного течения Галльской войны связан с осадой города Алезия (в верховьях Сены), где находился и сам Верцингеторикс. Огромная армия галльских ополченцев явилась на выручку Алезии. Легионерам Цезаря пришлось сражаться на два фронта. Они сумели выстоять и победили. Алезия пала, вождь галлов был пленен, их сопротивление после этого необратимо пошло на убыль.
Зиму 52/51 годов Цезарь остается в Галлии. Он занят тем, что быстрыми рейдами гасит догорающие очаги галльского пожара. Впрочем, это уже не пламя, а угли, которыми пренебречь нельзя, но загасить удается сравнительно легко. Война заканчивается.
Суд, умиротворение, а также и назначение дани Риму для многочисленных галльских общин, которые объезжает теперь Цезарь, занимают весь 51-й и первую половину следующего года. Во второй половине 50-го года Цезарь возвращается в северную Италию. В своих «Записках» он не подводит бухгалтерского итога восьмилетней военной страде. Но если верить Плутарху, он за это время...
«...взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста народностей, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XV)
Что до размеров всей военной добычи — то есть, кроме пленных, еще и драгоценной утвари и золота, то эти размеры даже не поддаются оценке. Достаточно сказать, что после галльской войны цена золота в Италии снизилась на четверть своей величины.
Но нас сейчас интересуют не сами военные действия и даже не внушительные трофеи Цезаря (хотя они еще сыграют свою роль), а его личность. За всеми этими цифрами и новыми для нас названиями племен и городов личность Цезаря как-то утратила свои реальные черты. Поэтому, покончив с перечнем основных событий и этапов войны, я, как обещал, обращаюсь к «Запискам» Цезаря, чтобы пересказать или процитировать наиболее интересные фрагменты.
В рассказе о военных кампаниях великого полководца, тем более в его собственном рассказе, читатель вправе ожидать описания каких-то особенных манипуляций войсками на поле боя, оригинальных тактических ходов, обманных маневров и военных хитростей. Ничего этого мы не находим в «Записках», если не считать поразительной скорости построения мостов через полноводный Рейн, но это уже из области строительного искусства римлян. Главным тактическим оружием Цезаря в этой войне были внезапность и быстрота переброски войск. Вот характерный пример. Получив известие о восстании Верцингеторикса и о том, что он направляет часть своих сил к границам Провинции, Цезарь в феврале 52-го года, неожиданно даже для своих, является из Северной Италии в Нарбон. Организует оборону города и немедленно с крупным отрядом совершает дерзкий рейд из низовьев Роны, где жило давно покорное Риму племя гельвиев, через Севеннский (Кевеннский) хребет в центр восстания — страну арвернов.
«...этот поход, — пишет Цезарь, — был затруднен тем, что Кевеннский хребет, отделяющий арвернов от гельвиев, в это суровое время года был покрыт очень глубоким снегом. Однако напряженной работой солдат снеговые массы в шесть футов высоты были очищены и, таким образом, были открыты пути, по которым Цезарь и дошел до страны арвернов. Эти последние были застигнуты врасплох, так как за Кевеннами они чувствовали себя как за каменной стеной — в это время года в горах даже отдельные пешеходы не имели понятия о каких-либо тропинках». (Цезарь. Записки о Галльской войне. 7, 8) Кстати, как видно из этой цитаты, рассказ о своих действиях Цезарь ведет от третьего лица.
Второй отличительной чертой Юлия Цезаря-полководца в этой (и последующих) войнах было стремление являть собой личный пример для солдат — делить с ними в полной мере все трудности и опасности войны. Я уже приводил свидетельство Светония о том, что в дальних походах Цезарь обычно шел пешком во главе колонны своих войск. Зимой 51-го года, в конце войны, как нам известно, перед Цезарем стояла задача оперативно гасить разбросанные по всей стране, догоравшие и вдруг вспыхивавшие угли только что подавленного восстания. Быстрота реакции играла здесь решающую роль. Дальние походы в зимних условиях очень трудны; сберегая силы солдат, Цезарь в этих экспедициях чередует легионы, но сам выступает с каждым из них.
В критических ситуациях ему не раз приходится прибегать к последнему средству — личному участию полководца в рукопашном бою. Вот фрагмент из описания решительной схватки с белгами (57-й год):
«...положение было очень опасно и не было под руками никакого подкрепления. Тогда Цезарь выхватил щит у одного из солдат задних рядов (так как сам пришел туда без щита) и прошел в первые ряды. Там он лично поздоровался с каждым центурионом и, ободрив солдат, приказал им идти в атаку, а манипулы раздвинуть, чтобы легче можно было действовать мечами. Его появление внушило солдатам надежду и вернуло мужество, и так как на глазах у полководца каждому хотелось, даже в крайней опасности, как можно доблестнее исполнить свой долг, то напор врагов был несколько задержан». (Там же. 2, 25)
Другой эпизод с личным участием Цезаря в бою относится к концу войны — критическому моменту битвы за Алезию, когда лагерь римлян был атакован полчищами галлов, пришедших на выручку осажденным (52-й год). Все резервы уже были введены в сражение, но напор галлов не ослабевал. Здесь тоже пример Цезаря воодушевил воинов и решил в пользу римлян исход рукопашной схватки, а с ней, как оказалось, исход и всей войны.
Очень интересно вслушаться в тональность обращения Цезаря к солдатам, когда перед сражением или иными испытаниями ему необходимо вдохнуть в них мужество (тем более, что перед нами не пересказ, а авторский текст!). Он говорит порой сурово, даже резко, но всегда уважительно... В первый год войны, как мы уже знаем, Цезарю предстояло сразиться с германцами Ариовиста.
Если битва с гельветами происходила в давно освоенной долине Роны, то теперь надо было углубиться в неведомые прирейнские леса. Об огромном росте, силе, храбрости и свирепости германцев ходили легенды. Римляне оробели. Цезарь реагирует мгновенно. Оцените не только мощь и убедительность его обращения к воинам, но и напор: не давая ослабеть впечатлению от своей речи, не давая времени для сомнений, он немедленно переходит от слов к делу:
«Вследствие этих россказней, — пишет Цезарь, — всем войском овладела такая робость, которая немало смутила все умы и сердца. Страх обнаружился сначала у военных трибунов, начальников отрядов и других, которые не имели большого опыта в военном деле и последовали из Рима за Цезарем только ради дружбы с ним....
Трусливые возгласы молодежи стали мало-помалу производить сильное впечатление даже на очень опытных в лагерной службе людей: на солдат, центурионов, начальников конницы. Те из них, которые хотели казаться менее трусливыми, говорили, что они боятся не врага, но трудных перевалов и обширных лесов, отделяющих римлян от Ариовиста, и что опасаются также за правильность подвоза провианта. Некоторые даже заявляли Цезарю, что солдаты не послушаются его приказа сняться с лагеря и двинуться на врага и из страха не двинутся.
Заметив все это, Цезарь созвал военный совет, на который пригласил также центурионов всех рангов, и в гневных выражениях высказал порицание прежде всего за то, что они думают, будто их дело — спрашивать и раздумывать, куда и с какой целью их ведут....
А что будто бы его не послушаются и на неприятеля не пойдут, то эти разговоры его нисколько не волнуют: он знает, что те, кого не слушалось войско, не умели вести дело, и им изменяло счастье. Или же это были люди, известные своей порочностью и явно изобличенные в корыстолюбии. Но его собственное бескорыстие засвидетельствовано всей его жизнью, а его счастье — войной с гельветами. Поэтому то, что он предполагал отложить на более отдаленный срок, он намерен осуществить теперь, и в ближайшую же ночь, в четвертую стражу, снимется с лагеря, чтобы как можно скорее убедиться в том, что в них сильнее: чувство чести и долга или трусость. Если за ним вообще никто не пойдет, то он выступит хотя бы с одним десятым легионом: в нем он уверен, и это будет его преторской когортой. Надо сказать, что этому легиону Цезарь всегда давал особые льготы и очень на него полагался.
Эта речь вызвала удивительную перемену в настроении всего войска и пробудила большую бодрость и боевой пыл. Прежде всего, 10-й легион принес ему через военных трибунов благодарность за очень лестный отзыв и уверил в своей готовности к бою. Затем и остальные легионы просили своих военных трибунов и центурионов первых рангов оправдаться от их лица перед Цезарем и указать, что у них никогда не было ни колебаний, ни страха, но они всегда думали, что высшее руководство войной принадлежит не им, а полководцу. Приняв это оправдание, Цезарь поручил Дивитаку, которому доверял более, чем кому-либо другому, обследовать путь... После этого он, как и сказал раньше, выступил в четвертую стражу. На седьмой день безостановочного марша он получил известие от разведчиков, что войска Ариовиста находятся от них в двадцати четырех милях». (Там же. 1, 39-41)
А вот несколько иной случай, относящийся снова к последнему этапу войны. Я упоминал, что попытка взять приступом крепость Герговию закончилась для римлян неудачей. Тому предшествовали следующие обстоятельства. Крепость стояла высоко на горе и подходы к ней снизу не просматривались. Тем не менее, Цезарь собирался ее штурмовать и вел к тому подготовку. Обманным маневром ему удалось отвлечь часть защитников крепости, подняться до середины горы и даже захватить предстенные укрепления. Но тут стало ясно, что позиция для штурма слишком невыгодна, и Цезарь дал сигнал к отступлению. То ли солдаты не услышали сигнал трубы, то ли не сумели совладать с азартом уже начавшегося боя, но они пошли на штурм стен и были с тяжелыми потерями отбиты.
«На следующий день Цезарь созвал солдат на сходку и на ней порицал их безрассудство и пыл, именно, что они самовольно решили, куда идти и что делать, не остановились при сигнале к отбою и не послушались удерживавших их военных трибунов и легатов. Он указал им, как много значит невыгодное местоположение. ...Насколько он удивляется их героизму, которого не могли остановить ни лагерные укрепления, ни высота горы, ни городская стена, настолько же он порицает их своеволие и дерзость, с которой они воображают, что могут судить о победе и об успехе предприятия правильнее полководца. От солдат он требует столько же повиновения и дисциплины, сколько храбрости и геройства.
Но в конце этой речи он ободрил солдат и советовал им не слишком из-за этого печалиться и не приписывать храбрости врагов того, что произошло от неудобства местности». (Там же. 7, 52) Но, пожалуй, наиболее полное представление о взаимоотношениях полководца и армии можно почерпнуть из тех разделов «Записок», где Цезарь рассказывает о самостоятельных действиях своих легатов и воинов.
Вот на третьем этапе войны повстанцы Амбиорикса штурмуют зимний лагерь легиона, которым командует Квинт Цицерон (брат оратора). Цезарь еще не пришел на выручку. Его записи, очевидно, основаны на рассказах оборонявшихся. Но с каким уважением он пишет! И заметьте — без малейшей тени ревности:
«В течение ночи с необычайной быстротой было изготовлено не менее ста двадцати башен из леса, заранее свезенного для укрепления; все, что оказалось недоделанным, теперь было закончено. На следующий день враги возобновили штурм лагеря с еще большими боевыми силами и стали заваливать ров. Как и накануне, наши оказали сопротивление. То же самое продолжалось и во все последующие дни. Работа шла без перерыва даже ночью: ни больным, ни раненым не было возможности отдохнуть. Все, что нужно было для защиты от нападения на следующий день, заготовлялось за ночь. Было заготовлено много заостренных кольев и большое количество стенных копий. Башни накрывают досками, к валу приделывают плетеные брустверы и зубцы. Сам Цицерон, несмотря на свое слабое здоровье, не давал себе отдыха даже ночью, так что солдаты сами сбегались к нему и своими громкими просьбами принуждали его беречь себя». (Там же. 5, 40)
Осада продолжается. С таким же восхищением, как о самоотверженности солдат при укреплении лагеря, описывает Цезарь их стойкость в сражении на лагерном валу.
«На седьмой день осады внезапно поднялась сильная буря, и враги, пользуясь этим, стали метать из пращей раскаленные глиняные пули, а также дротики с огнем на острие, в бараки, которые, по галльскому обычаю, имели соломенные крыши. Они быстро загорались, и силой ветра огонь распространился по всему лагерю. Враги с громким криком, точно победа была уже одержана и несомненна, стали подкатывать башни и «черепахи» и взбираться по лестницам на вал. Но наши солдаты проявили замечательную храбрость и присутствие духа: хотя их со всех сторон палил огонь и снаряды сыпались на них градом и хотя они видели, что горит весь обоз и все их имущество, — не только никто не отходил от вала, чтобы совсем его покинуть, но почти никто даже и не оглядывался, но все сражались с необыкновенным ожесточением и отвагой». (Там же. 5, 43)
Наконец, чтобы еще ярче и совсем конкретно выразить свое уважение к воинам, Цезарь включает в «Записки», в виде отдельной новеллы, подробный рассказ об одном эпизоде все той же осады, где фигурируют всего лишь два воина, как бы олицетворяющие свойственную всем их товарищам доблесть. Вот этот рассказ:
«В том легионе было два очень храбрых центуриона, которым немного оставалось до повышения в первый ранг: Т. Пулион и Л. Ворен. Между ними был постоянный спор о том, кто из них заслуживает предпочтения, и из года в год они боролись за повышение с величайшим соревнованием. Когда около укреплений шел ожесточенный бой, Пулион сказал: «Чего же ты раздумываешь, Ворен? И какого другого случая ждешь показать свою храбрость? Нынешний день порешит наш спор». С этими словами он вышел из-за укрепления и бросился на неприятелей там, где они были особенно скученны. Ворен тоже не остался за валом, но, боясь общественного мнения, пошел за ним. Тогда Пулион, подойдя на близкое расстояние к врагу, пустил копье и пронзил им одного галла, выбежавшего вперед из толпы. Враги прикрыли щитами своего пораженного и бездыханного товарища и все до одного стали стрелять в Пулиона, не давая ему возможности двинуться с места. Пулиону пробили щит, и один дротик попал в перевязь. Этим ударом были отброшены назад ножны и задержана его правая рука, когда он пытался вытащить меч. Тогда враги, пользуясь его затруднением, обступили его. Но тут подбежал его соперник Ворен и подал ему в эту трудную минуту помощь. Вся толпа тотчас же обратилась на него и бросила Пулиона, думая, что он убит дротиком. Ворен действует мечом и, убив одного, мало-помалу заставляет остальных отступить. Но в увлечении преследованием он попадает в яму и падает. Теперь и он, в свою очередь, окружен, но ему приходит на помощь Пулион, и оба, убив немало неприятелей, благополучно со славой возвращаются в лагерь. Так подшутила над ними судьба в их соперничестве и борьбе...» (Там же. 5, 44)
Теперь вообрази, читатель, ночной бивуак где-нибудь в Македонии или Африке — этим солдатам ведь предстоит пройти с Цезарем всю Гражданскую войну. Если хочешь, то можешь по известным канонам нарисовать грубые и мужественные лица солдат, озаренные сполохами костра. И какой-нибудь военный трибун или легат читает вслух ставшую бессмертной историю Пулиона и Ворена. А каждый солдат, ярко представляя все подробности этой схватки, думает: «Мне бы так, на глазах у Цезаря!»
Во всех цитированных фрагментах нельзя не заметить, что Цезарь по-отечески любит своих солдат и гордится ими. Самолюбием великого полководца он легко жертвовал ради дружбы и заботы о своих подчиненных.
«Однажды, — рассказывает Плутарх, — он был застигнут в пути непогодой и попал в хижину одного бедняка. Найдя там единственную комнату, которая едва была в состоянии вместить одного человека, он обратился к своим друзьям со словами: «Почетное нужно предоставлять сильнейшим, а необходимое — слабейшим», — и предложил Оппию отдыхать в комнате, а сам вместе с остальными улегся спать под навесом перед дверью». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XVII) Естественно, что воины платили своему полководцу обожанием и беспредельной преданностью. Вот последняя цитата. 52-й год. Осада Аварика. Верцингеторикс стоит неподалеку, от сражений уклоняется, но блокирует все пути доставки продовольствия. Среди осажденных царит ужасный голод...
«...однако, от них не слыхали ни единого звука, недостойного величия римского народа и их прежних побед. Мало того, когда Цезарь на осадных работах обращался к отдельным легионам и говорил, что готов снять осаду, если им слишком тяжело терпеть нужду, они, все до одного, просили его не делать этого: за много лет службы под его командованием они никогда не навлекали на себя бесчестия, ниоткуда не уходили, не кончив дела; они сочли бы для себя позором оставить начатую осаду...» (Там же 7, 17)
Внимательно читая «Записки» Цезаря, можно отметить две особенности его характера. Это, во-первых, стойкость при неудачах. Способность Цезаря не падать духом, а наоборот — действовать тем решительнее, чем в более трудном положении он оказывался, не раз выручала римлян. Так было в Британии, когда бури раз за разом уничтожали его корабли, в то время как атаки британцев на римский десант становились все опаснее. Так было и после отступления от Герговии: войска Цезаря были разделены на две отрезанные друг от друга части, а восстание Верцингеторикса стремительно разрасталось...
Вторая необычная особенность характера и поведения Цезаря в этой войне (с ней мы еще не раз встретимся позже) — это его относительное, для тех времен, милосердие. В течение трех первых этапов Галльской войны Цезарь не один раз даровал свободу и прощение побежденным врагам, он никогда не чинил расправы над населением захваченных городов. Первым исключением из этого правила, уже на последнем этапе войны, стало истребление населения города Аварик. Римские солдаты были озлоблены тяготами долгой и голодной осады, да еще горели желанием отомстить за то, что галлы перебили всех римских граждан и купцов, находившихся в городе Ценабе (ныне Орлеан). Цезарь не сумел, а может быть, и не захотел их остановить. Впрочем, последняя жестокая акция в этой войне была, уже без всякого сомнения, проведена по его распоряжению. Очень хорошо укрепленный город Укселлодун выдерживал осаду римлян в течение долгого времени после того, как по всей Косматой Галлии сопротивление уже прекратилось. Чтобы пресечь дальнейшее кровопролитие, Цезарь посчитал необходимым подать всем галлам устрашающий пример. Так, по крайней мере, старается в восьмой главе «Записок» оправдать эту акцию Гирций:
«Цезарь знал, — пишет он, — что его мягкость всем известна, и не имел основания бояться, что какую-либо слишком суровую его меру будут истолковывать как проявление прирожденной жестокости. Но вместе с тем, он не видел конца своему предприятию, если, подобно кадуркам (одно из племен центральной Галлии. — Л.О.) и их союзникам, несколько племен сразу будут поднимать восстания. Поэтому он решил устрашить остальных примерной карой: всем, кто носил оружие, он приказал отрубить руки, но даровал им жизнь, чтобы тем нагляднее было наказание за их преступления...» (Там же. 8, 44)
Из всего написанного выше может сложиться впечатление, что, решая в ходе Галльской войны задачу создания преданного ему большого войска, Цезарь на целых девять лет оказался выключенным из борьбы политических сил в Риме. Это не так. Свою оплаченную прежними щедротами популярность он не рассчитывал сохранить только за счет победных реляций из Галлии. Несмотря на трудную войну, политические события в Риме оставались предметом его неотступного внимания и активного вмешательства. Благо для этого последнего он теперь в достатке располагал самым мощным инструментом — деньгами. Кроме трех сезонов, когда тому помешали военные действия и заботы по послевоенному устройству покоренной страны, он каждую зиму на несколько месяцев возвращался из Трансальпийской Галлии в Северную Италию. Сюда из Рима к нему с докладами о делах, за инструкциями и деньгами прибывали его эмиссары, агитаторы и тайные агенты. И не только они.
«Сюда к Цезарю, — свидетельствует Плутарх, — приезжали многие из Рима, и он имел возможность увеличить свое влияние, исполняя просьбы каждого, так что все уходили от него, либо получив то, чего желали, либо надеясь это получить. Таким образом действовал он в течение всей войны: то побеждая врагов оружием сограждан, то овладевал самими гражданами при помощи денег, захваченных у неприятеля». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XX) Об этом пишет и Светоний:
«Всех друзей Помпея и большую часть сенаторов он привязал к себе, ссужая им деньги без процентов или под ничтожный процент. Граждан из других сословий, которые приходили к нему сами или по приглашению, он осыпал щедрыми подарками, не забывая и их вольноотпущенников и рабов, если те были в милости у хозяина или патрона. Наконец, он был единственной и надежнейшей опорой для подсудимых, для задолжавших, для промотавшихся юнцов...» (Светоний. Божественный Юлий, 27)
Не имея возможности (и права) устраивать в Риме празднества и угощения для простого народа, он освежил в его памяти воспоминания о своей щедрости, когда в 56-м году начал на свои (то есть трофейные) средства грандиозное строительство нового форума. Древний римский форум стал тесноват для заметно выросшего населения города. Новый, в виде строго прямоугольной площади, окруженной длинным портиком, был задуман как единое архитектурное сооружение. Позже его украсит храм Венеры-прародительницы. Один только выкуп у домовладельцев земель под новый форум обошелся в сто миллионов сестерциев.
Но не только денежные проблемы разрешаются в Северной Италии. Весной 56-го года, когда тройственный союз готов был вот-вот распасться, Цезарь там же (в городе Лука) организует встречу с Помпеем и Крассом. На некоторое время ему удается реанимировать их согласие. О значении свидания в Луке и вообще о развитии политической ситуации в Риме за годы Галльской войны будет особый рассказ. А сейчас нам надо понять позицию Юлия Цезаря в отношении использования военной добычи, поступавшей в его руки из Галлии. Сначала о ее получении:
«Бескорыстия он не обнаружил», — выносит приговор Светоний и продолжает: «В Галлии он опустошал капища и храмы богов, полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем в наказание». (Там же. 54)
Как нам относиться к свидетельству римского историка? Не доверять ему нет оснований, да и откуда еще могла поступать к Цезарю богатая галльская добыча? Значит — грабеж? Да, конечно! Хотя в случае войны это до сих пор называется куда более деликатно — военные трофеи. А что не щадил храмы — так ведь то капища чужих, не «истинных» богов!
Теперь о расходовании добытого на войне (и обращенного в деньги). Исходя из жалованья легионеров по пять ассов в день, нетрудно подсчитать, что одно только «денежное довольствие» (без наградных) четырех не оплачиваемых сенатом легионов в течение первых двух лет войны составило сумму порядка десяти миллионов денариев. Наверное, не меньше денег ушло на оснащение, вооружение и пропитание войска, на строительство кораблей и прочих инженерных сооружений (тех же мостов!). Быть может, еще большие суммы были израсходованы для достижения названных выше политических целей. Эти цели можно считать личными, а можно — государственными, если иметь в виду государственные преобразования, задуманные Цезарем. Зависит от точки зрения. Во всяком случае, именно ради этого он истратил практически все, что силой оружия добыл в Галлии. После смерти Цезаря не осталось ни огромных личных средств, ни драгоценностей, ни роскошных вилл, ни дворцов. Только сады за Тибром, которые он завещал в общественное пользование римскому народу, да по 75 денариев каждому гражданину — наверное, только неимущим — что составляло порядка двенадцати миллионов денариев. Так что вопрос о «необнаруженном» (Светонием) бескорыстии, на мой взгляд, остается открытым.
Глава IV Жребий брошен
Следуя за Юлием Цезарем по дорогам войны в Галлии, мы на добрый десяток лет удалились вперед по течению времени от двух других главных персонажей начала гражданской войны — Помпея и Цицерона. Сейчас всем троим предстоит столкнуться между собой. Чтобы понять характер этого столкновения, следует узнать, что произошло за эти десять лет в Риме. Напомню, что в 60-м году, убедившись в упорном недоброжелательстве к нему сената и радея о нуждах ветеранов, Помпей согласился своим влиянием в народе поддержать Цезаря. Тем самым он открыл дорогу к обретению могущества тому, кто впоследствии, по горькому выражению Плутарха, «...обязанный своим возвышением в государстве влиянию Помпея, совершенно уничтожил того самого человека, благодаря которому одержал верх над остальными». (Плутарх. Помпей, XLVI)
Есть ли основания упрекнуть Помпея в недальновидности? Нет, конечно. Мог ли величайший римский полководец, трижды триумфатор, покоритель Африки, Испании и Азии, распознать соперника в ничем не примечательном сенаторе, у которого военной славы-то за плечами было всего-навсего покорение пары туземных племен в Испании? Ему захотелось на пять лет получить управление дикой Галлией? Наверное, чтобы за счет трофеев расплатиться с кредиторами. Да помогут ему бессмертные боги! Тем более, что в сердце сорокасемилетнего победителя Митридата все ярче разгорается любовь к его новой жене Юлии — дочери Цезаря. Она вдвое моложе? Что же, с ней он переживает свою вторую молодость. А она искренне отвечает на его чувство...
Я уже упоминал о том, что античные историки республиканской поры не обращали внимания на женщин. Соответственно, и лирические чувства их героев казались этим историкам недостойными описания. Но герои — тоже люди! Они бывали любимы и любили! Порой это становилось настолько важным, что определяло их поступки. Помпей в течение всей своей жизни оставался предметом глубокой и сильной женской любви. Привлекательная, мужественная внешность и величественная осанка (отмеченные Плутархом еще в юноше), сила, отвага и искусное владение оружием, снискавшие ему репутацию доблестного воина, и наконец, слава великого полководца! Какая римлянка может остаться равнодушной к такому сочетанию? Кроме того, Помпей, видимо, был превосходным партнером в любви, и я не намерен лицемерно отворачиваться от этой важнейшей сферы человеческих отношений. Знаменитая римская гетера Флора, которую Помпей любил в молодости, по свидетельству Плутарха: «...уже старухой постоянно с удовольствием вспоминала о своей связи с Помпеем, говоря, что никогда не покидала его ложа без чувства сожаления». (Там же, II)
Но ничто в такой мере не помогает завоевать сердце женщины, как приветливое обхождение, внимание, забота и преданность. Нам уже известно, что этими, увы, редкими среди мужчин качествами Помпей был наделен в высокой степени. А самозабвенная любовь женщины в возвышенной мужской душе пробуждает такой же отклик, ибо благодарность служит наилучшей пищей для подлинной любви. Поэтому нас не должно удивить свидетельство Плутарха о том, что Помпей Великий через пять лет после женитьбы на Юлии однажды...
«...передал войска и управление провинциями своим доверенным легатам, а сам проводил время с женой в Италии, в своих имениях, переезжая из одного места в другое и не решаясь оставить ее то ли из любви к ней, то ли из-за ее привязанности к нему. Ибо приводят и это последнее основание. Всем была известна нежность к Помпею молодой женщины, страстно любившей мужа, невзирая на его годы». (Там же, LIII)
Чтобы закончить этот лирический сюжет, добавлю, что через год после ранней смерти Юлии Помпей женился на еще более молодой женщине, Корнелии — вдове погибшего на войне сына Красса, женщине достойной, красивой, прекрасно образованной. И она любила Помпея не менее горячо и преданно, чем Юлия, до самого последнего дня его жизни.
Отвлечемся на мгновение от бурного, мутного потока кровопролитных сражений и политических интриг, чтобы услышать рассказ римского историка о возвышенном чувстве молодой жены Помпея.
Когда во время своего рокового бегства, на пути в Египет (рассказ об этом — впереди) Помпей заехал на остров Лесбос, чтобы взять с собой жену и сына, Корнелия, узнав от посланца о несчастьях, постигших ее мужа...
«...упала на землю и долгое время лежала безмолвная, лишившаяся чувств; затем, с трудом придя в себя и сообразив, что теперь не время жаловаться и плакать, она бросилась бежать через город к морю. Помпей встретил ее и подхватил на руки, так как она снова едва не рухнула наземь. «Я вижу, о мой супруг, — сказала она, — что не твоя судьба, а моя бросила тебя, который до женитьбы на Корнелии объезжал это море на пятистах кораблях. Зачем ты приехал повидаться со мною? Почему не оставил меня в жертву моему пагубному демону, меня, которая осквернила и тебя столь великим бедствием? Какой была бы я счастливой женщиной, если бы умерла до печального известия о кончине моего первого мужа Публия на войне с парфянами! Как благоразумно поступила бы, покончив с собой после его смерти, как я желала этого! Но я осталась жить на горе Помпею Магну!» (Плутарх. Там же, LXXIV)
Заметь, читатель, что Корнелия клянет себя не метафорически. Римляне верили в то, что у каждого человека есть свой гений или демон, определяющий судьбу его и близких ему людей. А в душе истинно любящей женщины всегда живет страх, что она может быть причиной несчастья любимого...
Но я увлекся. Нам надобно вернуться в 58-й год, когда Цезарь только что отбыл в Галлию. Впрочем, иначе нам не понять, почему Помпей, чрезвычайно ревнивый к чужой военной славе (вспомним Лукулла!), в течение нескольких первых лет подавлял в себе это чувство по отношению к Цезарю, несмотря на его громкие победы над варварами во время Галльской войны. Причиной такой сдержанности была, скорее всего, Юлия, очень любившая своего отца.
Другим обстоятельством, отвлекавшим внимание Помпея от успехов Цезаря, была неожиданная агрессия против него Клодия. Помогая незадачливому поклоннику своей бывшей жены стать народным трибуном, Цезарь хотел оставить в Риме «цепного пса» против Цицерона и Катона. Но он явно недооценил дерзости и амбиции своего клеврета. Клодий возомнил себя народным вождем. Он провел закон о вовсе бесплатной раздаче хлеба неимущим, что, разумеется, еще прибавило ему дешевой популярности, а также закон, разрешавший создание квартальных союзов ремесленников и «уличных клубов» — полувоенных организаций римского плебса и рабов. Сам он воспользовался этим разрешением для того, чтобы собрать под своей командой шайку вооруженных люмпенов. Они терроризировали весь город. И первой их мишенью стал, конечно, Цицерон, вынужденный, как мы помним, бежать из Рима. Но Клодий не желал терпеть и того влияния, которым еще пользовался в Риме Помпей. Поэтому он принялся всячески поносить и задирать недавнего кумира римского народа, не скупился на публичные оскорбления в его адрес, затевал судебные процессы против друзей Помпея. Он захватил плененного тем сына армянского царя Тиграна и даже инсценировал (а может быть, и вправду замыслил) покушение на жизнь великого полководца. Помпей оказался беззащитным против такой наглости. Конечно, он мог бы призвать на помощь своих ветеранов и расправиться с Клодием. В обстановке анархии, которая постепенно воцарялась в городе, это было вполне возможно. Но Помпей был в первую очередь законопослушным гражданином, а лишь потом прославленным полководцем. Личность народного трибуна для него оставалась неприкосновенной! Он предпочел до конца года отсиживаться дома и ухаживать за молодой женой, «проводя вместе с нею, — по словам Плутарха, — целые дни в загородных имениях и садах и вовсе не обращая внимания на то, что творилось на форуме». (Там же, XLVIII)
А что тем временем Цицерон?
Вот уже почти три месяца, как он в Македонии — томится в изгнании. Пока что остановился в Фессалониках. Теренция с детьми осталась в Италии. Мне чудится, я вижу его: не стрижен, отпустив бороду, в темном плаще, он день деньской бродит вдали от людей, на пустынном берегу моря, среди песчаных дюн, поросших кое-где пучками жесткой сухой травы, которую нещадно треплет свежий морской ветер. Большую часть времени он сидит неподвижно у самой воды, машинально, без мыслей и чувств следя за бесконечной чередой набегающих волн. Потом вдруг вскакивает и начинает быстро ходить взад и вперед по влажной кромке песка, взмахивая рукой и бросая в сумятицу волн резкие злые слова. Быть может, ему кажется, что они, как эти чайки, долетят до берегов Италии, или мнится, что он в сенатской курии спорит с Цезарем:
«Ты хочешь низвергнуть сенат, — кричит он наперекор ветру, — уничтожить собрание народа, стать новым царем в Риме. Хорошим, справедливым царем?! Но когда все прочие люди отстранены от принятия решений, а льстецы, завистники и клеветники нашептывают владыке, царская власть непременно скатывается к тирании. Наилучшим для государства было бы правление совета наиболее достойных и мудрых людей. (Машинально, ораторским движением, отогнув ладонями вверх кисти, он поднимает руки в стороны и вперед — точно возносит к серому небу образ идеального государства). Ибо что может быть прекраснее положения, когда те, кто повелевают другими, сами не находятся в рабстве ни у одной из страстей, когда они проникаются всем тем, к чему приучают и зовут граждан, и не навязывают народу законов, каким не станут подчиняться сами?
Но доблесть и мудрость — удел немногих. (Руки опускаются). А завистливая чернь охотно верит, что богачи или люди знатного происхождения и есть наилучшие. Богатство же и знатность при отсутствии мудрости и доблести приводят только к бесчестию и высокомерной гордости. И нет более уродливой формы правления. Да, уродливой!..» Последние слова Цицерон, по-видимому, адресует сенату. Он останавливается, умолкает. Потом, нахмурившись, пожимает плечами и, сбавив тон, продолжает уже сам с собой:
«Еще хуже, когда вся власть принадлежит так называемому народу Когда толпа обрекает на казнь всякого, кого захочет, когда людей подвергают гонениям, когда грабят, захватывают, расточают все, что только захотят. Это — тиран в такой же мере, как если бы им был один человек, и даже еще более отвратительный тиран!..»
Сильный порыв ветра срывает брызги с гребня взлетевшей за прибрежным камнем волны и, точно в ответ, швыряет их в лицо Цицерону. Он отворачивается от моря, потом снова устремляет взор на линию горизонта. Голос его крепнет: «Великие предки поняли, — говорит он менторским тоном, — что наилучшее государственное устройство должно быть образовано равномерным смешением трех видов государства. В нем должно быть нечто выдающееся и царственное, что они воплотили во временном всемогуществе консулов. Вместе с тем часть власти на постоянной основе должна быть вручена авторитету совета истинно первенствующих людей. А некоторые дела предоставлены окончательному суждению и воле народа. Такому устройству свойственно великое равенство, без которого свободные люди не могут долго обходиться, а также — прочность!..
Ты хочешь, — он опять кричит, обращаясь к Цезарю, — ты хочешь разрушить это величественное здание. Не ты первый пытаешься это сделать. И каждый раз улицы Рима обагрялись кровью его граждан...»
Цицерон внезапно умолкает. Перед его мысленным взором вновь возникает перекошенное злобой лицо Клодия, угрожающие жесты его головорезов... Кольцо смыкается... Слава богам, что он успел спастись!.. Но зачем? Что теперь его жизнь? Что он может теперь сделать для Рима? Чем заслужить высокую славу, ради которой только и стоит жить?.. А как все начиналось! Та ночь, пылавшая тысячами факелов, когда народ римский приветствовал своего спасителя... Все рухнуло... Он безвольно опускается на сырой песок, закрывает лицо руками и надолго погружается в темноту безысходной тоски...
Цицерон — ближайшему другу Аттику в Рим из Фессалоник (17 июня 58-го года): «Ты так часто и так жестоко упрекаешь меня и говоришь, что я нестоек духом. Есть ли, скажи, какое-нибудь несчастье, которое не заключалось бы в моем бедствии? Пал ли кто-нибудь когда-либо с такой высоты, такого положения, за такое правое дело, при таких дарованиях, опыте, влиянии, несмотря на защиту всех честных граждан? Могу ли я забыть, кем я был, не чувствовать, кто я теперь, какого я лишен почета, какой славы, каких детей, какого богатства, какого брата? От свидания с ним, которого я ставлю и всегда ставил выше себя самого... я уклонился, чтобы не быть свидетелем его горя и траура (Квинт в это время возвращается из Азии. — Л.О.) и чтобы я, которого он оставил в самом расцвете, не предстал перед ним погибшим и сраженным. Но опускаю прочее — невыносимое страдание, ибо слезы мешают мне». (Письма Марка Туллия Цицерона, т. 1, № 67)
Все лето Цицерон пребывает в таком же отчаянии. Переписка с другом — его единственная опора. Однако к концу лета в этих письмах проскальзывает надежда на возвращение. В ноябре Цицерон перебирается на Западное побережье Македонии — поближе к Италии. Постоянное ожидание и невыносимое бездействие его вконец измучили. Настойчивые требования использовать все связи для его возвращения в письмах того времени соседствуют с самым заурядным, недостойным истинного римлянина нытьем:
Цицерон — Аттику в Рим из Диррахия (29-го ноября 58 года): «...молю тебя, если будет какая-нибудь надежда на возможность окончания дела, благодаря рвению честных людей, авторитету и привлечению народа, то постарайся сломать все препятствия одним натиском, возьмись за это дело и побуди к этому прочих. Если же, как я предвижу на основании моих и твоих догадок, надеяться не на что, молю и заклинаю тебя любить брата Квинта, несчастного, которого я погубил в своем несчастье, ... моего Цицерона, бедняжку (сына — Л.О), которому я не оставляю ничего, кроме ненавистного и обесчещенного имени; защищай, насколько сможешь, Теренцию, самую несчастную из всех поддержи своими заботами...» (Письма... т. 1, №83)
Между тем срок трибуната Клодия заканчивается, а из Галлии одна за другой приходят вести о новых победах Цезаря. Он уже разбил и заставил возвратиться в горы гельветов, отбросил за Рейн германцев Ариовиста, набирает еще легионы и собирается в поход против белгов. В пастораль семейной идиллии Помпея прорываются нотки ревности и тревоги. Исподволь зреет сожаление о союзе, который развязал руки Цезарю. Помпей уже готов забыть многочисленные обиды, нанесенные ему сенатом, и объединиться с ним на случай, если придется дать отпор чрезмерным притязаниям тестя. Это удобнее всего сделать с помощью Цицерона. Теперь, когда Клодий уже не может наложить вето, имеет смысл попытаться добиться отмены решения об изгнании. Проснувшаяся ревность к военным подвигам Цезаря заставляет Помпея действовать энергично. Он собирает сильный отряд и сопровождает на форум Квинта Цицерона. Тот обращается к народу с ходатайством за брата. Шайка Клодия затевает драку. Есть убитые и раненые. Но ветераны Помпея берут верх, и народ единодушно голосует за возвращение Цицерона. Сенат немедленно одобряет решение народа, выражает признательность городам, которые давали приют изгнаннику и распоряжается за счет казны восстановить его дом и усадьбы, сожженные Клодием.
Цицерон — Аттику из Рима в Эпир (сентябрь 57-го года):
«Когда я подъезжал к Риму, не было ни одного известного номенклатору (рабу, которому поручено напоминать хозяину имена всех встречных, сколь-нибудь известных людей Рима. — Л.О.) человека из любого сословия, который не вышел бы мне навстречу, исключая тех моих врагов, которым именно то обстоятельство, что они враги мне, не позволило ни скрыть, ни отрицать это. Когда я достиг Капенских ворот, все ступени храмов были заняты людьми из низших слоев плебса. Они выражали мне поздравления громкими рукоплесканиями; подобное же множество народа и рукоплескания приветствовали меня до самого Капитолия, причем на форуме и в самом Капитолии было удивительное скопление людей». (Письма... т. 1, № 90)
Сразу по прибытии в Рим Цицерон выступает в сенате. Он уже позабыл свое недавнее отчаяние. Можно подумать, что его отъезд был точно рассчитанным маневром:
«Будучи консулом, — говорит он, — я защитил всеобщую неприкосновенность, не обнажив меча. Но как частное лицо я свою личную неприкосновенность защищать оружием не захотел и предпочел, чтобы честные мужи оплакивали мою участь, а не отчаивались в своей собственной. Быть убитым одному мне казалось позорным; быть убитым вместе со многими людьми — гибельным для государства. Если бы я думал, что мои несчастья будут длиться вечно, я скорее покарал бы себя смертью, чем безмерной скорбью. Но видя, что меня не будет в этом городе не дольше, чем будет отсутствовать и само государство, я не счел для себя возможным оставаться, когда оно изгнано, а оно, как только было призвано обратно, тут же возвратило с собой и меня. Вместе со мной отсутствовали законы, вместе со мной — постоянные суды, вместе со мной — права должностных лиц, вместе со мной — авторитет сената, вместе со мной — свобода, вместе со мной — даже обильный урожай, вместе со со мной — все священнодействия и религиозные обряды, божественные и совершаемые людьми». (Цицерон. Речь в сенате по возвращении из изгнания, 34)
Упоминание об урожае — не случайно. Год выдался голодный, и Цицерон, отвечая услугой за услугу, вскоре внесет в сенат предложение о предоставлении Помпею чрезвычайных полномочий для обеспечения Рима поставками хлеба из провинций и союзных государств. Предложение будет принято и, хотя особой власти Помпей при этом не получит, мир с сенатом будет восстановлен. Цицерон заканчивает так:
«Поэтому, так как вы меня вытребовали своим решением, так как меня призвал римский народ, умоляло государство, чуть ли не на руках принесла обратно вся Италия, то теперь, отцы-сенаторы... я не откажусь от выполнения того, что могу осуществить сам, — тем более, что потерянное мной я себе возвратил, а доблести и честности своей не терял никогда». (Там же, 39)
Но сам-то он знает, что доблесть ему изменила, и потому испытывает мучительную потребность оправдаться перед римским народом, а, может быть, и перед самим собой. Еще через полгода, в судебной речи, он вновь возвращается к причинам своего бегства из Рима:
«...на меня подействовало, — говорит он, — вот что: на всех народных сходках этот безумный вопил, что все, что он делает во вред мне, исходит от Гнея Помпея, прославленного мужа, который и ныне мой лучший друг и ранее был им, пока мог (до триумвирата. — Л.О.). Марка Красса, храбрейшего мужа, с которым я был также связан теснейшими дружескими отношениями, этот губитель изображал крайне враждебным моему делу. А Гая Цезаря, который без какой бы то ни было моей вины захотел держаться в стороне от моего дела, тот же Публий Клодий называл на ежедневных народных сходках злейшим недругом моему восстановлению в правах...
...Возможно ли было мне, частному лицу, браться за оружие против народного трибуна? Если бы бесчестных людей победили честные, а храбрые — малодушных, если бы был убит тот человек, которого только смерть могла излечить от его намерения погубить государство, что произошло бы в дальнейшем? Кто поручился бы за будущее?.. (Цицерон имеет в виду последствия нарушения древнего закона о священной неприкосновенности народных трибунов. — Л.О.)
...Привожу в свидетели тебя, повторяю, тебя, отчизна, и вас, пенаты и боги отцов, — ради ваших жилищ и храмов, ради благополучия своих сограждан, которое всегда было мне дороже жизни, уклонился я от схватки и от резни». (Цицерон. Речь в защиту Публия Сестия, 37, 42-45. — в суде 11 марта 56-го года)
Между тем ситуация в Риме не стала намного лучше. Клодий не распустил свою шайку и, несмотря на триумфальное возвращение Цицерона, не оставляет его в покое. В конце ноября 57-го года Цицерон в письме из Рима сообщает Аттику:
«...за два дня до ноябрьских ид, когда я спускался по священной дороге, он вместе со своими сторонниками стал преследовать меня. Крики, камни, палки, мечи — все это врасплох. Я укрылся в вестибюле дома Теттия Дамиона. Сопровождавшие меня без труда оттеснили шайку от входа. Он сам мог быть убит, но я предпочитаю лечить диетой, хирургия внушает отвращение...» (Письма... т. 1, №92)
Впрочем, теперь у Клодия появился противник, воюющий тем же оружием. Трибуном на 57-й год избран Милон, объявляющий себя защитником сената. Это такой же отпетый негодяй, что и Клодий. Он сколачивает свой отряд, и Рим становится местом «разборки» двух вооруженных банд. Естественно, что волна анархии, насилия и грабежей нарастает по всему городу. Сенат беспомощен. Помпей занят хлебом и от городских дел устранился. Цезарь с войском — далеко. Впрочем, как я уже упоминал, он каждую зиму проводит на севере Италии, внимательно следит за событиями в Риме и с помощью денег, почерпнутых из военной добычи, вербует себе сторонников. Анархия в Риме его не тревожит. Когда потребуется, легионеры быстро наведут там порядок. Цезаря беспокоит сближение Помпея и сената. Если так пойдет дальше, его главный противник обретет сильного защитника. Не следует забывать, что масса ветеранов азиатских войн, хотя и сменила мечи на серпы и плуги, сохраняет верность своему полководцу. Правда, Помпей опять рассорился с Крассом, но у этого последнего только деньги, а людей нет. Надо действовать!
8 апреля 56-го года Цезарь приглашает Помпея и Красса встретиться с ним на северо-западе Италии, в городе Лука. Встреча не афишируется, но слух о ней проникает в Рим, и для выражения лояльности триумвирам в Луку съезжаются по собственной инициативе более двухсот сенаторов и множество магистратов высокого ранга (Помпей заезжает в Луку как бы «по дороге» — проездом в Сардинию, куда он направляется для закупки хлеба). Цезарю удается помирить Помпея и Красса. Он прямо предлагает присылкой солдат в Рим обеспечить обоим избрание в консулы на ближайший год, а затем наместничество в течение пяти лет: Помпею — в Испании, Крассу — в Сирии. Помпей поддается соблазну. Он снова станет во главе войска, и военные успехи Цезаря померкнут в лучах его, Помпея, новой славы. Он — воин, а не политик. Вот ведь сенат его опять обманул: чрезвычайные полномочия по хлебу урезаны! Ни солдат, ни кораблей, ни даже власти над наместниками в провинциях сенаторы ему не дают. А Цезарь слово сдержит. Ведь Помпей немедленно расскажет Юлии об обещании отца.
Еще более доволен Красс. Роль денежного мешка ему надоела. Он давно мечтает снова стать во главе легионов. Помпей может сколько угодно кичиться победой над Митридатом, но не мешало бы ему вспомнить, кто разгромил Спартака. Сирия его вполне устраивает — он поведет легионы на завоевание далекой Парфии.
Сделка состоялась. Цезарь не только нейтрализовал двух своих возможных оппонентов, но и выговорил кое-что для себя. Он уже знает, что на юго-западе Галлии, в Аквитании неспокойно. Покорность остальной страны обманчива, а германцы еще не отказались от намерения снова перейти Рейн. Впечатление, что война оканчивается, было ошибочным. Она затянется надолго, а завершить ее необходимо полной и окончательной победой, чтобы высвободить легионы.
Цезарь договаривается с Помпеем и Крассом. Став консулами, они добьются для него продления наместничества в Галлии еще на пять лет с разрешением содержать за счет казны десять легионов. И обеспечат согласие народа на заочное участие Цезаря в выборах консула на 48-й год. Тогда-то он и начнет свой финишный рывок!..
Цицерон в Луку не поехал, но о реанимации триумвирата, конечно же, узнал немедленно. Для него последствия могут быть самыми плачевными. Ясно, что Помпей снова отвернется, и Клодий не замедлит этим воспользоваться. Сенат — беспомощен! Добрая треть сенаторов помчалась в Луку на поклон к триумвирам. А сколько их еще подкуплено Цезарем, но не хотят этого показать? Нечего обманывать себя: сенат согласится с любым требованием всемогущей тройки. Если бы хоть Катон был здесь!..
Чего он добьется в одиночку, упорствуя в противостоянии триумвирам? В лучшем случае — нового изгнания. Снова остракизм, гражданская смерть? Нет-нет, он не вынесет!.. И зачем? Разве этим он послужит Риму? В конце концов, те трое не посягают на основы Республики. Помпей и Красс пройдут в консулы на будущий год? Ну и что же? Боги свидетели — они этого вполне достойны! Солдаты Цезаря явятся голосовать в комициях? Разве они не граждане? Цезарь продолжит войну в Галлии? Но разве там римляне терпят поражение? Он тоже хочет стать консулом? Пускай. Цезарь уже был им однажды. И ведь это только через восемь лет. Стоит ли загадывать так далеко? Но он хочет сокрушить сенат, хочет царской власти! Что его остановит? Да полно, так ли это? Пока нет никаких серьезных оснований для подозрений. Он, конечно, честолюбив и корыстен. Хочет завоевать всю Галлию... Но ведь регулярно присылает в Рим донесения. Сейчас вот просит сенат продлить наместничество, просит денег на содержание войска... Восемь лет!.. Все мы смертны... Между прочим, я — тоже! И за мной охотятся... У меня нет другого выхода!..»
В мае того же года, спустя месяц с небольшим после свидания трех в Луке, Цицерон произносит речь в сенате:
«...война в Галлии, — говорит он, — идет величайшая. Цезарем покорены народы огромной численности; но они еще не связаны ни законами, ни определенными правовыми обязательствами, и у нас нет с ними достаточно прочного мира. Мы видим, что конец войны близок, — сказать правду, война почти закончена, — но если дело доведет до конца тот же человек, который начинал его, мы вскоре увидим, что все завершено. А если его сменят, то как бы не пришлось нам услышать, что эта великая война вспыхнула вновь. Поэтому-то я как сенатор — если вам так угодно — Гаю Цезарю недруг, но государству я должен быть другом, каким я всегда и был. Ну, а если я во имя интересов государства даже совсем забуду свою неприязнь к нему, то кто, по справедливости, сможет меня упрекнуть?..» (Цицерон. Речь о консульских провинциях. 19-23)
Цицерон не забывает упомянуть о своем конкретном содействии Цезарю — пусть он прочитает об этом в сенатском вестнике:
«Нам недавно докладывали о жалованье для его войска. Я не только подал свой голос за это предложение, но и постарался, чтобы подали свой голос и вы: я отвел много возражений, участвовал в составлении решения...» (Там же, 28)
В той же речи Цицерон рассказывает историю своих отношений с Цезарем. Оказывается, они дружили еще в юности, встречались у общего родственника. Потом разошлись во взглядах. Но Цезарь не раз свидетельствовал свои дружеские чувства к Цицерону. Деликатный вопрос о Клодий Цицерон обходит так:
« Он перевел в плебеи моего недруга либо в гневе на меня, так как видел, что не может привлечь меня на свою сторону, даже осыпая меня милостями, либо уступив чьим-то просьбам. Однако даже это не имело целью оскорбить меня. Ибо впоследствии он меня не только убеждал, но даже просил быть его легатом». (Там же, 41)
Цицерон отказался, обидел этим Цезаря и тот отвернулся от него. Но потом простил и одобрил его возвращение из изгнания. В конце своей речи Цицерон говорит:
«Я — человек благодарный, на меня действуют не только большие милости, но даже и обычное доброе отношение ко мне». (Там же, 44)
Однако в письме другу Аттику, отправленному спустя месяц, все выглядит куда проще и прозаичнее:
« Так как меня не хотят любить те, кто бессилен (сенаторы. — Л.О.), постараюсь быть любимым теми, кто обладает властью.
Ты скажешь: «Я давно хотел этого». Знаю, что ты хотел, и что я был подлинным ослом. Но уже пора мне полюбить самого себя...» (Письма... т. 1, №110)
Вместе с тем, именно сейчас, когда он отступает, Цицерону очень хочется, чтобы и современники, и потомки поняли его, не осудили, а главное — не забыли того, что он уже сделал для отечества. После подавления заговора Катилины он не раз, как мы помним, похвалялся своим мужеством. Сейчас, когда он капитулировал перед грубой силой, ему необходимо чье-то стороннее подтверждение его отваги и заслуг. Одновременно с цитированным только что письмом Аттику, в том же июне 56-го года Цицерон пишет историку и литератору Луцию Лукцею:
«При встречах я часто делал попытки говорить с тобой об этом, но меня пугал какой-то почти деревенский стыд; на расстоянии я изложу это более смело: письмо ведь не краснеет. Я горю невероятным и, думается мне, не заслуживающим порицания желанием, чтобы мое имя было возвеличено и прославлено твоими сочинениями. Хотя ты и не раз высказывал намерение сделать это, я все же прошу тебя извинить меня за то, что тороплю тебя... ибо я неспокоен духом и хочу, чтобы прочие люди узнали обо мне из твоих книг еще при моей жизни, и чтобы я сам при жизни насладился своей скромной славой». (Письма... т. 1, № 112)
Не торопись, читатель, осуждать Цицерона. Конечно же, он был тщеславен, и не из тех, кто грудью ложится на амбразуру. При всех своих талантах он по характеру был просто человек — такой же, как мы. Со слабостями. Порою склонный к панике, даже отчаянию. Но иногда — и к отчаянной храбрости. Мы это еще увидим. Не будем торопиться с выводами.
В феврале 55-го года Цицерон пишет другу Публию Лентулу:
«...ты хорошо понимаешь, как трудно отказаться от своего мнения насчет государственных дел, особенно когда оно правильно и обоснованно. Тем не менее, я приспособляюсь к желаниям того, кому не могу с честью противоречить, и делаю это без притворства, как, может быть, кажется некоторым. Душевная склонность и, клянусь тебе, приязнь к Помпею настолько сильны у меня, что все, что полезно и желательно ему, уже кажется мне и справедливым и истинным». (Письма... т. 1, № 133)
Однако Помпей (как мы увидим дальше) после окончания срока своего консульства в Риме почти не бывает. В городе воцаряется анархия, и Цицерон предпочитает держаться подальше от Клодия. Форум и сенатскую курию приходится сменить на дальнюю усадьбу близ Капуи, живое участие в политической жизни Рима — на размышления и литературный труд. В мае 54-го года Цицерон пишет брату Квинту, который командует легионом в войске Цезаря:
«Пишу сочинение под названием «Государство», о котором я сообщал тебе. Оно подвигается медленно и с большим трудом. Но если оно будет соответствовать моим ожиданиям, то мой труд оправдается. Если нет, брошу его в это самое море, на которое я смотрю во время работы, и приступлю к другим сочинениям, так как не могу оставаться без дела». (Письма... т. 1, № 137)
(Наверное, среди читателей есть строгие ревнители достоверности. Возможно, их возмутила вольность автора, выдумавшего монолог Цицерона в изгнании на морском берегу — в начале этой главы. Но пусть они сверят этот монолог с трактатом Цицерона, который в русском переводе называется «О государстве»...)
Между тем, скорее всего, через Квинта налаживается контакт Цицерона с самим Цезарем.
Квинту Туллию Цицерону, в провинцию Цизальпинская Галлия (Кумекая или Помпейская усадьба, май 54 года)
«...я получил твое письмо... вместе с письмом от Цезаря, полным всякой любезности, внимания, приязни. Это очень важно, или, вернее, самое важное и имеет большое значение для достижения славы и высокого положения. Но верь мне (ведь ты знаешь меня), то, что я ценю выше всего, это я уже имею, именно: во-первых, то, что ты в такой степени служишь нашему общему достоинству, затем — такую дружбу Цезаря ко мне, которую я ставлю выше всех этих почестей, которых, согласно его желанию, я должен ожидать от него... там, где дело идет о почитании этого человека, я долго спал, хотя ты, клянусь, часто будил меня. Теперь я быстро заглажу свою медлительность бегом коней и даже поэтических квадриг (раз он, как ты пишешь, одобряет мою поэму)... (Не дошедшая до нас поэма Цицерона «О моем времени». — Л.О.) (Письма... т. 1, № 138)
Цезарь просит Цицерона руководить постройкой нового форума. Марк возвращается в Рим. Облеченный таким доверием, он может больше не опасаться Клодия. Грандиозность задачи его увлекает — в нем очнулся художник, знаток и ценитель искусства великих греков. «Нет ничего более приятного, — пишет он Аттику, — чем это сооружение, ничего более славного» (Письма... т. 1, № 140). Заручившись поддержкой и даже дружбой двух всемогущих триумвиров (Красс в это время уже отбыл на войну с парфянами), Цицерон наконец чувствует себя уверенно:
Квинту Туллию Цицерону, в Трансальпийскую Галлию (Рим, июль 54-го года) «...ты, конечно, спрашиваешь, чего я жду от следующего года. Думаю, что он либо будет вполне спокойным для нас, либо, во всяком случае, вполне безопасным. Об этом мне ежедневно говорит мой дом (т.е. множество приветствующих посетителей по утрам. — Л.О.), форум, приветствия в театре. И я не тревожусь в сознании некоторой нашей силы, потому что мы пользуемся расположением Цезаря, расположением Помпея — это придает мне уверенность. Если же у потерявшего рассудок человека прорвется какое-нибудь безумие, то все подготовлено, чтобы сломить его». (Письма... т. 1, № 141)
Убедившись, что Цицерон в безопасности, мы можем его оставить и вернуться к Помпею. Посмотрим, чем был занят он в течение двух лет, прошедших после знаменитого свидания в Луке. С сенатом он, разумеется, опять порвал. Выборы консулов на 55-й год должны были, как обычно, состояться в июле предшествующего года. Согласно договоренности с Цезарем, Помпей и Красс выставляют свои кандидатуры. Сенат выдвигает заведомого врага Цезаря — Луция Домиция Агенобарба. Его избирательную кампанию будет возглавлять недавно возвратившийся в Рим Катон.
Цезарь не может прислать солдат на выборы ранее зимы. Поэтому Помпей и Красс всеми правдами и неправдами оттягивают собрание избирательных комиций. Однажды, когда Домиций и Катон со своими сторонниками спускались на форум, вооруженные люди Помпея напали на них, убили факелоносца, а остальных обратили в бегство. Катон был ранен. Подобным образом, благодаря хаосу и насилию, выборы удается отсрочить до января 55-го года. Цезарь сдержал свое обещание и прислал в Рим, как бы в отпуск, большой отряд солдат. Красс и Помпей были избраны.
Их консульство ничем замечательным не отмечено, если не считать законного оформления всех договоренностей, достигнутых в Луке. Соответствующие постановления проводились прямо через Народное собрание, минуя сенат. Наместничество Цезаря в Галлии продлили еще на пять лет, то есть до 1 марта 49-го года. Было утверждено и разрешение ему баллотироваться на выборах консулов 48-го года заочно. Помпею и Крассу были назначены наместничества в Испании и Сирии — тоже на пять лет. Напуганный сенат еще раньше утвердил денежное обеспечение огромной армии Цезаря. Триумвиры торжествовали полную победу.
Впрочем, кое-какая республиканская оппозиция, возглавляемая Катоном, еще сопротивлялась. В суде иной раз удавалось добиться осуждения чересчур зарвавшихся клевретов трех властителей (одного даже отправили в изгнание). Независимее других держали себя поэты из среды аристократической молодежи. Поэзия — как это нередко бывает во времена политической несвободы — приобретала широкую популярность. Едкие эпиграммы Кальва и Катулла облетали всю Италию. Из триумвиров они беспокоили, пожалуй, одного только Цезаря, который не только высоко ценил искусство, но и понимал его роль в формировании общественного мнения. С Катуллом ему удалось примириться незадолго до ранней смерти поэта.
Как я уже упоминал, на средства Цезаря и при участии Цицерона в Риме возводится прекрасный новый форум. Соперничая с Цезарем, Помпей спешит закончить строительство на Марсовом поле большого и роскошного каменного театра с прилегающим к нему обширным портиком.
Во второй половине года прошли выборы администрации на 54-й год. На этот раз Луций Домиций был избран консулом, а Катон — претором. Но это уже не беспокоило триумвиров. Все военные ресурсы страны, а, значит, и вся реальная сила, находились в их руках. Однако распорядились они полученными полномочиями по-разному. Потеряв осенью 54-го года два легиона, Цезарь набрал три новых и один ему на время был прислан Помпеем. С десятью легионами он упорно старается погасить пламя великого Галльского восстания, вспыхнувшего под руководством Амбиорига. Красс набрал большое войско и отбыл в Сирию на войну с парфянами. Помпей тоже произвел набор солдат, но в Испанию не поехал. В качестве управителей он послал туда своих доверенных легатов, а воинов на время распустил по домам. Из Рима он уехал и месяц за месяцем проводил в своих поместьях с любимой женой (я по этому поводу цитировал Плутарха в начале главы). После четырех лет напрасных молитв и ожиданий Юлия разрешилась преждевременными родами, а теперь была вновь беременна.
Тем временем анархия и смута в Риме нарастают. Аппиан в таких выражениях описывает обстановку в Вечном Городе:
«...магистраты назначались среди раздоров и взяточничества, при всякого рода злоупотреблениях, с помощью камней и мечей. Тогда бесстыдно царили подкуп и взятка, и сам народ приходил на выборы подкупленным... Случалось, что консулы теряли надежду отправиться в поход, связанные правлением триумвиров. Худшие из них вместо военных походов извлекали барыши из государственных сумм и из выборов себе преемников. Порядочные люди вследствие этого перестали занимать государственные должности, так что из-за такой анархии государство однажды в течение восьми месяцев оставалось без магистратур». (Аппиан. Гражданские войны, II, 19)
Всеобщее замешательство и тревога еще усилились, когда летом 54-го года в Рим пришло известие, что жена Помпея Юлия умерла родами, а через несколько дней умерла и ее новорожденная дочь. Нить, связывавшая Цезаря и Помпея, порвалась. Глубокое горе, испытанное обоими, их не сблизило, как это часто бывает, а наоборот, оттолкнуло друг от друга. (Сколько загадок предлагает нам история! Многое в ней, конечно, закономерно и предопределено, но иногда роковым образом вмешивается случай. Конечно же, в древние годы женщины нередко умирали родами. Но ведь не каждая вторая или даже третья роженица! Если бы Юлия не умерла? Если бы ей удалось помешать гибельному противоборству двух любимых ею людей — отца и мужа?..)
Подавленность и смятение, овладевшие римлянами, прорываются в строках письма, которое в конце года Марк Цицерон пишет Квинту:
«...Тревога мучит меня, мой любимый брат, тревога: нет государства, нет судов...» (Письма... т. 1, № 153)
А в следующем году приходит еще одно печальное известие — на войне с парфянами погиб Красс. Он предательски убит во время переговоров о заключении мира, правда, в ситуации, когда его войско уже было разбито. Для нашего рассказа это имеет лишь то значение, что Цезарь, в случае осложнения отношений с Помпеем, уже не может рассчитывать на поддержку его давнего соперника. Но отдадим посмертную дань Крассу Последние дни жизни вернули ему право на уважение римских воинов. Его любимый сын Публий погиб при выполнении обходного маневра. Парфяне принесли его голову на пике к лагерю Красса. Все воины пришли в ужас от этого зрелища:
«Однако же Красс, — свидетельствует Плутарх, — как сообщают, в этом несчастье превзошел мужеством самого себя. Вот что говорил он, обходя ряды: «Римляне, меня одного касается это горе! А великая судьба и слава Рима, еще не сокрушенные и не поколебленные, зиждутся на вашем спасении. И если у вас есть сколько-нибудь жалости ко мне, потерявшему сына, лучшего на свете, докажите это своим гневом против врагов. Отнимите у них радость, покарайте их за свирепость, не смущайтесь тем, что случилось: стремящимся к великому должно при случае и терпеть... Ибо не только счастьем, а стойким и доблестным преодолением несчастий достигло римское государство столь великого могущества». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Красс, XXVI)
Но вернемся в Европу. Поначалу расхождения Цезаря и Помпея ни в чем конкретном не проявлялись. Военные действия в Галлии вступили в свою решающую фазу. Помпей держался в стороне от, как теперь модно говорить, «беспредела», воцарившегося в Риме, ожидая момента, когда сенат вынужден будет призвать его на помощь. Этот момент наступил в самом начале 52-го года. Шайки Клодия и Милона случайно встретились на Аппиевой дороге. В произошедшей стычке Клодий был ранен, а затем по приказу Милона добит. Смерть Клодия, ввиду его популярности у римского плебса, повлекла за собой вспышку массового насилия. Как свидетельствует Аппиан:
«Когда известие об этом несчастье было принесено в Рим, пораженный народ провел ночь на форуме, а с наступлением дня выставил тело Клодия на ростре. Затем некоторые из народных трибунов, а также друзья Клодия, окруженные толпой, перенесли его труп в курию. Это было сделано для того, чтобы оказать Клодию посмертные почести, так как он принадлежал к сенатскому сословию, или, быть может, для того, чтобы выразить порицание сенату, пренебрегающему происшедшим. Те из присутствующих, кто был посмелее, снесли в одно место скамьи и сиденья сенаторов и подожгли их, отчего курия и много соседних домов сгорели вместе с телом Клодия.
Наглость же Милона дошла до того, что он не столько боялся ответственности за убийство Клодия, сколько негодовал на то, что Клодию оказали такую честь на похоронах. Собрав толпу рабов и сельчан, раздавая деньги народу и подкупив народного трибуна Марка Целия, Милон дерзко вернулся в Рим...»
Милон является на форум и принародно клянет покойного Клодия. Начинается новая драка, в ход опять идет оружие. Сторонников Клодия оказывается больше. Милон и Целий вынуждены бежать...
«Однако, — продолжает свой рассказ Аппиан, — начались массовые убийства других, так как искали уже не друзей Милона, но убивали кого придется, граждан и иностранцев, а в особенности тех, кто выделялся одеждой или золотыми перстнями. Как бывает в моменты государственной анархии, беспорядками воспользовались рабы. Они предались грабежам, так как их было большинство и они действовали оружием против безоружных. Они не гнушались никаким преступлением: бросались в дома и, обходя их, на словах разыскивали друзей Милона, а на деле — все, что можно было взять. В течение многих дней Милон служил им предлогом и для поджогов, и для избиения камнями, и для других дел такого рода». (Аппиан. Гражданские войны. II, 21, 22)
Сенат в страхе собирается и объявляет отечество в опасности. Консулы из-за беспорядков все еще не избраны. Решено обратиться к Помпею. Сенаторы хорошо знают, что Помпей Магн тщеславен и простоват — легко поддается на лестные слова и неопределенные обещания. Пока что ему в качестве проконсула поручается собрать войско и подавить буйство черни. Он это делает быстро и энергично. Отовсюду раздаются требования назначить победителя Митридата диктатором на полгода для восстановления спокойствия и порядка в государстве. Но сенат опасается такого возвышения Помпея. Ссылаясь на то, что после Суллы народ диктатуру не одобрит, он, по совету Катона, впервые в римской истории назначает Гнея Помпея единственным консулом (без коллеги). Это тоже единовластие, но значительно более ограниченное и подотчетное сенату.
Для восстановления порядка Помпей проводит законы, строго карающие насильственные действия и подкуп граждан на выборах, а также закон об упрощении и ускорении процедуры суда. Начинается серия процессов против различных злоупотреблений и взяточничества. Привлекают к суду (за убийство) и Милона, против которого не утихает возмущение толпы. Между тем, Милон был одним из трибунов, помогавших возвращению из ссылки Цицерона. И потому, несмотря на поношения и прямые угрозы, Марк принимает на себя его защиту. Ведь не воздать за благодеяние постыдно! Это он решил для себя еще в молодые годы. Суд состоится в апреле 52-го года. Обстановка так накалена, что Помпей вынужден поставить на форуме войска, дабы защитить от буйной толпы обвиняемого, судей и защитника.
В предисловии к публикации речи Цицерона на этом суде комментатор 1-го века после Р.Х. пишет:
«...непоколебимость и верность Цицерона были так велики, что ни враждебность народа, ни подозрения Гнея Помпея, ни опасность суда народа, ни оружия, за которое открыто взялись против Милона, не могли отпугнуть его от защиты...» (Цицерон. Речь в защиту Тита Анния Милона)
Кстати, читатель, я обещал показать тебе примеры отчаянной храбрости Цицерона. Это — один из них. Не последний!
Однако, несмотря на все старания Цицерона, Милон признан виновным и должен немедленно удалиться в изгнание. Весной следующего, 51-го года Цицерон тоже вынужден покинуть Рим. Он получает от сената назначение проконсулом в Киликию, куда (не в пример другим наместникам) ему ехать очень не хочется.
Тем временем народ успокоился, и порядок в Риме постепенно восстановился. Авторитет и популярность Помпея вновь выросли чрезвычайно. На последние пять месяцев года он великодушно приглашает в качестве коллеги-консула ярого поборника сената, Клавдия Метелла Сципиона, на дочери которого, Корнелии, он только что женился. Вновь происходит явное сближение Помпея с сенатом. Наместничество в Испании (куда он до сих пор так и не выбрался) ему продлевают еще на четыре года. А вместе с ним и право командовать войсками. На их содержание сенат распоряжается отпускать по шесть миллионов денариев ежегодно.
Прямых выпадов против Цезаря Помпей себе пока не позволяет и даже как будто все еще поддерживает его просьбу о заочной баллотировке в консулы на 48-й год. Впрочем, не настаивает, когда Катон решительно возражает против этого (напомню, что заочное избрание Цезаря народное собрание разрешило еще в 55-м году).
Под предлогом продолжения войны с парфянами, о чем на самом деле пока никто всерьез не помышляет, Помпей посылает Цезарю требование вернуть одолженный легион. Сенат под тем же предлогом приказывает прислать еще один. Цезарь послушно отправляет в Италию два легиона, хотя ситуация у него критическая — идет восстание Верцингеторикса. Он прекрасно понимает, зачем у него отбирают легионы. Но необходимо выиграть время, чтобы закончить дело в Галлии!
Отвлечемся ненадолго от римских дел, чтобы выяснить, как Цицерон в далекой Киликии проявляет себя в качестве наместника провинции. Ничего важного там не происходит, наш интерес продиктован совсем другим. Дело в том, что для описания драматических событий, которые вот-вот развернутся в Италии, в нашем распоряжении будут уникальные документы — личные письма Цицерона того времени. Чтобы ими критически воспользоваться, следует ясно представлять, не изменилась ли нравственная позиция автора, заявленная еще в молодые годы (и подтвержденная его безупречной службой в качестве квестора в Сицилии). С тех пор прошло двадцать пять лет. За это время Цицерон поднимался на высшую ступень власти, снискал себе великую славу. Далеко не все государственные деятели выдерживают такое испытание. Далеко не всегда сохраняют они приверженность строгим нравственным нормам, оказываются способны удержаться от соблазна сделать исключение для себя. Наместничество — великое искушение! Беспримерное обогащение наместников за счет разного рода поборов и мздоимства давно уже стало нормой в римских провинциях. Когда-то юный Цицерон пылко обличал по этому поводу Верреса. Но и с той поры уже минуло двадцать лет. А как пали за это время нравы!.. К тому же Цицерон питает чрезвычайное пристрастие к греческим скульптурам и картинам, которыми так хочется украсить дом и свои маленькие, но такие уютные усадьбы. А он небогат...
Сохранилось письмо Цицерона брату, написанное еще в начале 59-го года. Марк утешает Квинта в связи с тем, что ему продлили наместничество в Азии, которым тот тяготится.
«...величайшая слава, — пишет Марк, — пробыть в Азии три года, будучи облеченным высшей властью, причем ни одна статуя, ни одна картина, ни одна ваза, ни одно одеяние, никакой раб, ничья красота, никакой денежный подарок — все, чем изобилует эта провинция, не отвлекли тебя от величайшей неподкупности и воздержанности.
Что может оказаться столь исключительным и столь завидным, как не то, что эта доблесть, воздержанность, мягкость не скрывается во мраке и отдалении, а находится на виду у Азии, на глазах прославленной провинции, и о них слышат все племена и народы? Что твои разъезды не устрашают людей, расходы не разоряют, прибытие не пугает? Что всюду, куда бы ты ни приехал, можно видеть проявление величайшей радости — и официально, и у частных лиц, когда кажется, что город принимает защитника, а не грабителя?» (Письма... т. 1, № 30)
В том же письме несколько советов о производстве суда наместником: « ... проявляй в своих судебных решениях наибольшую строгость, лишь бы она не изменялась вследствие твоего расположения и оставалась беспристрастной... К этому нужно также прибавить доступность при выслушивании, мягкость при вынесении решения... дело великого человека, умеренного по своей природе и образованного благодаря воспитанию и изучению высоких искусств — обладая столь большой властью, вести себя так, чтобы те, над которыми он поставлен, не желали никакой другой власти». (Там же)
Но со времени написания этого письма тоже прошло восемь лет. И каких! Дом в Риме разрушен, усадьбы сожжены. Какие сокровища искусства погибли!.. А теперь все так дорого... Устоит ли Цицерон перед искушением?
Вот отрывок из письма Аттику, написанного в начале августа 51-го года: «...в канун секстильских календ (31 июля. — Л.О.) мы прибыли в погубленную и навеки совершенно разоренную провинцию, ожидавшую нас с великим нетерпением. Мы услыхали только одно: внести указанные подушные они не могут, продажное все продано. Стоны городов, плач, чудовищные поступки не человека, но какого-то огромного дикого зверя. Что еще нужно? Им вообще в тягость жизнь. Однако несчастные города оправляются благодаря тому, что не несут никаких расходов ни на меня, ни на легатов, ни на квестора, ни на кого бы то ни было. Знай, что мы не берем не только сена или иного, что обычно дается по Юлиеву закону, но даже дров. Помимо четырех кроватей и крова, никто ничем не пользуется, а во многих местах мы даже не требуем крова и большей частью остаемся в палатке. Поэтому происходит невероятное стечение людей с полей, из деревень, из всех городов. Клянусь, они оживают даже от нашего приезда. Справедливость, воздержанность и мягкость твоего Цицерона, таким образом, превзошли всеобщее ожидание». (Письма... т. 2, № 208)
Я нарочно цитирую бытовые подробности размещения знатных людей (легаты, квестор). Вернувшись через год в Рим, они могли бы опровергнуть информацию Цицерона. Поэтому в ее достоверности можно не сомневаться. Но ведь он только что прибыл в провинцию. Быть может, власть и соблазны еще не успели его совратить? Что было потом? Вот отрывок из письма тому же адресату спустя девять месяцев:
«В городах происходили необычайные хищения, которые ранее совершали сами греки, местные должностные лица. Я сам допросил тех, кто занимал должности в течение последних десяти лет. Они открыто признались. Поэтому они без бесчестия своими руками возвратили деньги населению, а население без всякого стона выплатило откупщикам, которым оно ничего не вносило в течение этого пятилетия, также и деньги, причитавшиеся за предыдущее пятилетие... Доступ ко мне менее всего напоминает провинциальные обычаи: отнюдь не через прислугу. На рассвете (просителям полагается приходить утром. — Л.О.) я брожу по всем дому один...» (Письма... т. 2, № 257)
И все-таки это — письма самого Цицерона. Нет ли чьего-нибудь свидетельства со стороны? Есть. Вот что пишет Плутарх, сопоставляя жизнеописания Демосфена и Цицерона:
«...Цицерона посылали квестором в Сицилию и правителем в Киликию и Каппадокию, и в ту пору, когда корыстолюбие процветало, когда военачальники и наместники не просто обворовывали провинции, но грабили их открыто, когда брать чужое не считалось зазорным и всякий, кто соблюдал меру в хищениях, тем самым уже приобретал любовь жителей, в эту пору Цицерон дал надежные доказательство своего презрения к наживе, своего человеколюбия и честности». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, LII)
Итак, похоже, что с Цицероном все в порядке. Наместничество его прошло благополучно. Он даже провел успешные, хотя и скромные по своим масштабам, военные действия по усмирению горцев. Солдаты провозгласили его императором, и он питает честолюбивую надежду получить в Риме триумф. Поздней осенью 50-го года Цицерон пускается в обратный путь на родину.
Вернемся туда и мы. Подавлявшаяся в течение стольких лет ревность к громкой военной славе бывшего тестя целиком владеет душой Помпея. Тому еще способствовало одно событие, произошедшее уже весною 50-го года, которое не случайно так подробно описывает Плутарх:
«Помпей опасно занемог в Неаполе, но поправился. Неаполитанцы... справили благодарственное празднество в честь избавления его от опасности. Неаполитанцам стали подражать соседи, и, таким образом, празднества распространились по всей Италии, так что маленькие и большие города один за другим справляли многодневные праздники. Не хватало места для тех, кто отовсюду сходился на праздник: дороги, селения и гавани были переполнены народом, справлявшим празднества с жертвоприношениями и пиршествами. Многие встречали Помпея, украсив себя венками, с пылающими факелами в руках, а провожая, осыпали его цветами, так что его возвращение в Рим представляло собой прекрасное и внушительное зрелище...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, LVII)
Ах, не надо слишком доверять народным восторгам! Так часто за ними стоит не более чем желание праздника...
«Это-то обстоятельство, — продолжает Плутарх, — как говорят, более всего и способствовало возникновению войны. Ибо гордыня и великая радость овладели Помпеем и вытеснили все разумные соображения об истинном положении дел. Помпей совершенно отбросил теперь свою обычную осторожность, которая прежде всегда обеспечивала безопасность и успех его предприятиям, стал чрезмерно дерзок и с пренебрежением говорил о могуществе Цезаря... К тому же в это время из Галлии прибыл Аппий с легионами, которые Помпей дал взаймы Цезарю. Аппий сильно умалял подвиги Цезаря в Галлии и распространял о нем клеветнические толки. Помпей, говорил он, не имеет представления о своем собственном могуществе и славе, если хочет бороться против Цезаря каким-то иным оружием, в то время как он может сокрушить соперника с помощью его же собственного войска, лишь только появится перед ним — так велика, дескать, в этой войне ненависть к Цезарю и любовь к Помпею...» (Там же)
И Помпей верил? Поразительное ослепление! Не сам ли Цезарь был автором этих «свидетельств» Аппия? Но закончим цитату из Плутарха:
«Так Помпей проникался все большим высокомерием и, веря в свое могущество, дошел до такого пренебрежения к силам соперника, что высмеивал тех, кто страшился войны. Тех же, кто говорил ему, что не видит войска, которое будет сражаться против Цезаря, если тот пойдет на Рим, Помпей с веселой улыбкой просил не беспокоиться. «Стоит мне только, — говорил он, — топнуть ногой в любом месте Италии, как тотчас из-под земли появится и пешее, и конное войско». (Там же)
Между тем Цезарь победно заканчивает Галльскую войну. У него десять закаленных в боях и, вопреки клевете Аппия, беспредельно преданных легионов, несметная добыча, масса пленных. В отличие от Помпея, сенат со страхом ожидает возвращения Цезаря. И вот еще в 51-м году в Риме затевается против него интрига. Суть ее в следующем.
Срок уже продленного на вторые пять лет наместничества Цезаря истекает 1 марта 49-го года. Согласно прежнему порядку вещей его мог сменить только консул того же 49-го года — после сложения своих полномочий. Тогда командование Цезаря войсками в Галлии продолжилось бы до начала 48-го года. Между тем, как раз на этот год он собирался заочно баллотироваться в консулы, что было ранее согласовано с Помпеем и разрешено народом. В случае избрания Цезарь перешел бы с должности наместника непосредственно на должность консула, сохранив без перерыва неподсудность при исполнении служебных обязанностей. Однако тот же Помпей только что провел два новых закона. Один — предписывающий посылать бывшего консула наместником не ранее пяти лет после сложения полномочий. В соответствии с этим законом для немедленной замены Цезаря имелось сколько угодно претендентов. Второй закон запрещал заочное избрание в консулы. Хотя в нем и содержалась туманная оговорка о возможности персональных исключений, но кандидатура Цезаря при этом не упоминалась. Оба закона были направлены к тому, чтобы сместить Цезаря в марте 49 года, заставить его распустить войско, вызвать в Рим и, пока он будет частным лицом, привлечь к суду по обвинению в злоупотреблениях властью в Галлии. Для осуществления этого замысла, с явного согласия Помпея, консулом на 51-й год выбирают Марка Клавдия Марцелла — известного противника Цезаря. Он будет добиваться от сената решения об отставке Цезаря точно в срок. Ему это сделать не удается, но пока еще есть время. Консулом на 50-й год избирают его двоюродного брата Гая, а все семейство Клавдиев Марцеллов ненавидит Цезаря. Интрига развивается. Помпей в ней участвует уже открыто. Тревожные слухи о неизбежном столкновении двух полководцев ползут по городу.
Цезарь принимает ответные меры. Восстание Верцингеторикса подавлено, и он может позволить себе действовать решительно. Второй консул 50-го года Эмилий Павел, сторонник сената, дабы увековечить свое имя, занят строительством роскошной базилики на римском форуме, но денег ему не хватает. Цезарь «бескорыстно» жертвует на это благое дело целых девять миллионов денариев. Такой благотворительностью нейтралитет одного из двух консулов обеспечен. Вторая ключевая фигура — трибун Курион. Он — приятель Цицерона, весьма энергичен, пользуется популярностью в народе, и его враждебное отношение к Цезарю общеизвестно. Это бретер и кутила. Устойчивых принципов у него нет, а чудовищные долги — есть. Цезарь выкладывает еще более крупную сумму на их погашение. За это он требует от Куриона прямого содействия и получает его тайное согласие.
Гай Марцелл вносит в сенат предложение о безотлагательном назначении в Галлию преемника Цезарю. Курион одобряет рекомендацию консула, но... в дополнение предлагает, чтобы и Помпей сложил с себя полномочия наместника в Испании и право командовать войсками. Ему возражают, что ставить Помпея и Цезаря на одну доску несправедливо: у Цезаря кончается десятый год наместничества, а Помпею сенат лишь недавно продлил полномочия на второй пятилетний срок. Курион настаивает «в интересах государства». Согласно свидетельству Аппиана:
«Курион формулировал свое предложение яснее и резче, говоря, что не следует посылать преемников Цезарю, если не дать их и Помпею. Так как они относятся с недоверием друг к другу, то в государстве не наступит спокойствия, пока оба они не превратятся в частных людей». (Аппиан. Гражданские войны. II, 27)
Но вслед за этим римский историк добавляет:
«Курион предлагал все это, зная, что Помпей не откажется от власти. С другой стороны, он видел, что народ уже несколько охладел к Помпею из-за процессов о подкупе (избирателей. — Л.О.). Так как предложение Куриона было весьма приемлемым, то народ хвалил его как единственного человека, который, действуя достойно города Рима, навлек враждебное отношение к себе обоих. Однажды толпа даже сопровождала Куриона, осыпая цветами, как великого борца в трудном состязании». (Там же)
Помпей заверяет сенат, что готов передать свои полномочия когда угодно и кому угодно, но согласно тому же свидетельству:
«Все это Помпей говорил для того, чтобы Цезарю были немедленно посланы преемники, а сам он отделался бы одними обещаниями. Курион же, угадывая его хитрость, заявлял, что одних обещаний мало; надо, чтобы он тотчас же сложил власть...» (Там же, II, 28)
В итоге никакого решения принято не было, и Курион, воспользовавшись полномочиями трибуна, закрыл заседание сената. На другом заседании, в июле 50-го года, вопрос был поднят снова. Благодаря давлению народа Курион одерживает победу: подавляющим большинством голосов сенат принимает решение о том, чтобы Цезарь и Помпей сложили свою власть одновременно. Однако другой трибун, помпеянец, накладывает вето на это решение. Возникает «патовая» ситуация. Но вот в конце года внезапно распространяется слух, что Цезарь перешел с войском Альпы и идет к Риму. Поднимается великое смятение. Марцелл требует от сената решения о том, чтобы два легиона (прибывшие из Галлии) под командой Помпея выступили против Цезаря, как врага отечества. Курион возражает, ссылаясь на недостоверность слуха, и грозит наложить свое вето. На это Марцелл в гневе заявляет: «Если мне мешают общим постановлением устроить дело на пользу государству, то я буду устраивать его от своего имени, как консул». (Там же, 31) Он вместе со своим коллегой отправляется в предместье Рима к Помпею (наместник не имеет права находиться в черте города) и подавая Помпею меч, говорит:
«Мы приказываем тебе — я и вот он — выступить против Цезаря за отечество. Для этого мы даем тебе войско, которое находится в Капуе или в другом месте Италии, или то, которое тебе угодно будет набрать». Помпей повиновался приказанию консулов, однако прибавил: «Если нет ничего лучшего». И здесь Помпей, — замечает Плутарх, — обманывал или хитрил ради соблюдения приличия». (Там же)
Курион не мог наложить вето на распоряжение Марцелла, так как власть народных трибунов не распространяется за черту города. Видя, что он ничего больше не добьется, и опасаясь насилия, Курион сложил с себя полномочия трибуна (благо они уже заканчивались) и уехал к Цезарю.
Слух оказался ложным, но не вполне. Цезарь действительно перевел один из своих легионов (13-й) через Альпы в Цизальпинскую Галлию, что он вправе был сделать, но отнюдь не шел на Рим, даже не пересек границу римского государства, которая проходила по речушке Рубикон (примерно на уровне нынешней Флоренции). Тем не менее, Помпей 7 декабря отбыл к легионам, которые стояли в Капуе и отдал распоряжение о наборе войска. Гражданская война надвигалась неотвратимо.
В конце ноября Цицерон высаживается на юге Италии. Еще на пути сюда он получил тревожные известия о событиях в Риме. Они повергают его в смятение. 16-го октября из Афин он пишет Аттику:
«...Ведь я думал следующее: для меня ни в случае союза с Помпеем не будет неизбежным когда-либо погрешить перед государством, ни при согласии с Цезарем не придется сразиться с Помпеем: так тесен был их союз. Теперь, как ты указываешь и я вижу, угрожает сильнейшая распря между ними... Однако я получил от каждого из них, в одно время с твоим по письму такого рода, что может показаться, будто ни один из них решительно никого не ставит выше, чем меня.
Но что мне делать? Имею в виду не отдаленные события (ведь если дело будет решаться военными действиями, лучше быть побежденным вместе с одним, нежели победить вместе с другим), но то, о чем будет речь тогда, когда я приеду, — чтобы не обсуждался вопрос об отсутствующем (Цезаре. — Л.О.), чтобы он распустил войско. «Скажи, Марк Туллий!» Что я скажу? «Прошу тебя, подожди, пока я не встречусь с Аттиком?» Уклоняться неуместно. Против Цезаря?.. Буду ли я другого мнения? Стыд мне не только перед Помпеем, но и перед троянцами и троянками (это из Илиады - Л.О.)». (Письма... т. 2, № 283)
Постепенно Цицерон все решительнее настраивается против Цезаря. Ведь тот выступает против сената, а значит — против Республики! Цицерон давно уже подозревал в нем это намерение. Цезарь открыто попирает закон, предписывающий наместнику сдать власть по окончании срока полномочий. Посягнувший на закон поднимает руку на само Государство! В письме, отправленном Аттику по пути в Рим 9-го декабря, Цицерон пишет о Цезаре и его сторонниках в тех же выражениях, как некогда о заговорщиках Катилины:
«...мы имеем дело с чрезвычайно отважным и вполне подготовившимся человеком, причем все осужденные, все обесславленные, все достойные осуждения и бесчестия на той стороне. Почти вся молодежь, вся городская падшая чернь, влиятельные трибуны с Гаем Кассием, все, обремененные долгами, которых, как я понимаю, больше, нежели я полагал. Только оправдания нет у той стороны, все прочее в изобилии». (Письма... т. 2, № 293)
В следующем письме тому же адресату от 17 декабря — все еще на пути в Рим, куда Цицерон явно не торопится прибыть:
«...Ты скажешь: «Каково, следовательно, будет твое мнение?» Не такое же, какое выскажу: ведь мое мнение будет, что следует сделать все, чтобы избежать вооруженной борьбы, а скажу я то же, что Помпей, и сделаю это, не унижаясь. Но опять-таки это — огромное зло для государства, и мне, больше всех прочих, как-то не подходит при столь важных обстоятельствах отделяться от Помпея». (Письма... т. 2, № 296)
В конце декабря, неподалеку от Капуи, Цицерон встречается с Помпеем. Об этом он немедленно сообщает Аттику:
«...Ты предполагал, что я до приезда к вам повидаюсь с Помпеем. Так и произошло: ведь за пять дней до календ он догнал меня около Лаверния. Вместе приехали мы в Формии и тайно беседовали с восьмого часа (около 2-х часов дня. — Л.О.) до вечера. Ты спрашиваешь, есть ли какая-нибудь надежда на примирение. Насколько я понял из длинных и обстоятельных рассуждений Помпея, нет и желания. Он полагает, что если тот будет избран консулом даже после роспуска войска, то произойдет потрясение в государстве, а также считает, что тот, узнав, что против него тщательно готовятся, пренебрежет консульством в этом году и предпочтет удержать войско и провинцию. Но на случай, если бы тот безумствовал, он выражал сильное презрение к тому человеку и уверенность в средствах своих и государственных. Что еще нужно? Хотя мне часто представлялся общий у смертных Атрей (военное счастье изменчиво; из Илиады. — Л.О.), все-таки моя тревога облегчалась, когда я слышал, как храбрый, опытный и чрезвычайно сильный авторитетом муж, как государственный деятель, рассуждает об опасностях показного мира...» (Письма... т. 2, № 298)
В этом письме несколько любопытных моментов. Во-первых, Цицерон ни разу не называет имени Цезаря — по-видимому, из осторожности — на случай, если письмо попадет в чужие руки. Во-вторых, Помпей явно не думает, что Цезарь совершит «безумную» попытку явиться с войском в Италию — он будет удерживать провинцию. И наконец, запомним отзыв Цицерона о Помпее: «храбрый, опытный и чрезвычайно сильный...»
Между тем, Цезарь предпринимает попытку уладить дело миром. Он отсылает Куриона обратно в Рим с письмом к сенату. В письме он выражает согласие отказаться от наместничества и распустить войско, кроме двух легионов, которые останутся под его командой в Цизальпинской Галлии до середины 49-го года, когда состоятся выборы консулов, на которых он будет баллотироваться заочно. Этим он обеспечит свою безопасность. Письмо прочитано в сенате 1-го января 49-го года, но под нажимом новоизбранного консула Луция Лентула и тестя Помпея Метелла Сципиона оно не обсуждается, а вместо этого сенат принимает решение, обязывающее Цезаря сложить свои полномочия к 1 марта. В своей книге «Гражданская война» Цезарь настаивает на том, что это решение было вырвано у сената силой:
«...под влиянием окриков консула, — пишет он, — страха перед стоявшим вблизи войском и угроз друзей Помпея, большинство против воли и по принуждению присоединяется к предложению Сципиона, которое гласило: Цезарь должен к известному сроку распустить свою армию. В противном случае придется признать, что он замышляет государственный переворот». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. 1. 2)
На решение сената накладывают вето новоизбранные народные трибуны Марк Антоний и Квинт Кассий. В ответ на это 7-го января сенат объявляет чрезвычайное положение. Теперь консулы — противники Цезаря — получают неограниченную власть, в том числе и против непокорных трибунов. Антоний, Кассий и Курион той же ночью, переодетые рабами, бегут к Цезарю.
Весьма существенный для понимания последующей позиции Цезаря вопрос: было ли это бегство вынужденным? Была ли реальная угроза безопасности трибунов? Цезарь в «Гражданской войне» говорит об этом глухо: «народные трибуны спасаются бегством». Плутарх утверждает, что консул Лентул и его друзья «...дошли до того, что позорным и бесчестным образом выгнали Антония и Куриона из сената». И тут же добавляет: «Тем самым они дали Цезарю наилучшее средство разжечь гнев воинов — надо было лишь указать им на то, что почтенные мужи, занимающие высокие государственные должности, вынуждены были бежать в одежде рабов на наемной повозке». (Плутарх... Цезарь, XXXI) У Аппиана есть намек на возможность насилия:
«Консулы Марцелл (одним из консулов на 49-й год был снова избран представитель семьи Марцеллов — родной брат консула 51-го года) и Лентул приказали сторонникам Антония удалиться из сената, чтобы они не подверглись каким-нибудь оскорблениям, хотя они и были народными трибунами. Тогда Антоний с громким криком, в гневе вскочил со своего кресла и стал призывать на сенаторов гнев богов по поводу насилия над священной и неприкосновенной личностью трибунов. Не совершив ни убийства, ни каких-либо других гнусностей, они изгоняются только за то, что внесли предложение, которое, по их мнению, будет полезным. Сказав это, Антоний выбежал, словно одержимый бесом, предвещая предстоящие смуты, войны, убийства, проскрипции, изгнания, конфискации и тому подобное. В возбуждении он призывал тяжелые проклятия на головы виновников всего этого. Вместе с ним из сената выбежали Курион и Кассий, ибо оказалось, что уже один отряд, посланный Помпеем, окружает сенат. Они немедленно отправились к Цезарю, тайно, ночью в наемной повозке, переодетые рабами». (Аппиан. Гражданские войны. II, 33)
Здесь уже фигурируют солдаты Помпея, но очень подозрительна истерика Марка Антония. У меня возникает мысль: не был ли вариант с бегством трибунов обговорен заранее, когда Курион был у Цезаря? И эта деталь с переодеванием в платье рабов?!..
8 и 9 января, за городом, чтобы дать возможность Помпею принять в них участие, происходят еще два заседания сената. Решение об объявлении Цезаря врагом отечества (ранее заблокированное трибунами) вновь подтверждается. Помпею предоставлено право получать средства из государственной казны для содержания войска, с которым он должен выступить против Цезаря.
4-го января Цицерон наконец подъезжает к Риму, но медлит войти в город. Он все еще надеется получить триумф за военные действия в Киликии, а триумфатор не должен вступать в город до дня триумфа (о, суета и тщеславие человеческие! Рушатся устои государства, земля колеблется под ногами — мы это понимаем и все же не можем так вот сразу отказаться от взлелеянных надежд!). 12-го января Цицерон еще под Римом. Он, разумеется, еще не знает о том, что происходит в лагере Цезаря, и пишет своему вольноотпущеннику (и другу) Тирону (Тирону мы обязаны сбором и публикацией писем Цицерона после его смерти. Он собрал их у адресатов, и по копиям. Он же, между прочим, создал первую систему стенографии.):
«Я подъехал к Риму в канун январских нон. Навстречу мне вышли так, что большего почета не могло быть. Но я оказался в самом пламени гражданских раздоров или, лучше, войны...
Цезарь, друг наш, обратился к сенату с угрожающим и резким письмом и настолько бессовестен, что удерживает за собой войско и провинцию против воли сената, а мой Курион подстрекает его. Наш Антоний и Квинт Кассий, хотя никакая сила не изгоняла их, отправились к Цезарю вместе с Курионом, после того как сенат возложил на консулов, народных трибунов и меня... заботу о том, чтобы государство не понесло никакого ущерба (читатель помнит, что эта формула и означала введение чрезвычайного положения. — Л.О.)...
Области Италии распределены — какой частью каждому ведать. Я взял Капую». (Письма Марка Туллия Цицерона, т. 2, № 300)
Угрожающим и резким Цицерон называет письмо Цезаря потому, что в нем наряду с предложением компромисса содержится заявление о том, что если Помпей сохранит свою власть, то и он, Цезарь, от власти не откажется, а сумеет ее использовать. Нотка угрозы здесь действительно слышна.
Что же происходит в это время в лагере Цезаря? Для выяснения истинной картины проведем небольшое расследование. Послушаем сначала самого Цезаря. Известно, что в начале января он с одним только тринадцатым легионом находился в Равенне, куда к нему ездил Курион. В своем описании начала гражданской войны Цезарь так излагает последовательность событий:
«...По всей Италии производят набор, требуют оружие, взыскивают с муниципиев деньги, берут их из храмов, одним словом, попирается всякое право, божеское и человеческое.
Узнав об этом, Цезарь произносит речь перед военной сходкой. В ней он упоминает о преследованиях, которым он всегда подвергался со стороны врагов. Жалуется на то, что они соблазнили и сбили Помпея, внушив ему недоброжелательство и зависть к его славе, тогда как сам он всегда сочувствовал Помпею и помогал ему в достижении почестей и высокого положения». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. 1, 7)
Прервемся на минуту. Речь Цезаря имеет смысл разобрать по пунктам, не опуская из нее ничего. Если даже перед нами не точное воспроизведение этой речи, то, во всяком случае, ее авторская трактовка, несомненно имевшая целью оправдать действия автора «Записок».
Итак, первый пункт речи — объяснение враждебности Помпея его завистью к славе Цезаря. Этот тезис фигурировал в «Записках» и раньше. Продолжим цитату: « Он огорчен также небывалым нововведением в государственном строе — применением вооруженной силы для опорочения и даже совершенного устранения права трибунской интерцессии (вето трибуна. — Л.О.). Сулла, всячески ограничивший трибунскую власть, оставил, однако, право протеста неприкосновенным. Помпей, который с виду восстановил утраченные полномочия (в 70-м году. — Л.О.), отнял у трибунов даже то, что они имели раньше». (Там же)
Это второй пункт, и весьма важный. Цезарь дает понять, что главным побуждением к его вступлению в войну с сенатом было намерение защитить попранные права народных трибунов. Третий мотив — возмущение неоправданным введением чрезвычайного положения:
«Каждый раз, как сенат особым постановлением возлагал на магистратов заботу о том, чтобы государство не понесло какого-либо ущерба (а этой формулой и этим постановлением римский народ призывался к оружию), это делалось в случае внезапных пагубных законопроектов, революционных попыток трибунов, восстания народа и захвата храмов и возвышенных мест. Подобные деяния в прежние времена искуплены, например, гибелью Сатурнина и Гракхов. Но теперь ничего подобного не происходило, не было даже и в помышлении». (Там же)
«Дезавуировав», как ныне говорят дипломаты, решение сената, Цезарь, наконец, говорит о своей личной обиде:
«В конце речи он убеждал, просил солдат защитить от врагов доброе имя и честь полководца, под предводительством которого они в течение девяти лет с величайшим успехом боролись за родину, выиграли очень много сражений и покорили всю Галлию и Германию». (Там же)
Закончив пересказ содержания своей речи, Цезарь продолжает излагать последовательное развитие событий:
«Познакомившись с настроением солдат, он двинулся с этим легионом в Аримин и там встретился с бежавшими к нему народными трибунами. Остальные легионы он вызвал с зимних квартир и приказал следовать за собой ...» (Там же, 8)
Стоп! Здесь небольшая неувязка. Аримин находится примерно в 70 километрах к югу от Равенны. По дороге к нему надо перейти речку Рубикон, то есть без разрешения сената и римского народа пересечь с войском границу римского государства. Это равносильно объявлению войны. Драматический момент перехода через Рубикон подробно и красочно описан и Плутархом, и Аппианом, и Светонием (наверное, по воспоминаниям очевидцев). Но сам Цезарь о нем не говорит ни слова. Зато он сообщает, что нашел в Аримине бежавших к нему трибунов. Это — уже 11-го числа, поскольку Рубикон Цезарь перешел 10-го января ночью (см. сборник «История Европы». М., 1988, т. 1, с. 478).
Дальше Аримина трибуны и не успели бы добраться. От Рима до Аримина около 400 километров, а они выехали в ночь на 8-е января. Так откуда же еще до выхода из Равенны Цезарю было известно о бегстве трибунов и чрезвычайном положении — ведь он говорит об этом в своей речи? Какой-нибудь курьер сумел доставить сообщение в Равенну менее чем за трое суток? Вряд ли. Почтовые станции с подменой лошадей появились только в императорскую эпоху. Скорее всего, Цезарь умышленно исказил хронологию событий, и речь перед солдатами была произнесена уже в Аримине. Это совпадает и с версией Светония, который пишет:
«...Вперед, — воскликнул тогда Цезарь, — вперед, куда зовут нас знаменья богов и несправедливость противников! Жребий брошен».
Так перевел он войска. И затем, выведя на общую сходку бежавших к нему изгнанников-трибунов, он со слезами, разрывая одежду на груди, стал умолять солдат о верности». (Светоний. Божественный Юлий. 32, 33)
Насчет слез и разрывания одежды Светоний, я полагаю, присочинил для эффекта, а вот последовательность событий ему менять не было причины.
Ну, а зачем же Цезарю это обращение последовательности? А затем, что, по его версии, война была начата не по инициативе Цезаря, а по требованию оскорбленного войска. Надо иметь в виду, что «Записки о гражданской войне» были написаны и опубликованы по горячим следам, когда страсти еще не улеглись. Их задача — оправдать действия Цезаря в глазах народа. Поэтому так настойчиво выдвигается и главный мотив этих действий — защита народных трибунов! Отсюда следует вывод: Цезарь отнюдь не был уверен, что римляне встретят его восторженно. Скорее наоборот — опасался всеобщего осуждения своих противозаконных поступков. Осуждения, которое будет питать все новыми силами сопротивление помпеянцев.
Попробуем вообразить себе ход его размышлений в конце первой недели января. По расчетам Цезаря, письмо, посланное с Курионом, должно было быть оглашено в сенате не позднее 1-го числа. Наверное, было условлено, что, в случае согласия сенаторов на компромиссные предложения Цезаря, Курион немедленно пришлет гонца. «Вот уже 9-е число, — думает Цезарь, — а гонца нет... Значит — отказ! От новоизбранных консулов Лентула и Марцелла ничего, кроме ненависти, ожидать нельзя. Видимо, им удалось повести за собой сенат. Наверное, было принято решение о смещении его с командования. Антоний и Красс, конечно же, наложили вето. Но консулы не остановятся. Следующий их шаг — чрезвычайное положение. Возможно, что оно уже объявлено. Трибуны, как было установлено, должны бежать из Рима. Быть может, они уже в пути, если их не задержали насильно. Он узнает об этом через несколько дней... Но дорог каждый час!.. Набор войска уже идет. Помпей, наверное, объезжает поселения своих ветеранов... Надо действовать без промедления! Конечно, ситуация не самая лучшая. Правда, Галлия покорена надежно и войско у него есть — большое, испытанное, преданное. Но это всего лишь пятьдесят тысяч солдат. А в республике более миллиона граждан, способных носить оружие. Если он не сумеет склонить на свою сторону общественное мнение, сенат сможет мобилизовать вдесятеро больше солдат, чем у Цезаря. Как в древние годы, когда Рим выставлял войско за войском против Ганнибала. Завоевать симпатии римлян будет нелегко. Приверженность к привычному укладу велика. Традиция! О, эта римская традиция! А сенат, конечно же, объявит его врагом отечества...
Любовь народа поостыла: Цезаря слишком долго не было в Риме. К победам над варварами привыкли. Да были ведь и не только победы. В Риме не забыли два легиона, уничтоженных Амбиоригом... То были — римляне. А новые легионы он набрал в Цизальпинской Галлии. Поэтому его возвращения опасаются. Помпей же после успешной миссии с хлебом и наведения порядка в городе снова популярен. Говорят, что вся Италия праздновала его выздоровление.
Плохо! Не время с ним воевать!.. Надо бы все уладить миром... Если бы только он прошел в консулы! В Риме он быстро вернул бы себе любовь толпы. Слава богам, не вся еще галльская добыча истрачена. С Помпеем можно поладить, как тогда в Луке. Достаточно оказать ему великий почет и послать против парфян — мстить за поражение Красса. Свои же войска он бы оставил на время в Галлии. Чтобы справиться с сенатом, достаточно одного их присутствия там. И никакого кровопролития! Только — решением народа... Как жаль, что им удалось так обработать Помпея...
Но что жалеть попусту?!.. Помпей уже набирает войско! Конечно, не все его ветераны возьмутся за мечи — прошло десять лет, как они вернулись из Азии. Но он сумеет обучить новобранцев. Помпей военное дело знает — этого у него не отнимешь! Нельзя терять ни дня... Немедленно вызвать легионы из Галлии и, не дожидаясь их подхода, выступить с одним тринадцатым. Рискованно? Даже очень! Но надо рисковать! Иначе все пропало... Присланные им сенату два легиона против него не пойдут. К тому же впереди него будут бежать слухи и страх. Никто не подумает, что он начинает войну с одним легионом. А через месяц подойдут другие... Выступать немедленно: завтра ночью. Но как можно дольше обходиться без крови... Сегодня послать в Аримин надежных центурионов с кинжалами и в гражданской одежде. Чтобы они овладели городом прежде, чем легион тронется с места. Скрывать его выступление до последнего часа... В Аримине остановиться и попытаться напрямую договориться с Помпеем. Когда он узнает, что я его обогнал, то может быть, и отступится... Ох, не надо бы воевать!..
Предвидит ли Цезарь, что ему со своими ветеранами придется пройти подряд через пять войн? Что в каждой из них он будет на волосок от поражения, а то и погибели? Предчувствует ли, что за таким трудом добытую победу заплатит своей жизнью — упадет, обливаясь кровью, у ног статуи Помпея? Нет, не предвидит, не предчувствует. Но наверняка понимает, что борьба будет долгой и упорной. Наверняка отдает себе отчет в том, что шансы на окончательную победу над армиями Республики у него невелики. И, без сомнения, содрогается от мысли, что война будет братоубийственной, что римляне пойдут с мечами и щитами против римлян! Но иного пути нет! Нет иного способа спасти власть и величие Рима...
Из биографии Юлия Цезаря, написанной Плутархом (переход через Рубикон): «Командование войском он поручил Гортензию, сам же провел целый день на виду у всех и даже присутствовал при упражнениях гладиаторов. К вечеру, приняв ванну, он направился в обеденный зал и здесь некоторое время оставался с гостями. Когда уже стемнело, он встал и вежливо предложил гостям ожидать здесь, пока он вернется. Немногим же доверенным друзьям он еще прежде сказал, чтобы они последовали за ним, но выходили не все сразу, а поодиночке. Сам он сел в наемную повозку и поехал сначала по другой дороге, а затем повернул к Аримину. Когда он приблизился к речке под названием Рубикон, которая отделяет Предальпийскую Галлию от собственно Италии, его охватило глубокое раздумье при мысли о наступающей минуте, и он заколебался перед величием своего дерзания. Остановив повозку, он вновь долгое время обдумывал со всех сторон свой замысел, принимая то одно, то другое решение. Затем он поделился своими сомнениями с присутствовавшими друзьями, среди которых был и Азиний Поллион; он понимал, началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту реку и как оценит этот шаг потомство. Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова, обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен: «Пусть будет брошен жребий!» — и двинулся к переходу. Промчавшись остаток пути без отдыха, он еще до рассвета ворвался в Аримин, который и занял». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XXXII)
Глава V Между Цезарем и Помпеем
Цезарь не ошибся в расчетах на панику, которое вызовет его молниеносное вторжение в Италию. По свидетельству Аппиана: «Начались бегства и переселения из всех мест в испуге, с плачем. Никто ничего не знал в точности, все думали, что Цезарь идет с бесчисленным войском». Через три-четыре дня волна беженцев докатилась до Рима. Плутарх такими сочными красками живописует «великое смятение» и «неистовое волнение», охватившие город, что я при всей заманчивости не решаюсь его цитировать. Как всегда в таких случаях, приходили панические известия, что Цезарь уже близко, находились «очевидцы», встречавшие его конные разъезды у самых стен Рима. С городских стен и крыш домов люди вглядывались в убегавшие на северо-восток дороги, с минуты на минуту ожидая появления легионов Цезаря.
Городские власти утратили всякий контроль над порядком. Помпей тоже поддался панике. Объявил публично, что в городе восстание и безвластие, а потому он отбывает в Кампанию к войску. Консулам, сенаторам и «всем тем, кто предпочитает свободу тирании» (Плутарх), он предложил следовать за ним.
Помпей выезжает из Рима 17-го января. На следующий день город оставляют оба консула и прочие магистраты. Оставляют в такой спешке, что даже не увозят с собой государственную казну. За ними, захватив что попало под руку из имущества, следует большинство сенаторов. А между тем Цезарь не покидает Аримина...
Так и не появившись в Риме, Цицерон уезжает в Капую. Оттуда в конце второй декады января он пишет Аттику, оставшемуся в Риме:
«Прошу, что это такое? Или что совершается? Ведь для меня это мрак. Цингул, говорят, мы удерживаем, Анкону потеряли. Лабиен оставил Цезаря (Тит Лабиен, ближайший соратник и один из лучших полководцев Цезаря, земляк Помпея, тоже родом из Пицена, сразу после выступления Цезаря перешел на сторону сената. — Л.О.). Об императоре ли римского народа мы говорим или о Ганнибале? О, безумный и жалкий человек, который никогда не видел даже тени прекрасного! И все это он, по его словам, делает ради достоинства. Но где достоинство, если не там, где честность? Честно, следовательно, иметь войско без всякого официального разрешения, занимать города, населенные гражданами...
Возвратимся к нашему. Во имя судьбы! Каким кажется тебе решение Помпея? Спрашиваю именно о том, что он оставил Рим... Сделал бы ты то то же, если бы пришли галлы? «Не в стенах, — говорит, — государство, не в алтарях и очагах. Так поступил Фемистокл». Ибо один город не мог выдержать потока всех варваров. Но Перикл не сделал того же почти пятьдесят лет спустя, хотя он и не удерживал ничего, кроме стен. Наши некогда все-таки удержали крепость, хотя весь остальной город был взят (галлами в 309-м году до Р.Х. — Л.О.)... Я стою во главе спокойного дела. Помпей хочет, чтобы над всей этой частью Кампании и морским побережьем я был наблюдателем, который ведал бы набором и важнейшими делами...» (Письма... т. 2. № 303)
Снова Аттику. Начало третьей декады января:
«Что касается твоей просьбы, чтобы я старался извещать тебя о том, что делает Помпей, то он, я думаю, даже сам этого не знает. Из нас, по крайней мере — никто. Видел я консула Лентула в Формиях за девять дней до календ (24 января — Л.О), видел Либона. Все полно страха и неизвестности. Тот (Помпей. — Л.О.) — на пути в Ларин, ведь там когорты, и в Луцерии, и в Теане, и в остальной части Апулии. Хочет ли он затем где-нибудь остановиться или же пересечь море, неизвестно. Если он остается, опасаюсь, что он не сможет иметь стойкое войско. Если же уходит, то куда и каким путем и что нам делать — не знаю». (Письма... т. 2. № 304)
Ему же, на следующий день:
«...что это за война, ты видишь. Она гражданская в том смысле, что родилась не от разногласия среди граждан, а от дерзости одного падшего гражданина. А он силен войском, удерживает многих надеждой и обещаниями, пожелал всего достояния всех. Чего только не будешь опасаться со стороны того, кто считает эти храмы и эти жилища не отечеством, а добычей? И что намерен он делать и каким образом, не знаю — без сената, без должностных лиц. Даже притвориться не сможет он ни в чем по-граждански. Но где сможем воспрянуть мы или когда? И ты также замечаешь, насколько неспособен как военачальник наш полководец... Но насколько он лишен предусмотрительности, об этом свидетельствуют самые события. Ведь если не говорить о других оплошностях за десять лет, то любое соглашение было бы лучше, чем это бегство.
Что он думает теперь — я не знаю и не перестаю осведомляться в письмах. Бесспорно, нет ничего более трусливого, ничего более беспорядочного... Вся надежда на два задержанных хитростью, почти враждебных легиона. Ведь набор до сего времени производится среди не желающих и не склонных сражаться. Но для соглашений время упущено. Что произойдет, не предвижу...» (Письма... т. 2, № 306)
Читатель, конечно, заметил, что Цицерон все более разочаровывается в Помпее. Помните? Еще в конце декабря он писал о нем: «Храбрый, опытный и чрезвычайно сильный муж». А относительно возможности соглашения Цицерон ошибается — время еще не упущено. Цезарь еще остается в Аримине, ожидая подкреплений, и хочет связаться с Помпеем. Случай вскоре представился. С оказией Цезарь отправляет Помпею письмо. Перечислив все свои обиды и выразив уверенность в том, что начавшаяся мобилизация имеет целью погубить его, Цезаря, он, тем не менее, заканчивает письмо предложением о взаимном разоружении:
«Пусть Помпей, — пишет он, — отправляется в свои провинции, пусть они оба распустят свои войска, пусть вся Италия положит оружие, пусть гражданство будет избавлено от страха, а сенату и римскому народу будет предоставлена независимость выборов и все управление государством. Но для того, чтобы облегчить возможность этого соглашения, обставить его определенными условиями и скрепить клятвой, Помпей или должен приехать к нему сам, или согласиться на его приезд. Путем личных переговоров все недоразумения будут улажены». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. 1, 9)
В ожидании ответа Цезарь посылает небольшие отряды в близлежащие городки, занимает их и набирает там себе солдат. Есть свидетельство Цицерона, что письмо Цезаря было доставлено Помпею 26-го января. Помпей в ответ (если верить «Запискам») предложил Цезарю вернуться в Галлию, оставить Аримин и распустить войско. Если он это сделает, то и Помпей уедет в Испанию. Однако письмо Помпея не содержало ни срока отъезда, ни согласия на встречу. Цезарь расценил его как обманный маневр и в первых числах февраля двинулся вдоль восточного побережья Италии на юг, в Пиценскую область. Вскоре его догоняют еще два легиона, подоспевшие из Галлии. Сопротивления никто не оказывает. Сколоченные вербовщиками Помпея отряды новобранцев разбегаются или переходят на сторону Цезаря. Спустившись до широты Рима, он поворачивает на запад, к Вечному Городу. На его пути есть только одно серьезное препятствие — город Корфиний, где укрепился его старый противник Луций Домиций (тот самый, что в 56-м году пытался соперничать с Помпеем и Крассом на выборах консулов). У Домиция много солдат, правда, все новобранцы. Из своей Формийской усадьбы (в Кампании) Цицерон пишет Аттику:
«За четыре дня до февральских ид (10-го февраля — Л.О), вечером, я получил от Филотима письмо, что Домиций располагает надежным войском, что когорты из Пиценской области под предводительством Лентула и Ферма соединились с войском Домиция, что Цезарь может быть отрезан, и что он этого боится, что в Риме честные воспрянули духом, бесчестные почти сражены.
Я же опасаюсь, как бы не было более верным то, что мы уже почти взяты в плен, что Помпей уходит из Италии... Чтобы Цезарь преследовал Помпея! Зачем? Чтобы убить? О, горе мне! И мы все не подставляем свои тела?..» (Письма... т. 2, № 320)
За восклицанием Цицерона «О, горе мне!» кроется немало. Дело в том, что и Цезарь, и Помпей стремятся заручиться поддержкой Цицерона, влияние и авторитет которого все еще велики — и среди нобилитета, и в народе. Кроме того, Цезарь понимает и высоко ценит искусство. Сам художественная натура, он очень уважает и добивается расположения людей искусства. Особенно Цицерона — вспомните его восхищенный отзыв об ораторе, цитированный в предыдущей главе.
Еще 2-го февраля Цицерон писал Аттику:
«Требаций же пишет, что за восемь дней до февральских календ тот (Цезарь, 25-го января. — Л.О.) попросил его написать мне, чтобы я был близ Рима, что я не могу сделать ничего более приятного ему. Все это очень обстоятельно. Я понял на основании расчета дней, что, как только Цезарь услыхал о моем отъезде, он начал стараться, чтобы мы не все отсутствовали...
Я написал в ответ Требацию (самому Цезарю, который не писал мне, я не хотел), как это при нынешних обстоятельствах трудно, что я, однако, нахожусь в своих имениях и не брался ни за какой набор, ни за какое дело. В этом я и буду тверд, пока будет надежда на мир. Если же начнется война, то, отослав мальчиков (сына и племянника. — Л.О.) в Грецию, не изменю ни долгу, ни своему достоинству...» (Письма... т. 2, № 314)
Спустя две недели, 16 февраля. Тому же Аттику:
«После того, как я отправил тебе письмо, мне было вручено письмо от Помпея... в конце было написано его рукой: «Тебе же, я полагаю, следует приехать в Луцерию (к востоку от Капуи. — Л.О.). Ты нигде не будешь в большей безопасности.» Я понял это в том смысле, что эти города и морское побережье он считает брошенными, и не удивляйся, что тот, кто оставил саму голову, не щадит остальных членов.
Я тотчас написал в ответ... что не ищу места, где я буду в наибольшей безопасности. Если он хочет, чтобы я приехал в Луцерию ради него или ради государства, приеду тотчас же. И посоветовал удерживать морское побережье, если он хочет, чтобы ему из провинций подвозилось продовольствие. Я видел, что пишу это понапрасну... Ведь приготовления, вижу я, происходят так, чтобы стянуть все силы в Луцерию, и даже не для того, чтобы это место было надежно защищенным, но чтобы из него, если нас будут теснить, подготовить бегство.
Тем не менее не удивляйся, если я, против своего желания, примыкаю к делу, в котором никогда не ищут путей ни к миру, ни к победе, но всегда к позорному и гибельному бегству: мне следует отправиться, чтобы, какой бы исход не принесла судьба, лучше разделить его с теми, кто назывался честными». (Письма... т. 2, № 326)
А Цезарь в это время уже осаждает Корфиний. 18-го февраля Помпей пишет консулам, что Домиций окружен, идти ему на помощь он не может — легионы ненадежны. Он решает отправиться в Брундисий — порт на юге Италии — чтобы отплыть в Грецию. Консулов он просит вести набранные войска туда же. Цицерон еще не знает об этом решении. 23-го февраля он пишет Аттику:
«Только одно остается нашему другу для полного позора — не прийти на помощь Домицию. «Но никто не сомневается в том, что он придет для поддержки». — Я не думаю. — «Так он покинет такого гражданина и тех, кто, как ты знаешь, вместе с ним, особенно когда у него самого тридцать когорт?» Если я не ошибаюсь во всем, покинет. Он невероятно испугался, склонен к одному только бегству...
У меня есть от кого бежать, но мне не за кем следовать. Что же касается того, что ты хвалишь и называешь достойными упоминания мои слова, что я предпочитаю быть побежденным вместе с Помпеем, нежели победить с теми, то я, правда, предпочитаю, но с тем Помпеем, каким он был тогда или каким мне казался. Но если я предпочитаю с этим, который обращается в бегство раньше, чем знает перед кем или куда бежит, который предал наше дело, который покинул отечество, покидает Италию — то достигнуто: я побежден». (Письма... т. 2, № 337)
В это время Цицерон получает письмо Помпея от 20-го февраля. Тот просит срочно приехать к нему — уже в Брундисий. Одновременно доходят слухи о взятии Корфиния. 24-го февраля следующее, отчаянное письмо Аттику:
«О позор и оттого несчастье! Ведь мое мнение таково, что несчастьем является именно то или, лучше, одно только то, что позорно. Он выкормил Цезаря; его же вдруг начал бояться; ни одного условия мира не одобрил; для войны ничего не подготовил; Рим оставил; Пиценскую область потерял по своей вине; в Апулию забился; стал собираться в Грецию, не обратившись к нам и оставляя нас непричастными к его столь важному, столь необычному решению...
И вот он, распростившись с прекрасным, направляется в Брундисий. Домиций же, услыхав об этом, и те, кто был вместе с ним, говорят, сдались. О, злосчастное дело! Поэтому скорбь не дает мне писать тебе дальше. Жду твоего письма». (Письма... т. 2, № 338)
Цицерон, по-видимому, неправ. Новобранцы и два еще недавно принадлежавших Цезарю легиона не в состоянии оказать сопротивление его огромному и закаленному в боях войску. В Греции Помпей сможет спокойно обучить новичков, получит помощь из восточных провинций и дружественных ему (после недавнего устройства дел в Азии) царей. Цезарю не удастся быстро последовать за ним в Грецию, так как весь флот находится в руках Помпея.
Но меня сейчас волнует не объективная оценка ситуации, а субъективное восприятие Цицерона. Похоже, что в этом восприятии акценты начинают меняться.
Из письма Аттику от 27-го февраля:
«К господству стремились они оба, не добивались, чтобы граждане были счастливы и жили в почете. И он оставил Рим не потому, что не мог защищать его и Италию, не потому, что его из нее вытесняют, но вот о чем думал он с самого начала: взволновать все страны, все моря, поднять царей-варваров, привести в Италию вооруженные дикие племена, собрать огромные войска. Такого рода сулланское царство уже давно служит предметом стремлений, причем многие, находящиеся вместе с ним, жаждут его». (Письма... т. 2, № 341)
О «многих» не скажу, но на Помпея Цицерон, мне кажется, возводит поклеп напрасно. Упоминание Суллы тоже, конечно, не случайно — ведь Помпей в молодости был близок к диктатору.
Между тем Цезарь вслед за Помпеем идет к Брундисию.
Цицерон — Аттику, 1 марта:
«Все мои ожидания связаны с известиями из Брундисия. Если бы он нагнал нашего Гнея, была бы сомнительная надежда на мир. Если тот уже переправился — угроза погибельной войны. Но ты видишь, что за человек появился в государстве, сколь деятельный, сколь бдительный, сколь подготовленный? Клянусь, если он никого не казнит и ни у кого ничего не отнимет, то те, кто его чрезвычайно боялся, будут чрезвычайно любить его». (Письма... т. 2, № 345)
А Цезарь не только не казнит, но милует! После недельной осады гарнизон Корфиния, поняв, что помощи ждать нечего, сдался без боя и сдал своих командиров. Цезарь отпустил на свободу Домиция, консула Лентула и других видных помпеянцев, лишь слегка попеняв, как им, так и отцам города, за попытку сопротивления. Хотя и понимал, что помилованные им враги вскоре окажутся у Помпея. Вообще, все это похоже на игру в кошки-мышки. Цезарь уже овладел почти всей Италией, не пролив и капли крови. Вместо него воюет его слава. И сомнения все сильнее одолевают Цицерона:
Аттику на следующий же день:
«...знай — то мое решение, которое казалось уже довольно твердым, слабеет. Для меня недостаточно подходят те вершители, которых ты одобряешь (очевидно, сенаторы в окружении Помпея. — Л.О.). И в самом деле, какой поступок их по отношению к государству когда-либо случайно оставил след, и кто ожидает от них чего-либо, достойного похвалы... Но меня привлекает один человек (Помпей. — Л.О.), которому, я, видимо, должен быть спутником при его бегстве, союзником при восстановлении государственного строя. — «Так ты столько раз изменяешь свое мнение?» Я говорю с тобой, словно сам с собой. Кто в таком важном деле не рассуждает сам с собою по-разному? В то же время я хочу выведать и твое мнение...» (Письма... т. 2, № 346)
Цицерон так и не поехал в Брундисий. 9-го марта Цезарь подходит к городу и осаждает его. Но Помпей уже переправил часть войска в Грецию. Город хорошо укреплен, флота у Цезаря нет, он не может помешать Помпею закончить эвакуацию. Делает две попытки добиться с ним встречи для переговоров о примирении, но Помпей отвечает отказом. 17-го марта он с оставшимися когортами грузится на возвратившиеся из Греции суда и отплывает.
Цицерон — Аттику из Формийской усадьбы, 11 марта:
«Говорю тебе, верь мне, я не владею собой. Столько позора, мне кажется, я допустил. Я ли, во-первых, не вместе с честными, хотя бы дело и было начато безрассудно?.. Я теперь перечитываю твои письма с самого начала; они несколько возвращают мне силы. Первые предостерегают и просят меня не бросаться вперед. Последние показывают, что ты радуешься тому, что я остался. Читая их, я кажусь себе менее опозоренным, но только — пока читаю. Затем снова поднимается скорбь и призрак постыдного. Поэтому заклинаю тебя, мой Тит, вырви у меня эту скорбь или хотя бы уменьши либо утешением, либо советом, либо чем только можешь. Но что мог бы ты? Или кто-нибудь другой? Едва ли даже бог.
Со своей стороны, стремлюсь к тому, что ты советуешь и что, как ты надеешься, может произойти — чтобы Цезарь согласился на мое отсутствие, когда в сенате будет обсуждаться что-либо, направленное против Помпея. Но боюсь, что не добьюсь этого...» (Письма... т. 2, № 356)
От Гая Юлия Цезаря Цицерону, в Формии (по дороге в Брундисий):
«Император Цезарь шлет привет императору Цицерону. Хотя я только видел нашего Фурния и не мог ни поговорить с ним, ни выслушать его, как мне хотелось, ибо я торопился и был в пути, уже послав вперед легионы, тем не менее я не мог упустить случая написать тебе и послать его и выразить тебе свою благодарность, хотя я и часто это делал и, мне кажется, буду делать еще чаще: такие услуги оказываешь ты мне (тем, что не поехал к Помпею. — Л.О.). Так как я уверен, что вскоре прибуду в Рим, прежде всего прошу тебя дать мне возможность видеть тебя там, чтобы я мог воспользоваться твоим советом, влиянием, достоинством, помощью во всем. Возвращусь к сказанному выше: прости мою торопливость и краткость письма». (Письма... т. 2, № 357)
Гаю Оппию и Луцию Корнелию Бальбу от Гая Юлия Цезаря в Рим, незадолго до 11 марта 49 года:
«Цезарь Оппию, Корнелию привет.
Клянусь, меня радует, что вы в своем письме отмечаете, сколь сильно вы одобряете то, что совершено под Корфинием. Вашему совету я последую охотно и тем охотнее, что и сам решил поступать так, чтобы проявлять возможно большую мягкость и прилагать старания к примирению с Помпеем. Попытаемся, не удастся ли таким образом восстановить всеобщее расположение и воспользоваться длительной победой, раз остальные, кроме одного Луция Суллы, которому я не намерен подражать, жестокостью не смогли избегнуть ненависти и удержать победу на более длительный срок. Пусть это будет новый способ побеждать — укрепляться состраданием и великодушием...» (Письма... т. 2, № 358)
Между тем, последняя надежда Цицерона на примирение рухнула, так как Помпей уклонился от встречи с Цезарем и покинул Брундисий. Цицерон — Аттику из Формий, 17 марта:
«Я не сомневаюсь, что угрожает погибельная война, начало которой будет вызвано голодом. И я, тем не менее, страдаю, что не участвую в этой войне! Столь велика будет ее преступность, что в то время, как не кормить родителей грешно, наши главари сочтут допустимым убить голодом древнейшую и священную родительницу — родину. К тому же, я боюсь этого не на основании предположений, — я присутствовал при разговорах. Весь этот флот из Александрии, Колхиды, Тира, Сидона, Арада, Кипра, Памфилии, Ликии, Родоса, Хиоса, Византии, Лесбоса, Смирны, Милета, Коса подготовляется, чтобы перерезать пути подвоза в Италию и занять хлебородные провинции. А каким разгневанным он (Помпей. — Л.О.) придет!.. Поэтому для меня, сомневающегося в том, что мне пристало делать, от расположения к нему возникает огромное бремя. Если отбросить расположение, для меня было бы лучше погибнуть в отечестве, нежели повергнуть отечество, спасая его». (Письма... т. 2, № 363)
Вы помните? На первое место среди нравственно-прекрасных поступков Цицерон ставит служение отчизне, но вместе с тем считает, что «нет важнее обязанности, чем отблагодарить человека» (ведь Помпей вернул его из ссылки). Два нравственных принципа оказались несовместимы. Для Цицерона это — трагедия!
Цицерон — Аттику, 18 марта:
«...я отшатнулся перед жесточайшей и величайшей войной, какой люди еще не могут себе представить. Что за угрозы муниципиям, что за угрозы поименно честным мужам, что за угрозы, наконец, всем, кто остался бы! Как часто пресловутое: «Сулла мог, а я не смогу?!» ...От этого рода войны я и бежал и тем более, что видел, как замышляется даже более жестокое. Мне, которого назвали спасителем этого города, которого назвали отцом, привести к нему полчища гетов, армян и колхов? Мне причинить своим согражданам голод, а Италии опустошение?» (Письма... т. 2, № 364) На следующий день:
Гаю Юлию Цезарю. Формийская усадьба, 19 марта. «Император Цицерон шлет привет императору Цезарю.
Как только я прочитал твое письмо, которое я получил от нашего Фурния и в котором ты мне предлагал быть близ Рима, я менее удивился тому, что ты хочешь использовать «мой совет и достоинство». Что же касается «влияния» и «помощи», то я спрашивал себя, что ты имеешь в виду. Однако надежда приводила меня к такому заключению: я полагал, что ты, по своей удивительной и исключительной мудрости, хочешь, чтобы речь шла о покое, о мире, о согласии между гражданами, и находил, что и моя природа, и моя личность являются достаточно подходящими для этой цели.
Если это так, или если тебя касается какая-либо забота об охране нашего Помпея и примирении его с тобой и государством, то для этого дела ты, конечно, не найдешь никого более подходящего, чем я, который всегда и для него, и для сената, как только мог, был сторонником мира. А после того, как взялись за оружие, не пристал ни к одной воюющей стороне и признал, что этой войной оскорбляют тебя, на чей почет, оказанный благосклонностью римского народа, посягают недруги и недоброжелатели. Но, как в то время я не только сам способствовал твоему достоинству, но даже побуждал других помогать тебе, так теперь достоинство Помпея меня чрезвычайно волнует. Ведь несколько лет назад я избрал вас двоих, чтобы особенно почитать и быть вам лучшим другом, каким я и являюсь.
Поэтому прошу или, лучше, молю и заклинаю тебя всеми мольбами уделять среди твоих величайших забот немного времени также помышлению о том, как я, честный муж, благодарный, наконец, верный долгу, мог бы, по твоей милости, быть верным воспоминанию о величайшем благодеянии (возвращении из изгнания — Л.О). Если бы это было важно только лично для меня, то я все-таки надеялся бы испросить это у тебя. Но, по-моему, и для твоей чести, и для государства важно, чтобы я был сохранен как друг мира и каждого из вас...» (Письма... т. 2, № 365)
После отплытия Помпея Цезарь, укрепив приморские города, оставив в них для отдыха своих солдат и разослав распоряжения строить корабли, отправляется в Рим.
По пути он специально встречается с Цицероном и уговаривает его ехать с ним. Об этой встрече Цицерон сообщает Аттику в письме от 28 марта:
«И то, и другое — по твоему совету: и мои слова были такими, чтобы он скорее составил себе хорошее мнение обо мне, но не благодарил, и я остаюсь при том, чтобы не ехать к Риму. Мы ошиблись, считая его покладистым. Я не видел никого, кто был бы им в меньшей степени. Он говорил, что мое решение его порочит, что остальные будут более медлительны, если я не приеду. Я — что их положение совсем иное. После многих слов: «Итак, приезжай и веди переговоры о мире». — «По моему, говорю, разумению?» — «Тебе ли, — говорит, — буду я предписывать?» — «Так я, — говорю, — буду стоять за то, чтобы сенат не согласился на поход в Испанию (против верных Помпею легионов. — Л.О.) и переброску войск в Грецию, и не раз, говорю, — буду оплакивать Помпея». Тогда он: «А я не хочу, чтобы это было сказано». — «Так я и считал, — говорю я, — но я потому и не хочу присутствовать, что либо следует говорить так и обо многом, о чем я, присутствуя, никак не могу молчать, либо не следует приезжать». Наконец, он, как бы в поисках выхода, предложил мне подумать. Отказываться не следовало. Так мы и расстались. Поэтому я уверен, что не угодил ему, но сам себе я угодил, как мне уже давно не приходилось». (Письма... т. 2 № 374)
Выше я написал, что Цицерон был порою склонен к панике, даже к отчаянию, но иногда — и к отчаянной храбрости. Отказ последовать за Цезарем, так же, как ранее — защиту Милона, я считаю возможным отнести к числу поступков этой последней категории. Представь себе, читатель, Цицерона приглашает полководец, покоривший всю Галлию, убивший там миллион человек, перед которым распростерта Италия. Отказ его оскорбляет. Что может из этого воспоследовать? Ну, конечно, не немедленная физическая расправа. Цезарь — не Клодий, он — человек того же уровня культуры, что Цицерон. Но изгнание — вполне возможно. Для Цицерона оно хуже смерти. А может быть, и кинжал анонимного убийцы. Цицерон и Цезарь не виделись десять лет. Кто знает, как изменился за годы тяжелой войны бывший почитатель первого оратора Рима?.. И все же Цицерон отказывает Цезарю!..
Оставим его размышлять и удивляться собственной дерзости и последуем за Цезарем в Рим. Никто, разумеется, не препятствует его въезду — город в страхе замирает. 1-го апреля Цезарь созывает оставшихся в Риме сенаторов на заседание и обращается к ним с большой речью. Он излагает свою версию развития событий и снова перечисляет все свои обиды. Затем предлагает сенату взять на себя заботу о государстве и управлять им совместно с ним, Цезарем. А также добавляет, что... «если они из страха будут уклоняться от этого, то он не станет им надоедать и самолично будет управлять государством». (Записки... Гражданская война, 1, 32) Цезарь предлагает отправить к Помпею послов-сенаторов для переговоров о мире. Сенат одобряет, но... из страха перед Помпеем и его окружением никто не соглашается взять на себя это посольство.
Прождав понапрасну несколько дней, Цезарь назначил начальствовать над Римом претора Лепида, над остальной Италией — Марка Антония, а сам направился в Испанию. Легионы, остававшиеся на зиму в Галлии, еще раньше получили приказ идти навстречу ему в низовья Роны.
В Испании находилось шесть легионов, набранных Помпеем, под командованием трех его проверенных полководцев: Афрания, Петрея и Варрона. К ним примыкало и большое испанское ополчение. Отправляться вслед за Помпеем в Грецию, оставив такую массу врагов у себя за спиной, было бы слишком рискованно. Кроме того, все равно приходилось ожидать постройки кораблей для переправы. Поэтому Цезарь решает начать военные действия против Помпея с Испании. Для этого нужны деньги и, как говорится, ничтоже сумняшеся, он перед отъездом забирает их из государственной казны. Ключи от него было спрятали, но Цезарь приказал своим солдатам взломать двери в сокровищнице храма Сатурна. А когда один из трибунов пытался ему помешать, он без обиняков пригрозил ему смертью. Эта «экспроприация» настраивала против Цезаря многих граждан. Во-первых, грубо попиралось древнее и бесспорное право сената распоряжаться казной государства. Во-вторых, Цезарь прихватил и неприкосновенные суммы, на которые после первого галльского нашествия было наложено заклятие, запрещавшее тратить их на что-либо, кроме новой войны с галлами. Он заявил, что навсегда усмирил галлов и тем самым снял заклятие. Ничего не поделаешь! Деньги были нужны. К ограничению полномочий сената народ следовало понемногу приучать. А недовольства все равно не избежать- — желательно лишь удержать его в определенных границах.
Цицерон возмущен самоуправством Цезаря. Он полагает, что своим отношением к казначейству тот сильно навредил себе в мнении народа. Впрочем, о событиях в Риме ему известно с чужих слов, так как сам он остается в своей усадьбе под Кумами — неподалеку от Капуи. Туда ему с дороги, видимо, вспоминая их последний разговор, в это же время пишет Цезарь:
«Император Цезарь шлет привет императору Цицерону.
Хотя я и полагал, что ты ничего не сделаешь необдуманно, ничего не сделаешь неразумно, тем не менее, взволнованный людской молвой, я нашел, что мне следует написать тебе и во имя нашего взаимного расположения просить, когда дело уже близко к окончанию, не выезжать никуда... Ибо ты и нанесешь тяжкую обиду дружбе, и дурно позаботишься о самом себе, если покажется, что ты непокорен судьбе... С твоей стороны ничего более тяжкого для меня не может случиться. По праву дружбы между нами прошу тебя этого не делать...
За четырнадцать дней до майских календ, в походе». (Письма... т. 2, № 388) Цезарь, как всегда, проявил проницательность и способность предугадывать поступки людей, которые его интересовали. Маятник сомнений Цицерона качнулся в другую сторону — он решает ехать к Помпею в Грецию. В конце апреля он пишет (Луцию Руфу):
«Что правильно — очевидно. Что выгодно — ясно. Однако, если мы таковы, каковыми должны быть, то есть достойны своих стремлений и образования, мы не можем сомневаться в том, что наиболее полезно то, что является самым честным». (Письма... т. 2, № 387)
В середине мая открывается навигация, в конце мая Цицерон прибывает в лагерь Помпея. Оставим его там выяснять свои непростые отношения с сенаторами и Помпеем, а сами отправимся вслед за Цезарем.
Дорога в Испанию проходит через Массалию (Марсель). Туда уже успел явиться знакомый нам Луций Домиций (так недавно прощенный!) и подбил массальцев закрыть перед Цезарем ворота, объявив о своем «нейтралитете». Довольно сомнительном — поскольку Домиций назначен комендантом города и командующим его обороной. Цезарь оставляет перед Массалией часть войска, поручив своему легату Требонию начать регулярную осаду города, а сам с основными силами направляется в Испанию. У него шесть легионов ветеранов Галльской войны и несколько тысяч человек вспомогательного войска. Проходы в Пиренеях он занял своим авангардом заблаговременно.
Армии Цезаря и помпеянцев сходятся на севере Испании, около города Илерда. Оба войска маневрируют с переменным успехом. Сначала Цезарь оказывается в критическом положении, когда бурный разлив рек сносит мосты и отрезает его армию от снабжения продовольствием. Потом ситуация меняется на обратную. Испанцы, сохранившие расположение к Цезарю еще со времен наместничества в этой стране, переходят на его сторону. Афраний и Петрей вынуждены отходить. Цезарю удается окружить их в пустынной и безводной местности. Но, несмотря на явное преимущество своей позиции, он медлит начинать сражение. И вовсе не из-за неуверенности в исходе. Сам он в «Записках» следующим образом объясняет свою медлительность:
«...Цезарь стал надеяться достигнуть своей цели без сражения и без потерь, раз ему удалось отрезать противников от продовольствия: зачем ему, хотя бы и в счастливом бою, терять кого-либо из своих? Зачем проливать кровь своих заслуженных солдат? Зачем, наконец, испытывать счастье? Ведь задача полководца — побеждать столько же умом, сколько мечом. Жалел он и своих сограждан, которых пришлось бы убивать, а он предпочитает одержать победу так, чтобы они остались невредимыми.
С этими соображениями Цезаря большинство не соглашалось. Солдаты открыто говорили друг другу, что раз упускают случай одержать такую большую победу, то они не станут сражаться даже тогда, когда Цезарь от них этого потребует. Но Цезарь остался при своем решении». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война, 1, 72)
Расчеты Цезаря оказались верны. Ввиду нехватки воды и продовольствия, под давлением своих солдат, которые уже начали брататься с солдатами Цезаря, полководцы Помпея были вынуждены капитулировать. Еще одна бескровная победа! Условия капитуляции были мягкими. Цезарь потребовал только роспуска войска и оставления провинции. На тех же условиях вскоре капитулировал и Варрон, чье войско находилось в южной Испании.
Не меньшую заботу о бескровном разрешении конфликта Цезарь проявил и в отношении Массалии. Осадные сооружения уже вплотную подступили к ее стенам, но Цезарь прислал в письме к Требонию распоряжение воздерживаться от штурма. Он опасался, что солдаты расправятся с населением города. Массалийцы тоже умоляют осаждающих дождаться возвращения Цезаря, уповая на его милосердие. Солдаты Требония утрачивают бдительность. Этим коварно пользуются массалийцы. В ветреную погоду они совершают внезапную вылазку и поджигают плотину, башни, метательные орудия и прочие сооружения. Возмущенные обманом цезарианцы в короткий срок восстанавливают все необходимое для штурма и горят жаждой отмщения. В этот момент прибывает Цезарь. Массалия капитулирует. Луцию Домицию удается бежать морем. И опять твердая рука полководца пресекает возможность кровопролития. Массалийцы должны отдать все оружие, корабли и деньги из городской казны, но Цезарь сохраняет не только жизнь и свободу граждан Массалии, но даже статус этого вольного города «во внимание, — как он пишет, — к его имени и древнему происхождению».
Таким образом, обеспечен испанский тыл, обезврежена предавшаяся Помпею Массалия. И все еще не погиб в бою ни один римский гражданин. Удивительно, но Цезарю удается вести все дальше свою «бескровную революцию». Впрочем, это относится только к тем военным действиям, которыми руководил сам Цезарь. Курион был послан им в Сицилию с войском против Катона. После того, как тот без боя покинул остров, Курион по собственной инициативе переправился в Африку. Преследуя одного из легатов Помпея, бежавшего из Италии, он столкнулся с нумидийским царем Юбой, потерпел решительное поражение и погиб в бою. Но все-таки здесь римские воины пали от рук варваров, а не сограждан.
Еще под Массалией Цезарь получил известие о том, что в Риме он назначен диктатором. Это назначение было произведено, мягко говоря, не совсем обычным способом. Согласно закону, решение о введении диктатуры (сроком на шесть месяцев) мог принять только сенат. Он поручал одному из консулов назначить диктатора. Между тем обоих консулов не было в Риме. Диктатором Цезаря назначил претор Эмилий Лепид, испросив на это полномочий у Народного собрания. В своих «Записках» Цезарь пишет, что, находясь в Массалии... «он узнал, что в Риме проведен закон о диктатуре и что именно его назначил диктатором претор Лепид». Интересно, кого бы еще мог назначить Лепид, оставленный Цезарем в качестве военного коменданта Рима? Возникает сильное подозрение, что назначение диктатором было предусмотрено самим Цезарем еще до отъезда в Испанию. И вот с какой целью. Диктатор вовсе не обязан оставаться в этом звании в течение полугода. Если положение дел нормализуется, он может сложить с себя полномочия до срока и провести выборы новых консулов. Приближался тот самый 48-й год, когда Цезарь (еще так загодя) рассчитывал стать консулом. Сенат помешал ему добиться этого нормальным путем. Ну что же. Он осуществит свои планы через диктатуру!
И действительно, по прибытии в Рим Цезарь оставался диктатором всего... 11 дней. Впрочем, и за этот ультракороткий срок он сумел провести через Народное собрание кое-какие неотложные мероприятия. В частности, получила компромиссное разрешение проблема неуплаты долгов (в связи с нестабильностью финансовой ситуации — что случается, по-видимому, во все смутные времена). Право римского гражданства получили Цизальпинская Галлия и испанский город Гадес, существенно поддержавшие в свое время Цезаря.
Затем Цезарь созвал комиции для выбора консулов, предложил свою кандидатуру и, разумеется, был избран вместе с одним из своих сторонников. Это весьма существенно меняло ситуацию. Республиканские институты власти, хотя уже малоэффективные, были еще живы. Традиционное римское уважение законов и заветов старины сделало бы чрезвычайно рискованной попытку ниспровержения всех этих институтов одновременно. Восстав в первую очередь против сената, Цезарь стремился использовать в своей борьбе с ним законную власть консула. Ведь до сих пор он в глазах римского народа был всего лишь мятежным наместником и полководцем. Консулы же оставались на стороне Помпея. Теперь их год заканчивался...
В конце декабря Цезарь прибыл в Брундисий, имея в виду переправиться с войском в Грецию. Вместе с ним пришли только два первых легиона из-под Массалии, порядком уставшие после долгого пешего похода. На месте уже находились три легиона ветеранов, начавшие с Цезарем год назад италийскую кампанию. А также — новобранцы. Всего он мог рассчитывать собрать в Брундисий примерно десять легионов неполного состава, то есть около сорока тысяч солдат. Но беда в том, что имевшийся в распоряжении Цезаря небольшой флот был незадолго до того потерян одним из его легатов в морском бою. А те корабли, которые за год успели построить или нанять, могли взять на борт от силы половину войска, стекавшегося в Брундисий, Конечно, в зимнее время никто и не предполагал отправляться в плавание на перегруженных кораблях по бурному Адриатическому морю. Но вряд ли можно было надеяться на существенное пополнение флота к весне. Не были сделаны и необходимые для такой экспедиции запасы продовольствия и снаряжения.
Между тем Помпей за год своего пребывания в Македонии успел собрать и обучить вместе с переброшенными из Италии девять легионов. Еще два должен привести из Сирии давний неприятель Цезаря и тесть Помпея Метелл Сципион. Вассальные и союзные Риму города и царства Востока прислали вспомогательные войска. Конница — цвет римской и италийской молодежи — насчитывает семь тысяч всадников. Наконец, у западных берегов Греции находится огромный флот Помпея: 500 боевых кораблей и великое множество легких судов. Командует флотом Марк Бибул — тот самый, что десять лет назад тщетно пытался остановить восхождение Цезаря. Помпей был абсолютно убежден в том, что через такой заслон Цезарю не удастся перебросить свои войска из Брундисия в Грецию по морю. Поэтому свое войско он держит на удобных зимних квартирах в Фессалии, близ восточного побережья Балканского полуострова. Весной 48-го года он намеревается, соединив все свои силы, посуху пройти вдоль побережья Адриатики и возвратиться в Италию. Временное отступление в Грецию себя оправдало. Все учтено и рассчитано правильно!.. Кроме одного, но очень существенного — личности и военного гения противника!
Цезарь понял, что единственный шанс на успех экспедиции связан именно с неблагоприятностью обстоятельств и трудностью его положения. В частности, и с нехваткой кораблей, о чем Помпей и Бибул, без сомнения, осведомлены. А потому и совершенно уверены, что с такими транспортными средствами он не решится выйти в море — тем более зимой. Но... зимние штормы столь же неприятны для моряков Бибула, а излишняя уверенность на войне может сыграть дурную шутку!
Немедленно по прибытии в Брундисий Цезарь собирает всех находившихся там солдат на сходку и обращается к ним с речью. В своих «Записках» он о ней упоминает весьма кратко. Быть может, потому, что не хочет привлекать внимание читателей к тому, сколь рискованным, если не сказать авантюрным, было принятое им решение. В очередной раз он поставил на карту все, к чему так упорно продвигался в течение, по меньшей мере, последних двадцати лет своей жизни. Аппиан, оценив всю драматичность момента, приводит подробный пересказ речи Цезаря. Я позволю себе процитировать один фрагмент:
«О, мужи, — обращается к солдатам Цезарь, — вы, которые мне помогаете в величайших делах, знайте, что ни бурность погоды, ни запоздание некоторых войсковых частей, ни недостаток соответствующего снаряжения не удерживают меня от движения вперед. Ибо я полагаю, что быстрота в действиях мне будет полезнее всего этого и что мы, первые, которые прежде других сюда прибыли, должны, полагаю я, оставить здесь на месте рабов, обоз и все снаряжение, чтобы имеющиеся в наличности корабли могли вместить нас самих. Самим же, немедленно отправившись на судах, испытать, не удастся ли, укрывшись от врагов, противопоставить бурным непогодам доброе счастье, малочисленности — смелость, нашей бедности — изобилие у врагов, которым мы должны овладеть, как только выйдем на сушу, ибо знаем, что если мы их не победим, то у нас своего собственного ничего нет. Итак, мы пойдем за рабами, снаряжением и съестными припасами врагов, пока они находятся под кровлей зимних стоянок. Пойдем, пока Помпей полагает, что и я стою на зимней стоянке... Вам, хотя вы сами это знаете, я скажу, что самое важное в военном деле — это неожиданность... Я же сам и в настоящее время предпочел бы скорее тратить время на плаванье, чем на разговоры, чтобы Помпей увидел меня тогда, когда, по его расчетам, я еще занимаюсь организацией власти в Риме. Хотя я знаю вашу покорность, все же я жду ответа». (Аппиан. Гражданские войны. 11, 53, 54)
Воины с воодушевлением закричали, чтобы он вел их на корабли. В тот же день погрузились пять легионов ветеранов и шестьсот отборных всадников. Из-за шторма на море пришлось простоять у Брундисия целые сутки. Тем временем прибыли еще два легиона. Их прямо с ходу плотно загрузили во все оставшиеся суда и вышли в открытое море. Это было 4-го января 48-го года.
Можно вообразить себе изумление и досаду Бибула, чьи корабли стояли на приколе у берега греческого острова Керкира, когда за бесчисленными набегающими рядами серо-зеленых вспененных волн зимнего моря он заметил вдали влекомую сильным западным ветром флотилию Цезаря. Сто десять боевых кораблей Бибула не готовы к отплытию, их гребцы в разброде. А между тем у Цезаря для прикрытия всего транспорта с войсками имеется только двенадцать военных судов. Он и на этот раз выиграл свою рискованную игру!
Выгрузившись на пустынном западном берегу Эпира, Цезарь немедленно отсылает корабли в Брундисий, где их ожидал Марк Антоний с остальным войском. Однако дождаться ему не пришлось. Бибул перехватил возвращавшиеся порожние суда и сжег их. Положение Цезаря стало трудным. Было ясно, что Антоний сможет попытаться прорваться морем не раньше, чем через три-четыре месяца, когда сумеет со всей Италии собрать в Брундисий новую флотилию. У Помпея по крайней мере троекратное преимущество в численности войск, но вряд ли он откроет военную кампанию до весны. Придется зимовать на неприютном берегу, почти без продовольствия, которое в ближних окрестностях добывать будет нелегко. Однако Цезарю известно, что примерно в ста пятидесяти километрах к северу от места его высадки, в приморском городе Диррахий, Помпей сложил огромные запасы зерна и прочего снаряжения для похода в Италию. Значит, надо во что бы то ни стало овладеть Диррахием. Цезарь выступает с войском на север немедленно — в день высадки. Он прекрасно понимает, что Помпей очень скоро узнает о его появлении в Греции, и потому сам отправляет к нему гонца с новыми предложениями мира и взаимного разоружения. Помпей их не принимает, а форсированным маршем ведет свои войска к Диррахию. Обе армии идут днем и ночью, с максимальной поспешностью. Аппиан ярко описывает это своеобразное состязание:
«И ни пище, ни сну они не уделяли времени. Такая была быстрота, напряжение и крики тех, кто их вел при свете факелов, что по мере того, как враги все более друг к другу приближались, увеличивались страх и смятение. Некоторые от усталости сбрасывали с себя то, что несли, или, прячась в ущельях, отставали, готовые ради немедленного отдыха примириться и со страхом перед врагом.
Такие бедствия терпели обе стороны. Однако Помпей достиг Диррахия прежде Цезаря и расположился при городе лагерем». (Там же. 55, 56)
Помпей занял позицию на северном берегу реки Апс, пересекавшей дорогу к Диррахию. Цезарю пришлось поставить лагерь на ее южном берегу. Не оставалось ничего иного, как зимовать с войском в палатках. Ответа на мирные предложения от Помпея не последовало. По свидетельству его приближенных, выслушав гонца Цезаря...
«Зачем мне жизнь, — сказал он, — зачем мне гражданские права, если дело будет иметь такой вид, что я ими обязан милости Цезаря? Подобного предположения никоим образом нельзя будет устранить, когда начнут думать, что меня по окончании войны возвратили в Италию, из которой я сам выехал». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. II, 18)
Речка Апс, разделявшая два войска, была неширока. Солдаты обоих полководцев с ее берегов нередко вступали друг с другом в разговоры, и на это время, по взаимному согласию, воздерживались от перестрелки. Цезарь, вспомнив недавний опыт войны в Испании, решил прибегнуть к тому, что сейчас назвали бы «народной дипломатией». Он послал на берег своего легата Ватиния, который, обращаясь к солдатам Помпея, начал говорить, что не годится гражданам поднимать оружие против граждан. Он просил позвать кого-нибудь из командиров, с кем можно было бы условиться о встрече для обсуждения возможности уладить дело миром.
«...его в молчании, — пишет Цезарь, — выслушали солдаты обеих сторон. Ему ответили, что А. Варрон обещает выйти на следующий день для переговоров и сообща с ним обсудить, каким образом послы могли бы безопасно пройти к ним и изложить свои пожелания. Для этой цели сообща было назначено определенное время. Когда на следующий день послы там сошлись, то из обоих лагерей явилось большое множество народа: все напряженно ожидали, чем кончатся переговоры, и казались чрезвычайно миролюбиво настроенными...» (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война, III, 19)
Позволю себе на мгновение прервать Цезаря ради небольшого историко-лингвистического замечания. Те, кто читал 1 том этой книги, возможно, были удивлены, узнав, что слово «провокация» в древнем Риме означало обращение осужденного на смерть к народу с просьбой о помиловании. Так что смысл слова был совсем другой, чем ныне. Но из этого отнюдь не следует, что действия, которые мы теперь характеризуем как провокационные, не встречались в политической и военной практике древних. Похоже, что такие действия имеют столь же почтенный возраст, как сама война. Продолжу из Цезаря:
«...Тогда из неприятельских рядов вышел Т. Лабиен и начал очень высокомерно говорить о мире и спорить с Ватинием. Во время этого разговора вдруг со всех сторон полетели копья. Ватиний, которого прикрыли щитами солдаты, спасся, но многие были ранены... Тогда Лабиен воскликнул: «Так перестаньте же говорить о примирении. Никакого мира у нас быть не может, пока нам не доставят головы Цезаря!» (Там же)
Я полагаю, что Цезарю было известно, с какого берега полетело первое копье. Скорее всего с того, где были его солдаты, которых преднамеренно оскорблял Лабиен. Для того и оскорблял! Ведь полководцу, который изменил Цезарю, мир чести не сулил.
В ответ на первое копье обратно полетело три. За ними в первоначальном направлении — девять. И вот уже «со всех сторон полетели копья». Развитие спровоцированных столкновений или массовых беспорядков не всегда следует закону геометрической прогрессии, но непременно имеет лавинообразный характер. «Миролюбивое настроение»! Удивительно, с какой скоростью настроение вовлекаемой в такую лавину толпы изменяется — порой на прямо противоположное.
Итак, все попытки примириться с Помпеем (в который уже раз!) провалились. Плутарх очень красочно и подробно описывает, как Цезарь ночью, в одежде раба пытался на маленьком суденышке доплыть до Брундисия, чтобы самому ускорить переправу войск, как волны и сильный встречный ветер мешали лодке выйти из реки в море, как Цезарь открыл кормчему свое «инкогнито»... Но гребцам не удалось справиться с приливом — и он вынужден был вернуться. Описание, пожалуй, слишком красочное и подробное, чтобы доверять ему.
Чем же занят был Цезарь в эти долгие и холодные зимние месяцы? По-видимому, главным образом заботами о прокорме и обогреве своих солдат, приплывших на этот дикий и пустынный берег без всяких припасов. Оставим же его на время за этим нелегким делом и посмотрим, что происходит в лагере Помпея и как там себя чувствует Цицерон.
Вслед за войском с восточного побережья в Диррахий перекочевала и вся римская знать, покинувшая Италию вместе с Помпеем. В его окружении было не меньше сенаторов, чем Цезарь мог собрать в Риме. Здесь находились и Лабиен, и все полководцы Помпея (отпущенные Цезарем), и его взрослый сын, Катон, молодые, но уже влиятельные сенаторы Брут и Кассий, наконец, Цицерон. Проблем с продовольствием и обеспечением как этой пышной свиты, так и самого войска у Помпея не было. Помимо запасов, хранившихся в Диррахии, все необходимое он получал от дружественных ему восточных владык и городов по морю. Состояние духа в его лагере было лихорадочное. Все уверяли друг друга в близкой победе. Многие утверждали, что сложившаяся ситуация очень выгодна, поскольку Цезарь разбил свое войско на две части и их можно будет разгромить поочередно — сначала здесь, потом в Италии. Ведь Бибул теперь уж ни за что не позволит Антонию пересечь море. Тем не менее, настроение было тревожное. Войско Цезаря до сих пор было почти легендой. Большую часть своих солдат он набрал в Галлии. Свирепые варвары были обучены и организованы по римскому образцу и прошли боевую закалку в непрерывных сражениях многолетней войны. Теперь их легионы стояли рядом, за рекой. Из Записок о Галльской войне, опубликованных Цезарем три года назад, римляне знали, что каждый его солдат готов сражаться с десятком врагов. Сумеет ли войско Помпея, пусть большое и хорошо обученное, но никогда (кроме двух легионов) не бывавшее в бою, противостоять натиску ветеранов Цезаря?
Плутарх в биографии Цицерона приводит фразу, которую тому якобы сказал Катон:
«Безрассудно и без всякой нужды сделался ты врагом Цезаря и безрассудно разделишь с нами великую опасность, явившись сюда». Цицерон и сам уже сожалел о порыве, приведшем его в Грецию.
«Помпей, — пишет далее Плутарх, — не пользовался его (Цицерона. — Л.О.) услугами ни в одном важном деле. Виновником такого недоверия был, впрочем, он сам, ибо не скрывал и не отрицал своего раскаяния, но, не ставя ни во что приготовления Помпея, порицая исподтишка все его планы, осыпая язвительными шутками союзников, расхаживал по лагерю и, сам всегда угрюмый, без тени улыбки на губах, вызывал неуместный и ненужный смех своими остротами». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, XXXVIII)
Наверное, многие из аристократов платили Цицерону взаимной неприязнью, припоминая его долгие колебания, предшествовавшие прибытию в лагерь.
Так прошла зима. В ее разгаре умер Бибул. Это заметно ухудшило координацию действий флота, состоявшего из нескольких флотилий различных союзных Помпею городов. Кроме того, чтобы блокировать выход кораблей из бухты Брундисия, надо было постоянно крейсировать неподалеку от города. Антоний же расставил сторожевые посты вдоль всех окрестных берегов и не давал возможности пополнять запасы пресной воды. В результате морская блокада Брундисия была снята.
В конце первой декады апреля, дождавшись сильного попутного южного ветра, Антоний вышел в открытое море и благополучно достиг берегов Эпира значительно севернее Диррахия. Он был замечен с кораблей родосской эскадры, но поздно — догнать его не удалось. Антоний привез три легиона ветеранов, один — новобранцев и еще 800 человек конницы. Узнав о его прибытии, Цезарь двинулся навстречу Антонию. Помпей тоже вывел свои легионы из лагеря и попытался помешать объединению армий противника. Однако благодаря умелому маневру Антония сделать это не удалось. Цезарь теперь располагал примерно 34 тысячами человек пехоты и 1400 человек конницы. Часть своих солдат он вынужден был отрядить для заготовки провианта, а также для того, чтобы преградить путь легионам, идущим к Помпею из Сирии. С остальным войском он, обойдя Помпея, сумел подойти и Диррахию и осадить его.
Вернувшись вслед за Цезарем, Помпей поставил свой лагерь на скалистой возвышенности, близ берега моря. Диррахий был хорошо укреплен. Взять его штурмом без осадных орудий было невозможно, и Цезарь оказался между двух огней. Он и его солдаты, несмотря на двукратное численное преимущество у противника, горели желанием завязать решительное сражение. Но Помпей от этого уклонялся. Напрасно Цезарь раз за разом выводил свое войско на равнину в надежде, что самолюбие заставит Помпея принять вызов. Тот оставался в лагере или ставил свое войско перед самым валом, где оно находилось под прикрытием стрел и снарядов с вала.
Помпей начал строить на окрестных холмах цепь редутов, чтобы окружить легионы Цезаря. Тот, поняв, что война затягивается, в свою очередь, стал окружать валом и редутами расположение войск Помпея. Он рассчитывал отрезать их от источников воды. Сам Цезарь так описывает эту своеобразную ситуацию:
«Это был новый и необычный способ ведения войны, как по очень большому количеству редутов, по огромному протяжению, по сложности фортификационных работ, по системе блокады, так и во всех других отношениях... в данном случае Цезарь блокировал с менее многочисленным войском неослабленную и свежую армию, имевшую всякие припасы в изобилии... Между тем сам Цезарь находился в очень затруднительном положении, так как весь хлеб повсеместно в округе был съеден. Но все-таки его солдаты выносили нужду с поразительным терпением...» (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. II, 47)
Легионеры Цезаря пекли хлеб из каких-то кореньев. Эти лепешки они иногда забрасывали в лагерь Помпея, крича, что пока земля родит такие коренья, они не снимут осаду. У помпеянцев складывалось впечатление, что против них воюют не люди, а дикие звери.
Так продолжалось до середины июля, когда крупное сражение состоялось. Началось оно, как это нередко случается, помимо воли полководцев. Из описания, оставленного Цезарем, ход сражения понять трудно, Очевидно лишь то, что оно началось локальным столкновением двух отрядов на одном из участков обороны Помпея. Потом туда направились подкрепления с обеих сторон. Но воины Цезаря заблудились в системе фортификационных сооружений, сбились с дороги и оказались на очень невыгодной позиции. Помпей тем временем успел подвести крупные силы и обратил в бегство сначала один, а затем и второй фланг цезарианцев. Быть может, длительное голодание подорвало стойкость ветеранов. Несмотря на некоторую неясность диспозиции, картина разгрома его войск описана Цезарем в «Записках» откровенно, без прикрас и оправданий:
«Правое крыло, — пишет он, — не имевшее связи с левым, при виде замешательства конницы стало отступать, — чтобы не быть застигнутым в пределах укреплений, через бреши разрушенного вала. При этом многие из солдат, чтобы не попасть в давку, бросались в ров с десятифутовой высоты вала, давя первых; остальные по их трупам искали себе спасения и выхода. На левом же крыле солдаты видели с вала, что Помпей подходит, а наши бегут. Так как враг был и спереди, и сзади, то из боязни быть отрезанными на узком пространстве они также начали отступать тем же путем, каким пришли, заботясь только о собственном спасении. Всюду было такое смятение, ужас и бегство, что хотя Цезарь собственноручно выхватывал знамена у бегущих и приказывал им остановиться, тем не менее одни пускали на волю своих коней и бежали вместе с толпой, другие от страха бросали даже знамена, и вообще никто не слушался его приказа.
В этом ужасном положении, когда все войско могло бы быть уничтожено, нас спасло то, что Помпей из боязни осады... некоторое время не решался приближаться к укреплениям...» (Там же. II, 69, 70)
А приблизиться следовало. Аппиан утверждает, что паника в войске Цезаря была так велика, что солдаты, достигшие лагеря, даже не организовали обороны вала. Помпей мог бы «с ходу» овладеть лагерем, но он вместо этого стал преследовать бегущих вне лагеря, многих убил, взял 32 знамени, но... победу упустил, хотя в тот день Цезарь и потерял более тысячи своих солдат. Плутарх утверждает, что...
«Цезарь, который уже потерял было всякую надежду, сказал после этого своим друзьям: «Сегодня победа осталась бы за противниками, если бы у них было кому победить». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XXXIX)
Эту знаменитую сентенцию приводит в своей истории и Аппиан.
Однако из поражения надо было безотлагательно сделать надлежащие выводы — изменить весь план войны. Диррахий с его запасами оказался недоступен. Отрезать Помпея от снабжения с моря не удавалось. Кроме того, чрезвычайно растянутая линия блокады рассредотачивала и так не слишком многочисленное войско Цезаря. Это было чревато новыми локальными столкновениями, столь же неудачными, как только что окончившееся. Следовало бы вынудить Помпея дать генеральное сражение на ровном месте, где возможен маневр легионов, где слаженность их действий сыграет свою роль наряду с доблестью и военным опытом легионеров. Из этой мышеловки под Диррахием надо было уходить! Уходить от берега моря, где Помпей получает все необходимое, а Цезарю ждать нечего и не от кого. Но уходить так, чтобы Помпей пошел вслед за ним. Надо двинуться навстречу легионам, идущим к Помпею из Сирии! Конечно, он может ими пожертвовать и перебраться в Италию. Но вряд ли это сделает. Во-первых, и сам Помпей и его окружение, наверное, поверили, что смогут победить здесь, в Греции. Во-вторых, Помпей побоится, что на Востоке создастся впечатление, будто он опять бежит от Цезаря. И, кроме того, сирийское войско ведет Метелл Сципион. Оставить его два легиона против всей армии Цезаря означало бы обречь своего тестя на полный разгром и пленение, а, может быть, и гибель. На Помпея это не похоже. Говорят, что к Корнелии он так же привязан, как раньше к Юлии... ...Везет ему в любви! Впрочем, он ее вполне заслуживает. Не слишком умен? Но для женщин это и лучше... Да, он пойдет за Цезарем! И если только сражение произойдет... Но надо ободрить солдат — они, конечно, приуныли.
Цезарь собирает сходку и обращается к войску не со словами упрека или утешения, а с похвалой. Он им советует не слишком огорчаться происшедшим, не поддаваться панике от одного проигранного сражения, к тому же не очень важного, а противопоставить ему память о множестве выигранных. Напоминает о том, как без потерь была завоевана вся Италия, о дерзкой переправе в Грецию.
Затем он заклеймил позором и отстранил от почетной должности нескольких знаменосцев, как бы сузив таким образом круг людей, непосредственно виновных в возникновении паники. Солдаты горели желанием немедленно смыть позор в новой битве с врагом, но Цезарь не вполне доверял их стойкости после понесенного поражения и предпочел дать войску время прийти в себя. Поэтому он приказал снимать лагерь и повел легионы в Фессалию. Более или менее разрешив, путем конфискаций, проблему их обеспечения, Цезарь выбрал удобную позицию неподалеку от города Фарсала, разбил там укрепленный лагерь и стал поджидать Помпея. Его расчеты как будто оправдывались. Помпей вышел вслед за ним и двинулся на соединение со Сципионом, спешившим ему навстречу. Однако давать генеральное сражение он не собирался. Что ни говори, а Помпей был опытным полководцем. Первоначальное головокружение, порожденное возвращением на авансцену римской политики, а также всеобщим поклонением и похвалой, прошло. Победа Цезаря в Испании и зимняя переправа в Грецию отрезвили Помпея. Теперь он вполне осознал, с кем имеет дело, и трезво оценивал как свои преимущества, так и силу противника. Аппиан так описывает военную ситуацию после ухода обеих армий из-под Диррахия:
«Провиант Помпею доставляли отовсюду, ибо у него были в такой степени заготовлены дороги, гавани и посты, что и с суши ему постоянно все доставлялось и при любом ветре через море. Цезарь, напротив, имел только то, что с трудом отыскивал и добывал, испытывая при этом сильные затруднения. Однако и при таких обстоятельствах ни один из его воинов его не покинул, а все с каким-то демоническим рвением стремились вступить в бой с врагами...
...Сознавая все это и зная, что ему противостоят люди закаленные и доведенные до отчаяния, а также блестящее счастье, обычно сопровождающее Цезаря, Помпей полагал, что было бы рискованно подвергнуть опасности все предприятие из-за исхода одного сражения. Более подходящим и безопасным будет истощать нуждой врагов, сидевших на бедной территории, не владеющих морем и не имеющих кораблей даже для того, чтобы быстро убежать. Так, полагаясь на самый верный расчет, Помпей решил всячески затягивать войну, доводя войска Цезаря в результате голода до болезни». (Аппиан. Гражданские войны. II, 66)
Но совсем не так были настроены аристократы, окружавшие главнокомандующего. Победа под Диррахием в одно мгновение вознесла их из тусклого болота сомнений и тревоги на сверкающую высоту уверенности в скорой и полной победе. Они уже видели Цезаря поверженным и обезглавленным, а себя — торжествующими, творящими в Риме суд и расправу над изменниками. Иные уже делили освобождающиеся таким образом вакансии, начиная от городских магистратур и кончая должностью верховного понтифика, которую занимал Цезарь. Другие предусмотрительно отправляли слуг и доверенных лиц в Рим, чтобы те приглядели дома близ форума, которыми они завладеют после возвращения. Всем не терпелось закончить кампанию решительным и победоносным сражением. Чего было ждать? Все видели, как бегут хваленые легионеры Цезаря. «Это им не с варварами расправляться!» — говорили вокруг. А теперь, когда Помпей соединился со Сципионом и имеет вдвое больше солдат, чем у его понапрасну прославленного врага... И слава-то у Цезаря дутая! Он сам ее состряпал приукрашенными победными реляциями из Галлии да своими «Записками». Незачем медлить!..
Такого же мнения были и Лабиен, и многие другие командиры, и большинство солдат. Особенно рвались в бой всадники, набранные сплошь из аристократической молодежи. Они очень гордились своим боевым искусством (правда, опробованным только на Марсовом поле), красотой своих коней и блеском оружия. Они клялись в одной атаке сокрушить конников Цезаря. Что, вообще говоря, было вполне возможно — все-таки их было семь тысяч против одной тысячи всадников Цезаря.
Но Помпей поначалу сопротивлялся всеобщему нажиму и упорно продолжал попытки взять противника измором.
«Между тем, — свидетельствует Плутарх, — пока Помпей таким образом спокойно следовал за врагом, окружающие начали осыпать его упреками, обвиняя в том, что он-де воюет не против Цезаря, а против отечества и сената, чтобы навсегда сохранить свою власть... Этими и множеством других подобных речей окружающие заставили Помпея, человека, для которого слава и уважение друзей были превыше всего, оставить свои лучшие планы и увлечься их надеждами и стремлениями — уступчивость, которая не подобает даже кормчему корабля, не говоря уже о полководце, обладающем неограниченной властью над столькими народами и армиями». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, XVII)
Аппиан по поводу этой уступчивости высказывается даже так:
«Помпей отказался от своих собственных расчетов и уступил, поврежденный в разуме божеством, и на сей раз, как и в других случаях в течение всей войны. Став вопреки своей природе вялым и медлительным во всех делах, он, против своего желания, склонился к сражению на горе самому себе и тем, которые его к этому склоняли». (Аппиан. Гражданские войны. II, 67)
Помпей подошел к равнине у Фарсалы и разбил лагерь на прилегающих к ней холмах — в виду лагеря Цезаря. После поражения под Диррахием прошел почти месяц. Солдаты Цезаря оправились от шока и подкормились. Они горели жаждой реванша. Подобно кулачным бойцам, противники поначалу приглядываются и примериваются друг к другу:
«Цезарь счел нужным испытать, каковы намерения Помпея и склонен ли он принять сражение. Поэтому он вывел войско из лагеря и построил его в боевую линию, сначала на удобной позиции и подальше от лагеря Помпея. Но в следующие за тем дни он продвигался более или менее вдаль от своего лагеря и приближал свой фронт к холмам, занятым Помпеем. От этого его войско становилось со дня на день увереннее...
Помпей, лагерь которого был на холме, выстраивал свое войско у самого его подножия и, как казалось, каждый раз выжидал, не подойдет ли Цезарь поближе, на невыгодную для него позицию...» (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. II, 84, 85)
Сейчас я продолжу рассказ Цезаря, но прошу тебя, читатель, оторвись на мгновение и вообрази:
...Яркий летний день. Цветущая равнина и зеленые холмы. В несколько шеренг, двумя длинными лентами выстроились друг против друга сто тысяч воинов. Сверкают окованные медью щиты, наконечники дротиков, шлемы, серебряные орлы легионов. Ветерок колышет знамена и высокие султаны на шлемах. Воздух, как перед грозой, наэлектризован ожиданием сигнала трубы. Все замерло, только на флангах приплясывают кони кавалерийских турм, ожидая шпор (ах, нет — шпор еще не изобрели). Красиво воевали пращуры!..
Но проходит час, другой. Напряжение спадает, и легионы возвращаются в лагеря. А я продолжаю прерванную цитату:
«Цезарь видел, что Помпея никоим образом нельзя заманить на сражение. Поэтому он признал самой удобной для себя тактикой сняться с лагеря и постоянно быть в походе: он рассчитывал облегчить себе частой переменой лагеря и движением по многим местностям добывание провианта, а также во время самого похода улучить какой-нибудь удобный момент для сражения и, наконец, утомить ежедневными передвижениями войско Помпея, непривычное к тяжелому труду. Это решение было уже принято, был дан сигнал к выступлению и сложены были палатки, как вдруг бросилось в глаза, что, вопреки повседневной привычке, боевая линия Помпея успела за это время продвинуться вперед довольно далеко от своего вала. Таким образом, показалось, что возможно дать сражение на довольно удобной позиции. Когда походные колонны были уже в воротах лагеря, Цезарь сказал своим солдатам: «Надо нам в настоящее время отложить поход и думать о сражении, которого мы всегда очень хотели. Будем всей душой готовы к бою: позже нелегко нам будет найти удобный случай». И он тотчас же вывел свои войска в боевой готовности». (Там же)
Потом выяснилось, что как раз накануне того дня, когда Цезарь решил уходить из-под Фарсалы, Помпей наконец решился дать генеральное сражение, собрал военный совет и отдал распоряжения командирам легионов и когорт. Главная роль в его плане битвы была отведена коннице, которая на своем левом фланге должна была смять кавалерию Цезаря и выйти в тыл боевым порядкам его пехоты.
В своих «Записках» Цезарь ярко рисует панораму знаменитой фарсальской битвы (9-го августа 48-го года). Не считая союзников — греков и азиатов — на стороне Помпея сражалось около 50 тысяч италийцев. У Цезаря было примерно вдвое меньше солдат — его одиннадцать легионов были укомплектованы менее чем наполовину. Я не буду подробно пересказывать расположение войск в обеих боевых линиях. Ограничусь лишь тем, что относится к левому флангу (со стороны Помпея), где, по сути дела, решился исход всего сражения. На другом фланге обе армии подходили вплотную к крутому берегу реки, поэтому вся конница была сосредоточена на левом фланге (место кавалерии всегда на флангах — ради обходного маневра). Цезарь понимал, сколь сокрушительны могут быть атака и рейд по тылам семитысячной конницы Помпея. Он поставил на свой правый фланг самый надежный 10-й легион, строго наказав его третьей линии не вступать в бой до специального приказа. Кроме того, он снял по одной когорте пехотинцев из третьей линии всех остальных легионов (от силы две-три тысячи воинов) и разместил их в качестве четвертой линии позади 10-го легиона. Как пишет Цезарь: «Он дал им специальные указания и предупредил, что сегодняшняя победа зависит исключительно от храбрости этих солдат». Что это были за указания, Цезарь не раскрывает.
Римские полководцы имели обыкновение перед началом сражения обращаться к своим воинам с зажигательными речами. Как это им удавалось делать перед фронтом шириной, скажем, в тысячу человек и глубиной в несколько рядов, я не очень представляю. Если только вдоль фронта не были расставлены глашатаи, повторявшие их слова? Но речи, видимо, действительно произносились, и все античные историки их прилежно пересказывают. Речи, звучавшие перед Фарсальской битвой, приводит в своей истории и Аппиан. Хотя нельзя поручиться, что они воспроизведены дословно, их суть и тональность, вероятно, соответствуют исторической действительности.
Помпей честно старается убедить своих солдат в том, что и материальное и моральное превосходство на их стороне — они должны победить. Но говорит он это отстраненно, как человек, который сам не верит в эту победу:
«О, содружинники, — обращается он к солдатам, — вы сейчас скорее военачальники, чем воины. Ведь меня, желающего все больше и больше истощать Цезаря, вы призвали на этот бой. Поэтому и будьте распорядителями на этом состязании, обходитесь с врагами, как обычно обходятся гораздо более многочисленные с малочисленными, взирайте на них с презрением, как победители на побежденных, как молодые на стариков, как люди со свежими силами на сильно утомленных. Сражайтесь как люди, у которых столь много сил и снаряжения и которые к тому еще сознают причины войны. Ибо мы сражаемся за свободу и отечество, опираясь на законы и добрую славу, имея столько знатных мужей, сенаторов и всадников, против сего одного человека, который желает присвоить себе верховную власть. Идите же, как вы о том и просили, с доброй надеждой, имея перед глазами то бегство врагов, которое произошло при Диррахии, то огромное количество знамен, которое мы, одержав победу, отняли в течение одного дня». (Аппиан. Гражданские войны. II, 72)
Цезарь, напротив, в своей речи выражает абсолютную уверенность в победе: «О, друзья, — начинает он, — наиболее трудное мы уже одолели: вместо голода и нужды мы состязаемся теперь с людьми. Этот день решает все. Вспомните, что вы обещали мне при Диррахии (после поражения. — Л.О.) и как вы на моих глазах клялись друг другу не возвращаться без победы...» Заканчивает же он свою речь так:
«...нужно, чтобы я видел, что вы помните свое обещание победить или умереть. Поэтому разрушьте, вступая в бой, возведенные вами укрепления, засыпьте ров, чтобы у нас ничего не оставалось, если мы не победим, чтобы враги видели, что вы не имеете своего лагеря, и сознавали, что у вас нет иного выхода, как занять их лагерь».
И Аппиан продолжает уже от своего имени:
«Так сказал Цезарь и при этом послал все же для охраны палаток две тысячи совершенно престарелых людей. Остальные, выйдя в глубоком молчании, разрушили укрепления и свалили их в ров. Помпей, увидя это... со стоном сказал себе, что им приходится тягаться со зверями и что верное средство против зверей — это голод. Но теперь уже было поздно...» (Там же. 73 — 75)
Возможность описать критический момент сражения предоставим самому Цезарю. Его солдаты по сигналу трубы двинулись вдоль всего фронта вперед, метнули дротики и сошлись в рукопашном бою с солдатами Помпея. Те устояли. Сражение разгоралось со все нарастающим ожесточением...
«В то же время, — пишет Цезарь, — всадники с левого Помпеева фланга, как им было приказано, поскакали все до одного. Вместе с ними высыпала и вся масса стрелков и пращников. Наша конница не выдержала их атаки и несколько подалась. Тем энергичнее стала наседать конница Помпея и, развертываясь в эскадроны, начала обходить наш фронт с незащищенного фланга. Как только Цезарь это заметил, он дал сигнал когортам образованной им четвертой линии. Те быстро бросились вперед сомкнутыми рядами и так бурно атаковали Помпеевых всадников, что из них никто не устоял. Все они повернули и не только очистили это место, но и немедленно в поспешном бегстве устремились на очень высокие горы. С их удалением все стрелки и пращники остались беззащитными и, так как им нечем было обороняться, то они были перебиты. Не прерывая атаки, когорты обошли левое крыло и напали на помпеянцев с тылу, встречая, впрочем, с их стороны упорное и стойкое сопротивление. В то же время Цезарь приказал третьей линии, которая до сих пор спокойно стояла на месте, броситься вперед. Таким образом уставших сменили здесь свежие и неослабленные силы, в то время как другие нападали с тылу. Этой двойной атаки помпеянцы не могли уже выдержать и все без исключения обратились в бегство». (Записки Юлия Цезаря. Гражданская война. 93, 94)
Вот и все. Вслед за левым флангом дрогнула и вся линия воинов Помпея. Союзники побежали, а италийцы прекратили сражаться — цезарианцы предложили им оставаться на месте, обещая их не трогать. Именно таково было указание Цезаря перед началом боя: как можно меньше пролить италийской крови. Тех, кто бежал, солдаты Цезаря преследовали по пятам и на их плечах ворвались в лагерь. Помпей ускакал туда еще раньше, увидев, что поражение неизбежно. Цезарь пишет — быть может, из уважения к памяти своего врага — что тот уехал с поля боя для того, чтобы организовать оборону лагеря. Но Плутарх и Аппиан утверждают, что Помпей впал в полную прострацию:
«Он походил, — пишет Плутарх, — скорее всего на человека, которого божество лишило рассудка. Не сказав ни слова, он удалился в палатку и там напряженно ожидал, что произойдет дальше, не двигаясь с места до тех пор, пока не началось всеобщее бегство и враги, ворвавшись в лагерь, не вступили в бой с караульными. Тогда лишь он как бы опомнился и сказал, как передают, только одну фразу: «Неужели уже дошло до лагеря?» Сняв боевое убранство полководца и заменив его подобающей беглецу одеждой, он незаметно удалился». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XLV)
В рассказе Цезаря чего-то явно не хватает. Каким образом три тысячи пехотинцев обратили в бегство семь тысяч всадников? Видимо, недаром Цезарь предупреждал, что победа будет зависеть от них. Что за специальные указания он им дал? И почему умалчивает об этом? Ответ на эти вопросы мы находим в описании Плутарха, которое подтверждает и Аппиан:
«...Конница Помпея, — пишет Плутарх, — с левого фланга горделиво тронулась в наступление, рассыпаясь и растягиваясь, чтобы охватить правое крыло противника. Однако прежде, чем она успела атаковать, вперед выбежали когорты Цезаря, которые против обыкновения не метали копий и не поражали неприятеля в ноги, а, по приказу Цезаря, целили врагам в глаза и наносили раны в лицо. Цезарь рассчитывал, что молодые солдаты Помпея, кичившиеся своей красотой и юностью, не привыкшие к войнам и ранам, более всего будут опасаться таких ударов и не устоят, устрашенные как самой опасностью, так и угрозой оказаться обезображенными. Так оно и случилось. Помпеянцы отступали перед поднятыми вверх копьями, теряя отвагу при виде направленного против них оружия. Оберегая лицо, они отворачивались и закрывались. В конце концов они расстроили свои ряды и обратились в позорное бегство...» (Там же)
Так вот в чем секрет! Цезарь проявил себя тонким психологом. Воин, идущий в атаку, готов к тому, что будет ранен, лишь бы противник его был повержен. Грудь, иссеченная шрамами, только украшает мужчину. Но юноше, аристократу на всю жизнь остаться уродом! Нет, к этому они были не готовы!.. Кстати, то, что Плутарх называет копьями, были дротики длиною около двух метров, предназначенные для метания (настоящие копья снял с вооружения еще Марий). Цезарь приказал солдатам четвертой линии использовать их именно так, как это описывает Плутарх. А не упоминает он об этом потому, что такое употребление дротиков было нарушением воинских канонов — хитростью. Хитрость же у римлян была не в почете.
В лагере Помпея солдаты Цезаря застали странную картину:
«При взятии лагеря, — свидетельствует Плутарх, — выявилось безрассудное легкомыслие помпеянцев: каждая палатка была увита миртовыми ветвями и украшена цветными коврами, всюду стояли столы с чашами для питья, были поставлены кратеры с вином и вообще все было приспособлено и приготовлено скорее для жертвоприношения и празднества, чем для бегства». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, LXXII)
В биографии Цезаря тот же Плутарх со слов Поллиона, участвовавшего в сражении, пишет, что...
«Большинство убитых, как он сообщает, оказалось рабами, павшими при захвате лагеря, а воинов погибло не более шести тысяч. Большую часть пленных Цезарь включил в свои легионы. Многим знатным римлянам он даровал прощение. В их числе был и Брут — впоследствии его убийца. Цезарь, говорят, был встревожен, не видя Брута, и очень обрадовался, когда тот оказался в числе уцелевших и пришел к нему». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XLVI)
Цезарь потерял в бою под Фарсалой 1200 человек. Остатки войск Помпея сперва пытались отойти на север к Лариссе, но убедившись, что победитель начал преследование, капитулировали. Продолжая свою «политику милосердия», Цезарь помиловал всех: солдат и офицеров. Более того, во избежание расширения раскола в государстве, он приказал сжечь, не читая, всю захваченную в лагере корреспонденцию Помпея (вспомните, что в свое время Помпей точно так же поступил с корреспонденцией Сертория).
Кстати, упоминание о Бруте у Плутарха, конечно, не случайно. Существовала легенда, что Брут был внебрачным сыном Цезаря от Сервилии — сестры Катона. В биографии Брута Плутарх прямо пишет: «Известно, что в молодые годы он (Цезарь. — Л.О.) находился в связи с Сервилией, которая была без памяти в него влюблена, и Брут родился в самый разгар этой любви, и, стало быть, Цезарь мог считать его своим сыном». (Плутарх... Брут, V) Это кажется сомнительным. Историки утверждают, что Брут родился в 85-м году. Значит, Цезарь стал его отцом в 16 лет?!
Покинув лагерь, Помпей в сопровождении немногих друзей поскакал к морю. Ему удалось сесть на купеческий корабль. На нем он приплыл к Лесбосу, где забрал жену и сына. Сцену его встречи с Корнелией я описал в начале 4-й главы. Оттуда Помпей собирался отплыть в Африку, где он мог рассчитывать на поддержку нумидийского царя Юбы. По дороге было решено заехать в Египет. Там царствовал 13-летний Птолемей, отец которого был обязан своим троном Помпею. Птолемей вел войну со своей сестрой и соправительницей Клеопатрой, изгнанной им из Египта. Его войско, двор и он сам находились в это время в Пелусии — на восточной границе своего царства. Туда и прибыл корабль Помпея вместе с несколькими другими кораблями беженцев из-под Фарсалы, присоединившимися к нему в пути. Опекуны Птолемея: евнух Потин, фактически управлявший Египтом, главнокомандующий войском Ахилла и другие сановники — решили убить Помпея, чтобы угодить Цезарю. Вот как описывает Плутарх последние минуты жизни Помпея Великого:
«Советники одобрили этот коварный замысел, возложив осуществление его на Ахиллу. Последний, взяв с собой некоего Септимия, ранее служившего военным трибуном у Помпея, Сальвия, который был у него центурионом, и трех или четырех слуг, вышел из гавани и направился к кораблю Помпея... лодка приблизилась, Септимий встал первым и, обратившись к Помпею по-латыни, назвал его императором. Ахилла же приветствовал его по-гречески и пригласил сойти в лодку, так как, дескать, здесь очень мелко и из-за песчаных отмелей проплыть на триере невозможно. В это время спутники Помпея заметили несколько царских кораблей, на борт которых поднимались воины. Берег был занят пехотинцами. Поэтому спастись бегством, даже если бы Помпей переменил свое решение, казалось немыслимым, а к тому же выказать недоверие означало бы дать убийцам оправдание в их преступлении. Итак, простившись с Корнелией, которая заранее оплакивала его кончину, Помпей приказал своим центурионам, вольноотпущеннику Филиппу и рабу по имени Скиф спуститься в лодку. И когда Ахилла уже протянул ему с лодки руку, он повернулся к жене и сыну и произнес ямбы Софокла:
Когда к тирану в дом войдет свободный муж,
Он в тот же самый миг становится рабом.
Это были последние слова, с которыми Помпей обратился к близким, затем он вошел в лодку. Корабль находился на значительном расстоянии от берега, и так как никто из спутников не сказал ему ни единого дружеского слова, то Помпей, посмотрев на Септимия, промолвил: «Если я не ошибаюсь, то узнаю моего старого соратника». Тот только кивнул головой в знак согласия, но ничего не ответил и видом своим не показал дружеского расположения. Затем последовало долгое молчание, в течение которого Помпей читал маленький свиток с написанной им по-гречески речью к Птолемею. Когда Помпей стал приближаться к берегу, Корнелия с друзьями в сильном волнении наблюдала с корабля за тем, что произойдет, и начала уже собираться с духом, видя, что к месту высадки стекается множество придворных, как будто для почетной встречи. Но в тот момент, когда Помпей оперся на руку Филиппа, чтобы легче было подняться, Септимий сзади пронзил его мечом, а затем вытащили свои мечи Сальвий и Ахилла. Помпей обеими руками натянул на лицо тогу, не сказав и не сделав ничего, не соответствующего его достоинству. Он издал только стон и мужественно принял удары (точно так же, у ног статуи Помпея через четыре года умрет Цезарь. Умели древние умирать! — Л.О.). Помпей скончался пятидесяти девяти лет, назавтра после своего дня рождения...
Убийцы отрубили Помпею голову, а нагое тело выбросили из лодки, оставив лежать напоказ любителям подобных зрелищ. Филипп не отходил от убитого, пока народ не насмотрелся досыта. Затем он обмыл тело морской водой и обернул его в какую-то из своих одежд. Так как ничего другого под руками не было, он осмотрел берег и нашел обломки маленькой лодки, старые и трухлявые. Все же их оказалось достаточно, чтобы послужить погребальным костром...
Немного спустя Цезарь прибыл в Египет — страну запятнавшую себя таким неслыханным злодеянием. Он отвернулся как от убийцы от того, кто принес ему голову Помпея, и, взяв кольцо Помпея, заплакал. На печатке был вырезан лев, держащий меч...
Останки Помпея были переданы Корнелии, которая похоронила их в Альбанском имении». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, XXVIII — XXX) Помпей был убит 29-го сентября 48-го года.
А что Цицерон, которого мы совсем потеряли из виду? В мае 48-го года, когда он находился в Диррахии, его зять Долабелла, воевавший на стороне Цезаря, сумел передать Цицерону в осажденный город письмо, возможно, написанное по указанию Цезаря:
«...Ты уже удовлетворил, — писал Долабелла, — и чувство долга, и дружбу, удовлетворил также партию и то государственное дело, которое ты одобрял.
Нам остается быть именно там, где теперь существует государство, вместо того чтобы, стремясь к прежнему государству, быть лишенным всякого. Поэтому, мой любезнейший Цицерон, если Помпей, вытесненный также и из этих мест, возможно, будет принужден снова стремиться в другие области, пожалуйста, удались либо в Афины, либо в какой-нибудь мирный город. Если у тебя будет намерение так поступить, пожалуйста, напиши мне, чтобы я прилетел к тебе, если смогу каким-нибудь образом. А все, что тебе, применительно к твоему достоинству, ни потребуется испросить у императора, тебе, при доброте Цезаря, будет легче всего лично у него испросить. Однако и мои просьбы, полагаю, будут оказывать на него не слишком малое влияние». (Письма... т. 2, №405)
К Фарсале Цицерон за Помпеем не последовал — возможно, из-за болезни. Записка, которую ему удалось отправить в Рим Аттику в середине июня — примерно за месяц до сражения под Диррахием — весьма лаконична:
«Меня одолевает тревога, а от нее и чрезвычайная слабость тела. Избавившись от нее, я буду вместе с тем, кто стоит во главе и питает большую надежду. Брут — друг. Он принимает деятельное участие. Вот все, что я мог написать, соблюдая осторожность». (Письма... т. 2, № 408)
Следующее письмо Аттику отправлено в начале ноября уже из Брундисия. Цицерон, по-видимому, только что возвратился в Италию:
«Какие причины — сколь горькие, сколь тяжкие, сколь неожиданные, — побудили и заставили меня следовать более какому-то душевному порыву, нежели размышлению, — об этом я не могу писать тебе без величайшей боли: они были, право, столь важными, что привели к тому, что ты видишь». (Письма... т. 2, №410)
В конце ноября тому же адресату:
«В том, что я отошел от войны, я никогда не раскаивался: столь сильна была в тех (аристократах из окружения Помпея. — Л.О.) жестокость, столь силен союз с варварскими племенами, что проскрипция была составлена не поименно, а по родам, что по общему суждению было решено имущество, принадлежащее всем вам, сделать его добычей после победы. Вам ясно говорю я, ибо именно о тебе помышляли с особенной жестокостью. Поэтому в своем желании (уклониться от войны. — Л.О.) я никогда не буду раскаиваться. В решении (уехать в Италию. — Л.О.) — раскаиваюсь. Я предпочел бы поселиться в каком-нибудь городе, пока меня не призовут: я подавал бы меньше поводов к толкам, испытывал бы меньше скорби. Это самое не угнетало бы меня. Быть в пренебрежении в Брундисии— тягостно во всех отношениях...» (Письма... т. 2, №412)
Итак, Помпей погиб, Цезарь надолго задерживается в Египте, а Цицерон, всеми отринутый, остается в Брундисии, не решаясь ни отправиться в Рим без соизволения Цезаря, ни последовать за оставшимися в живых помпеянцами в Африку. Так развязался узел, в течение двух лет связывавший трех великих людей первого периода Гражданской войны, завершавшей историю Римской республики.
Глава VI Цезарь и Клеопатра. Катон
Юлий Цезарь прибыл в Египет в начале октября 48-го года. С ним на 35 кораблях прибыли 3200 пехотинцев и 800 всадников. Цезарю нужны деньги для продолжения войны, если уже не с Помпеем, то с теми, кто стоял за его спиной: сенатом и защитниками традиционного государственного строя сенатской республики. Египетское правительство должно было Риму значительную сумму денег, и Цезарь намеревался ее получить. О происхождении этого долга я сейчас расскажу. Так же, как и о предыстории политической ситуации, которую застал Цезарь. Как уже упоминалось, страна находилась в состоянии войны между малолетним царем Египта Птолемеем и его старшей сестрой и супругой, царицей Клеопатрой. Краткое пояснение для тех читателей, кого удивило сочетание слов сестра и супруга.
После смерти Александра Македонского Великая Империя в результате междоусобной борьбы его полководцев была поделена на три царства: Македонское, куда входила и Греция, Сирийское, простиравшееся до самой Индии, и Египетское. В новой столице Египта воцарилась династия Птолемеев. Все цари этой династии именовались Птолемеями с указанием порядкового номера и дополнительного имени. Так, например, полное имя мальчика, с которым предстояло встретиться Цезарю, было Птолемей XIII Дионис, а имя его отца (и отца Клеопатры) Птолемей XII Авлет. Птолемеи по своему происхождению были македоняне. Все туземное население Египта находилось на положении рабов своих царей и за два с половиной века, предшествовавших описываемым событиям, успело к этому привыкнуть. Разумеется, в составе пышного александрийского двора, а тем более, среди государственных чиновников различного ранга было немало знатных египтян, но еще больше македонян и греков (впрочем, жречество оставалось египетским и порой пыталось оспорить власть и влияние царей). Двор и столичная аристократия говорили по-гречески. Дальше в этой главе я буду цитировать Плутарха, и там, между прочим, встретится замечание о том, что египетские цари языка своей страны не знали, а некоторые забыли и македонский.
Народ Египта цари, видимо, презирали и ради сохранения в чистоте своего македонского происхождения установили строгое правило: заключать браки только внутри царской семьи. Так что женитьба на кузинах была нормой, а на родных сестрах если и исключением, то нередким.
Итак, Цезарь прибыл в Александрию в разгар войны между Птолемеем Дионисом и Клеопатрой, изгнанной им из Египта в Сирию, где она, надо полагать, получила политическое убежище. У отца супругов-врагов, Птолемея Авлета, было три дочери и два сына. Все три дочери были личностями исключительно яркими и сильными. Незаурядность старшей дочери, Береники, проявилась в том, что за десять лет до описываемых событий (в 58-м году) она вместе со своим мужем, полководцем Архелаем, свергла с трона и прогнала из страны собственного отца, а себя объявила царицей Египта. Вторую дочь звали Клеопатра, третью — Арсиноя. О них речь впереди.
Оскорбленный «неуважением» старшей дочери, отец обратился за помощью в Рим. Его энергично поддержал Помпей, а дальновидный Юлий Цезарь оказал финансовую протекцию. Птолемей то ли получил взаймы из римской казны 17 миллионов денариев на ведение войны с дочерью, то ли обязался уплатить эту сумму после возвращения ему царства силой римского оружия. Так или иначе, но задолжал. Года три ушло на переговоры. В 55-м году наместник Сирии Габиний получил из Рима приказ отправиться с войском в Египет и возвратить трон Птолемею Авлету. Что он и сделал. Египетское войско было разбито, Архелай погиб, а Беренике, надо полагать, с согласия отца родного, отрубили голову. Упомяну попутно, что в египетском походе отличился молодой офицер Марк Антоний. Вероятно, тогда он в первый раз встретился с Клеопатрой. Ему в ту пору было двадцать восемь лет, ей четырнадцать.
Для упрочения положения возвращенного народу царя или, скорее, для закрепления римского влияния в этой стране Габиний, по распоряжению сената, оставил в Египте легион солдат, формально подчиненный царю. За прошедшие с тех пор семь мирных лет эти солдаты переженились на египтянках, завели детей и перестали сознавать себя римскими легионерами. Впрочем, это не прибавило им лояльности по отношению к египетскому престолу. Нередко их командиры терроризировали царя своими домогательствами или участвовали в дворцовых заговорах и интригах.
В 51-м году Птолемей Авлет умер, так и не вернув ни одного денария римлянам. Вот за этим-то долгом и приплыл Цезарь, великодушно скостив его до 10 миллионов. Умирая, царь завещал свой трон, как полагалось, десятилетнему старшему сыну, однако с наказом взять в супруги старшую из двух оставшихся сестер — Клеопатру. Видимо, отец понимал, что сохранение египетского престола династией Птолемеев следует доверить не сыну, а дочери. Однако опекун юного Птолемея евнух Потин, хорошо зная решительный характер Клеопатры и желая сохранить за собой фактическое управление государством, склонил своего питомца изгнать сестру-супругу из Египта. Против соседей — покровителей изгнанницы было решено начать военные действия. Вот почему в момент роковой высадки Помпея близ Пелусия там находилась вся египетская армия. К этому времени за счет широкого приема беглых рабов и преступников со всего света она выросла до 20 тысяч человек. Командовал этим сбродом один из убийц Помпея, полководец Ахилла. К прибытию Цезаря в Александрию Птолемей и Потин вернулись в столицу, а Ахилла с войском оставался у Пелусия.
В ответ на требование Цезаря вернуть долг Потин, который занимал еще и пост министра финансов, естественно, заявил, что денег в египетской казне нет. Так же естественно, что Цезарь этому утверждению не поверил и продолжал настаивать на выплате хотя бы 10 миллионов денариев. В ответ последовало заявление, что по приказу царя вся золотая и серебряная посуда царского дворца, а также драгоценные предметы религиозного культа из египетских храмов отправляются в переплавку и чеканку, после чего долг будет возвращен золотыми и серебряными монетами. Для убедительности еду во дворце стали подавать в глиняной посуде. Замысел Потина разгадать было нетрудно: он провоцировал всенародное возмущение религиозных египтян. Чтобы обезвредить Потина, Цезарь вызвал в Александрию Клеопатру Он хотел добиться примирения царственных супругов. Законные основания для такого вмешательства в дела египетского двора у него были, по крайней мере, в той степени, в какой он имел право представлять здесь римское государство. В своем завещании Птолемей Авлет просил римлян быть гарантами исполнения его последней воли и, в частности, правления Клеопатры совместно со своим братом. Правомочность Цезаря представлять Рим оспорить было некому, а фактически и нельзя, так как сенат, узнав о поражении и смерти Помпея, поспешил заочно провозгласить Цезаря диктатором на неопределенный срок. Впрочем, сам Цезарь, вполне возможно, об этом еще не знал.
Умная царица пробралась из Сирии в Александрию тайно, в сопровождении одного лишь спутника, который внес ее во дворец, спрятанную в мешке для постели. Вручению столь экстравагантного подарка Плутарх в биографии Цезаря отводит лишь две коротких фразы:
«Говорят, — пишет он, — что уже эта хитрость Клеопатры показалась Цезарю смелой и пленила его. Окончательно покоренный обходительностью Клеопатры и ее красотой, он примирил ее с царем для того, чтобы они царствовали совместно». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XLIX)
И все! Больше об отношениях с Клеопатрой в биографии Цезаря нет ни слова. Как?! Проблема, загадка, которая до сих пор не дает покоя историкам (читатель о ней узнает чуть позже), романтический сюжет для многочисленных историко-литературных домыслов, для пьесы великого Бернарда Шоу — не заслуживает более двух малозначащих фраз в биографии, занимающей 43 страницы большого формата? Ну нет! Мы в этом еще разберемся. Но в свое время. А пока вернемся к интригам Потина.
Поняв, что восстановление царской семьи неминуемо обернется его отставкой, Потин тайно посылает гонца к Ахилле, приглашая его вернуться с войском в Александрию. Двадцать тысяч солдат Ахиллы при поддержке полумиллионного населения столицы должны легко справиться с четырьмя тысячами римских воинов. Цезарь, разумеется, должен был предвидеть такое развитие событий. Почему же он не отплывает немедленно из враждебного Египта? Нужны деньги? Это не резон! Победитель Помпея нашел бы деньги в Италии. Ему ли учиться делать долги? Как можно рисковать делом всей жизни? И зачем? Гордость? Колдовские чары Клеопатры? В своих «Записках» Цезарь утверждает, что его флот не мог покинуть Александрию из-за неблагоприятных ветров. Поверим, хотя... сомнение остается.
Ахилла и его армия прибывают с самыми агрессивными намерениями. Примирение царственных супругов означало отмену сирийской кампании, в которой египетские солдаты рассчитывали поживиться. По настоянию Цезаря юный царь отрядил к ним для переговоров двух придворных, которые раньше были послами в Риме. Ахилла их казнил, не потрудившись даже выслушать. Таким образом, война Цезарю была объявлена.
Давать сражение на улицах враждебно настроенного города пятикратно превосходящему по численности противнику было бы безумием. Цезарь приказал своим воинам замкнуть линию обороны и возвести вал вокруг дворца. Птолемея и Потина он задержал у себя. Дворец примыкал к гавани. Часть римских кораблей стояла у западного ее берега на ремонте близ верфей. Перегнать их на восточную, прилегающую к дворцу сторону бухты было невозможно, защищать тоже. Цезарь приказал поджечь эти суда. Пожар охватил и верфи, а затем перекинулся на расположенную неподалеку знаменитую Александрийскую библиотеку. Горожане пожар загасили, но часть бесценного собрания древних свитков погибла в огне.
Еще до начала открытых военных действий Цезарь послал своего надежного друга Митридата из Пергама в ближнюю Азию за подкреплением. Митридат принадлежал к высшей местной знати. У азиатов он пользовался доверием и авторитетом.
Первое очень важное сражение произошло в водах гавани. У египтян было 50 боевых кораблей, у Цезаря вдвое меньше. Поражение для цезарианцев означало бы полное окружение и потерю надежды как на прибытие подкрепления, так и на доставку продовольствия морем. Подробностей этого сражения мы не знаем, кроме того, что морской битвой командовал сам Цезарь и выиграл ее. Ему также удалось высадить десант и захватить остров Фарос, где находился огромной высоты маяк, почитавшийся в древности одним из семи чудес света. Остров контролировал вход в гавань. С городом его соединяла длинная дамба, которую легко было перегородить валом. Плутарх, Светоний и неизвестный автор записок под названием «Александрийская война» (которые обычно публикуются вместе с «Записками» Цезаря) — все описывают эпизод, когда, попав в окружение, Цезарь вынужден был прыгнуть в воду и вплавь, под градом стрел добираться до римских кораблей. Плутарх и Светоний украшают этот подвиг рассказом о том, как Цезарь греб одной рукой, а во второй держал свои таблички или, как пишет переводчик Плутарха, записные книжки. Светоний добавляет, что при этом Цезарь еще и тянул за собой, закусив зубами, пурпурный плащ полководца, чтобы не достался врагам. У автора «Александрийской войны» (скорее всего, одного из офицеров Цезаря) этих красочных подробностей нет. Да и трудно понять, зачем Цезарю, отправляясь из дворца в бой, брать с собой какие-то особо ценные «записные книжки».
После неудачи в гавани египтяне много раз, но тщетно пытались прорвать оборонительную линию римлян. Потом они догадались перекрыть подземные каналы, доставлявшие питьевую воду из Нила во дворец. Цезарь приказал рыть колодцы и нашел воду. Потин был изобличен в заговоре и тайных сношениях с Ахиллой. Цезарь его казнил. Затем проявила характер младшая из дочерей покойного царя, Арсиноя. Она бежала из дворца и стала весьма активно участвовать в руководстве осадой. Потом рассорилась с Ахиллой, подослала к нему убийцу, взяла в свои девичьи руки всю власть в столице и стране, а командование армией поручила своему воспитателю, евнуху Ганимеду.
Военные действия затягивались. К счастью, прибыл транспорт с хлебом, оружием и еще одним легионом солдат, присланный наместником провинции Азия. Его после победы под Фарсалой назначил Цезарь, а теперь известил о ситуации в Александрии Митридат. Держаться во дворце теперь можно было долго. А вот уплыть из города нельзя. Невозможно было снять часть защитников вала и начать их грузить на корабли: оборона была бы немедленно прорвана. Дело уже подвигалось к весне.
В один прекрасный день жители города прислали к Цезарю парламентеров. Описание событий, последовавших за этим визитом, у неизвестного автора «Александрийской войны» являет собой прелестную маленькую психологическую сюиту, и я не могу удержаться от удовольствия продемонстрировать ее читателю:
«...они отправили, — пишет этот автор, — с одобрения царя, с которым были в тайных сношениях, угодных ему лиц к Цезарю, просивших отпустить царя и позволить ему вернуться к своим и указавших, что все население, которому чрезвычайно надоело временное царствование девочки и жестокая тирания Ганимеда, готово повиноваться всем приказам царя и что если по его воле они должны будут перейти под покровительство Цезаря и заключить с ним дружественный союз, то населению нечего будет бояться, и тем будут устранены препятствия для сдачи.
Хотя Цезарь хорошо знал этот лживый народ, который думает одно, а для виду делает другое, однако счел целесообразным согласиться на их просьбу в уверенности, что если они действительно желают того, о чем просят, то отпущенный им царь останется ему верным. Если же, что более соответствовало их характеру, они хотят иметь в лице царя вождя для ведения войны, то для него будет благовиднее и почетнее вести войну с царем, чем с шайкой пришлых авантюристов и беглых рабов. Поэтому он стал уговаривать царя подумать об отцовском царстве, пощадить свой город, обезображенный отвратительными пожарами и разрушениями, своих сограждан прежде всего — образумить, а затем спасти, доказать свою верность римскому народу и ему, так как сам он, со своей стороны, настолько доверяет царю, что отпускает его к вооруженным врагам римского народа. Тут он взял взрослого мальчика за правую руку и стал с ним прощаться. Но молодой царь, приученный к величайшему лукавству в полном соответствии с характером своего народа, стал, наоборот, со слезами молить Цезаря не отпускать его: самый трон не так ему мил, как вид Цезаря. Цезарь успокоил плакавшего мальчика, слезы которого подействовали на него самого, и отпустил его к своим с обещанием скорого свидания, если его чувства действительно искренни. Тот, словно его выпустили из клетки на открытую арену, так энергично повел войну против Цезаря, что слезы, которые он обронил при прощании, были, очевидно, слезами радости. Многие легаты, друзья, центурионы и солдаты Цезаря радовались случившемуся, именно тому, что над чрезмерной добротой Цезаря насмеялся лукавый мальчик, словно Цезарь в данном случае действовал только под влиянием доброты, а не из высших практических соображений». (Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. Александрийская война. 23, 24)
После прибытия царя к войску атаки на линию обороны римлян усилились. Защитники дворца несли неизбежные потери, и ввиду практически неограниченных людских ресурсов осаждавших, положение Цезаря становилось все более критическим. Но тут наконец прибыло спасительное подкрепление. Митридату удалось собрать большое войско. Ранней весной он подступил к Пелусию, штурмом овладел крепостью и двинулся дальше по направлению к дельте Нила, известив через гонца об этом Цезаря. Осада дворца была снята, и авангард египетского войска выступил навстречу Митридату. Вслед за ним по Нилу к дельте поплыла вся остальная армия во главе с царем. Но и Цезарь не терял времени. Оставив минимальную охрану дворца, он посадил своих легионеров на корабли и поспешил добраться до дельты морем. Ему удалось прибыть в лагерь Митридата раньше, чем туда подошло войско царя. Теперь соотношение сил стало вполне приемлемым для Цезаря, хотя численное преимущество все еще было на стороне противника. Цезарь дал генеральное сражение египетскому войску. Оно окончилось полной победой римлян. На второй день сражения им удалось взять штурмом укрепленный лагерь египтян. Птолемей бежал на корабль, который затонул — вероятно, вследствие перегрузки беглецами. Малолетнему царю спастись не удалось. Это произошло 27 марта 47-го года. В тот же вечер во главе конного отряда Цезарь вернулся в Александрию и принял капитуляцию города. На египетский престол он возвел младшего брата Птолемея, опять-таки в качестве номинального супруга Клеопатры. Впрочем, ни у кого не было сомнений по поводу того, кто будет, как говорят французы, «носить штаны» в этой семье. Арсиною же Цезарь взял под стражу и отправил в Италию, где спустя полтора года ей предстояло живым трофеем пройти в триумфальном шествии Цезаря.
Кроме того, он счел необходимым уделить некоторое внимание «еврейскому вопросу» в Египте. Там с незапамятных времен существовала большая еврейская община, располагавшаяся преимущественно в районе дельты Нила. Община разрослась, и, как полагается, ее члены страдали от определенной дискриминации — если, конечно, сравнивать не с коренным населением страны, которое было и вовсе бесправно, а с македонянами и греками. Во время сражения в дельте местные евреи поддержали Цезаря. Кроме того, в войске, пришедшем с Митридатом, было немало евреев из Иудеи. В благодарность за это Цезарь распорядился уравнять в гражданских правах евреев с греками.
С получением долга проблем теперь, надо полагать, не возникало — Египет был богатым царством. Кораблей, с учетом египетского флота, тоже было предостаточно. Цезарь со всем своим войском мог незамедлительно отплыть из Александрии. Тем не менее, он остается в Египте еще на два с лишним месяца, совершает в обществе Клеопатры «познавательно-развлекательное» путешествие по Нилу вплоть до южной границы государства и вообще никуда не торопится. Почему? Это — та самая загадка, о которой я упомянул в начале главы. Для ее решения необходимо, в частности, представить себе характер взаимоотношений Цезаря и Клеопатры. Но сначала следует понять, в чем, собственно говоря, загадка. Ну, захотелось Цезарю немного отдохнуть от непрерывных войн, поразвлечься в обществе молодой и обаятельной женщины! Что тут особенного? Да и вполне понятная любознательность — выпадет ли еще случай побывать в легендарном древнем Египте. Так в чем же дело? Почему серьезный современный исследователь М. Гельцер пишет, что «девятимесячное египетское интермеццо задает любому наблюдателю жизненного пути Цезаря более чем непростую загадку». (М. Gelzer. «Julius Caesar» p. 262. Цитирую по книге С. Л. Утченко «Юлий Цезарь» М., 1976.). Насчет девятимесячного — это уж зря! Цезарь попал в ловушку, из которой в течение полугода не мог выбраться при всем желании. Но даже двухмесячное «интермеццо» требует серьезного объяснения, если учесть военно-политическую ситуацию того момента. Пожалуй, с нее и следует начать наше исследование. Пока Цезарь был осажден в александрийском дворце, помпеянцы успели собрать в северной Африке (там, где полтора столетия назад находилась Карфагенская республика) крупные военные силы. После поражения под Фарсалой туда с остатками войска перебрались полководцы Помпея: Лабиен, Афраний и Петрей, а также Катон и Метелл Сципион. К ним стали прибывать другие беглецы и ненавистники Цезаря. Они располагали средствами для вербовки солдат в дополнение к тому войску, которое находилось в провинции Африка. Большой заем предоставили им и местные римские купцы. В общей сложности удалось укомплектовать 10 легионов. К ним должны были присоединиться 4 легиона нумидийского царя Юбы, старого приверженца Помпея, крупный отряд нумидийской конницы и 120 боевых слонов. Противники Цезаря располагали и довольно сильным флотом, вполне способным перебросить всю армию в Италию. «Организатором и вдохновителем» этой новой антицезарианской коалиции был Катон. Верховное военное командование поручили Метеллу Сципиону. Угроза похода помпеянцев на Рим становилась вполне реальной.
Между тем, в самом Вечном Городе дела тоже обстояли далеко не блестяще. Ввиду назначения Цезаря диктатором консулов на 47-й год не избирали. В положении единовластного правителя Рима оказался Марк Антоний, которого Цезарь во главе большей части своего войска после поражения Помпея отправил обратно в Италию. Отважный и опытный военачальник, Антоний, в силу своего характера, оказался очень неудачным властителем. Со всем пылом своей необузданной натуры он предался пьяным кутежам, скандальным похождениям в обществе женщин легкого поведения и вовсе не занимался государственными делами. Тем временем между народными трибунами возникло противоборство по вопросу об отмене долгов, втянувшее в свою орбиту массу граждан. Дело дошло до ввода войск в город и вооруженных столкновений на форуме. Было много убитых и раненых. Сенат до возвращения Цезаря предпочел от участия в конфликте устраниться. Волнения из Рима распространились на всю Италию.
Наконец, очень неблагоприятно складывалась ситуация в Малой Азии. Фарнак, сын Митридата Великого, решил воспользоваться междоусобицей в Риме для того, чтобы вернуть владения своего отца. Он захватил Малую Армению и двинулся на римскую провинцию Вифиния и Понт. Наместник Азии пытался остановить Фарнака, но потерпел серьезное поражение. Все римские владения на востоке оказались под угрозой. А с ними и все доходы, которые Рим от этих владений получал.
Впрочем, если быть точным, то ситуация в Азии приобрела критический характер лишь в самом конце пребывания Цезаря в Египте. Чего никак нельзя сказать о концентрации антицезарианских сил в Африке и беспорядках в Риме. Между тем, двух последних фактов (безусловно, известных Цезарю) вполне достаточно для того, чтобы оправдать недоумение и древних, и новых авторов по поводу безмятежного путешествия Юлия Цезаря вдоль нильских берегов. Он потерял два с лишним месяца в ситуации, когда, казалось бы, должен быть дорог каждый день. И это Цезарь, чьим оружием всегда были быстрота и внезапность! Действительно, загадка! Есть над чем подумать.
Возьмем быка за рога и начнем со взаимоотношений Цезаря и Клеопатры. Есть ли основания предположить настолько сильное увлечение с его стороны, что оно оттеснило все планы государственных преобразований в Риме, заставило забыть об опасности поражения в гражданской войне, короче — потерять голову? Посмотрим. Привлечем для консультации такого тонкого художника и психолога, как Бернард Шоу. Похоже, его интересовала та же проблема, и уж он-то, наверное, вдумывался в нее с проницательностью, недоступной простым смертным. Откроем пьесу «Цезарь и Клеопатра». Увы, нас ждет разочарование. Вероятно, следуя своему художественному замыслу, Шоу сильно уменьшает возраст Клеопатры. Уже в прологе мы узнаем, что ей шестнадцать лет. Соответственно, на протяжении всей пьесы Цезарь обращается с ней, как со взбалмошной девочкой, а она его (в прологе) называет «старичок». На потерю головы, на страсть, которая при такой разнице в возрасте (Цезарю 53 года), быть может, вызвала бы наше осуждение, в пьесе, слава богу, нет и намека.
Питая глубокое уважение к интуиции художника и зоркости мыслителя, хочу воспользоваться случаем и привести из пьесы Шоу один короткий диалог, хотя и не имеющий отношения к Клеопатре, но добавляющий кое-какие новые штрихи к нравственному облику Юлия Цезаря. Во втором действии перед ним предстает Луций Септимий — убийца Помпея. Сановник царского двора Теодот говорит, что благодаря этому убийству Цезарь смог насладиться местью, сохранив славу о своем милосердии. И далее следует такой диалог (практически монолог Цезаря):
«Цезарь: Месть! месть! О, если бы я мог унизиться до мести, к чему бы только не принудил я вас в возмездие за кровь этого человека. (Они отшатываются, смятенные и пораженные). Он был моим зятем, моим старым товарищем. В течение двадцати лет он был владыкой великого Рима, в течение тридцати лет победа следовала за ним. Разве я, римлянин, не разделял его славы? Или судьба, которая заставила нас биться за владычество над миром, это дело наших рук? Кто я — Юлий Цезарь или волк, что вы бросаете мне седую голову старого воина, венчанного лаврами победителя, могущественного римлянина, предательски убитого этим бессердечным негодяем? И еще требуете от меня благодарности! (Луцию Септимию) Уйди, ты внушаешь мне ужас!
Луций (холодно и безбоязненно): Ха! Мало ли отрубленных голов видел Цезарь! И отрубленных правых рук, не так ли? Тысячи их были в Галлии после того, как ты победил Верцингеторикса. Пощадил ли ты их при всем твоем милосердии? Это ли была не месть?
Цезарь: Нет, клянусь богами! О, если бы это было так! Месть — это, по крайней мере, нечто человеческое. Нет, говорю я. Эти отрубленные правые руки и храбрый Верцингеторикс, гнусно удушенный в подземельях Капитолия, были жертвами (содрогаясь, с горькой иронией) мудрой строгости, необходимой мерой защиты общества; долг государственного мужа — безумье и бредни, в десять раз более кровавые, нежели честная месть. О, каким я был глупцом! Подумать только, что жизнь людей должна быть игрушкой в руках подобных глупцов! (Смиренно) Прости меня, Луций Септимий. Как убийце Верцингеторикса упрекать убийц Помпея? Можешь идти с остальными. Или оставайся, если хочешь, я найду тебе место у себя».
Но вернемся к Клеопатре. Бернард Шоу нам не помог. Прежде, чем обратиться к другим свидетельствам, давайте исправим неточность драматурга. Клеопатра родилась в 69-м году. Следовательно, в момент появления Цезаря в Египте ей двадцать один год. Для южанки — возраст полного расцвета женщины. Цезарю пятьдесят три. В эти годы мужчина еще вполне может очень нравиться женщине, даже если она на тридцать лет его моложе. Особенно, если он является в ореоле покорителя полумира. Для некоторых, особенно сильных, женских натур последнее обстоятельство играет подчас решающую роль.
Итак, увлечение, и даже взаимное, возможно. Продолжим исследование. Автор «Александрийской войны» о последних двух месяцах пребывания Цезаря в Египте даже не упоминает. Светоний ограничивается одной фразой:
«Но больше всех он любил Клеопатру: с нею он и пировал не раз до рассвета, на ее корабле с богатыми покоями он готов был проплыть весь Египет до самой Эфиопии...» (Светоний. Божественный Юлий, 52)
Плутарх, как мы помним, в биографии Цезаря тоже весьма сдержан. Кроме упоминания о красоте и обходительности царицы, нет ничего, что помогло бы нам хоть как-то представить себе ее облик. Какой-то заговор умолчания! Или они все считали, что «подозрение в любви» принизит облик великого римлянина? Или разница в возрасте их так смущала? Попробуем-ка зайти с другой стороны. Заглянем в Плутархову биографию Марка Антония. Ему-то уж точно предстоит увлечься Клеопатрой. И расплатиться за это увлечение властью и жизнью. Неужели и здесь мы не найдем более живого и яркого облика Клеопатры? К счастью, находим:
«...красота этой женщины, — пишет Плутарх, — была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, на любое наречие, так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами — эфиопами, троглодитами (одно из африканских племен. — Л.О.), евреями, арабами, сирийцами, мидийцами, парфянами...
Говорят, что она изучила и многие иные языки, тогда как цари, правившие до нее, не знали даже египетского, а некоторые забыли и македонский». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, XXVII)
Если выражениям: «огромное обаяние» или «неотразимая прелесть обращения» можно адресовать упрек в неконкретности, то знание многих иностранных языков есть вполне определенное свидетельство того, что Клеопатра была очень образованной и умной женщиной. Не следует забывать, что она росла и воспитывалась в Александрии, являвшейся в ту пору общепризнанным центром эллинистической культуры, Меккой философов, ученых и поэтов. Вспомним, что рядом с дворцом находилась ни с чем в мире не сравнимая Александрийская библиотека.
В этом биографическом очерке Плутарха Клеопатра плывет к Антонию по его вызову, чтобы оправдаться в обвинениях о содействии Бруту и Кассию, с которыми недавно закончили войну Антоний и Октавиан. (Эта война описана ниже — в главе 9.) Она намерена обольстить римского полководца. Плутарх красочно описывает ее «маленькие» женские хитрости (с размахом египетской царицы!):
Она плыла... «на ладье с вызолоченной кормой, пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались под напев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирелей и бряцанием кифар. Царица покоилась под расшитой золотом сенью в уборе Афродиты, какою изображают ее живописцы, а по обе стороны ложа стояли мальчики с опахалами — будто эроты на картинах. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нереидами и харитами и стояли кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили из бесчисленных курильниц и растекались по берегам». (Там же, XXVI)
«Но постойте! — воскликнет читатель, — это все было, наверное, намного позже.» Ненамного. Во время первого своего визита к Антонию Клеопатре двадцать восемь лет. Правда, Плутарх разнице в семь лет придает определенное значение. Он считает, что Цезарь знал ее... «совсем юной и неискушенной в жизни, а перед Антонием она предстает в том возрасте, когда и красота женщины в полном расцвете, и разум ее всего острей и сильнее». (Там же, XXV)
Не уверен, что со мной согласятся все женщины, но мне не кажется, что женская красота много выигрывает при переходе от возраста в двадцать один год к двадцати восьми годам. Опыт в искусстве обольщения, наверное, накапливается и совершенствуется, но зато несколько утрачиваются свежесть и обаяние молодости. Между тем, зрелость и проницательность Цезаря, без сомнения, предпочли бы именно эти последние качества. Что же касается способности и склонности к инстинктивно-обольстительному кокетству, то это талант врожденный и он достигает расцвета уже в весьма раннем возрасте.
Наконец — и это особенно важно отметить — свое образование и необычайное развитие ума Клеопатра, конечно же, получила еще в девичестве, до встречи с Цезарем. Действительно, ее он оставил в Египте реально и единолично правящей государыней, да еще в нелегкую пору только что подавленной смуты. Вряд ли в последующие семь лет у нее было много времени для самообразования. Так что знание многих иностранных языков и «редкая убедительность речей», о которых пишет Плутарх в биографии Антония, должны были удивить и Цезаря. Итак, кое-что об интеллекте и характере Клеопатры мы теперь знаем. Хорошо бы еще раскрыть содержание замечания Плутарха о том, что «красота этой женщины была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда».
Перед нами фотография монеты с профилем Клеопатры. Эта женщина красива? По-моему, да! Восточной, дикой, орлиной красотой. Сравнение, пускай не оригинальное, приходит сразу при взгляде на благородную линию изгиба тонкого, точеного носа. Только видится не пленник зоопарка, а властитель горных вершин, застывший на высокой скале — темным, четким профилем, на фоне ярко-синего неба, — повернув внимательный глаз в сторону непрошеного гостя. Чистая, ровная линия лба, густые брови, а под ними огромные глаза в глубокой впадине, ограниченной снизу четким выступом скулы. Это серебро, но каким-то чудом глаза живут. В них — ум, и жадная любознательность, и живость характера, и сила затаенной чувственности. Ироническая улыбка прячется в углу рта. Волевой, но не тяжелый, нежно округленный подбородок.
Закрыв подпись под фотографией, я показывал этот профиль нескольким женщинам и спрашивал: «Она — глупенькая? Пустая? Флегматичная, бесстрастная, холодная?» «Нет-нет, ни в коем случае, как раз наоборот!» — следовал неизменно возмущенный ответ. «Можно ли в такую женщину влюбиться без памяти? — спрашивал я у мужчин. Все соглашались, что можно. Ну, а Цезарь? Есть ли основание предполагать, что египетская царица произвела на него сильное впечатление? Светоний не слишком уважительно пишет о Цезаре, что «на любовные утехи он, по общему мнению, был падок и расточителен». Ну что же? Мы не моралисты. Нам сейчас важнее свидетельство того, что Цезарь не был холоден и равнодушен к прекрасному полу. Светоний добавляет: «Он был любовником многих знатных женщин...» и даже приводит некий перечень. Изучив его внимательно, легко убедиться, что все перечисленные связи могли иметь место только до отбытия Цезаря в Галлию. Впрочем и там, несмотря на сплошную войну, он тоже, по-видимому, «не пренебрегал»! Хотя это, конечно, уже были женщины не его круга. Во время галльского триумфа, согласно традиции подшучивать над полководцем, солдаты Цезаря распевали двустишие:
«Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника.
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии». (Светоний)
Супружеская верность? Он женился на Кальпурнии перед самым отъездом на войну и за прошедшие с тех пор одиннадцать лет лишь дважды (весной и зимой 49-го года) по нескольку дней побывал дома. Такова в любовном плане предыстория встречи Цезаря с Клеопатрой.
А может ли вообще мужчина в пятьдесят три года влюбиться без памяти? Конечно, может! В этом возрасте чисто физическое влечение уже не имеет такой всепоглощающей силы. Но когда оно возникает на фоне удивления, восхищения, благодарности — за понимание, умную беседу, обращение, которое, согласно Плутарху, «отличалось неотразимой прелестью»... И вообще, после бесконечной вереницы дней, проведенных в походе или в палатке, среди солдат — добрых соратников, но людей грубых и примитивных, — часы, посвященные изысканной беседе с умной, обаятельной молодой женщиной, являли собой контраст воистину пленительный. А мы знаем, что Цезарь был отнюдь не солдафон, но человек большой культуры, знаток и ценитель прекрасного. Быть может, в этом и таится хотя бы часть разгадки. Такая женщина, как Клеопатра, могла заставить Цезаря потерять голову!
Ну, а факты? Мало ли что могла. А может быть, ничего и не было (как в пьесе Бернарда Шоу)? Нет, было! По всем свидетельствам древних, вскоре после отъезда Цезаря из Египта Клеопатра родила сына, которого назвала Цезарионом, и во всеуслышанье объявила, что это сын Цезаря. А вдруг обманула? Кое-кто еще тогда, после смерти Цезаря, высказывал сомнения на этот счет. Впрочем, сомнения могли быть и не вполне искренними. Здесь ведь вмешивается политика. Шутка ли — единственный сын Юлия Цезаря?!
Лично я не вижу основания для сомнений. Клеопатра родила через пару месяцев после отъезда Цезаря. До этого она в течение полугода неотлучно находилась рядом с ним в осажденном дворце, потом плавала по Нилу. То, что они близки, было всем хорошо известно. Иначе Клеопатра не осмелилась бы говорить об отцовстве Цезаря. Мог ли у него во дворце оказаться соперник? Вряд ли! Я думаю, что со стороны Цезаря все было слишком всерьез. Последняя любовь — блаженство и безнадежность, как сказал поэт. Вряд ли какой-нибудь дерзкий юноша из окружения Цезаря посмел бы стать на его пути. Да и вряд ли сумел бы. Я думаю, что Клеопатра тоже любила Цезаря. Как можно не увлечься такой личностью?
Итак, первая часть нашего расследования закончена: любовь сыграла свою роль в загадочном двухмесячном «египетском интермеццо» Юлия Цезаря. Но только ли она одна? Быть может, еще и просто необходимость отдохнуть, расслабиться после двух с половиной лет непрерывного напряжения, в котором он находился после того, как перешел Рубикон? А то и еще проще: естественное желание немного оттянуть возвращение на поля гражданской войны, необходимость которой крайне тяготила Цезаря.
Наконец, еще одна догадка. Цезарь должен был понимать, что ничем не вынужденная задержка в Египте будет воспринята его противниками как признак слабости. Это заставит их всех собраться в Африке под знаменами Метелла Сципиона, чтобы не оказаться в стороне от победы. Наем солдат в африканские легионы шел главным образом из туземного населения. Если удастся без больших потерь разгромить эти легионы и нумидийцев Юбы (Цезарь мог надеяться на боевой опыт своих ветеранов), то не будет пролито италийской крови. А это очень важно для строительства нового государства. Что же касается полководцев, сенаторов и всей республиканской элиты, которая соберется вокруг Сципиона и Катона, то он их всех помилует и тем обезоружит. Это уже трезвый расчет! Мог он соседствовать с любовью, с сильным увлечением женщиной? Думаю, что мог. Великие люди, наверное, мыслят и чувствуют не по нашим ограниченным меркам.
Читатель наверняка заметил (с осуждением или одобрением?), что я уже не раз позволял себе немного пофантазировать по поводу впечатлений и мыслей моих героев, приписать им некие рассуждения, даже целые монологи. К этому всегда были какие-то основания: либо в виде сочинений (трактаты Цицерона, записки Цезаря), которые было бы громоздко и скучно цитировать, либо в последующих поступках этих героев. О единственном безмятежно счастливом, хотя и очень кратком, отрезке жизни Юлия Цезаря — путешествии к верховьям Нила — нам не известно ничего. Автора «Александрийской войны», наверное, с собой не взяли. Сам Цезарь об этом путешествии никаких воспоминаний не оставил, Клеопатра — тоже.
Я сейчас думаю не об идиллии неторопливого плавания в обществе любимой женщины мимо живописных берегов плодородной нильской долины. Мне хотелось бы знать, какие мысли посещали Цезаря, когда на продолжительных стоянках они с Клеопатрой осматривали величественные и странные памятники древних царств. Какое впечатление на него произвели великие пирамиды в Гизе, аллея сфинксов, храмы Мемфиса, Абидоса, Фив, Луксора, колоссы Мемнона? Эти бесконечные странные рельефы и изображения людей, идущих и глядящих в сторону, между тем, как их торс повернут к зрителю!? Люди с головами льва, шакала, сокола, или змеи? Раскрашенные маски саркофагов! Что рассказывали Цезарю египетские жрецы? Что думал он, приобщаясь к этой глубочайшей старине, по сравнению с которой даже основание Рима было лишь вчерашним днем? Уносился ли мысленно с потоком времени в столь же далекое будущее Италии, Рима? Мечтал ли, чтобы его имя прозвучало в этом бесконечно далеком будущем, как сейчас в полутьме храмов и гробниц звучали имена Хеопса, Аменхотепа, Эхнатона или Рамсеса? Не рискну фантазировать... .
В начале лета 47-го года Цезарь наконец покинул Египет. Неизвестный автор «Александрийской войны» с подкупающей откровенностью излагает позицию Цезаря по отношению к этой стране и ее правителям:
«Взяв с собой 6-й легион, состоявший из ветеранов, он оставил в Александрии все прочие, чтобы новые цари укрепили этим свою власть, ибо они не могли обладать ни любовью своих подданных, как верные приверженцы Цезаря, ни упрочившимся авторитетом, как возведенные на трон несколько дней тому назад. Вместе с тем он считал вполне согласным с достоинством римской власти и с государственной пользой защищать нашей военной силой царей, сохранивших верность нам, а в случае необходимости той же военной силой карать их. Покончив со всеми делами и устроив их указанным образом, он отправился сам сухим путем в Сирию». (Александрийская война, 33)
Цезарь идет в Малую Азию, где он считает необходимым остановить Фарнака прежде, чем вернуться в Италию для возобновления противоборства с полководцами Помпея. По дороге он улаживает местные конфликты и встречается с некоторыми оказавшимися в Азии видными помпеянцами, решившими обратиться к его милосердию. В частности, он прощает и приближает к себе Гая Кассия, за которого просит Брут, перешедший, как мы помним, на сторону Цезаря сразу после Фарсалы. Главари будущего рокового заговора против Цезаря, Брут и Кассий, занимают высокое положение в его ближайшем окружении.
Сражение с войском Фарнака произошло 2 августа. У Цезаря было значительно меньше солдат, чем у его противника, — всего четыре легиона, из которых три местных и только один, порядком поредевший, 6-й легион ветеранов. Однако сплоченность, отвага и боевой опыт солдат именно этого легиона решили исход ожесточенной рукопашной схватки. Армия Фарнака была разгромлена, лагерь взят штурмом, а сам он едва сумел спастись бегством. О своей победе Цезарь сообщает в Рим (в частном письме) тремя вошедшими в поговорку словами: «Пришел, увидел, победил». (По латыни это звучит еще лучше: «Veni, vidi, vici»). После этого он отправляет 6-й легион кратчайшим путем в Италию, а сам решает вернуться в Рим через Афины.
В конце сентября 47-го года Цезарь высаживается на юге Италии, в Таренте. Прямая дорога к Риму идет на северо-запад. Но он делает небольшой крюк на восток, чтобы заглянуть в Брундисий. Возможно, для инспекции флота, а, может быть, и для того, чтобы встретиться с Цицероном, который до сих пор пребывает там. Кстати, как он? Мы с ним расстались почти год назад, когда он только что вернулся из Греции. 17 декабря того же 48-го года он писал из Брундисия в Рим Аттику:
«Антоний прислал мне копию письма Цезаря к нему, в котором говорилось, что он слыхал, будто бы Катон и Луций Метелл прибыли в Италию, чтобы открыто находиться в Риме. Что он на это не согласен — как бы от этого не произошло каких-либо волнений. Что в Италию не допускается никто, кроме тех, чье дело он сам расследовал. И об этом было написано более резко. И вот Антоний в письме просил меня извинить его: он не может не повиноваться этому письму...
О, многочисленные и тяжкие оскорбления! ... Говорили, что я должен был уехать вместе с Помпеем. Его конец уменьшил порицание за неисполнение этого долга. Но самое большое сожаление вызывает то, что я не поехал в Африку. Я руководствовался следующим соображением: вспомогательными войсками варваров, принадлежащих к самому лживому племени, защищать государство не следует, особенно против войска, часто побеждавшего. Этого, быть может, не одобряют: ведь, по слухам, многие честные мужи приехали в Африку. ...если они будут упорствовать и достигнут победы, то что будет со мной, ты предвидишь. Ты скажешь: «А что с ними будет, если они будут побеждены?» Удар более почетный. Это и терзает меня». (Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 2, №416)
Последовавшие за этим восемь месяцев безвыездного пребывания Цицерона в Брундисий были, наверное, самыми мрачными в его жизни. Его мучают раскаяние, сомнения, страх и угрызения совести. Он одинок, все от него отвернулись. Теренция осталась в Риме. С братом Квинтом Цицерон в ссоре. Положение Цезаря в Египте неясно. Будущее затаилось в непроглядной мгле. Только в разгар лета 47-го года в Брундисий стало известно, что Цезарь в Азии. В начале августа (о, радость!) гонец вручает Цицерону письмо от него.
Теренции в Рим. (Брундисий, 12 августа 47-го года)
«Наконец мне вручено довольно благожелательное письмо от Цезаря, а сам он, говорят, прибудет скорее, чем полагают. Выеду ли я навстречу ему или буду ожидать его здесь, сообщу тебе, когда решу». (Письма... Т.2, №441)
Самолюбие Цицерона отступило, я полагаю, без особой борьбы. Он выехал навстречу Цезарю. Плутарх так описывает эту встречу
«Цицерон двинулся ему навстречу, не столько отчаиваясь в спасении, сколько стыдясь на глазах у многих подвергать испытанию великодушие своего победоносного врага. Однако ни словом ни делом не пришлось ему унизить свое достоинство. Едва лишь Цезарь увидел Цицерона, который шел далеко впереди остальных встречающих, он соскочил с коня, поздоровался и довольно долго беседовал с ним одним, шагая рядом. С тех пор Цезарь относился к Цицерону с неизменным уважением и дружелюбием...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, XXXIX)
Теренции в Рим. (Венусий, 1 октября 47 г.)
«В Тускульскую усадьбу думаю приехать либо в ноны, либо на следующий день. Пусть там все приготовят. Со мной, возможно, будет несколько человек, и мы, полагаю, задержимся там на более долгий срок. Если в бане нет ванны, пусть устроят.
Пусть приготовят и прочее, необходимое для питания и здоровья». (Письма... Т. 2, № 447)
Ну, если дело дошло до ванны, значит, все в порядке. Последуем же за Цезарем в Рим, куда он, не теряя больше времени, уже прибыл.
Все беспорядки и столкновения в столице немедленно прекратились. Антония Цезарь от управления делами в Риме отстранил, но и сам сложил с себя полномочия диктатора, которыми практически не воспользовался. Зато воспользовался другой привилегией, дарованной ему сенатом (с перепугу) одновременно с диктатурой, а именно: предлагать Народному собранию, без согласования с сенатом, кандидатуры консулов, преторов и других должностных лиц государства, кроме народных трибунов. В результате двое его ближайших помощников были избраны консулами на оставшиеся три месяца 47-го года. Прочие посты в администрации тоже оказались, по преимуществу, в руках цезарианцев. Своими людьми пополнил Цезарь и убыль самого сената. Таковы были плоды поспешной капитуляции сенаторов после смерти Помпея. И это еще не все! Тогда же Цезарю было дано право в течение ближайших пяти лет ежегодно выставлять свою кандидатуру на консульских выборах, право объявлять войну и заключать мир без санкции сената и народа, а также пожизненное право восседать на скамьях народных трибунов и вместе с ним — священная неприкосновенность. И уже как курьез выглядит тогда же принятое решение сената о назначении триумфа Цезарю после грядущей победы над нумидийским царем Юбой. Впрочем, не такой уж курьез! Это решение фактически расценивало предстоящее столкновение с армией помпеянцев в Африке как войну с варварами, что очень устраивало Цезаря. Таким образом, он мог торжествовать победу над сенатом по всем пунктам...
И тут налетела гроза! С совсем неожиданной стороны: взбунтовались легионы ветеранов, в числе которых был и любимый Цезарем 10-й легион. Точнее, они уже бунтовали в момент появления его в Риме. Недовольство ветеранов зрело давно. Еще в конце прошлого года Антоний привел их из Греции в Италию и разместил близ Капуи. Солдаты ожидали наград, обещанных перед сражением под Фарсалой, выделения земельных участков и законного увольнения. Но денег, как мы помним, у Цезаря не было, за тем и отправился в Египет), наделить солдат землей или уволить без него никто не мог. Началось возмущение. Антоний специально ездил из Рима в Капую, чтобы успокоить солдат, но эффект его поездки был непродолжительным.
Уже находясь в Азии, Цезарь распорядился перевести ветеранов в Сицилию. Они не подчинились. Двух посланцев, прибывших из столицы с этим распоряжением, прогнали. Двух других убили и двинулись к Риму. Когда туда прибыл Цезарь, легионы уже стояли непокорным лагерем на Марсовом поле. Если Цезарь и привез какое-то количество денег из Египта и Азии, то они были нужны для обеспечения экспедиции в Африку. Государственная казна была пуста — награды следовало отложить до победы над помпеянцами и Юбой. Увольнять ветеранов Цезарь не собирался. Только на их опыт и боевую мощь мог он надеяться в предстоящих трудных сражениях. Положение опять (в который раз!) — стало критическим. Для впечатляющего описания того, как Цезарь сумел разрешить этот кризис, не пожалев места, предоставим слово Аппиану
«Цезарь, узнав это, послал (в Сицилию. — Л.О.) другой легион солдат, которые по приказанию Антония охраняли город... Сам же, несмотря на то, что все боялись и увещевали его остерегаться нападения со стороны войска, в то время как войска еще продолжали волноваться, весьма храбро направился к ним на Марсово поле без всякого о том предуведомления и показался на трибуне. Солдаты с шумом, но без оружия, сбежались и, как всегда, увидев внезапно перед собой своего императора, приветствовали его. Когда он их спросил, чего они хотят, они в его присутствии не осмелились говорить о вознаграждении, но кричали, считая требование, чтобы их уволили, более умеренным, надеясь лишь, что, нуждаясь в войске для предстоящих войн, Цезарь с ними будет говорить и о вознаграждениях. Цезарь же, к изумлению всех, нисколько не колеблясь, сказал: «Я вас увольняю». Когда они были еще более этим поражены и когда настала глубокая тишина, Цезарь добавил: «И выдам все обещанное, когда буду справлять триумф с другими войсками». Когда они услышали такое неожиданное для себя и одновременно милостивое заявление, ими овладел стыд, к которому присоединились расчет и жадность. Они понимали, что если они оставят своего императора в середине войны, триумф будут справлять вместо них другие части войск, а для них будет потеряна вся добыча с Африки, которая, как они полагали, должна быть велика. К тому же, будучи до сих пор ненавистны врагам, они станут теперь ненавистны также и Цезарю. Беспокоясь и не зная, что предпринять, солдаты совсем притихли, дожидаясь, что Цезарь им в чем-нибудь уступит и под давлением обстоятельств передумает. Цезарь, со своей стороны, тоже замолк, и когда приближенные стали увещевать его что-нибудь сказать еще и не говорить кратко и сурово, оставляя войско, с которым столь долго он вместе воевал, он в начале своего слова обратился к ним «Граждане» вместо «Солдаты». Это обращение служит знаком, что солдаты уже уволены со службы и являются частными людьми. Солдаты, не стерпев этого, крикнули, что они раскаиваются и просят его продолжать с ними войну. Когда же Цезарь отвернулся и сошел с трибуны, они с еще большей стремительностью и криками настаивали, чтобы он не уходил и наказал виновных из них. Он еще чуть-чуть задержался, не отвергая их просьбы и не возвращаясь на трибуну, показывая вид, что колеблется. Однако все же взошел на трибуну и сказал, что наказывать из них он никого не хочет, но огорчен, что и десятый легион, который он всегда предпочитал всем другим, принимал участие в мятеже. «Его одного, — сказал он, — я и увольняю из войска, но и ему я отдам обещанное, когда вернусь из Африки. Когда война будет закончена, я всем дам землю, и не так, как Сулла, отнимая ее у частных владельцев и поселяя ограбленных с ограбившими рядом, так что они находятся в вечной друг с другом вражде, но раздам всем землю общественную и мою собственную, а если нужно будет, и еще прикуплю». Рукоплескания и благодарность раздались от всех, и только десятый легион был в глубокой скорби, так как по отношению к нему одному Цезарь казался неумолимым. Солдаты этого легиона стали тогда просить метать между ними жребий и каждого десятого подвергнуть смерти. Цезарь при таком глубоком раскаянии не счел нужным их больше раздражать, примирился со всеми и тут же направил их на войну в Африку». (Аппиан. Гражданские войны, II, 92-94)
Цезарь начал африканскую экспедицию в конце декабря 47-го года. Перед отъездом из Рима он провел избрание консулами на 46-й год себя и своего легата Марка Лепида. Антония, в наказание за беспутство, он в Африку не взял.
Решив начать войну, Цезарь действует со своей обычной стремительностью. Он скачет в Сицилию и, хотя там находится всего шесть легионов, из которых пять — новобранцы, он, как только позволяет погода, грузится на корабли и отплывает в Африку. Ситуация в какой-то мере аналогична той, что была при переправе в Грецию против Помпея. Метеллу Сципиону, конечно, известно, сколь недостаточны силы Цезаря в Сицилии, и он никак не ожидает, что тот решится с ними, да еще в зимнее время, перебраться на африканский берег и начать боевые действия. Восемь легионов пехоты Сципиона находятся на зимних квартирах в городе Утика, примерно в 200 километрах от того места, где высаживается Цезарь. Правда, высаживается он всего с тремя тысячами солдат — остальные транспорты с войском разметала по морю зимняя непогода. Но и помешать высадке некому. А тем временем легионы ветеранов из Рима быстрым маршем идут в Сицилию.
Дальнейшее развитие военных действий описано в мемуарах другого неизвестного автора (наверное, тоже офицера Цезаря), озаглавленных «Африканская война». Я не собираюсь пересказывать все перипетии этих действий, но хочу указать общий стратегический план Цезаря на первом этапе войны. Хотя заплутавшие в море суда одно за другим прибывают к месту высадки, сил у него все равно мало. Тем не менее, Цезарь не остается в пассивном ожидании подкреплений. Пока не подошло основное войско Сципиона и армия Юбы, он смело маневрирует (не слишком удаляясь от берега), вступает в стычки с конными отрядами противника, которыми командуют Лабиен и Петрий. Он это делает для того, чтобы «обстрелять» новобранцев, с которыми прибыл, разведать местность и обеспечить войско провиантом. Одновременно на берегу идет строительство хорошо укрепленного лагеря, где можно будет отсидеться до прибытия ветеранов (флот он отослал в Сицилию), когда численное преимущество противника станет чересчур большим. Возводится мощный палисад, устраиваются мастерские, где куют копья и наконечники для стрел.
Стратегия рискованная. Конница Лабиена и Петрия многочисленна, мобильна и хорошо знакома с местностью. Во время одного из рейдов Цезарь попадает в окружение и в течение всего дня с трудом обороняется. Едва ему удается вырваться из кольца, как подходит еще один отряд вражеской кавалерии. Новобранцев охватывает паника, и они бегут к лагерю. Это поражение, ввиду предстоявшего прибытия ветеранов, не имело решающего значения. Но враги могли настигнуть и убить или захватить в плен самого Цезаря. Однако, уверенные в своих силах, они, если верить Аппиану, решили приберечь славу победы для главнокомандующего и прекратили преследование. Легионы Сципиона подошли, и Цезарь надолго укрылся в своем лагере. Вскоре ожидалось прибытие нумидийской армии. Тогда, ввиду малочисленности защитников лагеря, Сципион мог попытаться взять его штурмом. Но не успел Юба со своим войском добраться до места, как получил известие о том, что его сосед, царь мавретанский, вторгся в Нумидию и захватил ее столицу. Юба повернул обратно. Сципион на штурм не решился. Началась осада. Запасов продовольствия в лагере не было. Но в середине января прибыл транспорт с хлебом и почти одновременно с ним первые два легиона ветеранов. Через некоторое время приплывают еще два легиона (включая 10-й). Царь Юба, отразив агрессию соседа, снова подходит к Сципиону. Но теперь соотношение сил таково, что о штурме лагеря не может быть и речи. Цезарь считает, что, несмотря на все еще сохраняющееся численное превосходство противника, можно ему дать сражение в открытом поле. Он выводит всю свою армию из лагеря, но теперь уже Сципион отсиживается за валом. Цезарь не собирается его осаждать. Ввиду оскудения полученного ранее запаса продовольствия он уходит к тем городам, где рассчитывает обеспечить снабжение своего войска. В этом тоже есть некий стратегический расчет, на который указывает автор «Африканской войны»: «Цезарь сделался озабоченнее, медлительнее и осторожнее, — пишет он, — и оставил свою прежнюю быстроту, с которой он привык вести войны. И неудивительно: в его распоряжении были войска, привыкшие воевать в Галлии в открытом поле, с людьми прямыми и отнюдь не коварными, которые боролись храбростью, а не хитростью. Затем он должен был старательно приучить своих солдат самим разбираться в обманных, коварных и хитроумных приемах врагов и определять, что делать и чего избегать. Поэтому чтобы они скорее это усвоили, он старался не задерживать легионы на одном месте и под видом добывания провианта перебрасывал их туда и сюда, так как был убежден, что неприятельские войска ни на шаг не уйдут от него». (Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. Африканская война, 73)
Действительно, войска Сципиона и Юбы следуют за армией Цезаря. Противники маневрируют, чтобы обеспечить наиболее выгодную позицию в приближающемся решительном сражении. Наконец, 6 апреля 46-го года это сражение происходит близ города Тапс. Тем же автором подробно описана расстановка сил, начало и ход сражения, в котором Цезарь одержал решительную победу. Не буду останавливаться на подробностях самой битвы, но отмечу два момента. Первый. Несмотря на благоприятно сложившуюся ситуацию (Сципион был застигнут врасплох), Цезарь не хотел начинать сражение. Быть может, он вообще надеялся выиграть эту войну без кровопролития, психологически, уповая на легендарную славу, свою и своих ветеранов. Быть может, надеялся, что наемное войско помпеянцев дрогнет и начнет распадаться? Так это или нет, но, несмотря на настоятельные просьбы своих легатов, он медлил отдать приказ о наступлении. Но вдруг на правом фланге раздался сигнал трубы — как видно, трубач не вынес ожидания, а, может быть, его принудили солдаты. Когорты рванулись в атаку. Увидав, что остановить воинов уже невозможно, Цезарь отдал пароль («счастье») и поскакал в бой.
Второй момент, для Цезаря новый, неожиданный. Когда сражение было уже явно проиграно, часть солдат Сципиона... Но послушаем очевидца:
«Отчаявшись в своем спасении, они засели на одном холме и оттуда, опустив оружие, по-военному салютовали мечами победителю. Но это мало помогло несчастным: озлобленных и разъяренных ветеранов не только нельзя было склонить к пощаде врагу, но даже и в своем войске они ранили или убили несколько видных лиц... Поэтому многие римские всадники и сенаторы в страхе удалились с поля сражения, чтобы и их не убили солдаты... И вот упомянутые солдаты Сципиона, хотя и взывали к Цезарю о помиловании, были все до одного перебиты у него самого на глазах, сколько он ни просил собственных солдат дать им пощаду». (Там же, 85)
Быть может, перед мысленным взором Цезаря встали смутные, страшные картины грядущего самоуправства буйной солдатни на улицах и площадях Рима, смещений и убийств императоров, подлой торговли их высоким саном? И уж наверное смехотворными, потерпевшими полный крах показались ему тогда политика милосердия и все его усилия во избежание кровопролития в гражданской войне...
В тот же день войско Цезаря разгромило нумидийцев Юбы, захватив их лагерь, и овладело еще одним, отдаленным лагерем Афрания. Потери противника только убитыми превысили 10 тысяч человек (по другим данным, 50 тысяч). Легионы Цезаря понесли незначительный урон. Судьба наиболее видных помпеянцев сложилась так: Афраний и Сципион пытались бежать в Испанию, но туда не добрались. Афраний был убит по дороге, а Сципион, избравший морской путь, захвачен б плен и покончил с собой. Юба и Петрий надеялись укрыться в резиденции Юбы, Заме, где находились жена и дети царя. Но жители города заперли перед ними ворота. Ни одна община не решилась принять беглецов. Они тоже покончили жизнь самоубийством, избрав для этого не совсем обычный способ. Сначала сразились между собой насмерть, а затем победитель приказал рабу убить его. Испании удалось достичь Лабиену и обоим взрослым сыновьям Помпея, Гнею и Сексту.
Город Тапс, подле которого происходило сражение, поначалу капитулировать отказался. Цезарь оставил три легиона для его осады, а сам поспешил с войском к последнему оплоту помпеянцев в Африке — хорошо укрепленному городу Утика. Не штурмовать его торопился Цезарь. Комендантом города был Катон. Цезарь надеялся, что, узнав о поражении Сципиона и Юбы, горожане задержат и передадут ему Катона. И он сможет его помиловать! Сохранение одной этой жизни в глазах римлян могло заслонить преступное убийство сотен сдавшихся в плен воинов под Тапсом.
Известие о полном разгроме армии помпеянцев было привезено в Утику бежавшими с поля боя всадниками за несколько дней до подхода легионов Цезаря. Получив это известие, Катон попытался организовать оборону. Он собрал граждан города и всех находившихся в нем римлян. Гражданам он предложил отпустить на волю рабов и всем вместе стать на стенах, чтобы дать отпор неприятелю. Но кроме трехсот римских купцов, ссудивших деньгами Сципиона, и сенаторов — врагов Цезаря — никто и слышать не хотел об обороне. Да и какой смысл было терпеть тяготы осады, если ждать помощи было неоткуда. Некоторые горожане намеревались задержать сенаторов, чтобы передать их Цезарю. Утика была обречена. Катон это понял и не стал больше настаивать на ее защите. Мужественно, как подобает римлянину, он решил распорядиться своей судьбой. Подарить Цезарю возможность помилования он не пожелал. Вот как описывает Аппиан трагический финал многолетней борьбы этого яростного защитника сенатской республики с будущим всевластным правителем Рима:
«...началось невольное общее бегство. Катон никого не удерживал, но всем из знатных, кто у него просил корабли, давал их. Сам он остался в совершенном спокойствии, и утикийцам, обещавшим ему, что будут за него ходатайствовать еще раньше, чем за себя, смеясь ответил, что он не нуждается в примирении с ним Цезаря. Он, Катон, убежден в том, что Цезарь это прекрасно знает. Перечислив все свои склады и о каждом из них выдав документы утическим правителям, Катон к вечеру принял ванну и, сев за ужин, ел, как он привык с тех пор, как умер Помпей (сидел, а не возлежал возле стола. — Л.О.). Он ничего не изменил в своих привычках, не чаще и не реже, чем всегда, обращался к присутствовавшим, беседовал с ними относительно отплывших. ... И отправляясь ко сну, Катон также не изменил ничего из своих привычек, кроме того только, что сына своего обнял более сердечно. Не найдя у постели обычно там находящегося своего кинжала, он закричал, что его домашние предают его врагам, ибо чем другим, говорил он, сможет он воспользоваться, если враги придут ночью. Когда же его стали просить ничего против себя не замышлять и лечь спать без кинжала, он сказал весьма убедительно: «Разве, если я захочу, я не могу удушить себя одеждой или разбить голову о стену, или броситься вниз головой, или умереть, задержав дыхание?» Так говоря, убедил он своих близких выдать ему его кинжал. Когда он его получил, он попросил Платона и прочел его сочинение о душе («Федон». — Л.О.). Когда он окончил диалог Платона, то, полагая, что все, которые находились у его дверей, заснули, поразил себя кинжалом под сердце. Когда выпали его внутренности и послышался какой-то стон, вбежали те, которые находились у его дверей. Еще целые внутренности врачи опять вложили внутрь и сшили разорванные части. Он тотчас притворился ободренным, упрекал себя за слабость удара, выразил благодарность спасшим его и сказал, что хочет спать. Они взяли с собой его кинжал и закрыли двери для его спокойствия. Он же, представившись будто он спит, в молчании руками разорвал повязки и, раскрыв швы раны, как зверь разбередил свою рану ... пока не умер. Было ему тогда около 50 лет, и славу имел он человека самого непоколебимого в следовании тому, что он признавал правильным, а следовал он справедливому, должному и прекрасному, не только в своем поведении, но и в помыслах, выявляя исключительное величие души». (Аппиан. Гражданские войны. II; 98, 99)
Историк сообщает также, что утикийцы торжественно похоронили Катона еще до прибытия Цезаря. Плутарх утверждает, что, узнав о самоубийстве своего главного противника, Цезарь произнес:
«Ох, Катон, ненавистна мне твоя смерть, потому что и тебе ненавистно было принять от меня спасение». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Катон, XXII)
После капитуляции города Цезарь никого не казнил и даже в отношении трехсот купцов ограничился конфискацией их имущества. Всех видных помпеянцев и сенаторов он, по своему обыкновению, помиловал. Нумидийское царство Юбы объявил римской провинцией «Новая Африка» и в качестве наместника направил туда своего друга, будущего историка Саллюстия. Города Тапс и Утика должны были выплатить Риму по 50 миллионов денариев контрибуций в течение трех лет. 13 июня 46-го года Цезарь отплыл из Африки в Италию.
Смерть Катона произвела огромное впечатление не только на его современников, но и на благородные натуры многих последующих поколений. Римляне нередко, во избежание плена и позора, кончали жизнь самоубийством. Но одно дело в мгновенном порыве броситься на меч или приказать рабу убить себя, а совсем другое — в долгих, ужасных мучениях молча терзать свое тело до последнего вздоха. Пожалуй, больше всего Катон прославился именно своей смертью. Недаром для отличия от знаменитого предка историки иногда его называют «Катон Утический». В своей жизни этот человек никакого особенного подвига не совершил: не выиграл ни одного сражения, не провел ни одного важного закона, даже не был ни разу избран консулом. Его деятельность сводилась к пламенным речам в защиту республиканских идеалов, к обличению пороков и преступлений, нарушений заветов великих предков. На страницах не только этой, но и всех предшествующих глав не раз появлялось имя Катона, но рассказать о нем немного подробнее не было случая. Сила духа, проявленная одним из самых знаменитых римлян, заставляет меня, в знак уважения, закончить главу его кратким некрологом.
Марк Порций Катон (младший) родился в 95-м году до Р.Х. Он был правнуком знаменитого цензора, поборника чистоты римских нравов, о котором я рассказывал в I томе нашей истории. Несомненно, что это обстоятельство с малых лет формировало убеждения и характер Марка. Он рано осиротел и вместе с братом и сестрами воспитывался в доме дяди — замечательного своим умом и благородством трибуна 91-го года Ливия Друза (убитого перед Союзнической войной). Сулла был старым другом семьи Катона. Наставник Марка во время проскрипций, в интересах безопасности своего питомца, считал нужным приводить его иногда для приветствия в дом диктатора. Тринадцатилетний мальчик видел отрубленные головы знатных людей Рима и однажды, если верить Плутарху, спросил воспитателя, почему тот не даст ему меч, чтобы он мог убить тирана и тем избавить отечество от рабства.
В 74-м году Катон вступил добровольцем в войско, направлявшееся против Спартака, чтобы быть рядом с любимым братом, военным трибуном. Отличиться ему не пришлось, кроме как отвагой, выдержкой и дисциплиной. Спустя семь лет он сам был избран военным трибуном и направлен в Македонию. Наместник провинции поручил ему командование легионом. Военных действий там не было, и Катон проявил себя только усердием в обучении и воспитании солдат, неизменно подчиняясь сам всем требованиям, которые предъявлял к ним. Этим он завоевал уважение и любовь воинов. В 65-м году Катон возвращается в Рим. Его выбирают квестором казначейства. Он хорошо знал законы и повел непримиримую борьбу со злоупотреблениями и самоуправством служителей казны.
«Сломив таким образом своеволие писцов, — пишет Плутарх, — и ведая делами по собственному усмотрению, Катон в короткий срок достиг того, что казначейству стали оказывать больше уважения, нежели сенату, и все в Риме считали, что Катон придал квестуре консульское достоинство». (Там же, XVII)
Как бывший квестор, Катон, согласно закону, вошел в состав сената. Он старался играть там ту же роль непримиримого и неподкупного обличителя всех нарушений высокой древнеримской нравственности и республиканских традиций, что и его прадед. Гневные речи Катона завоевали ему широкую популярность в народе. К тому же, если верить Плутарху:
«...грозный и страшный на ораторском возвышении или в сенате, когда дело шло о защите справедливости, он в остальное время бывал со всеми благожелателен и приветлив». (Там же, XXI)
Я не буду повторять упомянутые ранее эпизоды политической борьбы, в которых активное участие принимал Катон. Читатель может вспомнить, что однажды он был даже ранен на форуме. Помпея Катон настоятельно (и тщетно) предупреждал против союза с Цезарем, очень рано распознав диктаторские намерения последнего.
Катону принадлежит и сомнительная честь изобретения обструкции. Когда Цезарь возвратился из Испании, он надеялся получить триумф и вместе с тем претендовал на избрание консулом на 59-й год. Закон обязывал претендента находиться в Риме, а полководцу, наоборот, запрещалось вступать в город до дня триумфа. Срок выдвижения кандидатур в консулы истекал на следующий день. Цезарь обратился в сенат с просьбой разрешить ему заочное избрание, и сенаторы готовы были с этим согласиться. Тогда Катон, воспользовавшись тем, что обычай не разрешал прерывать сенатора во время его речи, а заседание прекращалось с наступлением темноты, взял слово и говорил без остановки в течение всего дня. Цезарю пришлось отказаться от триумфа.
Вступив в сговор с Цезарем и Крассом, Помпей с помощью Клодия стал преследовать Катона, бесстрашно обличавшего противозаконные действия триумвиров. Тем не менее, когда триумвират распался и было предложено избрать Помпея единственным консулом (без коллеги), Катон поддержал это предложение.
«Так Помпей, — пишет Плутарх, — был избран консулом и тут же пригласил Катона к себе в загородное имение. Он встретил гостя приветливо, дружелюбно, обходительно, засвидетельствовал свою признательность и просил постоянно помогать ему советами во время этого консульства. Катон отвечал, что ни одно из прежних его выступлений не было вызвано ненавистью к Помпею, точно так же как это, последнее, — желанием ему угодить, но все они имели одну цель — благо государства. Частным образом, продолжал Катон, он будет давать советы, если Помпей этого пожелает, но высказывать свои суждения перед сенатом и народом намерен в любом случае, не справляясь с желанием Помпея». (Там же, XLVIII)
Когда начались судебные процессы против тех, кто на выборах подкупал народ, Катон по свидетельству все того же Плутарха :
«...был для обвиняемых тяжкой, неодолимой помехой: видеть его среди судей они не хотели, а заявить отвод не решались, ибо уклоняться от встречи с Катоном означало, по мнению судей, обнаружить неуверенность в собственной правоте, и это обстоятельство нередко оказывалось решающим». (Там же, XLVIII)
Борьба с подкупами избирателей стоила Катону утраты расположения римского плебса. На консульских выборах 52 года он выставил свою кандидатуру, но был забаллотирован.
В гражданской войне Катон, естественно, оказался на стороне Помпея, хотя близок к нему не был. Он участвовал в знаменитом сражении при Диррахии и сумел своей страстной речью вдохновить солдат перед боем. Отправляясь вслед за Цезарем к Фарсале, Помпей поручил Катону с пятнадцатью когортами охранять Диррахий. После поражения Помпея Катон сумел переправить свой отряд в Африку, где уже находился Сципион. Остальное читателю уже известно из этой главы, которую, отдав последний долг Катону, я могу теперь закончить.
Глава VII И ты, Брут?..
В предыдущей главе мы расстались с Юлием Цезарем 13 июня 46-го года, когда он взошел на корабль, отплывавший в Италию. Казалось, что гражданская война окончена, и римляне, кто с восторгом, а многие со страхом, ожидали прибытия победителя. Цезарь не торопился. На две недели задержался в Сардинии, потом спокойно переждал разыгравшиеся на море непогоды и прибыл в Рим только 25 июля. Быть может, он хотел предоставить своим оппонентам время для того, чтобы они вполне осознали свое окончательное поражение. А также надеялся, что за время его путешествия в народе поутихнет горечь, вызванная известиями о гибели в братоубийственном сражении под Тапсом римских легионеров и о расправе над сдавшимися в плен помпеянцами. Прошло почти четыре месяца, а перед глазами Цезаря все стоит отвратительная картина избиения бросивших оружие римских воинов Сципиона.
В Риме напуганный сенат спешит к беспрецедентным правам и почестям, пожалованным Цезарю после победы над Помпеем, добавить целый букет новых. Его вновь провозглашают диктатором — на этот раз сроком на десять лет. На три года он получает полномочия цензора — право пересмотра и пополнения состава сената. Назначено сорокадневное благодарственное молебствие, постановлено даровать Цезарю священную колесницу и воздвигнуть статую, у ног которой будет лежать сфера с надписью «Полубогу».
В течение четырех дней августа Цезарь празднует великолепный четверной триумф: за победы в Галлии, Египте, Азии и Африке. В триумфальных шествиях несут сокровища стоимостью более 400 миллионов денариев, почти три тысячи золотых венков, поднесенных Цезарю различными царями и городами. В числе знатных пленников ведут Верцингеторикса, Арсиною и малолетнего сына царя Юбы. На великолепной колеснице, в золототканном пурпурном плаще стоит, увенчанный сверкающей драгоценной диадемой, великий Цезарь. Широким движением руки, держащей скипетр из слоновой кости, он приветствует римский народ. Его лицо выражает радость, но в сердце — тревога. Он вслушивается в приветственные клики толпы, боясь услышать среди них проклятья и упреки за пролитую кровь сограждан.
Четвертый триумф посвящен победе над Юбой — как будто в Африке, кроме войска нумидийского царя, легионерам Цезаря не пришлось сражаться против римлян. Тем более, не фигурирует в триумфах и упоминание о победе над Помпеем при Фарсале. Но римляне об этом помнят. И хотя чернь, как всегда, с удовольствием глазеет на торжественный марш легионов, трофеи и знатных пленников, влекомых перед колесницей триумфатора, настроение в городе не праздничное. Чтобы его поднять, Цезарь раздает всем жителям Рима по 100 денариев деньгами, по 10 фунтов масла и по 100 килограммов зерна. Щедро одарены и легионеры: каждый солдат получает по пять тысяч денариев, центурионы — по десять, а военные трибуны — по двадцать тысяч. Для народа устраивается грандиозное угощение на двадцати двух тысячах столов, военные игры с участием конницы и боевых слонов, театральные представления, гладиаторские бои и даже имитация морского сражения на специально выкопанном для этой цели озере. В Большом цирке, помимо скачек, в течение пяти дней демонстрируется травля диких зверей. Для безопасности зрителей поле цирка окружено рвом, заполненным водой. По свидетельству Светония:
«На все эти зрелища отовсюду стеклось столько пароду, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам, а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора». Согласно обету, данному перед сражением под Фарсалой, Цезарь намерен воздвигнуть на ранее построенном им форуме храм Венере-прародительнице. Неподалеку от богини он поставит прекрасное изображение Клеопатры.
В смятении чувств ожидает встречи с триумфатором Цицерон. Он приехал в Рим поздней осенью 47-го года в разгар подготовки экспедиции в Африку. Цезарю было не до него. С горечью сознавая двусмысленность своего положения и свою ненужность, Цицерон первое время старался избегать всякого общения. В январе 46-го года он писал своему другу и коллеге-ученому Марку Варрону
«Итак, знай, что по приезде в Рим я помирился со старыми друзьями, то есть, со своими книгами. Впрочем, я прекратил общение с ними не потому, что я на них сердился, но потому, что мне было несколько совестно перед ними. Ведь мне казалось, что, опустившись до участия в сильнейшей смуте при самых неверных союзниках, я недостаточно повиновался их наставлениям. Они мне прощают, зовут назад к прежним дружеским отношениям и говорят, что ты, оставшись твердым в этом, был мудрее, чем я». (Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 2, № 454)
С величайшей тревогой, не зная, чего желать, ловил Цицерон сообщения из Африки. Наконец приходит известие о победе Цезаря под Тапсой. Цезарианцы торжествуют, республиканцы погружаются в глубокое уныние. В двадцатых числах апреля Цицерон снова пишет Варрону:
«Тебе я даю тот же совет, что и себе самому будем избегать взоров людей, раз уж не так легко избежать их языков. Ведь те, кто упоен победой, смотрят на нас, как на побежденных; те же, кто огорчен тем, что наши побеждены, испытывают скорбь от того, что мы живы... мне уже давно пришло на ум, что было бы прекрасно куда-нибудь уехать, чтобы не видеть и не слышать того, что здесь происходит и что говорится». (Письма... Т. 2, № 459)
Цицерон лукавит. Он с надеждой ждет возвращения Цезаря. Это ясно видно из продолжения того же письма:
«...только бы для нас было твердо одно: жить вместе среди своих занятий, в которых мы ранее искали только удовольствия, а теперь также спасения. Не отсутствовать, если кто-нибудь захочет использовать нас не только как зодчих, но и как мастеров для возведения государства... Если никто не воспользуется содействием, то все-таки и писать, и читать о государственном устройстве, и управлять государством — если не в курии и на форуме, то в сочинениях и книгах, как делали ученейшие древние». (Там же)
По-видимому, вскоре пассивное ожидание сменяется первыми шагами к сотрудничеству с цезарианцами. В июне 46-го года — письмо к тому же адресату:
«...я в дружеских отношениях с этими и участвую в их совещаниях. Почему бы мне не хотеть этого — не вижу оснований. Ведь не одно и то же переносить, если что-либо следует переносить, и одобрять, если чего-либо не следует одобрить. Впрочем, я уже действительно не знаю, чего я не одобряю, кроме начала событий, ибо это зависело от желания. Я видел (ты ведь отсутствовал), что наши друзья жаждут войны, а этот (Цезарь. — Л.О.) не столько жаждет, сколько не боится». (Письма... Т. 2, № 468) Вернувшись в Рим, Цезарь, если и не приглашает Цицерона участвовать в «возведении государства», то во всяком случае как-то подтверждает свое к нему уважение. Долгому затворничеству Марка приходит конец. В начале августа он пишет из Рима Луцию Пету:
«Вот какова, следовательно, теперь моя жизнь: утром я приветствую дома и многих честных мужей, хотя и печальных, и нынешних радостных победителей, которые, правда, относятся ко мне с очень предупредительной и ласковой любезностью. Как только приветствия отхлынут, зарываюсь в литературные занятия... Отечество я уже оплакал и сильнее, и дольше, чем любая мать единственного сына». (Письма... Т. 2, №473)
И все же, хотя он об этом не упоминает, Цицерон, рискуя утратить благоволение Цезаря, делает одно, как он считает, важное для государства дело — просит диктатора о прощении и разрешении возвратиться из изгнания целому ряду видных помпеянцев. Среди них Марк Клавдий Марцелл — тот самый, кто, будучи консулом в 51-м году, добивался отзыва из Галлии и предания суду Цезаря. Марцелл покинул Рим вместе с Помпеем и после поражения под Фарсалой удалился в изгнание на остров Лесбос. Сам Марцелл о прощении не просит, но Цицерону удается добиться разрешения ему вернуться в Рим. По этому поводу он в сентябре 46-го года впервые после долгого перерыва произносит речь в сенате. Он начинает ее с панегирика Цезарю:
«Долгому молчанию, которое я хранил в последнее время, отцы-сенаторы — а причиной его был не страх, а отчасти скорбь, отчасти скромность, — нынешний день положил конец. Он же является началом того, что я отныне могу, как прежде, говорить о том, чего хочу и что чувствую. Ибо столь большой душевной мягкости, столь необычного и неслыханного милосердия, столь великой умеренности, несмотря на высшую власть, которой подчинено все, наконец, такой небывалой мудрости, можно сказать, внушенной богами, обойти молчанием я никак не могу. Ведь коль скоро Марк Марцелл возвращен вам, отцы-сенаторы, и государству, то не только его, но также и мой голос и авторитет, по моему мнению, сохранены и восстановлены для вас и для государства...»
Эта попытка самоутверждения шестидесятилетнего оратора, быть может, вызвала у тебя, читатель, снисходительную улыбку. Но подожди — многое еще впереди. Между тем Цицерон продолжает свою речь:
«...Твои всем известные воинские подвиги, Гай Цезарь, будут прославлены в сочинениях и сказаниях не только наших, но, можно сказать, и всех народов; молва о твоих заслугах не смолкнет никогда. Однако мне кажется, что даже когда о них читаешь, они почему-то заглушаются криками солдат и звуками труб. Но когда мы слышим или читаем о каком-либо поступке милосердном, хорошем, справедливом, добропорядочном, мудром, особенно о таком поступке человека разгневанного (а гнев — враг разума) и победителя (а победа по своей сущности надменна и горда), то как пламенно восторгаемся мы не только действительно совершенными, но и вымышленными деяниями и часто начинаем относиться с любовью к людям, которых мы не видели никогда!
Ну, а тебя, которого мы зрим перед собой, чьи помыслы и намерения, как мы видим, направлены на сохранение всего того, что война оставила государству, какими похвалами превозносить нам тебя, с каким восторгом за тобой следовать, какой преданностью тебя окружить?» (Цицерон. Речь по поводу возвращения Марка Клавдия Марцелла. I. 1,2; III. 9,10)
Лицемерит ли оратор? Ведь через полтора года Цезарь будет убит друзьями Цицерона, и он горячо одобрит это убийство. Думаю, что сейчас он не лицемерит. Может быть, несколько приукрашивает свои чувства, потому что в глубине души надеется вернуться к активной государственной деятельности на благо Республики, надеется, что Цезарь призовет его. Но за последующие полтора года эволюция взаимоотношений Цезаря с сенатом возродит былую неприязнь и даже ненависть Цицерона к своему державному покровителю.
А пока что надо еще уговорить Марцелла принять помилование. В том же сентябре Цицерон пишет ему в Митилены:
«Итак, еще и еще... советую тебе возможно скорее согласиться на пребывание в государстве, каким бы оно ни было. Быть может, ты увидишь многое, чего не хочешь видеть, однако не больше того, о чем слышишь каждый день... Но тебе самому придется говорить то, чего ты не думаешь, или делать то, чего ты не одобряешь. Во-первых, уступить обстоятельствам, то есть покориться необходимости — это всегда считалось свойством мудреца; во-вторых, в этом, ввиду нынешнего положения, нет никакого порока. Говорить то, что думаешь, пожалуй, нельзя; молчать вполне дозволяется (!!)...
В гражданских войнах все является несчастьем, чего наши предки не испытывали ни разу, наше поколение — уже не однажды. Но нет ничего несчастнее, чем сама победа, которая, когда она приходит даже к лучшим людям, все же делает их более надменными и менее сильными... победителю, уступая тем, с чьей помощью он победил, многое приходится делать даже против своего желания. Разве мы с тобой не предвидели, сколь жестокой стала бы победа тех? Следовательно, ты и в этом случае лишился бы отечества, чтобы не видеть того, чего не хочешь...
Теперь же для тебя не должно быть более приятного места, чем отечество, и ты не должен любить его меньше оттого, что оно стало хуже, но ты скорее должен чувствовать сострадание к нему и не лишать его, утратившего многих славных мужей, также возможности видеть тебя.
Наконец, если величию духа было свойственно не идти с мольбой к победителю, то смотри, как бы презрение к его же благородству не оказалось свойством гордости. И если мудрому свойственно лишиться отечества, то бесчувственному свойственно не тосковать по нему». (Письма... Т. 3, № 488)
Письмо уже не восторженное — горькое. «Говорить то, чего ты не думаешь, или делать то, чего ты не одобряешь». Это Цицерон, конечно же, и о себе. С его-то гордостью и жаждою бессмертной славы!
Марцелл внял уговорам Цицерона, но увидеть вновь берега Италии ему было не суждено — на пути домой, в Пирее, он при неясных обстоятельствах был убит.
Государственная деятельность Цицерона, к которой он так мечтал вернуться, не может вызвать в его душе иных чувств, кроме недоумения и обиды. Вместе с остальными сенаторами ему приходится играть роль ширмы, за которой Цезарь и его приближенные вершат все дела по управлению государством. Иногда они даже забывают (не исключено, что преднамеренно) уведомить сенат о тех решениях, которые принимаются от его имени. В октябре 46-го года Цицерон снова пишет в Неаполь Луцию Пету
«Когда я в Риме и постоянно на форуме, постановления сената пишутся у твоего поклонника, моего близкого (вероятно, у Бальба или Долабеллы. — Л.О.). Когда приходит на ум, то упоминают о моем присутствии при записи, и я узнаю, что постановление сената, которое, как говорят, вынесено по моему предложению, доставлено в Армению и Сирию раньше, чем вообще было сделано какое-либо упоминание об этом. Однако я не хотел бы, чтобы ты считал, будто я говорю это в шутку: знай — от царей далеких окраин мне уже доставлены письма, в которых они благодарят меня за то, что я в высказанном мною мнении назвал их царями, а я не знал не только того, что они названы царями, но даже того, что они вообще родились». (Письма... т. 3, № 494)
Цезарь оставался в Риме немногим больше четырех месяцев. О его мирной реформаторской деятельности за это время будет сказано дальше. В начале декабря 46-го года, поручив управление государством своим приближенным, он снова отбывает с еще не распущенными легионами на войну. На этот раз — как и три года назад — в Испанию. Я уже упоминал, что после поражения в Африке сыновьям Помпея, Гнею и Сексту, удалось бежать в Испанию. Там находилось два легиона, набранных в свое время еще Помпеем. Туда же с остатками африканского войска приплыл и Лабиен. Старший сын Помпея — Гней — был провозглашен главнокомандующим. Действуя весьма энергично, он сумел за полгода из римских граждан городов Италика и Кордуба, беглецов из Рима, а также из испанцев, недовольных притеснениями наместника провинции, довести численность своей армии до тринадцати легионов. Вспомогательные войска ему прислал мавретанский царь Бокх. Это была уже грозная сила. Легаты Цезаря не смогли ей противостоять, и ему пришлось самому отправиться в Испанию. Отправляться очень не хотелось. Прервать начатое дело реформ, еще раз подчиниться необходимости жертвовать жизнями римских граждан! Тяжело. А тут еще в Рим явилась Клеопатра с новорожденным сыном — единственным на свете существом, в чьих жилах текла кровь Юлия Цезаря. Но надо, надо! Под угрозой весь его великий замысел, и Цезарь выступает в новый поход. Пеший марш по пути, некогда пройденному Ганнибалом, он проделал за двадцать семь дней. Уже после его отъезда из столицы, консул (и начальник конницы то есть, помощник диктатора) Лепид проводит в комициях избрание Цезаря консулом без коллеги на 45-й год. Положение Цезаря оказалось трудным. У помпеянцев — почти двукратное численное преимущество, войско их неплохо подготовлено. Первые два месяца 45-го года проходят в маневрировании обеих армий, незначительных стычках и осаде испанских городов, поддерживавших ту или другую воюющую сторону. Тем временем в Риме воцаряется атмосфера тревожной неопределенности. Известия из Испании противоречивы. Явные и тайные приверженцы Цезаря и Гнея Помпея то с надеждой, то со страхом ловят сообщения и слухи о ходе военных действий. Всем ясно, что идет последняя, решающая схватка. Многие уверены, что за победой любой из сторон последует жестокая расправа над ее противниками в Италии. Цицерон — Гнею Планцию в Керкиру (Рим, начало 45 года):
«Что касается меня, то если достоинство в том, чтобы держаться честных мнений о государственных делах и находить у честных мужей одобрение своему мнению, я достигаю своего достоинства. Но если достоинство в том, чтобы то, что думаешь, ты мог либо осуществить, либо, наконец, защитить свободной речью, то у меня не остается даже какого-либо следа достоинства, и прекрасно, если я могу владеть самим собой, чтобы то, что частью уже налицо, частью угрожает, переносить с умеренностью, а это трудно во время такой войны, исход которой, с одной стороны, угрожает резней, с другой — рабством». (Письма... Т. 3, № 539)
Но умеренность вскоре изменяет Цицерону. Если не прямо, то косвенно он отваживается открыто защитить свои взгляды. Примерно в то же время, как и цитированное письмо, он публикует сочинение о Катоне — восторженный панегирик непримиримому врагу Цезаря. Это — вызов! Но он брошен благородному противнику. За ним не последует расправа. Но вполне возможно полное отрешение от государственных дел, то есть от того, что от считает своим призванием и смыслом жизни. Пусть так! Дороже честь и верность памяти друга. Трактат Цицерона получает столь сильный резонанс в Риме, что, прочитав его, Цезарь считает необходимым в самые напряженные дни войны написать ответный трактат, который он называет «Антикатон». В нем уничижительная критика взглядов, действий и самой личности Катона соседствуют с выражением уважения к автору панегирика. Кстати сказать, между ними поддерживается переписка. В частности, Цицерон получает от Цезаря письмо с соболезнованием по поводу смерти родами его горячо любимой дочери.
Во второй половине февраля 45-го года в военных действиях происходит перелом. Цезарю удается взять штурмом считавшуюся неприступной крепость Аттегуа. Как всегда в таких случаях, начинаются массовые перебежки из лагеря противника. Ряд испанских общин заявляет о своей готовности поддержать Цезаря. Решающее сражение произошло 17 марта близ города Мунда (в южной Испании недалеко от нынешней Кордовы). Войско Гнея Помпея было по-прежнему многочисленнее и занимало выгодную позицию на склоне холма. Тем не менее, Цезарь отдал приказ об атаке. Завязалось ожесточенное сражение. В какой-то момент его солдаты дрогнули, и казалось, вот-вот обратятся в бегство. Все резервы были уже введены в бой. У Цезаря оставалось единственное средство спасти дело своей жизни — поставить на карту саму эту жизнь. И он это сделал! Но предоставим лучше слово Аппиану. Когда страх и отчаяние, точно степной пожар, стали быстро распространяться по рядам его воинов...
«Цезарь сам, схватив щит одного из них и воскликнув вокруг него стоящим командирам: «Да станет это концом для меня — жизни, а для вас — походов», выбежал вперед из боевого строя навстречу врагам настолько далеко, что находился от них на расстоянии 10 футов. До 200 копий было в него брошено, но от одних он уклонился, другие отразил щитом. Тут уже каждый из его полководцев, подбегая, становился рядом с ним, и все войско бросилось в бой с ожесточением, сражалось весь день с переменным успехом, но к вечеру наконец одолело. Как передают, Цезарь сказал, что ему приходилось вести много битв за победу, но в этот день он вел битву за жизнь». (Аппиан. Гражданские войны. II, 104)
Победа была полной. Противник оставил на поле боя 30 тысяч только убитыми. Потери Цезаря не превышали тысячи человек. Правда, это были по большей части его ветераны. Удрученный, уже в сумерках обходил Цезарь подножие холма, вглядывался в лица павших воинов, многих узнавал, прощался с ними, вспоминал...
Его главные враги тоже погибли. Лабиен пал в рукопашном бою, Гней Помпей бежал, но был настигнут и убит. Спастись удалось только младшему сыну Помпея, Сексту, который во время сражения находился в Кордове. Вскоре капитулировали и державшие сторону помпеянцев испанские города. Цезарь обложил их высокой контрибуцией, а города, поддержавшие его, получили различные льготы и привилегии. Многим были дарованы гражданские права, а некоторые по его повелению получили статут колоний римских граждан. Потратив некоторое время на устройство надежного управления Испанией и Нарбонской Галлией, Цезарь в начале октября 45-го года возвратился в Рим.
Как только весть о победе при Мунде достигла столицы, она внушила такой страх противникам Цезаря, что сенат в спешном порядке декретировал ему десятилетнее консульство и пожизненные титулы императора, отца отечества и освободителя. Кроме того, в добавление к пятидесятидневному благодарственному молебствию было постановлено оказать Цезарю почести, «превосходящие, — по словам Светония, — человеческий предел». Чтобы не повторяться, не буду их здесь перечислять, а упомяну некоторые позже, в «комплекте» с многими другими, дарованными как до того, так и после — уже незадолго до его смерти.
Вскоре после возвращения из Испании Цезарь отпраздновал свой пятый триумф. Наверное, этого не следовало делать — ведь он был назначен в честь победы над согражданами. Но Цезарь видит в нем свой долг перед теми, кто пал в сражении при Мунде. Их подвиг должен быть прославлен!.. Тягостное впечатление от триумфа не удалось рассеять новым угощением народа, хотя Цезарь, посчитав его недостаточно богатым, через четыре дня распорядился устроить еще более пышный пир.
От десятилетнего консульства он отказался сразу, а после триумфа сложил с себя звание консула без коллеги и провел выборы консулов на оставшиеся три месяца года. Вскоре после того Цезарь созывает комиции для выбора консулов на 44-й год. Выбирают вновь его и Марка Антония. Войско он распускает, но на первое время сохраняет личную охрану из испанцев. Никаких преследований бывших сторонников Помпея не происходит. Напротив, объявлена всеобщая амнистия всем еще не возвратившимся на родину эмигрантам. Наиболее дельных сенаторов и всадников, в том числе из старинной римской аристократии, Цезарь старается вовлечь в осуществление начатых еще до Испанской кампании преобразований. Не держит он досады и на Цицерона. Во время одной из своих деловых поездок в Кампанию он навещает своего прославленного оппонента в его имении близ Путеол. Описывая в письме Аттику свой обед с Цезарем, Цицерон замечает:
«...Мы казались людьми... В разговоре ни о чем важном, много о литературе. Что еще нужно? Он получил удовольствие и пробыл охотно. Говорил, что проведет один день в Путеолах, другой — близ Бай. Вот тебе гостеприимство или постой, для меня, сказал я, ненавистный — не тягостный». (Письма... Т. 3, № 682)
Что не тягостный — понятно. Беседа о литературе, которую Цезарь хорошо знал и любил. Кстати, о степени уважения к литературе (и к Цицерону) говорит такое высказывание Цезаря об ораторе:
«Его триумф и лавры достойнее триумфа и лавров полководца, ибо расширивший пределы римского духа предпочтителен тому, кто расширил пределы римского господства». (Цитирую по книге С. Л. Утченко «Цицерон и его время» «Мысль», 1986, с. 335) Но почему «ненавистный постой»? Да потому, что ревностному защитнику сенатской республики Цицерону уже совершенно ясны автократические намерения его собеседника.
Первые два месяца 44-го года Цезарь со всей своей энергией отдается работе по переустройству римского государства. Но жить ему остается считанные недели. Откладывать дальше некуда — мы должны подвести итоги реформаторской деятельности Юлия Цезаря, его фактически единоличного правления, к которому он шел таким долгим и трудным путем. Но, помилуй Бог, какие итоги? Ведь этой мирной деятельности Цезарь успел посвятить лишь один год и то урывками: два месяца перед началом Африканской войны, четыре с небольшим месяца во второй половине 46-го года после окончания Африканской войны и менее шести месяцев после возвращения в Рим из Испании. Для задуманной им ломки многовековой республиканской традиции и изменения всего государственного строя срок смехотворно малый. Так что придется говорить не об итогах, а о тенденциях начатых им преобразований. Попытаюсь их как-то сгруппировать.
В первой группе отметим меры, направленные к распространению римского гражданства на все территории, фактически вошедшие в орбиту римской государственности. Наделяя участками земли своих ветеранов, Цезарь только в немногих известных нам случаях воспользовался остатками государственных земель в Италии. Основная часть легионеров, по-видимому, получила землю в поселениях — римских колониях, во множестве учрежденных на территориях подвластных провинций и зависимых от Рима государств: в Сицилии, Галлии, Испании, Африке, Греции и Малой Азии. С этой целью, в частности, были восстановлены разрушенные некогда римлянами города Карфаген и Коринф. Колонии создавались по распоряжению Цезаря, а не по решению Народного собрания, как было принято ранее. В колонии добровольно переселялись и неимущие граждане Рима — число таких переселенцев достигло 80 тысяч. Тому способствовало резкое сокращение бесплатных раздач хлеба в Риме (с 320 до 150 тысяч человек). Колонисты, разумеется, не участвовали в Народных собраниях и выборах магистратов в Риме, но в остальном пользовались всеми правами римского гражданства и оставались в сфере действия римских законов. Эти колонии должны были сыграть роль центров романизации на всех подвластных Риму территориях. Кроме того, целые провинции, области и отдельные провинциальные города в знак признания их заслуг перед Римом (то есть перед Цезарем) получили права полного римского или несколько урезанного — латинского гражданства. Например, Цизальпинская Галлия, испанские города Гадес, Гиспал, Улия и Генетива. Близки к этому были Сицилия и Нарбонская Галлия. Большинство провинций еще управлялось на основании римских военных законов, но военные и гражданские судебные процессы практически мало отличались друг от друга.
Важную роль в подготовке провинций к переходу в римское гражданство должен был сыграть муниципальный закон Юлия Цезаря. Он заметно увеличивал свободу действия городских общин: предусматривал самостоятельный выбор должностных лиц города, в том числе несменяемого главы муниципалитета (декуриона), и определенную самостоятельность суда по гражданским и уголовным делам. Действие этого закона распространялось не только на италийские, но и провинциальные города. С другой стороны, Цезарь ограничил полномочия преторов и других избираемых в Риме магистратов сугубо городскими делами. Он хотел, чтобы Вечный Город стал одним из городов римского государства — пусть самым крупным и богатым, пусть резиденцией правителя, но не господствующим и паразитирующим за счет остальной Италии и провинций. Все это были лишь первые шаги, но за ними угадывается план создания огромного многонационального государства, объединенного равенством прав и обязанностей его граждан, действием единых законов на всей его территории.
Вторую группу мероприятий Цезаря объединяет нацеленность на разрушение традиционной республиканской системы государственной власти. В первую очередь это относится к превращению сената из сугубо аристократического коллективного органа управления государством в орган совещательный при единовластном правителе. Он должен формироваться по принципу «компетентности» его членов и представительства различных народов, попавших под юрисдикцию Рима. Избегая чересчур резких, насильственных действий, Цезарь не распустил республиканский сенат, а, исключив некоторых особенно одиозных его членов, даже восстановил в звании сенаторов тех, кто был изгнан Суллой и Помпеем. Вместе с тем, воспользовавшись цензорскими полномочиями, врученными ему тем же сенатом, он дважды пополнял его состав так, что к 45-му году число сенаторов увеличилось с 300 до 900 человек. Разумеется, пополнение состояло в основном из приверженцев Цезаря — независимо от их происхождения. Среди них были даже вольноотпущенники, войсковые командиры и провинциалы, лишь недавно получившие римское гражданство. «Разбавление» такого масштаба и качества в корне изменяло характер и роль сената. Цезарь позаботился и о дальнейшем законном и регулярном пополнении сената верными людьми. Оставив в силе введенный еще Суллой порядок автоматического вступления в сенат бывших магистратов, он резко увеличил их число (квесторов — с 20 до 40, преторов — с 5 до 14, эдилов — с 2 до 6). По меньшей мере половина этих магистратур предоставлялась угодным ему людям, о чем я расскажу немного позже. Этот резерв, по-видимому, был достаточен для восполнения ежегодной естественной убыли расширенного сената.
Весьма чувствительный удар по влиянию сената и процветанию сенатского сословия был нанесен фактическим отнятием у него права назначения наместников провинций. Сенат по-прежнему принимал по этому поводу постановления, но обсуждал только кандидатуры, предложенные Цезарем. Кроме того, самим наместникам были оставлены лишь функции военного командования. Взыскание контрибуций и налогов в государственную казну осуществляли доверенные люди Цезаря, а закон, карающий мздоимство и вымогательство, применялся со всей строгостью. Откупы прямых налогов были запрещены, публиканы из провинций — изгнаны. Провинциальная кормушка для сенаторов и всадников закрылась, а сами провинции вздохнули с облегчением.
По отношению к комициям римского народа Цезарь также проводил линию на постепенное свертывание их роли в управлении государством. В сущности, они давно утратили всякий смысл, превратившись в буйные собрания насквозь продажной городской черни. Но многовековая традиция не умирает в одночасье, и Цезарь должен был с этим считаться. Хотя некоторые свои решения (например, о выводе колоний) он принимал единолично, но большинство других «оформлял» в виде законов, утвержденных Собранием народа. Цезарь отлично понимал, что обращаться с законами следует осторожно. Уважение к ним легко разрушить, но трудно восстановить! Он хотел построить не самодержавное, а основанное на законах автократическое государство, о чем подробнее речь пойдет ниже.
Выборы магистратов он оставил за комициями, но половину кандидатов предлагал сам, рассылая списки их по трибам. Эти предложения были равносильны приказу (за спиной Цезаря стояла неодолимая военная сила). Фактически он навязывал комициям и кандидатуры будущих консулов. Преднамеренно нарушая традицию, Цезарь дважды, слагая с себя более высокие полномочия, проводил выборы консулов сроком на три месяца. А в феврале 44-го года, собираясь отбыть на войну с Парфией, заставил Народное собрание утвердить кандидатуры назначенных им наперед консулов на 43-й и 42-й годы. И уже совсем насмешкой над торжественным актом народного волеизъявления выглядел эпизод, когда по приказу Цезаря было проведено избрание консула на... один день! Насколько оскорбительным выглядел этот «пустяковый» эпизод для республиканского правосознания, видно из нижеследующего письма Цицерона. Но сначала — необходимые пояснения. В начале октября 45-го года, возвратившись из Испании, Цезарь, как я уже упоминал, провел выборы консулов на оставшиеся три месяца. А на последний день того же года были назначены выборы квесторов. Эти выборы полагалось производить на трибутских комициях, им предшествовали соответствующие этому случаю птицегадания. На комициях должны были присутствовать оба консула. «Вдруг» обнаружилось, что один из них, Квинт Максим, умер. К сожалению, неизвестно, умер ли он в тот день или роль новоизбранных консулов была столь ничтожна, что смерть одного из них какое-то время оставалась незамеченной. «Ничтоже сумняшеся» Цезарь распорядился считать собравшиеся комиции не трибутскими, а центуриатскими и выбрать на них консула (Каниния) взамен умершего на оставшийся срок, то есть на один день. Формально это соответствовало закону — умерший консул должен быть заменен. Но по существу было чистой воды издевательством. Вот что пишет по этому поводу Цицерон в письме, отправленном в январе 44-го года:
«...Трудно поверить, как позорно я, мне кажется, поступаю, присутствуя при этом. Право, ты, кажется, гораздо раньше предвидел, что угрожает, — тогда, когда ты бежал отсюда. Хотя это и горько, даже когда о нем слышишь, все-таки менее невыносимо, чем видеть. Во всяком случае, тебя не было на поле, когда во втором часу, после открытия квесторских комиций, было поставлено кресло Квинта Максима, которого они называли консулом (Цицерон не признает избрания на три месяца. — Л.О.). После извещения о его смерти кресло было удалено. А тот, кто совершил гадание для трибутских комиций, руководил центуриатскими. В седьмом часу он объявил о выборе консула на срок до январских календ, которые должны были наступить на другой день утром. Таким образом, знай, что при консуле Канинии никто не позавтракал... Это кажется тебе смешным, ведь тебя здесь нет. Если бы ты видел это, ты не сдержал бы слез. Что, если я напишу о прочем? Ведь оно неисчислимо и в том же роде. Я не перенес бы этого, если бы не направился в гавань философии и если бы участником моих занятий не был наш Аттик». (Письма... Т. 3, № 696)
В качестве верховного жреца Цезарь распустил разрешенные ранее Клодием религиозные коллегии (кроме самых древних), запретил квартальные союзы ремесленников и «уличные клубы». Наконец, он поднял руку на святая святых римского плебса — неприкосновенность народных трибунов. Поводом для этого послужили аресты трибунами Марулом и Цезетием людей, приветствовавших Цезаря как царя. Первый такой инцидент он оставил без внимания. Но когда арест по этому же поводу повторился, Цезарь в своем выступлении перед сенатом заявил, что трибуны стараются навлечь на него подозрение в стремлении к тирании. Он сказал, что считает их провокаторами, заслуживающими смерти, но ограничится отрешением от должности и изгнанием из сената. Напомню, что, согласно древнему закону, власть трибунов считалась священной — никто в Риме не смел на нее посягнуть. Цезарь, конечно же, понимал, что нарушение этого закона вызовет недовольство римского народа, но такова была его стратегия. До поры до времени он не ликвидировал республиканские институты: сенат, все магистратуры, выборы в комициях и полномочия трибунов формально оставались без изменения. Но каждый из этих институтов он сознательно «дискредитировал» так, что они утрачивали свое прежнее значение, уступая свою власть и влияние ему — единовластному правителю государства. Это была рискованная игра. Нужно было «не перегнуть палку», не допустить, чтобы все, так или иначе обиженные им слои и сословия римлян, объединились против него в своем недовольстве. К сожалению, он вынужден был торопиться. Ведь для решения грандиозной задачи переустройства римского государства у него оставалось не так много лет (на самом деле — дней!). Преемник Юлия Цезаря, император Август, в течение своего чуть ли не полувекового правления покончит со всеми республиканскими учреждениями, но так постепенно и незаметно, что современники будут искренне восхвалять его как защитника и продолжателя республиканских традиций (традиция — великая вещь! Она уступает без боя лишь осторожному и длительному давлению).
Третья группа мероприятий Цезаря относится к организации новой государственной власти — в первую очередь его собственной. Кем он себя видел в будущем? Диктатором? Царем? Попытаемся ответить. Начну с диктатуры. Напомню, что в римском законодательстве пост диктатора был чрезвычайной и временной (на полгода) магистратурой. Диктатора назначал один из консулов по решению сената в случае опасных волнений в государстве или непосредственной военной угрозы Риму. Сулла впервые в римской истории вынудил сенат предоставить ему диктаторские полномочия на неопределенный срок. И хотя через три года он добровольно сложил с себя эти полномочия, время правления Суллы осталось в памяти римлян как эпоха кровавых проскрипций и казней. Слово диктатура стало восприниматься как синоним понятия тирания.
Светоний приводит будто бы сказанную Цезарем фразу: «Сулла не знал и азов, если отказался от диктаторской власти».
Тем не менее, у нас достаточно оснований считать, что бессрочная или даже длительная диктатура была для Юлия Цезаря неприемлема. С 49-го по 44-й год между ним и сенатом идет своеобразная «игра в поддавки» вокруг диктатуры. Читатель уже имел возможность проследить за разными этапами этой игры, но мне кажется интересным представить их еще раз — в одном месте и в хронологическом порядке. Из ранее упомянутых «пакетов» прав и привилегий, которые римский сенат раз за разом преподносил Цезарю, я буду выписывать только акты предоставления диктатуры вместе с сопутствовавшими этим актам обстоятельствами.
Август 49 года. После победы над помпеянцами в первой Испанской кампании Цезарь находится под стенами осажденной Массалии. В Риме, по инициативе сената, претор Лепид заочно провозглашает его диктатором. Срок диктатуры не оговаривается — можно думать, что это обычные полгода.
Ноябрь 49 года. Цезарь возвращается в Рим. Урегулировав острую проблему долгов и проведя через комиции свое избрание одним из двух консулов на 48-й год, Цезарь через 11 дней после прибытия слагает с себя полномочия диктатора.
Октябрь 48 года. Цезарь находится в Александрии. Сенаторы, узнав о его победе под Фарсалой и о смерти Помпея, помимо прочих чрезвычайных полномочий и почестей провозглашают Цезаря (опять заочно) диктатором на неопределенный срок.
Октябрь 47 года. После девятимесячной Александрийской эпопеи и разгрома Фарнака в Азии Цезарь возвращается в Рим. Он немедленно отказывается от диктатуры, проводит выборы консулов на оставшиеся три месяца. В конце года перед отплытием на Африканскую войну его вновь избирают консулом на следующий 46-й год.
Август 46 года. Цезарь только что вернулся в Рим после разгрома помпеянцев в Африке. Сенат провозглашает его диктатором на 10-летний срок. Цезарь это звание не отвергает, но, готовясь во второй раз отправиться на войну в Испанию, использует его только для того, чтобы назначить своего помощника (начальника конницы) Марка Лепида распорядителем всех дел в Риме.
Декабрь 46 года. Лепид (разумеется, следуя оставленным ему инструкциям) проводит заочное избрание Цезаря консулом (без коллеги) на 45-й год, что автоматически означает прекращение диктаторских полномочий.
Лето 45 года. Одержана победа при Мунде. Цезарь еще в Испании. Сенат спешит, помимо фантастических почестей и титулов, вопреки всем законам и обычаям, объявить Цезаря консулом на срок в 10 лет.
Октябрь 45 года. Цезарь возвращается в Рим. Он отказывается от десятилетнего консульства и даже слагает с себя (досрочно) полномочия консула без коллеги. Затем, так же, как в 48-м году, проводит избрание новых консулов на оставшиеся три месяца 45-го года, а себя и Марка Антония — консулами на 44-й год.
Начало 44 года. Сенат вновь провозглашает Цезаря диктатором. На этот раз — пожизненным. И верно, сложить с себя это звание Цезарь уже не успеет. Его убийцы смогут громогласно заявлять, что их кинжалы поразили тирана.
Итак, мы видим, что сенат упорно навязывает Цезарю диктатуру, а тот так же упорно от нее отказывается. Что движет сенатом? Скорее всего — страх и угодничество. Хотя не исключено, что и коварный расчет. Ведь римский народ питает ненависть к диктатуре. Но чего хочет сам Цезарь? Десятилетнее консульство он отверг так же, как диктатуру. Быть может, он хочет стать царем? Римские историки свидетельствуют, что Цезаря в этом многие подозревали. Рассмотрим, какие тому были основания.
Впервые предложение возложить на Цезаря царский венец прозвучало в римском сенате в июле 45-го года, еще до его возвращения в Рим из Испании. Это предложение внес жрец и сенатор Луций Котта, ссылаясь на обнаруженное им в Сивиллиных книгах пророчество, согласно которому Парфия может быть покорена только царем. А грядущая война с парфянами считалась в это время делом решенным. Предложение Котты тогда принято не было, но перед самым началом парфянского похода оно возникает вновь в варианте присвоения Цезарю титула царя лишь по отношению к провинциям и союзным государствам. Предложение намечено обсудить на заседании сената, назначенном на 15 марта. Перед началом этого заседания Цезарь будет убит.
Между июлем 45-го и мартом 44-го года слухи о том, что Цезарь намерен объявить себя царем, непрерывно будоражили Рим, хотя ни одно высказывание или действие Цезаря не давало к тому оснований. Более всего эти слухи питались воистину царскими почестями, которые после каждой победы в гражданской войне изыскивал для него сенат. Опять встает вопрос: из угодничества или с провокационной целью? Плутарх по этому поводу замечает:
«Ненавистники Цезаря, как думают, не меньше его льстецов помогали принимать эти решения, чтобы было как можно больше предлогов к недовольству и чтобы их обвинения казались вполне обоснованными». (Плутарх... Цезарь, VII)
Вот еще не полный список этих чрезвычайных прав и почестей. Цезарю дано право объявления войны и заключения мира без санкции сената и Народного собрания. Магистраты при вступлении в должность присягают не противодействовать ничему, что постановит Цезарь. Клятва его именем считается юридически действенной. Статуя Цезаря воздвигнута на Капитолии среди статуй древних римских царей. В сенате и суде ему ставят кресло из позолоченной слоновой кости. Во время занятий государственными делами он имеет право носить красные сапоги, какие некогда носили цари Альбы-Лонги, и надевать царское облачение. На игры и празднества — являться в пурпурном плаще триумфатора с лавровым венком на голове. Его статую из слоновой кости в торжественной процессии перед началом игр жрецы несут на священных носилках. Цезарю определена почетная стража из сенаторов (которой он не воспользовался). Месяц квинтилий переименован в июль. Все дни побед Цезаря постановлено отмечать ежегодно как праздники. В святилищах по всей Италии и в провинциях совершаются жертвоприношения в его честь, возводятся храмы, устраиваются игры.
Воистину такого почета не знали и римские цари. Но был ли сам Цезарь в том повинен? Да, конечно, в той мере, в какой не отвергал этот почет. Но от почета, даже столь неумеренного, до посягательства на царскую корону еще далеко. О том, что некоторые из римлян открыто приветствовали Юлия Цезаря как царя, я уже упоминал в связи с отрешением от должности двух трибунов. Цезарь обвинил трибунов в провокации. Но можно было заподозрить и его самого в недовольстве энергичными мерами, предпринятыми против сторонников царской власти. Еще один неясный эпизод произошел в феврале 44-го года во время праздника Луперкалий. В разгар праздника Марк Антоний неожиданно попытался возложить на голову Цезаря царскую диадему. Была ли эта попытка испытанием намерений Цезаря или согласованным с ним зондажем общественного мнения — остается неясным. Быть может, читатель составит об этом свое суждение, познакомившись с рассказом Аппиана:
«Испытания его, однако, в отношении склонности к царской власти нисколько не прекратились, и однажды, когда Цезарь сидел на форуме на золотом кресле перед рострами, чтобы смотреть оттуда на Луперкалий, Антоний, товарищ его по консульству, подбежал, обнаженный и умащенный маслом, как обычно ходят жрецы на этом празднестве, к рострам и увенчал голову Цезаря диадемой. При этом со стороны немногих зрителей этой сцены раздались рукоплескания, но большинство застонало. Тогда Цезарь сбросил диадему. Антоний снова ее возложил, и Цезарь опять ее сбросил. И в то время, как Цезарь и Антоний между собой как будто спорили, народ оставался еще спокойным, наблюдая, чем кончится все происходящее. Но когда взял верх Цезарь, народ радостно закричал и одобрил его за отказ». (Аппиан. Гражданские войны. II, 109)
Особенное подозрение римлян относительно претензий на царство вызвал еще один эпизод, в котором Цезарь, по мнению Светония, «безмерно оскорбил сенат своим открытым презрением». Вот как описывает римский историк этот эпизод
«Но величайшую, смертельную ненависть навлек он на себя вот каким поступком. Сенаторов, явившихся в полном составе поднести ему многие высокопочтеннейшие постановления, он принял перед храмом Венеры-Прародительницы, сидя. Некоторые пишут, будто он пытался подняться, но его удержал Корнелий Бальб. Другие, напротив, будто он не только не пытался, но даже взглянул сурово на Гая Требация, когда тот предложил ему встать, Это показалось особенно возмутительным оттого, что сам он, проезжая в триумфе мимо трибунских мест и увидев, что перед ним не встал один из трибунов по имени Понтий Аквила, пришел тогда в такое негодование, что воскликнул: «Не вернуть ли тебе и республику, Аквила, народный трибун?» И еще много дней, давая кому-нибудь какое-нибудь обещание, он непременно оговаривал: «если Понтию Аквиле это будет благоугодно»». (Светоний. Божественный Юлий, 78)
Я согласен с тем, что Цезарь выказал сенаторам свое презрение. Но их угодливость (или коварство?), быть может, не заслуживала лучшего отношения. Можно бы попенять Цезарю за чересчур неосторожную откровенность. Но в свете его постоянного стремления «дезавуировать» сенат в глазах народа эта откровенность вполне понятна. Усматривать в ней стремление к царской власти, на мой взгляд, нет оснований. И все-таки желал Цезарь стать царем в Риме или нет? Скорее — нет! Он был слишком умен и высок духом, чтобы просто соблазниться пышным титулом царя. Если бы Цезарь стремился к бесконтрольной и неограниченной по времени власти, то она была ему предложена в виде пожизненной диктатуры. Цезарь от нее отказался.
Впрочем, я не исключаю возможности, что Цезарь взвешивал аргументы за и против возрождения монархической формы правления (с ограничениями, о которых речь пойдет ниже). Традиционное отношение к царской власти в римском народе было двояким: и резко отрицательным — его питали предания о тирании Тарквиния Гордого, и уважительно-благодарным, связанным с памятью о правлении «отца отечества» Нумы Помпилия. Недаром народ, низвергнувший было статуи Суллы и Помпея (кстати сказать, Цезарь приказал их восстановить), не поднял руку на скульптурные изображения римских царей, воздвигнутых на Капитолии.
Но, может, тут вообще не о чем рассуждать, так как пожалованный Цезарю еще в 48-м году пожизненный титул императора был равносилен титулу царя и подразумевал всю полноту царской власти? Нет, это не так. В последующей истории два этих титула, действительно, стали в равной мере обозначать самодержавную монархическую власть. И если подразумевались какие-то различия, то не в характере самой власти, а в размерах, этническом составе или истории образования подвластных государств. Но во времена Цезаря республиканский по своему происхождению титул императора обозначал только победоносного полководца, командующего войсками. Из его пожизненности вытекало лишь сохранение за Цезарем поста верховного главнокомандующего всеми римскими армиями не только в военное, но и в мирное время.
Но к какой-то форме единовластия Цезарь все-таки явно стремился. Мне кажется, я привел тому достаточно доказательств. И «надменное высказывание», которое приписывает ему Светоний: «Республика — ничто, пустое имя без тела и облика», представляется вполне возможным. Так в каком же обличий мыслил Цезарь свое (и преемников) единовластие? Может быть, просто в обличий консула? Припомним, что каждый раз, слагая с себя диктаторские полномочия, он добивался избрания в консулы на ближайший год. Но тогда почему отверг пожалованное ему сенатом десятилетнее консульство? А если именно потому, что оно было десятилетнее и определено не свободным выбором народа, а постановлением сената, правомочность которого Цезарь не признавал? Быть может, он действительно стремился к установлению в Риме авторитарно-демократического правления, подобного тому, какое существовало в Афинах при Перикле? Когда полновластного правителя народ избирает на один год, затем требует его отчета и в зависимости от оценки результатов правления, опираясь на непреложный закон, переизбирает на новый срок или заменяет другим, более достойным.
Перикл, в качестве такого правителя, пятнадцать лет подряд переизбирался на должность стратега-автократора (и это была пора наивысшего расцвета Афинского государства). В Риме такому положению вполне могла отвечать должность консула без коллеги — благо ее уже занимали сначала Помпей, потом и сам Цезарь. Закон, предписывавший десятилетний интервал между двумя избраниями в консулы, был фактически отменен еще в 48-м году, когда сенат предоставил Цезарю право в течение пяти лет ежегодно выставлять свою кандидатуру на консульских выборах. И он этим правом неуклонно пользовался. За пять лет Цезарь избирался консулом четыре раза (кроме 47-го года, который он почти целиком провел вне Рима — в Египте и Азии).
Однако нам придется ответить на нелегкий вопрос: каким образом Цезарь мог представлять себе всенародное избрание и переизбрание консула-правителя? Для Перикла в крошечной Аттике эта проблема не стояла, а вот в огромном римском государстве... Но, быть может, Цезарю уже виделся какой-то вариант народного представительства, общенациональной ассамблеи? Быть может, увеличение втрое численности римского сената, да еще путем включения в его состав граждан из всех сословий и провинциалов, было пробным шагом в этом направлении? Никаких прямых данных в пользу такой гипотезы у меня нет. Но общее впечатление от того, как начинал Цезарь свою государственную деятельность, а также уважение к его уму и личному достоинству делают, как мне кажется, эту гипотезу не бессмысленной.
Принято считать, что древние римляне не смогли додуматься до представительной системы. Построить водопроводы, Большой цирк и Колизей смогли, а вот хотя бы до двухступенчатой системы выборов их политическое мышление не дотянуло! А ведь опыт представительной власти уже существовал и был в Риме хорошо известен — хотя бы по греческим комедиям. В Афинах V века до Р.Х. правящий Совет пятисот избирался путем равного представительства десяти фил, на которые была разбита Аттика. Масштаб, конечно, не тот, но римляне умели справляться с делами в своем масштабе: раз в пять лет проводили перепись населения, собирали налоги, призывали новобранцев в армию. Создать эффективно работающий парламент до появления многотиражной печати в государстве такого размера, конечно, было невозможно, да Цезарю он был и не нужен. А вот созывать в Риме раз в году вместо толпы городских люмпенов общегосударственную представительную ассамблею для перевыборов правителя было вполне возможно. В такой ассамблее могли бы быть представлены избиратели всех территорий, городов и колоний римских граждан. До Юлия Цезаря никто об этом, естественно, не помышлял. После него, в течение сорокапятилетнего правления Августа (сменилось целое поколение!) был учрежден и детально разработан вариант достаточно эффективной для своего времени системы чисто автократического правления — Римская империя. Ее опыт и пример определили весь дальнейший ход истории Западной Европы. Кто знает, быть может, убийцы Цезаря отсекли совсем иное, тогда еще возможное направление развития истории и всей цивилизации? Развитие на базе политической системы, которую я бы условно назвал автократической демократией (или демократической диктатурой). А если еще пофантазировать, то можно предположить, что в ходе прогресса цивилизации и общественного сознания переход от такой промежуточной системы к полноценной демократии парламентского типа мог бы совершиться постепенно, без кровавых революций.
Легко вообразить, с каким презрением отнесутся к такому предположению ученые политологи и экономисты. Но я и не собираюсь утверждать возможность реализации стабильной «демократической диктатуры» в исторических условиях древнего Рима, а хочу лишь изложить здесь мое субъективное видение личности Цезаря. Мне представляется, что он стремился именно к такому устройству римского государства. Впрочем, в какой-то степени я могу воспользоваться для подкрепления своей точки зрения общепризнанным авторитетом классика исторической мысли Теодора Моммзена. Назвав правление Цезаря, без обиняков, монархией, он в своей «Истории Рима» пишет: «...его монархия так мало расходилась с демократией, что казалось, будто последняя получила свое осуществление и завершение именно благодаря первой. В самом деле, эта монархия не была восточной деспотией милостью божьей, а такой монархией, какую хотел основать Гай Гракх и какую основали Перикл и Кромвель, то есть представительством народа в лице его доверенного, облеченного высшей и неограниченной властью». (Т. Моммзен. История Рима. Т. 3, с. 392. М., 1936 г.)
Под этим углом зрения любопытно взглянуть на те изменения структуры управления, которые Цезарь успел осуществить. В первую очередь необходимо было обеспечить оперативное и квалифицированное руководство всеми сферами политической жизни и экономики огромного государства. Для этой цели Юлий Цезарь создал то, что ныне обозначили бы популярным спортивным термином «команда» — небольшой круг энергичных, компетентных и преданных ему людей. Они, как правило, не занимали официальных постов в администрации, но имели свободный доступ к Цезарю. С ними он советовался, им поручал наиболее ответственные задания, а иногда доверял и замещать себя. Большинство членов команды были его давними соратниками и друзьями (Оппий, Гиртий, Панса, Бальб, Матий и другие). На последнем этапе правления Цезаря в состав его ближайшего окружения вошли Брут и Кассий. Кроме того, Цезарь широко привлекал к сотрудничеству толковых людей из числа новых граждан и провинциалов. Например, один из его ближайших помощников, Луций Бальб из Гадеса, был финикийским купцом. Решением Народного собрания Цезарю было предоставлено право пожалования в патриции. Он пользовался им для создания новой аристократии — в противовес старой, республиканской. Ею, впрочем, он тоже не пренебрегал, если находил в ее рядах дельных и надежных людей. Наиболее способные из этого смешанного аристократического круга составляли новую руководящую элиту государства — что-то вроде Государственного Совета. Наконец, из собственных клиентов, вольноотпущенников и рабов Цезарь создал весьма квалифицированный управленческий «аппарат». Исключительная память, работоспособность и энергия позволяли ему держать все нити руководства государством в своих руках. Его помощники и сотрудники получали неизменно четкие и конкретные задания, исполнение которых неуклонно контролировалось. Таким образом, была создана и отлажена весьма совершенная структура общегосударственного управления. Исполнителями ее распоряжений на местах были назначенные Цезарем наместники провинций, муниципальные власти в городах, а в самом Риме — оставшаяся пока без изменений иерархия магистратов, компетенция которых, однако, не выходила за пределы Вечного Города. Кроме того, наряду с прежними специализированными судами присяжных (в них под руководством преторов заседали только всадники и сенаторы), Цезарь создал и свой личный суд, где судил особо тяжкие преступления и дела о государственной измене. Впрочем, составленное им уложение о политических преступлениях было довольно либеральным. Оно запрещало преследовать за убеждения и в качестве высшей меры наказания предусматривало не казнь, а изгнание. Фактически на всей территории государства вводилось некое общее право, касающееся имущественных отношений собственности и торговли. Оно вводилось через издаваемые ежегодно наставления для судей на базе сочетания древнеримского городского права и местных установлений. Цезарь начал разработку общегосударственного кодекса римских законов, но закончить его не успел. Намечалась также унификация монетной системы, мер и весов.
Хотя в своих действиях Цезарь вполне мог рассчитывать на поддержку провинций, новых граждан и новой элиты, основной его социальной опорой все же оставалась армия. За последние десятилетия армия, как мы знаем, не раз бесцеремонно вмешивалась в политическую борьбу в Риме. Положение и действия войска определялись не столько законами и решениями Народного собрания или сената, сколько личной преданностью главнокомандующему. Эта преданность позволила Цезарю одержать победу в долгой и трудной гражданской войне. Но теперь, после победы, войско могло стать опасным союзником. Первые признаки этой опасности проявились во время мятежа легионов накануне Африканской войны и в расправе, учиненной солдатами после победы при Тапсе. Поэтому Цезарь распустил легионы своих ветеранов.
Но остаться вовсе без опоры на армию в его положении было слишком рискованно. Поэтому он набрал новое войско и затеял грандиозный парфянский подход. Однако на личную преданность новых легионов он уже рассчитывать не мог и потому принял меры для обеспечения своего контроля над ними. Еще раз напомню, что пожалованное ему сенатом пожизненное звание императора оставляло за Цезарем перманентное верховное командование всеми войсками не только в военное, но и в мирное время. Кроме того, он учредил постоянные должности командиров легионов, которых назначал и сменял сам. Парфянское войско формировалось в Македонии, а остальные легионы несли сторожевую службу вне Италии, на границах провинций под командованием верных Цезарю наместников. От создания находящейся близ Рима личной гвардии он решительно отказался, прекрасно понимая, какую опасность для гражданского общества может представлять такое соседство. И вообще, придя к власти с опорой на военную силу, Цезарь всячески стремился избежать такой возможности в будущем и не хотел допустить создания военного государства. При первой же возможности он отправил на родину и свой испанский эскорт.
Цезарю не было необходимости использовать армию для решения текущих политических задач, вроде подавления беспорядков или участия в голосованиях на форуме. Послушная своему императору армия составляла куда более весомую потенциальную угрозу всем, кто попытался бы оспорить его волю. Собираясь отбыть с войском на два-три года на Восток, Цезарь не опасался того, что в его отсутствие республиканцы осмелятся посягнуть на власть в Риме или отменить произведенные им преобразования. Память о прибытии в Италию галльских легионов была еще слишком свежа — парфянские легионы, в случае необходимости, с такой же легкостью смогли бы «перейти Рубикон». Возможно, что Цезарь считал даже целесообразным на время удалиться из столицы, чтобы римляне успели привыкнуть к новому порядку вещей (так некогда поступил великий афинский реформатор Солон).
Наконец, в четвертую группу мероприятий Цезаря можно объединить его действия, направленные на оздоровление экономического положения государства. Сюда следует отнести в первую очередь обуздание ростовщичества и облегчение бремени должников. Запрещено было держать наличными более 15 тысяч денариев и давать в долг сумму денег, превышающую половину стоимости земли кредитора. Тем самым ростовщичество как основное средство обогащения ставилось вне закона. Вчерашним ростовщикам волей-неволей приходилось становиться землевладельцами. Максимальная ставка процента по долговым обязательствам была установлена в 12 % годовых, начисление сложных процентов не разрешалось, а долговое рабство — запрещено вовсе. Несостоятельный должник освобождался от любого долга передачей кредитору всего своего имущества.
Одновременно были приняты и решительно проводились в жизнь законы против роскоши. Иноземные товары для изысканного вкуса облагались высокой пошлиной. Носилки, пурпурные одежды и жемчуга были разрешены только гражданам пожилого возраста. Гастрономические излишества — запрещены. Городские стражи изымали соответствующие продукты у продавцов прямо на рынке, а если запрещенные яства с древнеримского черного рынка все-таки попадали в кладовые гурманов-богачей, то радости чревоугодия омрачались ожиданием внезапной явки ликторов с солдатами, забиравших уже поданные блюда прямо со стола. Гражданам в возрасте между 20 и 40 годами (кроме военных) было запрещено находиться вне Италии дольше трех лет. Так что возможность насладиться плодами своего богатства в кущах изнеженного Востока оказалась сильно урезанной.
Впрочем, этот запрет был продиктован еще и заботой о восстановлении численности населения страны, сократившегося за годы гражданских войн более чем вдвое. С этой же целью по указанию Цезаря суды весьма строго судили дела о разводах и прелюбодеяниях, а отцы больших семей получали вознаграждения. В интересах привлечения в Рим ученых, врачей, учителей, художников и искусных ремесленников из других стран было облегчено получение ими римского гражданства.
Для возвращения к земле массы крестьян, покинувших деревню в трудные годы, помимо наделения землей ветеранов и выведения колоний, был принят закон, предписывавший владельцам крупных латифундий не менее трети своих пастухов нанимать из числа свободнорожденных граждан. Новым землевладельцам запрещалось продавать свои участки земли ранее, чем через двадцать лет. Учреждена была полицейская охрана крестьянских хозяйств от грабителей. Широким фронтом разворачивалось создание сети хороших дорог в сельских местностях.
Между тем, Цезарь вынашивал и грандиозные планы устроения и украшения столицы, укрепления и расширения державы: прежде всего, воздвигнуть храм Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сровняв с землею то озеро, где устраивал он морской бой, а на склоне Тарпейской скалы устроить величайший театр. «...Открыть как можно более богатые библиотеки, греческие и латинские, поручив их составление и устройство Марку Варрону. Осушить Помптинские болота. Спустить Фуцинское озеро (это все для расширения пригодных для сельского хозяйства земель близ Рима. — Л.О.). Проложить дорогу от Верхнего моря через Апеннинский хребет до самого Тибра. Перекопать каналом Истм (перешеек между северной Грецией и Пелопоннесским полуостровом, что чрезвычайно облегчило бы судоходство. — Л.О.)». (Светоний. Божественный Юлий, 44)
Плутарх добавляет к этому списку намерение Цезаря возвести плотину в море близ устья Тибра и расчистить мели у берегов Остии, чтоб устроить там надежную гавань для морских судов.
Пресечение казнокрадства, ограбления провинций публиканами и наместниками, четкая организация налоговой службы и контроль за государственными расходами привели к весьма существенному улучшению положения в сфере финансов. К марту 44-го года в римской казне находилось более 700 миллионов денариев то есть, примерно вдесятеро больше, чем при Республике в пору ее расцвета.
Таким образом, даже оставив в стороне нереализованные долговременные планы Цезаря, у нас есть что записать в актив его мирной государственной деятельности: заметное расширение римского гражданства и увеличение численности сельчан как в самой Италии, так и в колониях за ее пределами. Существенное снижение роли республиканских институтов государственного управления (при сохранении их внешней формы). Создание сильной авторитарной власти, эффективного аппарата ее реализации и новой, преданной властителю гражданской элиты. Наконец, ощутимое улучшение экономики государства и особенно его финансов. Не так мало для одного года правления! Правда, правления, пока еще опирающегося на армию, но скорее в психологическом, чем в силовом аспекте: без устрашения, арестов, казней и конфискаций, а наоборот — в сочетании с политикой милосердия и привлечения оппонентов к сотрудничеству. И без предоставления войскам, их полководцам или когортам личной гвардии императора возможности влиять на государственную политику, как это уже случалось ранее и будет широко практиковаться в последующие века.
Таковы итоги.
Мартовские иды
Рассказ о жизни и делах Юлия Цезаря, служивший основной нитью повествования в четырех последних главах, подходит к концу. Остается описать сцену его убийства да еще, быть может, поразмыслить о том, насколько оно было неизбежным.
Вопрос «И ты, Брут?..», не случайно вынесен в название этой главы. Общеизвестно утверждение, что таковы были последние слова, произнесенные Юлием Цезарем. Оно основывается на рассказе Светония, где, впрочем, предсмертный вопрос звучит чуть иначе: «И ты, дитя мое?» Впрочем, приводя его в жизнеописании Цезаря, Светоний с оттенком сомнения оговаривается: «как некоторые передают». У Плутарха этого вопроса вообще нет. Он утверждает, что, увидев Брута с обнаженным мечом, Цезарь перестал бороться, а «накинул на голову тогу и подставил себя под удары». Независимо от того, были или не были сказаны сакраментальные слова, имя Брута навеки стало синонимом тираноубийцы и воодушевляло многих, весьма отдаленных по времени его подражателей. Брут, действительно, был одним из главарей заговора против Цезаря. Быть может, не первым, а вторым после Кассия, чье имя не удостоено столь же великой славы. Возможно, что различие в памяти последующих поколений связано с легендой о том, что Брут был незаконным сыном Цезаря. Да и обращение «дитя мое» у Светония можно понимать в прямом смысле. Я уже упоминал, почему эта легенда кажется мне неправдоподобной. Однако сентиментальная окраска очень способствует долгожительству преданий старины. Так или иначе, но имя Брута обрело бессмертие рядом с именем Цезаря. Поэтому, мне кажется, рассказ об идах марта будет уместно начать с представления читателю Брута, тем более что и в следующей главе ему еще предстоит играть немаловажную роль.
Марк Юний Брут был, по-видимому, потомком Луция Юния Брута, которому римская легенда приписывала изгнание в 509-м году до Р.Х. царя Тарквиния Гордого и учреждение Республики. На Капитолийском холме среди статуй царей древние римляне поставили и бронзовое изображение Луция Брута с мечом в руке. Марк Брут родился в 85-м году. В семь лет он потерял отца, павшего от руки убийцы. Мать Брута, Сервилия, была сводной сестрой Марка Катона. Непримиримый поборник Республики оказал большое влияние на мировоззрение и нравственный облик племянника. В 45-м году, уже после смерти Катона, Брут женился на его рано овдовевшей дочери, Порции.
Так же, как и Катон, в свои молодые годы Брут приобрел уважение и популярность в Риме не воинскими подвигами, а глубоким знанием философии и еще более того — достоинством, сдержанностью и благородством своего поведения. В связи с этим Плутарх замечает:
«Вот почему даже враги, ненавидевшие его за убийство Цезаря, все, что было в заговоре возвышенного и благородного, относили на счет Брута, а все подлое и низкое приписывали Кассию, родичу и другу Брута...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, I)
В отличие от дяди, Брут смолоду не проявлял особой активности ни на гражданском, ни на судебном поприще, хотя по свидетельству того же Плутарха:
«Прекрасно владея родным своим языком, Брут был мастером не только судебной, но и торжественной речи, по-гречески же всегда стремился изъясняться с лаконской краткостью и сжатостью...» (Там же, II)
Существовали какие-то основания для подозрения, что Помпей был причастен к убийству отца Брута. Поэтому в течение многих лет Марк не здоровался и не заговаривал с Помпеем. Но когда началась гражданская война, Брут, ради защиты Республики, счел необходимым участвовать в борьбе на стороне противников Цезаря (где был и Катон). Как утверждает Плутарх:
«...Брут по собственному почину уехал в Македонию, чтобы разделить со своими единомышленниками все опасности. Помпей, как рассказывают, был настолько изумлен и обрадован его появлением, что поднялся с места и на глазах у присутствовавших обнял Брута, словно одного из первых людей в своем лагере». (Там же, IV)
Но и в военном походе Брут оставался верен своим отнюдь не воинственным пристрастиям.
«В продолжение этого похода, — пишет далее Плутарх, — Брут все свободное время, когда он не был с Помпеем, посвящал наукам и книгам — и не только в остальные дни, но даже накануне великой битвы. Была середина лета и нестерпимый зной палил воинов, разбивших лагерь в болотистой местности. Рабы, которые несли палатку Брута, где-то замешкались. Вконец измученный, он лишь в полдень мог натереться маслом и утолить голод, но затем, пока остальные либо спали, либо с тревогою размышляли о будущем, вплоть до темноты писал, составляя извлечение из Полибия». (Там же)
Таким предстает перед нами будущий «тираноубийца».
Наверное, пребывание в лагере помпеянцев разочаровало Брута так же, как Цицерона, который, кстати, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, питал к нему искренне дружеские чувства. Во всяком случае после Фарсалы, как я уже упоминал, Брут просил победителя о помиловании, которое было охотно предоставлено. И в не меньшей степени ради его собственных достоинств, чем ради его матери — некогда возлюбленной Цезаря.
Перед началом Африканской кампании, в 47-м году Цезарь назначил Брута наместником в Цизальпинскую Галлию. Как и следовало ожидать, Марк Брут проявил себя правителем деятельным, справедливым и бескорыстным. К тому же, как свидетельствует Плутарх:
«...все благодеяния, какие он творил, относил на счет Цезаря. Поэтому, возвратившись и объезжая Италию, Цезарь с живейшим удовольствием взирал на города, которыми управлял Брут, и на самого Брута, умножившего его славу и доставлявшего ему радость своим обществом». (Там же, VI)
Было ли это лицемерием, стремлением «втереться в доверие» и усыпить бдительность Цезаря? Навряд ли! Такое предположение не вяжется с достоинством и открытым характером Марка. Думаю, что в ту пору он был искренним сторонником Цезаря. Подозрения относительно монархических устремлений фактического правителя Рима стали возникать лишь в середине 45-го года. Быть может, эти подозрения и не подвигнули бы Брута на участие в заговоре, а тем более на его организацию, если бы не влияние Кассия и «давление общественного мнения».
Брут был избран одним из дюжины преторов на 44-й год. На свою беду Цезарь назначил его городским претором, правящим суд в Риме и считавшимся главой всей коллегии преторов. В начале этого года, когда неслыханные почести, предоставленные Цезарю, и упорные слухи о грядущем возведении его в царское достоинство взбудоражили Рим, началась настоящая атака на Брута. Ненавистники Цезаря с особой настойчивостью использовали предполагаемое родство городского претора (через дистанцию в пять веков!) с древним освободителем Рима.
«Брута, — рассказывает Плутарх, — долго призывали к решительным действиям... Статуя древнего Брута, низложившего власть царей, была испещрена надписями: «О, если бы ты был сегодня с нами!» и «Если бы жил Брут!» Судейское возвышение, где Брут исполнял свои обязанности претора, однажды утром оказалось заваленным табличками со словами: «Ты спишь, Брут?» и «Ты не настоящий Брут!» (Там же, IX)
Иммунитет к психологическому давлению тогда, верно, еще выработан не был. Что и позволило Кассию вовлечь друга в заговор, для которого у самого Кассия были совсем иные — личные мотивы (обида на Цезаря). О том, что именно Кассий был организатором и вдохновителем всего «дела», можно заключить из следующего свидетельства Плутарха:
«Кассий выведывал настроения друзей, и все соглашались выступить против Цезаря, но при одном непременном условии — чтобы их возглавил Брут, ибо заговор, по общему рассуждению, требовал не столько отваги или же многих рук, сколько славы такого мужа, как Брут, который сделал бы первый шаг и одним своим участием упрочил и оправдал все дело...
...Принявши все это в расчет, Кассий, — продолжает Плутарх, — встретился с Брутом, первым предложив ему примирение после долгой размолвки. Они обменялись приветствиями и Кассий спросил, намерен ли Брут быть в сенате в мартовские календы (1 марта. — Л.О.). Объясняя свой вопрос, он прибавил, что в этот день, как ему стало известно, друзья Цезаря внесут предложение облечь его царскою властью. Брут отвечал, что не придет. «А что, если нас позовут?» — продолжал Кассий. «Тогда, — сказал Брут, — долгом моим будет нарушить молчание и, защищая свободу, умереть за нее». Воодушевленный этими словами, Кассий воскликнул: «Но кто же из римлян останется равнодушным свидетелем твоей гибели? Разве ты не знаешь своей силы, Брут? Или думаешь, что судейское твое возвышение засыпают письмами ткачи и лавочники, а не первые люди Рима, которые от остальных преторов требуют раздач, зрелищ и гладиаторов, от тебя же — словно исполнения отеческого завета! — низвержения тирании и сами готовы ради тебя на любую жертву, любую муку, если только и Брут покажет себя таким, каким они хотят его видеть?» (Там же, X)
Кстати, из цитированного отрывка следует, что Брут был в заговоре всего лишь около двух недель. Так что в особенном коварстве его и упрекнуть нельзя. Хотя в эти последние две недели, по-видимому, именно Брут, воспламенившись, развил наибольшую активность, вовлекая в заговор все новых участников. Недаром, по иронии судьбы, сам Цезарь, когда впервые услышал речь Брута, сказал друзьям:
«Я не знаю, чего желает этот юноша, но чего бы он ни желал, желание его неукротимо». (Плутарх. Там же, VI)
Цицерона Брут решил к заговору не привлекать. Возможно потому, что не хотел подвергать риску жизнь великого оратора, а, быть может, и опасаясь болтливости старика. Зато он заручился поддержкой Децима Брута Альбина, имевшего в своем распоряжении многочисленных гладиаторов. К тому же Децим Брут пользовался большим доверием у Цезаря. Тайна заговора тщательно хранилась, и сам Марк Брут себя на людях ничем не выдавал. Но дома им владела вполне понятная тревога (а, может быть, и сомнения) так, что он часто не спал ночью, что не укрылось от его жены. Достоверность связанного с этим обстоятельством рассказа проверить трудно, но и обойти молчанием столь знаменитый эпизод невозможно. Вот фрагмент его описания у Плутарха:
«Отлично образованная, любившая мужа, душевное благородство соединявшая с твердым разумом, Порция не прежде решилась спросить Брута об его тайне, чем произвела над собой вот какой опыт. Раздобыв цирюльничий ножик, каким обыкновенно срезывают ногти, она закрылась в опочивальне, выслала всех служанок и сделала на бедре глубокий разрез, так что из раны хлынула кровь, а немного спустя начались жестокие боли и открылась сильная лихорадка. Брут был до крайности встревожен и опечален, и тут Порция в самый разгар своих страданий обратилась к нему с такою речью: «Я — дочь Катона, Брут, и вошла в твой дом не для того только, чтобы, словно наложница, разделять с тобой стол и постель, но чтобы участвовать во всех твоих радостях и печалях... Ты всегда был мне безупречным супругом, а я... чем доказать мне свою благодарность, если я не могу понести с тобою вместе сокровенную муку и заботу, требующую полного доверия? Я знаю, что женскую натуру считают неспособной сохранить тайну. Но неужели, Брут, не оказывают никакого воздействия на характер доброе воспитание и достойное общество? А ведь я — дочь Катона и супруга Брута! Но если прежде, вопреки всему этому, я полагалась на себя не до конца, то теперь узнала, что неподвластна и боли». С этими словами она показала мужу рану на бедре и поведала ему о своем испытании. Полный изумления, Брут воздел руки к небесам и молил богов, чтобы счастливым завершением начатого дела они даровали ему случай выказать себя достойным такой супруги, как Порция». (Там же, XIII)
Дальнейшие события жизни Брута вплетутся в ткань последующего изложения римской истории. Сейчас же мне бы хотелось вместе с тобой, читатель, поразмыслить о том, как случилось, что столь многоопытный политик, как Юлий Цезарь, не предусмотрел и не парировал возможности покушения на свою жизнь.
Действительно, будь рядом с Цезарем в сенате хотя бы пара центурионов, он был бы вне опасности. Почему же их не было? Быть может, ему и в голову не приходило, что на него возможно нападение? О, нет! Ведь это был не первый заговор. Еще осенью 46-го года Цицерон в речи за Марцелла упоминает о том, что Цезарь обращался в сенат по поводу готовящегося на него покушения, причем давал понять, что в этом участвуют лица из его близкого окружения. Но, видимо, никого не назвал и не преследовал, а как бы предупредил. Эта линия поведения ясно обозначена у Светония:
«И когда впоследствии, — пишет историк, — против него говорилось или замышлялось что-нибудь опасное, он старался это пресекать, но не наказывать. Так, обнаруживая заговоры и ночные сборища, он ограничивался тем, что в эдикте объявлял, что это ему небезызвестно...» (Светоний. Божественный Юлий, 75)
Значит, знал о заговорах. И думал, как поступать. Что не хотел казнить и преследовать заговорщиков — понятно. Преследования и казни порождают новые заговоры. В этом противоборстве невозможно остановиться на полдороге. Опасность можно если не устранить, то свести до минимума только путем истребления всех потенциальных заговорщиков и создания атмосферы всеобщего страха и доносительства — то есть путем проскрипций. Но следовать примеру Суллы Цезарь категорически не желал. Вспомним его письмо к Оппию и Бальбу, написанное еще в самом начале гражданской войны. Там он пишет о своей политике терпимости и милосердия. Это хорошо, но, увы, не всех излечивает от ненависти. Однако можно, не пытаясь вовсе устранить опасность покушения, позаботиться о надежных мерах защиты. Что думает об этом Цезарь ранней весной 44-го года? Я пробую представить себе ход его мыслей:
«На форуме и улицах опасность невелика. Человек с луком или копьем будет немедленно схвачен стражниками (ношение оружия в городе запрещено). Убийца с кинжалом, конечно, может затесаться в толпу народа, всегда льнущую к его носилкам. Но с каждого, кто приближается к Цезарю, не сводят глаз бдительные ликторы. Банда наемных убийц может напасть на ликторов? Сомнительно. Уличные клубы он запретил. Сколотить в городе разбойничью шайку так, чтобы об этом не пронюхала тайная полиция, вряд ли кому удастся.
Он правильно сделал, что отослал испанскую охрану. Правитель народа не может, не должен держать под рукой военную силу. (Плутарх потом запишет, что Цезарь видел «в расположении к себе самую лучшую и надежную охрану»). В крайнем случае всегда можно будет вызвать ветеранов...
Ожидать покушения надо со стороны аристократов и сенаторов старой формации. Они его боятся и ненавидят. За то, что лишил их власти, возможности наживаться в провинциях, престижа, оскорбил введением в сенат простолюдинов. Их можно понять! Страх и ненависть прячутся под личиной угодливости и лести. Как они распинаются перед ним со своими почестями! Конечно, есть еще и фанатики республиканского строя. Эти — опаснее. Да, есть кому направить кинжал ему в спину. Метелла убили только за то, что он принял прощение...
Но где может его достать рука убийцы? Дома он днем и ночью под охраной преданных рабов. В дороге — тоже. Если только в самом сенате? Ликторы остаются за дверями. Издать указ о том, чтобы хотя бы двое вооруженных были рядом с ним в сенатской курии? Можно даже не указ — провести решением сената. Отказать они не посмеют... Но вооруженные люди в курии?! Опять нарушение традиций. И явное свидетельство того, что он сенаторов боится. В глазах народа это равносильно признанию своей вины перед ними. Боится — значит, виноват! Будут говорить, что его недаром в памфлетах называют душителем сената. По сути дела, так оно и есть. Но до сих пор все происходило как будто по доброй воле самих сенаторов: и диктатура, и его указания по выборам магистратов, и досрочная смена консулов. Ему все не могут простить тот злополучный прием делегации сенаторов с этими их почестями. Ну, встал им навстречу. Наверное — зря. Народ считает, что в лице сената он оскорбил государство. Еще не научились отделять одно от другого. А тут еще телохранители с мечами! В сенате, где все без оружия и более половины сенаторов — его люди. Памфлетисты будут насмехаться...
А если заговор сенаторов-аристократов? Кинжалы легко спрятать под тоги. Или забыто предание о том, как сенаторы убили Ромула? Нет, они не посмеют! Раздавлены, побеждены. Но если он боится заговора, значит, не побеждены, а только затаились. Победитель не может бояться побежденных! Он для того и отказался от предложенной ему знатной охраны, чтобы внушить сенаторам уверенность в их полном поражении. Разумно ли отступать?
И кто решится пробить стену страха, кто возглавит заговор? Ему доносят, что в надписях и табличках на него натравливают Брута. Конечно, Марк крепок духом и всеми уважаем. Он мог бы стать во главе заговора. Но нет причин его подозревать. К Бруту обращаются только ради имени его предка. А впрочем... Недавно ему сказали, что против Цезаря злоумышляют Долабелла и Антоний. Он тогда с ходу ответил, что не боится тех, кто умеет наслаждаться жизнью, но склонен опасаться людей бледных и худощавых. Кого он подсознательно имел в виду? Не Брута ли? Нет-нет! Марк честен и открыт. На заговор, на черную неблагодарность не способен! Скорее — Кассий. Этот — честолюбив, обидчив, скрытен. Но за ним не пойдут.
И все же... может быть, ввести в сенат охрану? Нет! Бояться он не будет. Не подобает римлянину дрожать от страха! (Плутарх потом напишет: «Цезаря просили, чтобы он окружил себя телохранителями, и многие предлагали свои услуги. Цезарь не согласился, заявив, что, по его мнению, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти». — Цезарь. VII)
Хорошо, что он отбывает в Парфию. За пару лет все устоится. Народ привыкнет. Но все-таки обидно, что римляне настолько его не понимают, так упорно сопротивляются переменам.
Из Светония. О Риме в эти дни: «Уже происходили тут и там тайные сходки, где встречались два-три человека, теперь все слилось воедино. Уже и народ не был рад положению в государстве: тайно и явно возмущаясь самовластием, он искал освободителей. Когда в сенат были приняты иноземцы, появились подметные листы с надписью: «В добрый час! Не показывать новым сенаторам дорогу в сенат!» А в народе распевали так:
Галлов Цезарь вел в триумфе, галлов Цезарь ввел в сенат. Сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой.
(Штаны — галльская национальная одежда, презиравшаяся римлянами).
Когда Квинт Максим, назначенный консулом на три месяца, входил в театр, и ликтор, как обычно, всем предложил его приветствовать, отовсюду раздались крики: «Это не консул!» После удаления от должности трибунов Цезетия и Марулла на ближайших выборах было подано много голосов, объявлявших из консулами. Под статуей Луция Брута кто-то написал: «О если б ты был жив!», а под статуей Цезаря:
Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом,
Этот, консулов изгнавши, стал царем в конце концов. (Светоний. Божественный Юлий, 80)
Рискну продолжить возможные, на мой взгляд, размышления Цезаря: «Это несправедливо! Всю жизнь он сражался и рисковал не ради своей славы и власти, а ради Рима и римлян — ради их славы, могущества, их достоинства. Всю жизнь он берег их и старался спасти Рим от крушения ценой возможно малой крови. Только что наступил мир, а он уже сумел дать им немало и даст еще несравненно больше. Но отнимает право на бесчестную наживу, лень, обман, продажу голосов. И за это его не любят! Таковы люди. Так ради чего же все тревоги и труды? И тысячи павших на полях сражений? Неужто ради пустой мечты? Химеры? Неужто все — ошибка? Жить не хочется, когда нахлынут такие мысли.
Но ведь у предков все было по-другому! Возможно ли вернуть древнюю честь, мужество и личное достоинство римлян? Ему уж не удастся — он стар. А можно ли вообще? Боги отвернулись от Рима. Эпикурейцы считают, небожителям нет дела до людей. Он сам не очень-то верит в богов. Но народ склонен верить. Впрочем — в любых чужеземных скорее, чем в своих мраморных истуканов, которыми клянутся на каждом углу. Быть может, ему бы следовало стать богом? Забавная мысль! Подобно Ромулу... А для этого — умереть? Ну что же, пожалуй, пора. Довольно пожил... И главное свое дело — сделал. Остается только подготовить решение сената о посмертном обожествлении. На случай, если он не вернется из Парфии. Или на другой какой случай... Да воспрянет Рим во славу Цезаря, по его воле, хотя бы и нисходящей с пустого небосвода!
Нет, рано умирать. Октавиан еще слишком молод. Он способен и сможет стать правителем. Но позднее — пока он слишком неопытен. Антоний и остальные не захотят признать его. Сомнут. Сенат попытается вернуть власть... Опять польется кровь сограждан... Рано!..»
Светоний пишет в конце биографии Юлия Цезаря:
«У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву сената и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами. Другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящем отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил: жизнь его дорога не столько ему, сколько государству — сам он давно уж достиг полноты власти и славы, государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны». (Светоний. Божественный Юлий, 87)
Не знаю, справедливы ли мои догадки о том, что мог думать Цезарь в последние недели своей жизни. А пока лучше вернуться на почву надежно установленных фактов. Мне остается только изложить события рокового дня 15 марта — «мартовские иды».
Убийство Цезаря подробно описано у всех трех древних авторов (Плутарха, Светония и Аппиана), на чьи свидетельства я опирался при написании этой главы. Все они начинают с перечисления ужасных предзнаменований надвигающейся трагедии. Тут и вспышки света в небе, и несущиеся куда-то огненные люди, и проливающие слезы табуны коней, которых Цезарь посвятил богам после Рубикона, и жертвенное животное, у которого не оказалось сердца, и многое другое в том же роде. Все это — плоды позднейшей фантазии потрясенного народа. Ведь никто из названных историков не был современником Цезаря. Естественно, что и перечни этих грозных знамений у них не совпадают. Зато изложение обстоятельств, предшествовавших появлению Цезаря в сенате, и описание самой сцены убийства у всех трех авторов очень близки. Что и позволяет отнести эти описания к категории надежных свидетельств. Излагая ранее важнейшие события римской Истории, я всюду, где было возможно, старался вместо собственного пересказа предложить читателю перевод подлинного древнего текста. Сейчас у меня есть выбор из целых трех текстов — одинаково ярких. Я остановился на описании Плутарха, которое в конце дополню лишь одним характерным эпизодом и буквально двумя фразами из текстов Аппиана и Светония. Рассказ Плутарха я привожу почти полностью (событие того заслуживает) — с незначительными сокращениями и опустив самое начало, где перечисляются сверхъестественные предзнаменования смерти Юлия Цезаря:
«...Многие рассказывают также, — продолжает Плутарх, — что какой-то гадатель предсказал Цезарю, что в тот день месяца марта, который римляне называют идами, ему следует остерегаться большой опасности. Когда наступил этот день, Цезарь, отправляясь в сенат, поздоровался с предсказателем и шутя сказал ему «А ведь мартовские иды наступили!», на что тот спокойно ответил: «Да, наступили, но не прошли!»
За день до этого во время обеда, устроенного для него Марком Лепидом, Цезарь, как обычно, лежа за столом, подписывал какие-то письма. Речь зашла о том, какой род смерти самый лучший. Цезарь раньше всех вскричал: «Неожиданный!» После этого, когда Цезарь покоился на ложе рядом с женой, все двери и окна в его спальне разом растворились. Разбуженный шумом и ярким светом луны, Цезарь увидел, что Кальпурния рыдает во сне, издавая неясные, нечленораздельные звуки. Ей привиделось, что она держит в объятиях убитого мужа... С наступлением дня она стала просить Цезаря, если возможно, не выходить и отложить заседание сената. Если же он совсем не обращает внимания на ее сны, то хотя бы посредством других предзнаменований и жертвоприношений пусть разузнает будущее. Тут, по-видимому, и в душу Цезаря вкрались тревога и опасения, ибо раньше он никогда не замечал у Кальпурнии суеверного страха, столь свойственного женской природе, теперь же он увидел ее сильно взволнованной. Когда гадатели после многочисленных жертвоприношений объявили ему о неблагоприятных предзнаменованиях, Цезарь решил послать Антония, чтобы он распустил сенат.
В это время Децим Брут по прозванию Альбин (пользовавшийся таким доверием Цезаря, что тот записал его вторым наследником в своем завещании), один из участников заговора Брута и Кассия, боясь, как бы о заговоре не стало известно, если Цезарь отменит на этот день заседание сената, начал высмеивать гадателей, говоря, что Цезарь навлечет на себя обвинения и упреки в недоброжелательстве со стороны сенаторов, так как создается впечатление, что он издевается над сенатом... А если Цезарь из-за дурных предзнаменований все же решил считать этот день неприсутственным, то лучше ему самому прийти и, обратившись с приветствием к сенату, отсрочить заседание. С этими словами Брут взял Цезаря за руку и повел. Когда Цезарь немного отошел от дома, навстречу ему направился какой-то чужой раб и хотел с ним заговорить. Однако, оттесненный напором окружавшей Цезаря толпы, раб вынужден был войти в дом. Он передал себя в распоряжение Кальпурнии и просил оставить его в доме, пока не вернется Цезарь, так как он должен сообщить Цезарю важные известия.
Артемидор из Книда, знаток греческой литературы, сошелся на этой почве с некоторыми лицами, участвовавшими в заговоре Брута, и ему удалось узнать почти все, что делалось у них. Он подошел к Цезарю, держа в руке свиток, в котором было написано все, что он намеревался донести Цезарю о заговоре. Увидев, что свитки, которые ему вручают, Цезарь передает окружающим его рабам, он подошел совсем близко, придвинулся к нему вплотную и сказал: «Прочитай это, Цезарь, сам, не показывая другим, — и немедленно! Здесь написано об очень важном для тебя деле». Цезарь взял в руки свиток, однако прочесть его ему помешало множество просителей, хотя он и пытался много раз это сделать. Так он и вошел в сенат, держа в руках только этот свиток.
...место, где произошла борьба и убийство Цезаря и где собрался в тот раз сенат, без всякого сомнения, было избрано и назначено божеством; это было одно из прекрасно украшенных зданий, построенных Помпеем рядом с его театром. Здесь находилось изображение Помпея...
Антония, верного Цезарю и отличавшегося большой телесной силой, Брут Альбин нарочно задержал на улице, заведя с ним длинный разговор. При входе Цезаря сенат поднялся с мест в знак уважения. Заговорщики же, возглавляемые Брутом, разделились на две части: одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу, чтобы вместе с Туллием Кимвром просить за его изгнанного брата. С этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, сев в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему с просьбами еще более настойчивыми, выразил каждому из них свое неудовольствие. Тут Туллий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар мечом в затылок. Рана эта, однако, была неглубока и несмертельна: Каска, по-видимому, вначале было смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал меч. Почти одновременно оба закричали: раненый Цезарь по-латыни — «Негодяй Каска, что ты делаешь?», а Каска по-гречески, обращаясь к брату, — «Брат, помоги!». Не посвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни защищать Цезаря, ни даже кричать. Все заговорщики, готовые к убийству, с обнаженными мечами окружили Цезаря: куда бы он ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и в глаза, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидав Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщения своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся. Цезарь, как сообщают, получил двадцать три раны (согласно Светонию в заговоре участвовало более 60 человек. — Л.О.). Многие заговорщики переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело.
После убийства Цезаря Брут выступил вперед, как бы желая что-то сказать о том, что было совершено; но сенаторы, не выдержав, бросились бежать, распространив в народе смятение и непреодолимый страх». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, LXVI)
Эпизод, описанный Аппианом, дает представление о силе страха, владевшего заговорщиками, несмотря на их многочисленность. Еще до прибытия Цезаря к Бруту и Кассию подошел сенатор Попилий Лена, не участвовавший в заговоре, и пожелал им успеха в том, что они замыслили. Неизвестно, что он имел в виду, но руководители заговора пришли в ужас...
«Едва Цезарь сошел с носилок, — продолжает Аппиан, — как Лена... пересек ему дорогу и завел с ним серьезный разговор о каком-то личном деле. При виде того, что происходило и при длительности беседы заговорщики испугались и уже готовились даже дать друг другу знак убить самих себя прежде, чем их схватят. Но видя, что в продолжение разговора Лена выглядит скорее просящим и умоляющим о чем-то, чем доносящим, они оправились, а когда увидели, что Лена по окончании разговора попрощался с Цезарем, снова осмелели...» (Аппиан. Гражданские войны. II, 116)
Последнее мгновение жизни Цезаря Аппиан описывает следующими словами:
«...он закрылся со всех сторон плащом и упал, сохранив благопристойный вид, перед статуей Помпея». (Там же, 117)
Эту замечательную заботу древних римлян о том, чтобы встретить смерть с достоинством, я уже отмечал в описании смерти Помпея.
Фраза из Светония, которой я намерен закончить рассказ о мартовских идах, звучит так:
«Все разбежались. Бездыханный, он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки, со свисающей рукою, не отнесли его домой». (Светоний. Божественный Юлий, 82)
Не знаю, как ты, читатель, а я невольно содрогаюсь, воображая опустевшие улицы Вечного Города, по которым испуганные рабы влекут окровавленное тело величайшего из его граждан, а рука, еще недавно державшая бразды правления полумиром, как плеть, раскачивается в такт их торопливым шагам.
Глава VIII Антоний
Имя Антония впервые появилось на страницах нашей «Истории» еще в 4-й главе, когда он в качестве народного трибуна вместе с Кассием наложил вето на решение сената об отзыве Цезаря из Галлии. Но рассказать о нем как-то не было случая, хотя все последующее время Антоний являлся одним из лучших полководцев Юлия Цезаря. Сейчас ему предстоит выйти на первый план Римской истории, и потому следует знать хотя бы минимально необходимые сведения о молодых годах Антония и некоторых особенностях его личности.
Марк Антоний родился в 83-м году. Его дед был знаменитым оратором и консулом. Отец же мало чем отличился на поприще государственной службы. В 74-м году он — претор, затем довольно неудачно воюет с пиратами. Состояние имел весьма скромное, зато пользовался репутацией человека честного и великодушного. Мать Марка, Юлия, дальняя родственница Цезаря, женщина весьма достойная и уважаемая, подарила мужу еще двух сыновей: Гая и Луция. Где-то в начале или середине 60-х годов отец трех братьев Антониев умер, и Юлия вышла замуж за Корнелия Лентула — одного из активных участников заговора Катилины. В конце 63-го года Лентул, как мы знаем, по распоряжению Цицерона был казнен. В этом обстоятельстве, наверное, кроется одна из причин враждебности, а позднее открытой ненависти, которую Антоний питал к Цицерону Вполне вероятно, что и сам двадцатилетний Марк, если и не участвовал в заговоре, то тесно соприкасался с кругом весьма распущенной «золотой молодежи», окружавшей Катилину Рано усвоенные дурные привычки впоследствии свели Антония с Курионом, подавшим ему пример чудовищного мотовства. В какой-то момент долги Антония достигли огромной суммы в полтора миллиона денариев. Долги самого Куриона были в несколько раз больше. Это обстоятельство, как мы помним, позволило Цезарю путем подкупа (в 50-м году) переманить народного трибуна Куриона на свою сторону Антоний, с подачи своего приятеля и покровителя, был избран трибуном на 49-й год и вслед за ним принял в разгоравшейся борьбе с сенатом сторону Цезаря.
Однако не следует думать, что к 49-му году в послужном списке Антония не было ничего, кроме пьяных дебошей и альковных похождений. К этому времени (ему ведь уже 34 года) он успел заслужить репутацию отважного воина и опытного военачальника. Свою военную карьеру Антоний начал в 57-м году в Сирии, где под начальством проконсула Габиния весьма успешно сражался с восставшими в очередной раз иудеями. В 55-м году, как я уже упоминал, он с тем же Габинием направился в Египет, чтобы силой возвратить трон Птолемею Авлету. В египетской кампании Антоний сыграл, пожалуй, главную роль, захватив со своей конницей известную нам пограничную крепость Пелусий. Тогда же он, кстати сказать, проявил достойное похвалы уважение к врагу, отыскав на поле боя тело египетского главнокомандующего Архелая (супруга царицы Береники) и похоронив его с царскими почестями.
Грубовато-мужественная внешность Марка Антония вполне соответствовала облику лихого рубаки, любимца солдат и покорителя женских сердец. У древних историков неоднократно встречаются упоминания о его выдающейся физической силе. Плутарх пишет о сходстве мощной фигуры Антония с общепринятым изображением Геракла, которому он старался подражать. В профиле Антония, отчеканенном на древнеримской монете, бросаются в глаза: мощная, как у борца, шея, массивный, сильно выдвинутый вперед подбородок и крупный нос с небольшой горбинкой, почти без снижения у переносицы продолжающий линию невысокого лба. С этими мужественными чертами контрастирует небольшой чувственный рот с заметно более полной, чем верхняя, нижней губой. Эта смесь мужской силы, чувственности и какого-то почти детского простодушия в лице Марка Антония должна была казаться очень привлекательной женщинам, особенно тем, у кого в характере сочетались страстность и властолюбие.
«Даже то, — замечает Плутарх, — что остальным казалось пошлым и несносным, — хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, привычка подсесть к обедающему или жадно проглотить кусок с солдатского стола, стоя, — все это солдатам внушало прямо-таки удивительную любовь и привязанность к Антонию. И в любовных его утехах не было ничего отталкивающего — наоборот, они создавали Антонию новых друзей и приверженцев, ибо он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, IV)
Впрочем, по свидетельству того же Плутарха, римляне аристократического круга относились к «слабостям» Антония далеко не столь терпимо:
«...что же касается порядочных и разумных граждан, — пишет историк, — то им, как говорит Цицерон, был противен весь образ жизни Антония — им внушало омерзение и его безобразное пьянство, и возмутительное расточительство, и нескончаемые забавы с продажными бабенками, и то, что днем он спал или бродил сам не свой с похмелья, а ночами слонялся с буйными гуляками, устраивал театральные представления и веселился на свадьбах шутов и мимов... взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряженные в колесницу львы, и дома достойных людей, отведенные под квартиры потаскухам и арфисткам». (Там же, IX)
Этот красочный перечень «подвигов» Антония относится к 46-му году, когда он оставался в Риме, между тем как Цезарь воевал в Африке. Не будем, однако, забывать, что двумя годами ранее, в войне с Помпеем, Антоний как полководец, сумел показать себя с самой выгодной стороны. Припомним, как он, прорвав морскую блокаду, сумел перебросить подкрепления в Грецию, как затем, умело маневрируя, обошел Помпея и соединился с Цезарем. Под Диррахием ему удалось в значительной мере задержать отступление цезарианцев, а в решительном сражении при Фарсале Цезарь поручил ему командование всем левым флангом своего войска.
По возвращении из Африки Цезарю, надо полагать, пришлось выслушать немало жалоб на беспутное поведение его легата. За этим, видимо, последовал столь серьезный «реприманд», что Антоний решил расстаться с прежней жизнью и женился на Фульвии — вдове того самого Клодия, что некогда так преследовал Цицерона, — женщине чрезвычайно энергичной и властной.
«Фульвия, — утверждает Плутарх, — замечательно выучила Антония повиноваться женской воле и была бы вправе потребовать плату за эти уроки с Клеопатры».
Об отношениях с Клеопатрой речь еще впереди. А пока, пополнив наше представление о личности Марка Антония, вернемся к изложению событий, последовавших за убийством Юлия Цезаря.
В самый момент убийства Антоний, задержанный Децимом Брутом, находился у входа в курию. Услышав шум борьбы и крики, он бросился внутрь, увидел с порога, как целая толпа сенаторов, обезумев, кромсает кинжалами распростертое на полу тело Цезаря, успел подумать, что никакая помощь тому уже не нужна, потом о том, что сейчас эти кинжалы обратятся против него, и бежал, чтобы спрятаться в одном из частных домов. Марк Лепид, которого Цезарь в качестве диктатора назначил начальником конницы, тоже бежал из сената. Сначала он укрылся в городе, а к вечеру перебрался на остров, что разделяет Тибр на два рукава в излучине против Капитолия. Там на острове, за городской чертой был размещен легион солдат.
В не меньшей растерянности оказались и убийцы Цезаря. Я уже упоминал, что Брут пытался обратиться к сенаторам за одобрением содеянного, но те в панике разбежались, взбудоражив весь город. Тогда заговорщики, сбившись в кучку, двинулись к форуму, крича, что им удалось покарать смертью тирана. Они надеялись, что народ будет приветствовать их, как освободителей, но римляне в ужасе шарахались в стороны. Торговцы наспех запирали лавки, горожане спешили укрыться в своих домах, готовясь обороняться, сами еще не зная от кого. Улицы и площади опустели. Огромность свершившегося тяжкой глыбой обрушилась на римлян, ввергнув их в состояние паники. Одни, припомнив заговор Катилины, ожидали поджогов и пожаров. Другие, зная, что в Риме находится множество ветеранов Цезаря, не сомневались в том, что солдаты начнут поголовную расправу с горожанами. Третьи, вспоминая смутное время после убийства Клодия, готовились отразить разбойные нападения плебса и рабов. И действительно, грабежи лавок и складов начались в тот же день. Страх овладел и заговорщиками. Они боялись Лепида, который мог привести в город войско. Боялись Антония — он, в качестве консула, мог созвать Народное собрание и натравить на них толпу. Но больше всего они боялись мести ветеранов.
Рим словно оцепенел — все боялись всех! Тревожное ожидание, как грозовая туча, нависло над семью холмами Вечного Города. Убийцы Цезаря не рискнули разойтись по домам. В сопровождении отряда гладиаторов Децима Брута они поднялись на Капитолий, чтобы в случае необходимости совместно обороняться в крепости. Туда к ним пришел и не присутствовавший в тот день в сенате Цицерон.
Своих сообщников по заговору убийцы попросили сойти вниз и подкупить возможно большее число неимущих граждан, чтобы те назавтра явились на форум с требованием гражданского мира. Наутро у подножия Капитолия собралась большая толпа, где, кроме подкупленных, было много простых горожан, успевших опомниться за спокойно прошедшую ночь. Брут, Кассий и еще несколько сенаторов спустились с Капитолийского холма. Брут обратился к народу с речью, оправдывая содеянное ими ради Республики и свободы. Римляне выслушали его молча. Наряду с уважением к Бруту и его словам в настроении толпы явно ощущалось сожаление о Цезаре и осуждение совершенного святотатства. Не получив поддержки, заговорщики решили возвратиться в крепость.
Днем Лепид привел и расположил на форуме легион солдат. По всему городу были расставлены посты, к ночи на улицах запылали костры. Лепид и Антоний встретились в доме Антония, куда Кальпурния переправила деньги и бумаги Цезаря. Брут и Кассий прислали послов с предложением вступить в переговоры, чтобы избежать новой вспышки гражданской войны. Хотя в самом Риме военное преимущество было явно на стороне Антония и Лепида, но ситуация в целом оставалась неопределенной. Один из вожаков заговора, Децим Брут, был еще распоряжением Цезаря назначен наместником в Цизальпинскую Галлию, где находилось большое войско. Он собирался отбыть к нему немедленно... Через послов договорились передать все дело, связанное с убийством Цезаря, на рассмотрение сената.
В качестве консула Антоний созвал сенаторов в храм Земли 17-го числа утром. Непосредственные убийцы Цезаря, опасаясь ловушки, предпочли остаться в крепости, но другие участники заговора и их сторонники, в том числе Цицерон, приняли участие в заседании сената. Поначалу они выдвинули предложение объявить Цезаря тираном и наградить тираноубийц. Тогда Антоний заявил, что в этом случае все назначения высших должностных лиц и наместников провинций из числа сенаторов, сделанные Цезарем на пять лет вперед, придется считать утратившими силу. Это вызвало категорические возражения, и вопрос об объявлении Цезаря тираном отпал сам собой. Потом Антоний вышел к собравшемуся перед храмом народу. Многие требовали отмщения убийцам Цезаря. Кое-как утихомирив толпу, Антоний вернулся в храм и сообщил сенаторам, что возмущение ветеранов может начаться в любую минуту. Он внес на утверждение сената предложение, где, в частности, было сказано следующее:
«...все, Цезарем сделанное и решенное, остается в силе. Что касается его убийц, то одобрению их действия не подлежат никоим образом, ибо они являются нарушением религии и закона, а также находятся в противоречии с признанием незыблемости всех деяний Цезаря. Однако можно сохранить им жизнь, если хотите, из жалости, ради их родных и друзей, если, впрочем, последние от их имени заявят, что принимают это как милость». (Аппиан. Гражданские войны. II, 134)
Предложение приняли. В конце дня Антоний отправил на Капитолий своего сына в качестве заложника и пригласил вожаков заговора сойти вниз для переговоров. Сам он пригласил к обеду Кассия, а Лепид — Брута. На следующее утро сенат собрался снова. На этот раз Брут и Кассий присутствовали в собрании. Сенат объявил благодарность Антонию за то, что он пресек междоусобную войну в самом начале. Убийцы Цезаря тоже удостоились похвалы в связи с мирным разрешением дела. Тут же обсудили распределение провинций, намеченное еще Цезарем. Бруту назначили Македонию, Кассию — Сирию, за Децимом Брутом закрепили Цизальпинскую Галлию. Затем по настоянию Антония было решено огласить завещание Цезаря, а погребение произвести со всеми подобающими его сану и заслугам почестями.
На следующее утро решение сената глашатай зачитал в Народном собрании. Цицерон произнес похвальное слово Цезарю. Заговорщики при сем присутствовали, но никаких эксцессов не случилось. Потом народу прочитали завещание. Цезарь распорядился выдать всем горожанам по 75 денариев, а свои сады за Тибром завещал в общее пользование. Плутарх очень непосредственно, без всякого сарказма записывает в биографии Брута, что «...узнав об этом, граждане ощутили пламенную любовь к убитому и горячую тоску по нему». Главным наследником Цезарь объявил внука сестры — восемнадцатилетнего Гая Октавия. Его же он сверх того усыновлял и передавал ему свое имя. Расположение Цезаря Октавий завоевал во время последней испанской кампании, где он, несмотря на свою молодость, сумел отличиться.
Кстати, о его новом имени. Во избежание путаницы в дальнейшем здесь следует кое-что напомнить и уточнить. «Передача имени» при усыновлении у римлян означала смену того, что в русском языке называется фамилией. У старинных разветвленных родов эта последняя обычно представляла собой сочетание родового и семейного наименований. Личное имя убитого диктатора было Гай, а Юлий Цезарь — это его фамилия (древний род Юлиев). Племянница Цезаря, Атия, вышла замуж за провинциала незнатного происхождения, Гая Октавия. Их первенец по традиции носил личное имя отца, а, значит, был тоже Гай Октавий. Личное имя при усыновлении сохранялось. Поэтому только что объявленный наследник должен был именоваться Гай Юлий Цезарь. К счастью для нас, первоначальная фамилия не отбрасывалась вовсе, а добавлялась к новой с окончанием «ан». Так, что полное имя юноши теперь стало Гай Юлий Цезарь Октавиан. Кое-где при цитировании древних авторов он будет именоваться Цезарем. Надеюсь, что теперь это не вызовет недоумение у читателя. Позже, став единовластным правителем Рима, он получит еще и почетное прозвание Август, так что его полное имя будет Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Так он будет именоваться в следующем томе нашей истории, а пока что я буду его, как правило, называть просто Октавиан.
Но вернемся к прерванному описанию событий в Риме. Тело Цезаря еще находится в доме его тестя и душеприказчика Кальпурния Пизона. Между убийцами и Антонием, ввиду обоюдного страха, заключено перемирие. Вряд ли оно будет длительным. Во всяком случае заговорщики не обольщаются на этот счет. В переписке Цицерона сохранилась копия записки, написанной Децимом Брутом 17-го марта. Вот ее начало:
«Децим Брут своему Бруту и Гаю Кассию привет. Узнайте, в каком мы положении. Вчера вечером был у меня Гирций. Разъяснил, каковы намерения Антония — разумеется, самые дурные и совершенно не заслуживающие доверия. Ведь он, по его словам, и не может передать мне провинцию, и не считает, что для кого бы то ни было из нас безопасно быть в Риме: так велико возбуждение солдат и черни. Вы, я думаю, понимаете, что и то, и другое ложно, и верно то, что разъяснил Гирций — он боится, что для него, если мы будем располагать даже небольшой опорой для поддержания своего достоинства, не останется никакой роли в государстве». (Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 3, № 702)
Опасения Децима Брута вполне оправданны. Способности Антония к управлению государством (он сейчас единственный консул) весьма ограниченны, но амбиции бывшего ближайшего помощника Цезаря границ не знают. А неуравновешенный, буйный характер делает его дальнейшее поведение, как ныне любят выражаться, непредсказуемым. Долго ожидать осложнения ситуации не пришлось. 20-го марта, в день похорон Цезаря, достигнутое было хрупкое согласие сторон рухнуло. Вот как развивались события этого рокового дня.
Погребальный костер был приготовлен на Марсовом поле, а «гражданская панихида» должна была состояться на форуме. Там, перед ростральной трибуной, под балдахином поставлено ложе из слоновой кости, устланное золототканым пурпуром. Высшие должностные лица города принесли и положили на него тело Цезаря. В изголовье был поставлен столб, на который повесили его окровавленную, изрезанную кинжалами тогу. Церемония прощания началась согласно разработанному регламенту. Глашатай зачитал постановление сената, где Цезарю воздавались все мыслимые посмертные почести, а также клятву сенаторов неукоснительно следовать всем его заветам и распоряжениям. Прощальное торжественное слово, согласно обычаю, начал говорить консул Марк Антоний. Динамику его речи проследим по довольно подробному пересказу Аппиана:
«Недостойно, граждане, — начал Антоний медленно, как бы в раздумье, — похвальную надгробную речь над телом такого человека говорить мне одному: ее должно было бы произнести все отечество...» Антоний читал свою речь с торжественным грустным лицом и, голосом выражая эти настроения, он останавливался на том, как чествовали Цезаря в народном постановлении, называя его священным и неприкосновенным, отцом отечества, благодетелем и заступником...» (Аппиан. Гражданские войны. II, 144)
Затем он стал перечислять заслуги и благодеяния Цезаря, горько жалуясь по поводу понесенной римлянами утраты. Запруженный вооруженными людьми форум вторил его словам стенаниями и глухими ударами копий в обитые кожей щиты. Воспринимая волну горестного сочувствия, идущую от многих тысяч столпившихся на площади людей, и все более распаляясь от собственных слов...
«Антоний, — продолжает Аппиан, — поднял одежду, как одержимый, и подпоясавшись, чтобы освободить руки, стоял у катафалка, как на сцене, припадая к нему и снова поднимаясь, воспевал его сначала как небесного бога, и в знак веры в рождение бога поднял руки, перечисляя при этом скороговоркой войны Цезаря, его сражения и победы, напоминая, сколько он присоединил к отечеству народов и сколько он прислал добычи... Затем, легко перейдя в тон, выражающий скорбь, Антоний обнажил труп Цезаря и на кончике копья размахивал его одеждой, растерзанной ударами и обагренной его кровью. Тут народ вторил Антонию большим плачем, как хор, а, излив скорбь, преисполнился опять гневом. Когда после этих слов, по обычаю отцов, хоры стали петь другие заплачки, посвященные ему, и перечислять снова деяния и страдания Цезаря, во время этого плача сам Цезарь, казалось, заговорил, упоминая поименно, сколько врагов своих он облагодетельствовал и, как бы удивившись, говорил о самих убийцах: «Зачем я спас своих будущих убийц?». Тогда народ больше не выдержал...» (Аппиан. Гражданские войны. II, 146)
Для более разностороннего освещения событий этого дня продолжение рассказа возьмем у Плутарха и Светония:
«От порядка и стройности погребального шествия не осталось и следа. Одни неистово кричали, грозя убийцам смертью, другие — как в минувшее время, когда хоронили народного вожака Клодия, — тащили из лавок и мастерских столы и скамьи и уже складывали громадный костер. На эту груду обломков водрузили мертвое тело и подожгли — посреди многочисленных храмов, неприкосновенных убежищ и прочих священных мест. А когда пламя поднялось и загудело, многие стали выхватывать из костра полуобгоревшие головни и мчались к домам заговорщиков, чтобы предать их огню». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, XX) Неистовство, овладевшее римлянами, описывает и Светоний:
«Тотчас окружающая толпа принялась тащить в огонь сухой хворост, скамейки, судейские кресла и все, что было принесено в дар. Затем флейтисты и актеры стали срывать с себя триумфальные одежды, надетые для такого дня, и, раздирая, швыряли их в пламя. Старые легионеры жгли оружие, которым они украсились для похорон, а многие женщины — свои уборы, что были на них...» (Светоний. Божественный Юлий. 84, 85)
Брут и Кассий в тот же день скрытно покинули город. Едва заключенное перемирие окончилось, гражданская война в Риме вступила в новую фазу.
После бегства главарей заговора Антоний стал бесконтрольным хозяином положения в Риме. Мало того, что он остался единственным консулом. В полученных от Кальпурнии бумагах Цезаря он «находил» все новые и новые распоряжения покойного. Опираясь на постановление сената об утверждении всех решений Цезаря, Антоний назначал на высшие должности, распределял крупные суммы денег из казны, вводил новых людей в сенат, возвращал изгнанников, каждый раз ссылаясь на неоглашенную волю Цезаря.
Спустя месяц с небольшим после похорон Цезаря в Рим из Македонии прибывает Октавиан. Когда он в Брундизии только ступил на Италийский берег, солдаты местного гарнизона приветствовали его как Цезаря — сына Цезаря. На всей длинной дороге по Италии до Рима отовсюду стекалась масса людей, чтобы увидать его. От своих наделов и из колоний во множестве прибывали ветераны. Они оплакивали Цезаря и поносили Антония, который простил убийц. Говорили, что, если молодой Цезарь поведет их, они готовы сражаться, чтобы отомстить за смерть его отца. Октавиан хвалил их, но до поры отсылал по домам.
В Риме мать, отчим и другие родственники, опасаясь враждебности Антония, советуют Октавиану отказаться от наследства. Родной отец Гая был весьма богат. Других сыновей нет. Отчим, консул 56-го года Марций Филипп, тоже человек состоятельный. Так что молодому Цезарю есть что наследовать. Он отвечает, что его интересуют не деньги, а честь и долг по отношению к покойному. Родичи рассказывают о постановлении сената и настойчиво убеждают оставить всякие помыслы о мести. Они обращают внимание юноши на то, что Антоний не только не пришел приветствовать его как сына Цезаря, но даже не выслал никого ему навстречу. Однако Гай заявляет упорную решимость исполнить последнюю волю Цезаря. К Антонию он пойдет сам, как молодой к старшему и как частное лицо к консулу. В тот первый день из-за растерянности никто не выдвинул в сенате обвинения против убийц Цезаря. Он это сделает сейчас. Его поддержат народ и боги, поддержат ветераны, должен поддержать и Антоний. Кроме того, он обязан позаботиться о том, чтобы граждане получили завещанные Цезарем деньги.
Октавиан отправляется к Антонию. Консул заставляет его долго ждать, встречает холодно и высокомерно. После первых почтительных слов приветствия Октавиан, не оробев, начинает разговор с Антонием на равных — как сын Цезаря. Он упрекает его за то, что Антоний допустил принятие закона о ненаказании убийц отца, что остановил народ, когда тот хотел расправиться с ними. Еще за то, что Антоний позволил передать командование войском в Цизальпинской Галлии Дециму Бруту. В завершение этой части своей речи Октавиан говорит:
«Горе привело меня в такое возбуждение, которое, пожалуй, не к лицу моей молодости и несовместимо с моим к тебе уважением. Но все это сказано тебе как наиболее явному другу Цезаря, удостоенному им наибольших почестей и власти... Что касается будущего, то заклинаю тебя, Антоний, и богами дружбы, и самим Цезарем, измени то, что случилось — ты ведь можешь это сделать, если захочешь, — или же обещай мне помощь и содействие, когда я буду мстить убийцам вместе с народом и этими оставшимися мне верными друзьями моего отца. Если же тебя удерживает уважение к этим лицам или к сенату, не чини мне затруднений..». (Аппиан. Гражданские войны. III, 17)
Затем Октавиан просит у Антония передать ему наличные деньги Цезаря, которые Кальпурния переслала ему в дом для сохранения. Согласно завещанию отца он хочет раздать по семьдесят пять денариев тремстам тысячам малоимущих граждан, больше ни на какие ценности из наследства Цезаря он не претендует. Пусть все остается Кальпурнии.
Антоний отвечает Октавиану так:
«Если бы Цезарь оставил тебе, юноша, вместе со своим наследством и именем и управление (государством), ты справедливо мог бы требовать от меня отчетного доклада о государственных делах, и я должен был бы ответить. Но поскольку римляне никогда никому не передавали управления государством по наследству... я не обязан давать тебе отчет о государстве и на том же основании освобождаю тебя от того, чтобы ты меня благодарил за управление им. Все делалось не ради тебя, а ради народа, за исключением одного дела, самого важного по отношению к Цезарю и тебе. Если бы я ради собственной безопасности и во избежание недовольства допустил присуждение убийцам почестей как тираноубийцам, то это было бы равносильно признанию Цезаря тираном, который, как таковой, не может претендовать ни на славу, ни на почести, ни на проведение в жизнь своих постановлений. Тогда не могло бы быть речи о завещании, усыновлении, имуществе, да и труп его не был бы удостоен погребения, даже погребения частного. Ведь законы велят оставлять трупы тиранов без погребения за пределами отечества, предавать бесчестию память их и распродавать их имущество.
Я всего этого опасался и боролся за Цезаря, за вечную его славу, за его похороны от имени государства не без опасности для себя... Было бы справедливее, чтобы ты, молодой человек, меня, значительно старшего, чем ты, за это благодарил, а не упрекал за уступки, сделанные мною, чтобы успокоить сенат...» (Там же. 18, 19)
Что же касается денег Цезаря, то Антоний заявил, что у него их нет. По его словам, наиболее влиятельные сенаторы поделили эти деньги между собой (как имущество тирана), что помогло склонить их к тому, чтобы тираном Цезаря не объявлять. Октавиан ушел оскорбленный и униженный, но решимость его от этого не ослабела. Дерзкий юноша был готов вступить в единоборство с консулом, перед которым склонялся сенат.
Испытывал ли Антоний хоть какое-то тревожное чувство после этого разговора? Догадывался ли, хотя бы смутно, какого опасного врага себе нажил? Вряд ли! Он не был для этого достаточно умен и проницателен. Да и дистанция ему, наверное, казалась слишком велика: прославленный полководец, любимец войска и народа против еще вчера никому не известного мальчишки! Цезарю угодно было ради сохранения рода его усыновить? Что ж! Дело семейное. Но это совсем не означает, что в Риме появился второй Цезарь. У мертвых не отнять прошлого, но над будущим они не властны!
Однако призраки прошедшего порой не скоро покидают мир живых. Грозная тень Цезаря стояла за спиной мальчишки. Исход начинавшегося единоборства зависел от того, чью сторону примут ветераны и набранное недавно новое войско. В этом отношении популярности и военной славе Антония предстояло померяться силой с предсмертной волей покойного диктатора. Многое, конечно, зависело от ума и образа действий самого наследника. Цезарь, наверное, не случайно остановил на нем свой выбор. Антоний это явно недооценил.
В археологическом музее Анконы (на северо-восточном побережье Италии) хранится прекрасного качества скульптурный портрет Октавиана. На вид ему здесь не более двадцати пяти лет. Чистая, нежная, без единой морщинки кожа. Складки у крыльев носа едва обозначены. Зато по углам рта и под нижней губой тени почти столь же глубокие, как в глазных впадинах под совершенно прямой линией резко очерченных надбровий. Игра этих теней оставляет впечатление затаенной силы характера. Глаза кажутся малоподвижными, взгляд — пристальным и холодным. Высокий лоб. Немного выдающиеся скулы. Крупный, костистый нос с горбинкой. Лицо волевое и даже злое, но вместе с тем надменно-красивое.
Первой своей задачей Октавиан, как некогда Цезарь, поставил снискать расположение народа путем прямого подкупа. Повод имеется — исполнение воли Цезаря. Наличных денег в достаточном количестве нет, но есть имения, дома, имущество, как унаследованные от родного отца, так и принадлежащие его матери и отчиму. Октавиан предпринимает широкую распродажу этого имущества и раздачу денег. Цель достигнута. По свидетельству Аппиана:
«Народ, понимавший, что эта раздача идет уже не от первого Цезаря, а от него самого, стал очень его жалеть и прославлять за то, что он брал на себя такие лишения и так заботился о народе. Стало совершенно ясно, что народ не надолго допустит, чтобы Антоний издевался над Цезарем». (Там же, 23)
Первым незаурядные способности Октавиана разглядел проницательный Цицерон. Еще в начале июня 44-го года он писал о своем первом впечатлении Аттику:
«У Октавиана, как я понял, достаточно ума, достаточно присутствия духа... Но насколько следует верить возрасту, насколько имени, насколько наследству, насколько воспитанию — требует большого обсуждения. Отчим, по крайней мере, полагал, что — нисколько... Но все же его следует вскармливать и, самое главное, отвлекать от Антония». (Письма... Т. 3, № 747)
Однако Цицерон пока не ищет более тесного контакта с Октавианом и даже собирается отплыть вместе с Брутом в Македонию. Непрочное согласие между Антонием и убийцами Цезаря уже исчерпало себя. Еще в начале мая Антоний предпринял поездку по Италии, приглашая ветеранов прибыть в Рим 1 июня, когда он-де намерен предложить новый закон о наделении их землей. В связи с этим в конце мая Брут и Кассий из имения Брута пишут Антонию в Рим (копия письма сохранилась у Цицерона):
«Преторы Брут и Кассий консулу Марку Антонию. Если бы мы не были убеждены в твоей порядочности и благожелательности к нам, мы не написали бы тебе этого. При таком расположении духа ты, конечно, примешь это в наилучшем смысле Нам пишут, что в Рим уже съехалось великое множество ветеранов, а к июньским календам оно станет много больше... Поэтому мы просим тебя сообщить нам о своих намерениях по отношению к нам. Считаешь ли ты, что мы будем в безопасности среди такого стечения солдат-ветеранов?..» (Письма... Т. 3, № 642)
Решением от 5 июня сенат поручает Бруту и Кассию закупки хлеба на Крите и в Африке. Поручение для преторов оскорбительное. По-видимому, они написали Антонию, требуя освободить их от этой миссии, и получили грубый отказ. В бумагах Цицерона мы находим копию еще одного их письма, отправленного уже 4 августа:
«Преторы Брут и Кассий шлют привет консулу Антонию. Если ты здравствуешь хорошо. Мы прочли твое письмо, чрезвычайно похожее на твой эдикт — оскорбительное, угрожающее, менее всего достойное быть посланным тобой нам. Мы не вызвали тебя на это, Антоний, никаким незаконным действием...
Но ты прекрасно понимаешь, что нас невозможно направить в какую-либо сторону, и, пожалуй, действуешь угрожающе с той целью, чтобы наше решение показалось страхом. Мы следующего мнения: мы желаем, чтобы ты был великим и почитаемым в свободном государстве, не призываем тебя ни к какой вражде, но все-таки ценим свою свободу дороже, чем твою дружбу. Еще и еще посмотри, что ты на себя берешь, что можешь выдержать, и старайся думать не о том, как долго Цезарь прожил, но как недолго он процарствовал». (Письма... Т. 3, № 182)
Это — разрыв и неявное объявление войны. Игнорируя решение сената, Брут и Кассий отправляются в Македонию и Сирию, назначенные им еще Цезарем, чтобы стать во главе находящихся там войск. К этому их побуждают и известия о растущей популярности Октавиана, который не скрывает своего намерения отомстить за убийство Цезаря.
Для Антония дело принимает неблагоприятный оборот. Консульство его кончается. После бегства заговорщиков из Рима он провел через сенат перераспределение провинций, согласно которому управление Македонией должно достаться ему. Теперь, когда Брут и Кассий решились на открытый мятеж, это постановление сената превратилось в пустую бумагу. Ясно, что без сильной армии нечего и думать соваться к Бруту в Македонию. Такая армия есть поблизости в Цизальпинской Галлии. Туда в качестве наместника отбыл Децим Брут. Провести новое перераспределение провинций не удается — сенат не хочет отдавать ему Галлию. Остается надежда добиться этого в обход сената — через Народное собрание. Но мешает ссора с Октавианом. который раздачей денег сумел завоевать популярность у римского плебса. Антоний решаетпримириться с Октавианом. Тем более что об этом его настойчиво просят ветераны Цезаря-старшего. Октавиан охотно идет навстречу желанию Антония, рассчитывая получить в его лице союзника в войне против Брута и Кассия. Народное собрание постановляет произвести обмен: управление Цизальпинской Галлией передать Антонию, а Македонией — Дециму Бруту. Двум главарям заговорщиков, двум Брутам, надлежит самим разобраться, кто будет управлять Македонией.
Однако очень скоро Октавиану приходится убедиться в ненадежности союза с Антонием. Открывается вакансия народного трибуна — взамен умершего. Октавиан хотел бы закрепить свое положение в Риме избранием на эту должность. Есть затруднения формального характера: он слишком молод и принадлежит к патрицианскому роду. Однако нынешние времена уже не так строги, и с помощью консула эти формальности можно обойти. Октавиан ожидает поддержки Антония, но получает отказ. Добившись нужного назначения, тот вовсе не желает способствовать усилению своего юного соперника. Ссора между ними возобновляется. Оба апеллируют к поддержке ветеранов. Октавиан рассылает своих людей по колониям. Ветераны недовольны новым противостоянием двух наследников дела Цезаря. Аппиан приводит обращение к Антонию группы центурионов, служивших под его начальством:
«Мы, — говорят центурионы, — и все другие, кто вместе с тобой, Антоний, находились в войсках Цезаря, помогли ему установить свою верховную власть и продолжали в повседневной работе служить ей, знаем, что убийцы Цезаря ту же вражду и те же козни, что и против Цезаря, обратили против нас. Сенат склоняется в их сторону... ты же все заботы тратишь на ссору с Цезарем (младшим. — Л.О.). Мы справедливо опасаемся, как бы к предстоящей, пока еще не разгоревшейся войне не прибавились еще раздоры между вами и как бы враги не добились того, чего они желают. Мы просим тебя все это взвесить и ради светлой памяти Цезаря (старшего. — Л.О.) и бережного отношения к нам, ни в чем не провинившимся перед тобой, прежде всего ради твоей собственной выгоды, поскольку это еще возможно, помочь Цезарю — и этого одного уже достаточно — наказать убийц. Тогда ты сразу опять можешь беззаботно властвовать, а мы с твоей помощью окажемся в безопасности...» (Аппиан. Гражданские войны. III, 32)
Однако примирение в ближайшем будущем не состоится. Оба соперника собирают силы. Антоний, в качестве консула, посылает приказ находящемуся в Македонии парфянскому войску прибыть в Италию. Октавиан едет в Кампанию, где расселено много ветеранов, и набирает там десятитысячное войско, обещая каждому добровольцу по 500 денариев...
Наступает подходящий момент для вмешательства Цицерона. Забыты возраст, апатия, отчаяние. Опустевшая, постылая жизнь вновь обретает смысл. Отечество призывает его — только он сумеет направить события в спасительное русло. В конце августа 44-го года Цицерон возвращается в Рим. 1 сентября в сенате Антоний, в угоду ветеранам, выступает с предложением об установлении дня молебствий в память Цезаря. В его речи содержатся выпады против Цицерона, связь которого с Брутом и Кассием общеизвестна. Кроме того, Антония, наверное, подстрекает его новая жена Фульвия — вдова бывшего смертельного врага Цицерона, Клодия. Цицерона во время этой речи нет в сенате, но на следующий день он там же произносит ответную речь. Ею он начинает серию из четырнадцати речей, произнесенных против Антония в течение восьми месяцев. Впоследствии он их назовет «филиппиками» — по аналогии с речами Демосфена против македонского царя Филиппа. Тон этой первой филиппики еще довольно умеренный, хотя в ней уже содержится предупреждение и даже некая угроза. Заканчивает свою речь Цицерон так:
«...Но стоит ли мне пытаться воздействовать на тебя своей речью? Ведь если конец Гая Цезаря не может заставить тебя предпочесть внушать людям любовь, а не страх, то ничья речь не принесет тебе пользы и не произведет на тебя впечатления. Ведь те, кто думает, что он (Цезарь. — Л.О.) был счастлив, сами несчастны. Не может быть счастлив человек, который находится в таком положении, что его могут убить, уже не говорю — безнаказанно, нет, даже с величайшей славой для убийцы. Итак, сверни с этого пути, прошу тебя, взгляни на своих предков и правь государственным кораблем так, чтобы сограждане радовались тому, что ты рожден на свет, без чего вообще никто не может быть ни счастлив, ни невредим». (Цицерон. Первая филиппика против Марка Антония. 35)
Конечно же, Цицерон не предполагает обуздать своей речью Антония и отнюдь не связывает с его правлением какую-нибудь надежду на счастливое плавание государственного корабля. Все это лишь риторический прием в начавшейся (пока словесной) баталии между ними. Об истинном отношении Цицерона к Антонию можно судить хотя бы по такой фразе из его письма Луцию Планку, написанному как раз в начале сентября:
«В самом деле, какая надежда возможна в том государстве, в котором все подавлено оружием самого необузданного и самого неумеренного человека и в котором ни сенат, ни народ не обладают какой-либо силой и не существует ни каких-либо законов, ни суда, ни вообще какого-либо подобия и следа гражданских прав?» (Письма... Т. 3, № 787)
Имела ли смысл эта словесная баталия? Безусловно. Противостояние Антония и Октавиана обозначается все более явно. В сенате есть сторонники одного и другого. Цицерон намерен склонить большинство сенаторов к поддержке Октавиана. Это повлияет и на общественное мнение римлян. А в случае возобновления гражданской войны оно может сыграть решающую роль.
Антоний понимает важность позиции сената и 19 сентября произносит в нем речь, направленную прямо против Цицерона. Ненависть Антония столь откровенна, а реальная власть консула с опорой на ветеранов Цезаря столь велика, что Цицерон не решается появиться в этот день в сенате. В конце месяца он пишет из Рима Кассию в Сирию:
«Марк Туллий Цицерон шлет большой привет Гаю Кассию.
Я чрезвычайно рад, что ты одобряешь мои мнения и речь. Если бы возможно было чаще выступать с речью, восстановление свободы и государственного строя не составили бы никакого труда. Но безумный и падший человек, еще более негодный человек, нежели тот, о котором ты сказал, что «убит величайший негодяй» (это Кассий о Цезаре. — Л.О.), стремится начать резню и обвиняет меня в том, что я был зачинщиком убийства Цезаря, только с той целью, чтобы возбудить против меня ветеранов. Этой опасности я не страшусь, только бы она соединила славу вашего поступка с похвалой мне...» (Письма... Т. 3, № 790)
Опасность, конечно, нешуточная, но Цицерон в свои 62 года снова в гуще событий. Он воскресит и возглавит славный сенат! Еще раз спасет от гибели Республику! Антоний угрожает ему. Ну что же, он получит достойный отпор. Цицерон готовит ответную обличительную речь против своего врага. Но произнести ее в сенате, пока Антоний и его приспешники в Риме, было бы слишком рискованно. Цицерон снова уезжает в свою усадьбу до конца ноября, когда Антоний отправится с войском на север против Децима Брута. Свою речь Цицерон «издает», то есть дает размножить переписчикам, в виде памфлета. Это обширный и очень знаменитый документ. Пересказывать его не имеет смысла: он чисто полемический по своему характеру и новых сведений не содержит. Однако для иллюстрации атмосферы и характера этой полемики, с некоторыми ее штрихами нам стоит познакомиться. Вот открытое выражение солидарности с тираноубийцами и восхищения ими. Для этого нужна определенная смелость — памфлет ведь будет ходить по рукам.
«...право, — пишет Цицерон, — кто может быть счастливее тех, кто, как ты заявляешь, тобою изгнан и выслан? Какая местность настолько пустынна или настолько дика, что не встретит их приветливо и гостеприимно, когда они к ней приблизятся? Какие люди настолько невежественны, что, взглянув на них, не сочтут это величайшей в жизни наградой? Какие потомки окажутся столь забывчивыми, какие писатели — столь неблагодарными, что не сделают их славы бессмертной?» (Цицерон. Вторая филиппика против Марка Антония. 33)
Весьма подробно и чрезвычайно язвительно Цицерон излагает биографию Антония, начиная от сомнительной дружбы с молодым Курионом (кутежи, игра в кости, разврат, актерки и актеры и т.д.), кончая его поведением в день убийства Цезаря:
«Как ты бежал, как перепугался в тот славный день! Как ты, сознавая свои злодеяния, дрожал за свою жизнь, когда после бегства ты — по милости людей, согласившихся сохранить тебя невредимым, если ты одумаешься, — тайком возвратился домой! О, сколь напрасны были мои предсказания, всегда оправдывавшиеся! Я говорил в Капитолии нашим избавителям, когда они хотели, чтобы я пошел к тебе и уговорил тебя встать на защиту государственного строя: пока ты будешь бояться, ты будешь обещать все что угодно. Как только ты перестанешь бояться, ты снова станешь самим собой». (Там же, 89)
В начале октября четыре парфянских легиона из Македонии (по-видимому, не пожелавшие подчиниться Бруту) высаживаются в Брундисии. Антоний едет к ним и обещает по 100 денариев за поход в Цизальпинскую Галлию против Децима Брута. Солдаты поднимают его на смех. В описании этой сцены у Аппиана есть любопытная деталь, ради которой небольшой фрагмент из заключительной части этого описания стоит процитировать (курсив мой):
«Антоний встал и сказал только следующее: «Вы научитесь повиноваться». Он узнал у военных трибунов имена мятежных солдат — в римских войсках всегда записывали нрав каждого отдельного солдата (курсив мой. — Л.О.) — и по военному закону бросил жребий (децимация. — Л.О.). Однако он не казнил целиком всю десятую часть войска, а только часть ее, полагая, что он их таким путем быстро устрашит. Но это вызвало в них не страх, а скорее гнев и ненависть». (Аппиан. Гражданские войны. III, 43)
Смирившиеся на время легионы Антоний вдоль восточного побережья Италии отправляет на границу с Цизальпинской Галлией, в памятный нам город Аримин. Сам он тем временем производит новый набор солдат и прибывает с ними туда же. Сенат не санкционирует действий Антония — сенаторы все больше попадают под влияние Цицерона. Два из четырех парфянских легионов, подкупленные агентами Октавиана, по дороге переходят на его сторону. С остальным войском Антоний идет в Цизальпинскую Галлию. Он требует, чтобы Децим Брут, согласно решению народа, передал ему свои легионы и удалился в Македонию. Децим, ссылаясь на распоряжение сената, отказывается это сделать. Его войско слабее, и он укрывается за стенами крепости Мутина. Антоний начинает ее осаду.
Тем временем Октавиан приводит собранное им войско в окрестности Рима. Цицерон все еще находится в своем имении близ Неаполя. Октавиан бомбардирует его письмами, прося срочно приехать в столицу. С помощью Цицерона он надеется добиться от сената поручения начать военные действия против Антония (как ни слаб сенат, а римляне по традиции все еще очень заботятся о «легитимности» своих действий). Цицерон в нерешительности: Октавиана уже следует принимать всерьез. Его усиление может обернуться нешуточной угрозой Бруту? и всем участникам заговора против Цезаря. С другой стороны, победа Антония над Децимом Брутом грозит тем же, но еще и установлением новой диктатуры. Кроме того, она чревата опасными последствиями лично для Цицерона.
Сомнения разрешаются в пользу Октавиана. Все-таки он еще мальчик, он просит о помощи и выказывает глубокое почтение к Цицерону. Наверное, удастся взять его под свою опеку. Цицерон возвращается в Рим. 20 декабря в сенате он выступает с резкой обвинительной речью против Антония (3-я филиппика). Предлагает объявить его тираном и врагом римского народа. Предложение не принято, но зато вновь подтверждено наместничество Брута в Цизальпинской Галлии. Сенат открыто становится на сторону убийц Цезаря. 4 января Цицерон столь же пылко обличает Антония на форуме перед собранием народа (4-я филиппика).
В письме Требонию, отправленному месяц спустя, он с подъемом, с былой энергией — точно сбросив с плеч груз лет — рассказывает о своем возвращении на политическую арену
«...когда за двенадцать дней до январских календ народные трибуны созвали сенат и когда они докладывали о другом деле, я охватил все положение государства, говорил с большим жаром и более силами своего духа, нежели ума, вернул сенат, уже усталый и утомленный, к прежней и обычной доблести. Этот день, и мои усилия, и выступление прежде всего принесли римскому народу надежду на восстановление свободы. Да я и сам впоследствии не упустил ни одного случая не только обдумать положение государства, но и действовать». (Письма... Т. 3, №819)
1 января 43-го года вступили в должность новые консулы — оба цезарианцы, назначенные еще Юлием Цезарем, — Панса и Гирций. На следующий день сенат по настоянию Цицерона постановил возвести Октавиана в ранг сенатора (в 19 лет) с правом выступать на своих заседаниях в одном ряду с бывшими консулами. Такой почет должен его совершенно подкупить. Кроме того, он официально, в качестве пропретора назначен командующим войском... нанятым им на свои деньги. Позиция сената выглядит, мягко говоря, противоречиво: он поддерживает одновременно и убийц Цезаря, и того, кто клянется отомстить им. Эта позиция навязана Цицероном, который рассчитывает в дальнейшем приручить Октавиана. Того данная ситуация тоже устраивает. Против Антония вместе с ним выступят войска консулов. С Брутом и остальными можно будет свести счеты позже. Мальчик себе на уме: его почтение к Цицерону — напускное.
5 января сенат отправляет к Антонию посольство с требованием вывести войска из Цизальпинской Галлии. Тот отказывается. Цицерон в своих филиппиках призывает сенат и народ к войне с Антонием. Наконец, в конце января консул Гирций с войском выступает на север и присоединяется к Октавиану, который там продолжает набор солдат. Вместе они направляются против Антония, к Мутине. В феврале сенат объявляет Антония мятежником. Цицерон доволен положением дел. В конце месяца он сообщает в Сирию Кассию:
«...если не ошибаюсь, дело обстоит так, что весь исход войны в целом, по-видимому, зависит от Децима Брута. Если он, как мы надеемся, вырвется из Мутины, от войны, по-видимому, ничего не останется. Ведь его теперь осаждают совсем малочисленные войска, так как большим гарнизоном Антоний удерживает Бононию. Но в Клатерне наш Гирций, под Корнелиевым форумом — Цезарь, оба с сильным войском (все четыре упомянутых в письме пункта лежат на Эмилиевой дороге, идущей по долине По с северо-запада на юго-восток. Расстояние между ними в том же направлении и названной последовательности: 35, 15 и 15 км. — Л.О.). А в Риме Панса собрал большие силы благодаря набору в Италии. Зима до сего времени мешала действиям... Но в римском народе и во всей Италии единодушие удивительное». (Письма... т. 3, №821)
В начале марта Гирций и Октавиан через послов обращаются к Антонию с предложением договориться. Тот отвечает категорическим отказом. Он сожалеет, что против него выступил Гирций, сподвижник Цезаря. Октавиана называет мальчишкой, обязанным своим положением только имени. Заявляет, что будет мстить убийцам и весьма нелестно отзывается о Цицероне и сенате. Пути примирения отрезаны. 20 марта против Антония с четырьмя легионами выступает еще и Панса.
21 апреля близ Мутины происходит решительное сражение. Ветераны Цезаря в войсках Антония и Октавиана вынуждены биться между собой. Бьются ожесточенно, обвиняя друг друга в предательстве. Льется кровь сограждан и былых соратников. В отличие от Цезаря старшего, чьим именем они оба клянутся, ни одного, ни другого командующего это не смущает. Сражение идет с переменным успехом. Сначала Антоний одерживает верх над легионами Октавиана и Пансы, едва не берет штурмом их лагерь. Панса тяжело ранен. Затем подходит Гирций. Сражение возобновляется. Децим Брут делает вылазку из Мутины. Теперь Антоний вынужден с большими потерями отступить. Убит Гирций. Октавиан, который сражался в боевых порядках как простой легионер, выносит тело Гирция с поля боя. К ночи противники возвращаются в свои лагеря. Подсчитав оставшиеся силы, Антоний снимает осаду Мутины и уходит на запад. В Риме торжествуют победу. Цицерон в сенате произносит уже четырнадцатую по счету филиппику. Он предлагает объявить императорами Пансу Гирция и Октавиана (о смерти Гирция еще неизвестно), а также назначить пятидесятидневное государственное молебствие от их имени. Об Октавиане, в частности, Цицерон говорит так:
«Да неужели кто-нибудь станет сомневаться в том, что следует провозгласить Цезаря императором? Возраст его, конечно, никому не помешает голосовать за это, коль скоро он своей доблестью победил свой возраст...» (Цицерон. 14-я филиппика против Марка Антония. 28)
Дециму Бруту присуждается триумф. В то же день Цицерон пишет в Македонию Марку Бруту:
«Цицерон Бруту привет.
Наши дела, кажется, в лучшем положении. Ведь я наверное знаю, что тебе написали о том, что произошло. Какими я тебе на раз описывал консулов, такими они и оказались. Но врожденная доблесть молодого Цезаря удивительна: о, если бы мы могли его, в блеске почестей и влияния, так легко направлять и сдерживать, как легко мы сдерживали его до сего времени! Вообще это труднее, но мы, все-таки, не теряем веры: ведь юноша убежден — и главным образом мною, — что благодаря его стараниям мы невредимы...» (Письма... Т. 3, № 844)
Приходит известие о смерти Гирция, а через два дня от раны умирает и Панса. Аппиан утверждает, что перед своей кончиной Панса призвал Октавиана и сказал ему следующее:
«Я любил твоего отца как самого себя, — сказал он, — но я не имел возможности мстить за его смерть и не мог не подчиниться мнению большинства: ведь и ты подчинялся ему, хотя у тебя и было войско. И ты поступил правильно».
(Прежде всего — традиционное римское законопослушание. Затем раскрываются тайные пружины, определявшие поведение сената). Панса продолжает:
«Сначала боялись тебя и Антония, который казался поборником дела Цезаря. Потом обрадовались, когда вы с ним стали враждовать, надеясь, что вы таким образом друг друга ослабите. Когда же увидели, что у тебя войско, они старались тебя привлечь на свою сторону тем, что наделяли тебя видными, но лишенными реального значения почестями. Убедившись в том, что ты горд и не принимаешь предлагаемых почестей, особенно тогда, когда войско тебе предлагало власть, а ты ее не принял (такой эпизод действительно имел место. — Л.О.), они были встревожены этим и назначили тебя полководцем вместе с нами, чтобы мы от тебя отняли два опытных легиона (парфянских, что перешли от Антония. — Л.О.). Они надеялись, что если один из вас потерпит поражение, другой будет слабее, так как он будет один, а когда и его удалят, они уничтожат всю партию Цезаря и выдвинут партию Помпея — ведь это основа их политики. Мы с Гирцием выполняли возложенное на нас поручение, пока не укротили Антония, чрезмерно возгордившегося. Мы хотели, чтобы он после поражения помирился с тобой. Этим поступком мы полагали отблагодарить Цезаря и считали, что это наиболее полезное для будущего решение. Об этом мы не могли говорить с тобой раньше. Но после поражения Антония, когда Гирций скончался, а меня ждет роковой исход, пора об этом сказать, не для того, чтобы ты меня, умирающего, поблагодарил, но чтобы ты, родившийся под счастливой звездой, как показывают твои дела, узнал, что тебе полезно...» (Аппиан. Гражданские войны. III, 75, 76)
В достоверности и даже в самом факте произнесения этого напутствия есть основания сомневаться (кто записал?). Оно служит Аппиану для изложения его понимания позиции сената и мотивов поведения бывших соратников Юлия Цезаря. В таком качестве и будем его принимать...
После смерти обоих консулов ситуация становится двусмысленной. Победителями Антония оказываются Децим Брут — один из убийц Цезаря — и Октавиан, который поклялся мстить им. Антоний бежит, и юный Цезарь больше не нужен ни сенату, ни Цицерону. По предложению последнего сенат назначает Децима Брута полководцем для преследования Антония. Об Октавиане в постановлении сената — ни слова. Очевидно, что легионы Гирция и Пансы должны перейти под командование Децима. Политика, видимо, никогда не была делом благородным. Цицерон уже забыл о «врожденной доблести молодого Цезаря». Его интересует только Республика. Наследник Цезаря старшего ей не нужен и даже опасен.
Между тем, Антоний переходит Апеннины и направляется к проходам в приморских Альпах. По дороге он освобождает и берет в свое войско множество рабов. Ситуация очень трудная, но списывать его со счетов еще рано.
«Во время бегства, — свидетельствует Плутарх, — Антонию пришлось вынести много тяжких испытаний, и самым тяжким среди них был голод. Но таков он был от природы, что в несчастиях, в беде превосходил самого себя и становился неотличимо схож с человеком, истинно достойным... Антоний в те дни был замечательным примером для своих воинов: после всей роскоши, всего великолепия, которые его окружали, он без малейшей брезгливости пил тухлую воду и питался дикими плодами и кореньями. Рассказывают, что, переваливая через Альпы, его люди ели и древесную кору, и животных, никогда прежде в пищу не употреблявшихся». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, XVII)
За Альпами находится Лепид — второй из ближайших соратников Юлия Цезаря, им же назначенный наместником в Нарбонскую Галлию. Под его командой семь легионов. Тот самый Лепид, с которым вместе Антоний пережил первые тревожные дни после убийства Цезаря.
Как он примет Антония? С тех пор он не раз заявлял о своей лояльности по отношению к сенату. Единственный, кто не верит этим заявлениям и понимает опасность объединения Антония и Лепида, это Децим Брут. Но у него слишком мало сил, чтобы помешать Антонию уйти за Альпы. Он просит Октавиана присоединиться к преследованию недобитого противника. В письме от 5 мая Децим пишет Цицерону:
«Если бы Цезарь послушался меня и перешел через Апеннины, я довел бы Антония до такой крайности, что он был бы уничтожен скорее голодом, нежели мечом. Но и Цезарю невозможно приказать, и Цезарь не может приказать своему войску — одно хуже другого». (Письма... Т. 3, № 854)
Вторая часть последней фразы означает, что Децим не уверен в том, что ветераны Октавиана согласились бы преследовать ветеранов Антония. Но Октавиан и не желает помогать Бруту. Он оскорблен тем, что преследование поручено не ему. Демонстративно требует от сената триумфа за победу над Антонием и получает презрительный отказ — молод еще! Октавиану ясно, что он обманут: сенат воспользовался его поддержкой против Антония, а теперь готов отбросить, как ненужную вещь.
Децим Брут доходит до Альп и останавливается, Антоний от него уходит и направляется к Лепиду. Подойдя к речушке, за которой стоит лагерь, он поначалу безуспешно пытается вступить в переговоры со своим бывшим соратником. Тот его принимать не хочет. Тогда Антоний делает последнюю ставку на корпоративный дух бывших солдат Цезаря:
«С нечесаными волосами, — пишет Плутарх, — с длинною бородой, которая отросла после поражения, в темном плаще он подошел к лагерю Лепида и заговорил с воинами. Многие были растроганы его видом и захвачены его речью, и Лепид, испугавшись, приказал трубить во все трубы, чтобы заглушить слова Антония. Но это лишь усилило сочувствие солдат к Антонию, и они завязали с ним тайные переговоры, отправив Лелия и Клодия, переодетых солдатскими потаскухами. Посланцы убеждали Антония смело напасть на лагерь: найдется, говорили они, немало людей, которые примут его с распростертыми объятиями, а Лепида — если он пожелает — убьют. Лепида Антоний трогать не велел, а сам рано поутру начал переправляться через реку. Он вошел в воду первым и двинулся вброд к противоположному берегу, где уже толпились воины Лепида, протягивая к нему руки, меж тем как другие разрушали лагерный вал. Вступив в лагерь и овладевши им, он обошелся с Лепидом до крайности мягко — почтительно его приветствовал, назвал отцом и сохранил за ним титул императора и все почести, хотя по сути дела безраздельным хозяином положения был теперь он, Антоний». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, XVIII)
На следующий же день, 30 мая, Лепид отправляет в Рим письмо с оправданиями:
«Богов и людей, отцы-сенаторы, — пишет он, — привожу я в свидетели того, каких мыслей и намерений я держался по отношению к государству, и того, что я признавал самым важным всеобщее спасение и свободу. Я вскоре доказал бы вам это, если бы судьба не вырвала у меня моего собственного замысла. Ибо все войско, подняв восстание, оказалось верным своему обычаю сохранять жизнь гражданам и, всеобщий мир и, сказать правду, заставило меня взять на себя дело спасения и невредимости столь многочисленных римских граждан.
При этих обстоятельствах молю и заклинаю сам, отцы-сенаторы, отбросив личные обиды, заботьтесь о высшем благе государства и милосердие мое и моего войска во время гражданских раздоров не считайте преступлением». (Письма... Т. 3, № 884)
Есть немало оснований сомневаться как в правдивости автора письма, так и в соответствии истине описания Плутарха. Вполне возможно, что сговор Антония с Лепидом происходил куда менее драматично. Ведь у обоих приближенных покойного диктатора было достаточно оснований опасаться сената, явно склонившегося на сторону его убийц. Так или иначе, близорукие сенаторы (а с ними и ослепленный своим республиканским пылом Цицерон) опять просчитались. Оттолкнув Октавиана, они позволили ускользнуть Антонию. И вот он снова располагает большим войском. Скоро к нему присоединятся еще пять легионов из Косматой Галлии, и он во главе семнадцати легионов вернется в Италию.
Весной 43-го года, еще до сражения под Мутиной, Цицерон начал зондировать почву для вызова из Македонии Марка Брута, у которого к этому времени уже есть сильное войско. Он пытается повлиять на Октавиана с целью добиться его примирения с убийцами Цезаря. Посылает ему какое-то письмо, копию которого, как это часто бывало, отправляет другу Аттику. Тот, видимо, сообщает содержание письма Бруту. В середине мая, как раз тогда, когда Децим Брут получает отказ Октавиана поддержать преследование Антония, Марк Брут присылает в Рим Цицерону обширное гневное послание. Вот несколько коротких выдержек из него:
«Брут Цицерону привет.
Я прочел присланный мне Аттиком отрывок твоего письма, которое ты послал Октавию. Твоя преданность и забота о моем благе не доставили мне нового удовольствия... Припомни свои слова и посмей отрицать, что это просьба раба к царю. По твоим словам, от него требуют и ждут одного — согласия на то, чтобы те граждане, о которых честные мужи и римский народ высокого мнения, остались невредимы. Как, если он не хочет, нас не будет? Но лучше не быть, нежели быть с его согласия...
Меня же впредь не препоручай своему Цезарю и даже себя самого, если послушаешься меня. Ты очень дорого оцениваешь то количество лет, какое допускает твой возраст, если по этой причине намерен ты умолять этого своего мальчика... Я же, в вопросе о возвращении туда к вам, не только не склонен умолять, но даже склонен обуздывать требующих, чтобы их умоляли, или же буду вдали от раболепствующих и признаю для себя Римом всякое место, где только можно быть свободным...» (Письма... Т. 3, № 863)
Весьма нелестный для Цицерона намек Брут раскрывает в письме Аттику, направленном в те же дни:
«О великая глупость страха, — пишет он, — так остерегаться того, чего боишься, что добровольно призываешь и привлекаешь это, хотя, пожалуй, и мог бы избежать! Мы слишком боимся смерти, изгнания и бедности. Это, мне кажется, для Цицерона крайнее несчастье, и, пока у него есть, у кого испросить то, чего он хочет, и есть, кем быть чтимым и восхваляемым, он не отвергает рабства, только бы оно было почетным, если только что-нибудь может быть почетным при крайнем и самом жалком позоре». (Письма... Т. 3, № 864)
Брут, мне кажется, чересчур резко осуждает Цицерона. Но, прав он или нет, надежда объединить силы Брута и Октавиана рушится. Между тем «мальчик», как они все его называют (кто же знал, что это — будущий император Август?), хорошо оценив ситуацию, предъявляет сенату новые, куда более дерзкие претензии. В связи со смертью обоих консулов должны быть назначены досрочные выборы новых. Октавиан в свои 19 лет желает стать консулом римского народа и обращается к Цицерону с просьбой поддержать его намерение. Аппиан утверждает, что при этом Октавиан предлагал Цицерону быть его коллегой по консульству, и что тот...
«...увлеченный вследствие своего честолюбия этим предложением... советовал уважать желание оскорбленного человека, располагающего большой еще армией. Он, Цицерон, скорее согласился бы на то, чтобы Цезарь стал консулом ранее узаконенного возраста (43 года. — Л.О.) в городе, чем, чтобы он питал вражду, обладая вооруженной силой. А чтобы Цезарь не совершил чего-либо во вред сенату, Цицерон предлагал избрать одновременно с Цезарем, ввиду его молодости, какого-нибудь рассудительного человека из числа старших по возрасту, который был бы твердым руководителем». (Аппиан. Гражданские войны. III, 82)
Так ли это было или нет, но сенат категорически отверг домогательства Октавиана. Цицерон предвидит, что, оскорбленный вторично, юный Цезарь может выступить с оружием против сената. Поэтому, несмотря на отповедь Марка Брута, он в начале июня заклинает его прибыть с войском в Италию. Разумеется, вопрос о примирении с Октавианом уже не стоит и, если верить письму, Цицерон разделяет с сенатом возмущение претензиями Цезаря, которые он приписывает его окружению (быть может, сговор с Октавианом Аппиан приписал ему напрасно?)
«Цезарю, — пишет Цицерон, — который до того времени руководился моими советами... некоторые при помощи бесчестнейших писем и лживых посредников и вестей внушили определенную надежду на консульство. Как только я почувствовал это, я не переставал ни давать ему советы в письмах, ни обвинять его присутствующих близких, которые, казалось, поддерживали его вожделение, и не поколебался раскрыть в сенате источники преступнейших замыслов... если советы бессовестных будут сильнее, нежели мои, и неразумение возраста не сможет выдержать тяжести событий, то вся надежда на тебя. Поэтому лети сюда, заклинаю, и то государство, которое ты освободил свой доблестью и величием духа более, нежели благодаря исходу событий, освободи благодаря развязке: ведь к тебе все сбегутся отовсюду.
Посоветуй это же Кассию посредством писем: надежда на свободу только в главных ставках ваших лагерей...» (Письма... Т. 3, № 896)
Разгар лета. Децим Брут все-таки перевалил через Альпы, к нему там присоединились еще четыре верных сенату легиона. Однако силы Антония тоже растут, так что без поддержки Октавиана положение Децима будет очень скверным. Теперь же, после отказа в консульстве, на эту поддержку рассчитывать не приходится. Цицерон очень встревожен. В конце июля он шлет в Македонию еще одно, отчаянное письмо:
«Государство находится в величайшей опасности, Брут, и мы, победители, снова вынуждены сражаться. Это произошло вследствие преступления и безумия Марка Лепида... Поэтому в настоящее время наша величайшая надежда на тебя и твое войско: как из высших государственных соображений, так и для своей славы и достоинства чрезвычайно важно, чтобы ты, как я написал ранее, возможно скорее прибыл в Италию». (Письма... Т. 3, № 908)
Но время уже упущено. Недооценили сенаторы и Цицерон «мальчика»! В конце лета он собирает своих ветеранов и обращается к ним с такой речью (в пересказе Аппиана):
«...вы слышали, как поступили помпеянцы в Риме с теми лицами, которые получили от Цезаря какие-либо дары. В чем гарантия для вас в отношении тех земельных наделов и денег, которые вы от него получили? В чем гарантии для меня и моей безопасности до тех пор, пока в сенате господствуют родственники убийц? Я охотно приму всякий конец, какой бы меня ни ожидал, и пострадаю, мстя за отца. Я беспокоюсь о вас, а вас много, вы выделяетесь своими доблестями и вы подвергаете себя опасностям из-за меня и моего отца. Вы знаете, конечно, что мне чуждо честолюбие, после того как я отказался от предложенной вами претуры с инсигнициями (знаками власти. — Л.О.). Теперь же я вижу одно спасение для себя и для вас — это если я буду провозглашен вами консулом. Тогда и все дарованное вам моим отцом останется неприкосновенным, и, сверх того, у вас будут колонии, которые вам еще предстоит получить, а также все награды полностью. Подвергнув казни убийц, я избавлю вас от дальнейших войн».
«После этой речи, — пишет Аппиан, — войско дружно приветствовало Цезаря криками и тотчас отправило центурионов с требованием консульской власти для Цезаря». (Аппиан. Гражданские войны. III, 87, 88)
Но сенаторы с высокомерным негодованием выпроваживают центурионов.
«Войско, узнав об этом, — продолжает Аппиан, — пришло в еще большее раздражение и потребовало, чтобы их вели немедленно к Риму: они сами выберут Цезаря в консулы на чрезвычайном заседании комиции, как сына Юлия Цезаря. При этом войско беспрерывно прославляло старшего Цезаря. Видя, что они охвачены таким энтузиазмом, Цезарь тотчас же после сходки повел в Рим восемь легионов, прекрасную конницу и все остальные части, которые находились при легионах...» (Там же)
В Риме паника. Жалкий порыв оказать сопротивление (только что прибыли два легиона, вызванные из Африки) быстро спадает. Народ приветствует Октавиана, знатные граждане спешат к нему навстречу, чтобы выразить свою преданность, африканские легионы переходят на его сторону Без боя, оставив войско за стенами, юный Цезарь с небольшой охраной является на форум. Мать и сестра ожидают его в храме Весты вместе с весталками. Сенат в растерянности и страхе. Цицерон через друзей Цезаря добивается встречи с ним. Старается оправдаться, напоминает о том, что он предлагал ранее сенату выдвинуть кандидатуру Октавиана в консулы. Безусый полководец с насмешкой выслушивает жалкие оправдания старика. Вскоре Цицерон уезжает в свое имение. Его политическая биография окончена.
И вот Октавиан уже консул. Он немедленно вносит предложение начать судебный процесс против убийц Юлия Цезаря. Соучастники заговора и те, кто в свое время был осведомлен о нем, бегут из Рима. Все они, и в первую очередь Брут и Кассий, заочно осуждены.
Но одно дело здесь, в Риме, приговорить к смерти своих врагов, а другое — привести приговор в исполнение, если осужденные находятся в Греции и Сирии, откуда грозят вернуться во главе многотысячного войска. И Октавиан решает примириться со своим недавним противником. Он выступает с армией из Рима, чтобы поддержать Антония, который уже преследует Децима Брута. Напуганный сенат тоже отменяет все свои враждебные постановления против Антония и Лепида. Октавиан в письме поздравляет их с этим и предлагает военную помощь против Децима. Антоний и Лепид отвечают дружелюбно, но помощь отклоняют за ненадобностью. Тем не менее войско Октавиана перекрывает Дециму Бруту прямую дорогу в Македонию. Тот пытается пройти кружным путем через Галлию и Германию. Утомленное войско его бросает, сам он попадает в руки разбойников и погибает.
Антоний и Лепид тоже понимают необходимость соединить свои силы с войском Октавиана против Брута и Кассия. Глубокой осенью, неподалеку от той же злополучной Мутины назначена их встреча. Начало ее обставлено всеми предосторожностями, как при переговорах враждующих сторон:
«Цезарь и Антоний, — пишет Аппиан, — сошлись вместе с целью сменить вражду на дружбу вблизи города Мутины на островке, небольшом и плоском, находящемся на реке Лавинии; каждый из них имел по пяти легионов. Расположив их друг против друга, они направились каждый в сопровождении трехсот человек к мосту через реку. Лепид, пройдя вперед, осмотрел островок и сделал знак плащом, чтобы одновременно идти тому и другому. Они оставили стоять на мостах со своими друзьями триста человек, которых они привели с собой, двинулись к середине островка, на обозримое со всех сторон место и все трое сели, причем Цезарь, в силу своего звания, занял место посередине. В продолжение двух дней, с утра до вечера совещаясь между собой, они постановили...» (Аппиан. Гражданские войны. IV, 2)
Далее историк перечисляет все соглашения этого так называемого «второго триумвирата». Раздел провинций, назначение магистратов, перераспределение легионов, планы ведения войны с Брутом и Кассием и вознаграждение солдат после победы. Последнее заслуживает более подробного описания:
«Они должны были, — пишет Аппиан, — уже теперь обнадежить войско наградами за победу, причем, помимо других подарков, предоставить им 18 италийских городов для поселения. Эти города, отличающиеся богатством, плодородием почвы и красотою зданий, они намерены были вместе с землею и домами разделить между войском, как если бы эти города были завоеваны ими в неприятельской стране». (Там же, 3)
Для сравнения я хочу напомнить слова Юлия Цезаря, обращенные к солдатам мятежных легионов перед Африканской войной (из 6-й главы):
«Когда война будет закончена, я всем дам землю, и не так, как Сулла, отнимая ее у частных владельцев... но раздам всем землю общественную и мою собственную, а если нужно будет, и еще прикуплю».
Принятые решения юный Цезарь, как консул, зачитал войскам. Но было еще одно, тайное соглашение между ними, о котором Аппиан пишет так:
«Тем временем триумвиры наедине составили списки имен лиц, предназначенных смерти, подозревая при этом всех влиятельных людей и занося в список личных врагов. Как тогда, так и позднее своими родственниками и друзьями они жертвовали друг другу. Один за другим вносились в список кто по вражде, кто из-за простой обиды, кто из-за дружбы с врагами или вражды к друзьям, а кто по причине выдающегося богатства. Дело в том, что триумвиры нуждались в значительных денежных средствах для ведения войны, так как налоги с Азии предоставлены были Бруту и Кассию... И было всех приговоренных к смерти и конфискации имущества из сената около 300 человек, а из так называемых всадников 2000... Большинство из обреченных на смерть триумвиры намерены были подвергнуть публичной проскрипции после вступления своего в Рим.(Напомню, проскрипции — вывешиваемые на площади списки приговоренных к смерти и объявленных вне закона, их впервые ввел Сулла). Но 12 человек или, как утверждают другие, 17 из числа наиболее влиятельных, в том числе и Цицерона, решено было устранить ранее остальных, подослав к ним убийц немедленно». (Там же. 5, 6)
В биографии Цицерона Плутарх утверждает, что Октавиан пытался отстоять своего недавнего наставника:
«Самый ожесточенный раздор между ними вызвало имя Цицерона: Антоний непреклонно требовал его казни, отвергая в противном случае какие бы то ни было переговоры, Лепид поддерживал Антония, а Цезарь спорил с обоими... Рассказывают, что первые два дня Цезарь отстаивал Цицерона, а на третий сдался и выдал его врагам. Взаимные уступки были таковы: Цезарь жертвовал Цицероном, Лепид — своим братом Павлом, Антоний — Луцием Цезарем, дядей со стороны матери. Так, обуянные гневом и лютой злобой, они забыли обо всем человеческом...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, XLVI)
Когда убийцы проникли в Рим, Цицерона там не было — он находился в своей усадьбе. Четверо из списка первоочередных жертв были найдены и убиты тотчас же. Остальных стали разыскивать...
«...внезапное смятение охватило город, и в течение всей ночи были крики, беготня, рыдания, словно во взятом неприятелем городе. Вследствие того, что стало известно о происходящих арестах, хотя никто еще из наперед осужденных не стоял в проскрипционных списках, каждый думал, что именно его-то и разыскивают люди, шнырявшие по городу. Отчаявшиеся в своей судьбе собирались поджечь кто свои, кто общественные здания, предпочитая в своем безумии совершить что-либо ужасное, прежде чем погибнуть. И, может быть, они и сделали бы это, если бы консул Педий (коллега Октавиана) при обходе города с глашатаями не обнадежил их, что подождав до утра, они узнают точные сведения. На заре Педий, вопреки решению триумвиров, опубликовал список семнадцати, как лиц, единственно оказавшихся виновными во внутренних бедствиях и потому осужденных на смерть. Остальным он дал официальное заверение в безопасности, не зная о решениях триумвиров. Сам Педий от утомления скончался в ту же ночь.
Триумвиры в продолжение трех дней вступали в город один за другим: Цезарь, Антоний и Лепид, каждый с преторской когортой и одним легионом (хотя закон запрещал нахождение войск внутри городской черты. — Л.О.). С их приходом город наполнился вооруженными отрядами, размещенными в соответствующих, наиболее удобных местах. Немедленно созвано было Народное собрание среди войск, и народный трибун Публий Титий внес законопроект об учреждении сроком на пять лет новой магистратуры для упорядочения государственных дел, состоящей из трех лиц: Лепида, Антония и Цезаря... Ни срока для рассмотрения законопроекта, ни определенного дня голосования его не было указано; закон немедленно вступал в силу. Ночью во многих местах города выставлены были проскрипционные списки с именами новых 130 лиц в дополнение к прежним 17, а спустя немного времени еще других 150 человек... Было отдано распоряжение, чтобы головы всех казненных за определенную награду доставлялись триумвирам, причем для свободнорожденного она заключалась в деньгах, для раба — в деньгах и свободе. Всякий, принявший к себе в дом или скрывший осужденного или не допустивший у себя обыска, подлежал тому же наказанию. Каждый желающий мог делать донос на любого и за такое же вознаграждение». (Аппиан. Гражданские войны. IV, 6, 7)
Аппиан приводит текст преамбулы к проскрипционным спискам, где триумвиры обосновывают свои действия возмездием за убийство Цезаря, за преследование их самих, а также необходимостью истребить сторонников Брута и Кассия в Италии перед походом против них в Грецию. Далее в преамбуле говорится так:
«Мы будем карать только самых закоренелых и самых виновных. И это столько же в ваших интересах, сколько лично в наших. Неизбежно, что во время нашей борьбы вы все, находясь между враждующими сторонами, будете сильно страдать. Необходимо далее, чтобы армия, оскорбленная и раздраженная, объявленная нашими общими противниками вражескою, получила некоторое удовлетворение. И хотя мы могли приказать схватить тех, о которых это было решено, немедленно, мы предпочитаем предварительно опубликовать их список, чем захватить их врасплох. И это опять-таки в ваших интересах, чтобы не было возможности разъяренным солдатам неистовствовать по отношению к невиновным...» (Там же, 10)
По поводу «интересов невиновных» позволю себе повторить здесь то, что было сказано в последней главе 1-го тома по поводу проскрипций Суллы. Казалось бы, предварительное обнародование списка осужденных должно было успокоить большую часть населения, а самим жертвам проскрипции давало шанс спастись бегством. На самом деле, в сочетании с объявленными одновременно вознаграждениями за предательство и убийство, а также карой за помощь и укрывательство, проскрипции породили ни с чем не сравнимую по своей мерзости массовую охоту на людей. Она не только обрекала на практически неизбежную гибель преследуемых, но и лишала человеческого облика преследователей. При этом руки грабителей и убийц оставались развязанными, так как любую жертву можно было задним числом обвинить в помощи обреченным смерти.
«Одновременно с обнародованием проскрипционных списков, — сообщает далее Аппиан, — ворота города были заняты стражей, как и все другие выходы из него, гавани, пруды, болота и все места вообще, могущие считаться удобными для бегства или тайного убежища. Центурионам приказано было обойти всю территорию с целью обыска. Все это было произведено одновременно». (Там же, 12)
Историк подробно, со многими примерами описывает кровавый кошмар последовавших за этим дней. Из этого описания я приведу здесь только фрагменты общей картины и один конкретный пример — убийство Цицерона:
«И вот тотчас же, как во всей стране, так и в Риме, смотря по тому, где каждый был захвачен, начались многочисленные аресты и разнообразные способы умерщвления. Отсекали головы, чтобы их можно было представить для получения награды, происходили позорные попытки к бегству, переодевания из прежних пышных одежд в непристойные. Одни спускались в колодцы, другие — в клоаки для стока нечистот, третьи — в полные копоти дымовые трубы под кровлею. Некоторые сидели в глубоком молчании под сваленными в кучу черепицами крыши. Боялись не меньше, чем убийц, одни — жен и детей, враждебно к ним настроенных, другие — вольноотпущенников и рабов, третьи — своих должников или соседей, жаждущих получить поместья. Прорвалось наружу вдруг все то, что до тех пор таилось внутри. Произошла противоестественная перемена с сенаторами, консулами, преторами, трибунами, кандидатами на все эти должности или состоящими в этих должностях: теперь они бросались к ногам своих рабов с рыданиями, называли слугу спасителем и господином. Печальнее всего было, когда и такие унижения не вызывали сострадания...
Каждый становился предателем по отношению к своим домашним и личную выгоду ставил выше сострадания к близкому человеку. А верный или благожелательный человек боялся помочь спрятать осужденного или отговаривался незнанием, боясь подвергнуться одинаковой каре. Теперь страх оказал действие обратное, тому, что происходило при умерщвлении семнадцати человек: тогда... лишь некоторые внезапно были схвачены, все же одинаково пришли в страх и помогали друг другу. Теперь, после обнародования проскрипций, осужденные немедленно предоставлялись всем, остальные же, будучи спокойными за свою участь, в погоне за выгодой, охотились за другими для убийц из-за обещанного вознаграждения. Прочая толпа грабила дома убитых, причем жажда наживы отвлекала их сознание от бедствий переживаемого времени. Более благоразумные и умеренные люди онемели от ужаса...
Одни умирали, защищаясь от убийц... Некоторые умерщвляли себя добровольным голоданием, прибегая к петле, бросаясь в воду, низвергаясь с крыш, кидаясь в огонь, или же сами отдавались в руки убийц, просили их не мешкать. Другие, униженно моля о пощаде, скрывались, чтобы избежать смерти, пытались спастись подкупом. Иные погибали вопреки воле триумвиров, жертвой ошибки, вследствие личной вражды к ним убийц. Труп не означенного в списке распознавался по тому, что голова его не была отсечена от туловища...
Впрочем, в некоторых случаях в не меньшей степени проявлялось рвение и мужество жен, детей, братьев и рабов, старавшихся спасти обреченных или погибавших вместе с ними, когда предпринятые меры не удавались. Некоторые убивали себя над трупами погибших...» (Там же. 12—15)
В жуткой хронике Аппиана есть подобного рода примеры верности и самоотверженности. Историк предваряет их таким замечанием:
«...это и мне приятнее рассказывать, и читателям полезнее знать, чтобы и они не отчаивались в несчастьях». Я с ним совершенно согласен, но для экономии места вынужден предложить читателю описание только одного конкретного случая, когда верность и предательство соседствуют. Выбран он потому, что здесь Аппиан рассказывает о гибели одного из главных действующих лиц этой книги:
«Цицерон, пользовавшийся после смерти Гая Цезаря таким влиянием, что когда возникло своего рода единовластие демагога, был осужден на смерть вместе со своим сыном, братом, племянником и всеми родственниками, единомышленниками и друзьями. (Слово демагог не имело в древности того бранного смысла, какой оно приобрело в наши дни, а скорее означало «вожак толпы». — Л.О.). Во время бегства на лодке он не вынес неприятности качки и, велев причалить у собственной виллы вблизи италийского города Капуи... не двигался с места. В то время как преследовали его — его-то ревностнее всех искал Антоний, и для него старались все, — к нему в спальню влетели вороны и стали каркать, так что он проснулся, и стали стаскивать с него тогу. Рабы, истолковывая происходящее как знамение богов, поместили Цицерона на носилки и снова понесли его к морю через лесную чащу. Между тем многие партиями бродили и расспрашивали, не видели ли Цицерона. Все из расположения и сострадания к нему говорили, что он, отчалив на лодке, плывет уже по морю. Но один сапожник, клиент Клодия, бывшего жесточайшим врагом Цицерона (проклятье! Опять Клодий! — Л.О.), указал центуриону Ленату с его немногочисленными спутниками тропинку. Тот погнался и, заметив, что рабы, окружавшие Цицерона, гораздо многочисленнее и готовы защищаться, прибегнул к военной хитрости и закричал: «Центурионы, находящиеся в тылу, идите за мной сюда!» Тогда рабы испугались, полагая, что приближается превосходящий их числом отряд. Ленат, в свое время выигравший процесс благодаря Цицерону, вытащив из носилок Цицерона, отрубил ему голову, или, скорее, по неопытности, отпилил ее, так как он три раза ударил по шее. Отрезал он также и руку, которой Цицерон писал речи против Антония, как тирана...
...поспешили с этим известием к Антонию. Ленат издали показал голову и руку, потрясая ею в воздухе, Антонию, председательствовавшему на форуме. Тот чрезвычайно обрадовался, увенчал центуриона и сверх назначенной награды подарил ему 250 000 аттических драхм за уничтожение величайшего из всех его противников и самого непримиримого. Голова Цицерона и рука очень долгое время висели на форуме перед трибуной, с которой он прежде обращался к народу с речами. И посмотреть на это стекалось больше народу, чем прежде послушать его. Говорят, что за обеденным столом Антоний голову Цицерона ставил на стол, пока не насытился этим отвратительным зрелищем». (Там же. 19, 20)
Цицерон погиб 7 декабря 43-го года до Р.Х. Мне бы хотелось почтить память первого в Истории интеллигента, как я себе позволил ранее его назвать, чем-то вроде прощального слова. Однако в силу обстоятельств, о которых я скажу через пару страниц, эта глава будет закончена прощальным словом о самой римской Республике. Два прощания подряд звучали бы тяжело. Но прощальное слово — всегда похвальное! Так пусть сначала прозвучат слова хвалы Человеку. Они принадлежат самому Цицерону— в них его душа, которая только что воспарила над умирающей в муках Республикой. И пусть не все поступки великого оратора и гражданина мира, особенно в последние годы, вполне отвечали его идеалам. Пожилому человеку это не всегда удается. Но до конца своих дней он верил в справедливость и высокое общественное призвание гражданина, верил в Республику и всю жизнь старался следовать этой вере. А это — немало!
Из трактата Цицерона «О законах» (написанного в 51-м году):
«Ведь всякий, кто познает самого себя, прежде всего почувствует, что обладает каким-то божественным качеством, и будет считать свой ум, присущий ему, как бы священным изображением. И этот человек всегда будет совершать и обдумывать что-либо достойное столь великого дара богов и, сам постигнув и испытав себя всего, поймет, как его одарила природа при его вступлении в жизнь и какими средствами он располагает для приобретения и достижения мудрости...
Ведь когда душа, познав и восприняв доблести, откажется от своей покорности и потворства телу, подавит в себе стремление к наслаждению, словно какой-то позорный недуг, избавится от страха смерти и боли, благодаря взаимному расположению соединится со своими близкими... и изощрит зоркость как глаз, так и ума до способности избирать благое, а противоположные качества отвергать... то будет ли возможность назвать или представить себе более счастливое состояние?
И когда этот человек обозрит небо, землю, моря и всю природу, когда он увидит, из чего это возникло, к чему оно возвратится и когда и как погибнет, что в этом всем смертно и тленно и что божественно и вечно, и когда он воспримет, можно сказать, существование самого божества, правящего и царящего над всем этим, а себя самого признает не жителем какого-то ограниченного места, окруженного городскими стенами, а гражданином всего мира, как бы единого града, то — бессмертные боги! — каким среди этого великолепия и при этом созерцании и познании природы он себе представится сам!..
А когда он почувствует себя рожденным для общества граждан, то он сочтет нужным прибегать не только к подробному рассмотрению вопросов, но и к свободно льющейся непрерывной речи, дабы посредством нее управлять народами, устанавливать законы, порицать дурных людей, защищать честных, восхвалять великих мужей, обращаться к согражданам с убедительными правилами, клонящимися к благу и славе, быть в состоянии побуждать людей к доблести, отвращать их от позорного поведения, утешать униженных, а деяния и намерения храбрых и мудрых людей, наряду с осуждением поступков людей дурных, делать памятными навсегда». (Цицерон. О законах. Кн. 1, XXII, 59 — XXIV, 62)
Неведомый читатель!
На протяжении многих лет, что я готовил и писал эту книгу, ты был моим ближайшим другом, ежедневным молчаливым собеседником. Вместе мы прошли длинный путь становления, расцвета, а потом и заката Римской Республики. Восхищались ее героями: полководцами и простыми воинами, ораторами и рядовыми гражданами; сожалели об утратах. И вот этот путь оборвался. Перед моим мысленным взглядом, когда я писал эту главу, стояла картина Брюллова «Гибель Помпеи». Помнишь? Охваченное пожаром небо, рушатся дома, колонны, статуи, и под дождем раскаленных камней в ужасе мечутся люди. В эти первые два года после смерти Цезаря обрушилось все здание Республики. Если бы я разбил историю Рима на две части: Республику и Империю, то границу между ними провел бы именно здесь. Еще более десяти лет будет догорать костер гражданской войны. Но это — дележ наследства. Республики уже нет.
Ведь изменение общественного устройства определяется не формой государственного управления — ее смена может запоздать, — а радикальным изменением системы общепризнанных ценностей и модели поведения массы людей. И яснее всего это проявляется в облике, поступках и мотивах деятельности их лидеров — тех выдающихся личностей, которым удается увлечь за собой (или принудить следовать!) большинство народа. Увлечь удается тем, чьи взгляды, намерения и дела отвечают представлениям большинства сограждан о достойном, о необходимом для обеспечения их жизни сегодня и будущего — для детей.
В свою очередь, на формирование этих представлений о необходимом и достойном сильнейшее воздействие оказывает личный, в первую очередь нравственный, пример поведения самих лидеров. По их поведению и характеру популярности в гражданском сообществе мы можем судить о состоянии самого этого сообщества, а также государства.
Окинем, мой читатель, мысленным взором блестящую череду лидеров римского народа эпохи становления и расцвета Республики: Фабий, оба Сципиона, Фламинин, Павел, Катон старший, братья Гракхи, даже Марий (если исключить полубезумный закат его жизни), даже Сулла с его «хирургическим» подходом к излечению уже больного организма Республики. Добавим к этому списку имена выдающихся деятелей времени ее заката: Помпея, Лукулла, Красса, Катона младшего, Цицерона в первой половине его государственной деятельности и, наконец, великого Цезаря.
Сколь бы разными по своему характеру, взглядам и вкладу в укрепление могущества Рима ни были эти мужи, у них много общего. Они бескорыстно служили славе и процветанию римского народа и Государства (как они их понимали). Они вели честную, открытую борьбу в сенате, на форуме или на поле боя и не опускались до обмана, интриг и сговора с врагом. Личное достоинство, верность, честь и доблесть большинства из них были безупречными, образ жизни — простым, а отношение к богатству — безразличным (или как к средству решения политических задач).
Такими же были в течение веков и преобладающие качества рядовых римских граждан. Потом, как расплата за покорение и ограбление других народов, в Рим вместе с деньгами и рабами нахлынули пороки: корыстолюбие, зависть, мздоимство чиновников, иждивенчество, жестокость, обман и предательство. Их мутный поток постепенно размывал фундамент Республики. Более всего от этой порчи страдал римский сенат. Учреждение, которое веками цементировало здание римской государственности, превратилось в собрание жадных, близоруких, трусливых и продажных людей. И, наконец, все рухнуло.
Сколь неприглядная и даже отвратительная картина предстала перед тобой, читатель, в этой главе! Решения сената диктуются то страхом, то ненавистью, то высокомерием — и всегда во вред интересам государства. Цицерон то поддерживает Октавиана против Антония, то призывает Брута, чтобы обуздать молодого Цезаря. А тот от смертельной вражды с Антонием легко переходит к союзу с ним против Брута и Кассия. Антоний то заключает соглашение с убийцами Цезаря старшего, то берется мстить им. И все они преследуют только свои личные интересы: борются за власть и вовсе безразличны к тому, что в междоусобных битвах льется кровь сограждан. Римские воины следуют за тем, кто больше заплатит, и готовы принять в награду дома, земли и имущество италийских союзников Рима. Проскрипции — уже не «хирургическая операция» диктатора, одержимого навязчивой идеей очищения Рима от скверны, а кровавый разгул личной мести триумвиров. Римский плебс не содрогается от зрелища их злодеяний, а предается бессовестным грабежам. Республика мертва, труп ее смердит так же, как отрубленные головы, выставленные на форуме. Среди них и голова Цицерона, одного из самых ревностных ее защитников.
На этом можно бы и закончить, но для перехода к Империи надо пройти еще один небольшой отрезок пути.
Глава IX Октавиан
Собрав благодаря проскрипциям необходимые средства для содержания и пополнения своих армий, Октавиан и Антоний переправляются в Македонию, чтобы там разбить Брута, а затем двинуться в Сирию против Кассия. Рим и Италия остаются под управлением Лепида. Между тем Брут, захватив контрибуцию, переправлявшуюся из Азии в Рим, сумел уже набрать более пяти легионов наемников. Моральные качества этого войска, по-видимому, не внушали ему особого доверия. К такому заключению мы приходим, вдумываясь в свидетельство Плутарха:
«...войско его отличалось поразительной красотой и великолепием вооружения. Почти у всех оружие было украшено золотом и серебром; на это Брут денег не жалел, хотя во всем остальном старался приучать начальников к воздержанности и строгой бережливости. Он полагал, что богатство, которое воин держит в руках и носит на собственном теле, честолюбивым прибавляет в бою отваги, а корыстолюбивым — упорства...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, XXXVIII)
От единоборства с объединенными силами противника Брут благоразумно отказался и в конце 43-го года переправил свое войско через Геллеспонт (Дарданеллы) в Азию. Он немедленно отправляет гонца к Кассию, приглашая его воздержаться от начатого было похода в Египет и соединиться для отпора общему врагу. Кассий соглашается и поворачивает свои войска на север. Оба полководца встречаются у города Смирна. Под их началом теперь 17 легионов пехоты и более 15 тысяч всадников. Кроме того, по заказу Брута в прибрежных городах Малой Азии спешно строятся военные корабли. Он намерен создать флот, способный осуществить морскую блокаду войск Антония и Октавиана в нищей Македонии, лишив их возможности получать пополнение и продовольствие из Италии морем. Стратегический план Брута состоит в том, чтобы не допустить войско триумвиров в богатую Азию, а вернуться самому вместе с Кассием в Македонию и сражаться там. Снабжение их войска с Востока будет бесперебойным, и это сулит им существенные преимущества. Кассий этот план одобряет и даже снабжает Брута деньгами для выплаты жалованья солдатам, поскольку тот истратил все свои ресурсы на строительство флота. Между двумя полководцами, несмотря на некоторые первоначальные шероховатости в отношениях, устанавливается вполне надежное согласие. Брут, как младший по возрасту и менее опытный воин (а также в силу мягкости своего характера), оказывает Кассию определенные знаки почтения.
Кстати, о характерах. Плутарх в биографии Брута, как раз в том месте, где он касается описываемых сейчас событий, делает отступление для сопоставления характеров и жизненных позиций Брута и Кассия. В преддверии завершения их совместной борьбы (и почти одновременной гибели) мне кажется уместным познакомить читателя с некоторыми фрагментами этого сопоставления:
«Кассий пользовался славою опытного воина, но человека раздражительного и резкого, который подчиненным не внушает ничего, кроме страха, и слишком охотно и зло потешается на счет друзей. Брута же за его нравственную высоту ценил народ, любили друзья, уважала знать, и даже враги не питали к нему ненависти, ибо он был на редкость мягок и великодушен, неподвластен ни гневу, ни наслаждению, ни алчности и с непреклонной твердостью держался своего мнения, отстаивая добро и справедливость. Всего более, однако, славе и влиянию Брута способствовала вера в чистоту его намерений...
Что же касается Кассия, такого горячего и вспыльчивого, так часто отступавшего от справедливости ради собственной выгоды, и сомнений-то почти не было, что он воюет, терпит скитания и опасности, ища лишь могущества и господства для себя, а отнюдь не свободы для сограждан». (Там же. XXIX)
Кстати сказать, примечательно прямо-таки пророческое замечание Брута в одном из не дошедших до нас его писем того периода, которое здесь пересказывает Плутарх:
«...Брут, как явствует из его писем, не столько полагался на свою силу, сколько на нравственную высоту. Так, когда решающий миг уже близится, он пишет Аттику, что нет судьбы завиднее его: либо он выйдет из битвы победителем и освободит римский народ, либо погибнет и тем избавит себя от рабства. «Все остальное для нас ясно и твердо определено, — продолжает Брут, — неизвестно только одно, предстоит ли нам жить, сохраняя свою свободу, или же умереть вместе с нею». Марк Антоний, говорится в том же письме, терпит достойное наказание за свое безрассудство. Он мог бы числиться среди Брутов, Кассиев и Катонов, а стал прихвостнем Октавия, и если теперь не понесет поражения с ним вместе, то вскорости будет сражаться против него. Этими словами Брут словно бы возвестил будущее, и возвестил точно». (Там же)
Прежде чем отправиться с войсками в Македонию, Кассий и Брут решают обеспечить надежность своего азиатского тыла, подчинив еще не признавшие их власть города и области, а заодно и пополнить свою походную казну. С этой целью Кассий овладел островом Родос, казнил пятьдесят его наиболее видных и опасных граждан, а все деньги, золото и серебро в храмах и у частных лиц конфисковал. Брут направился в непокорную Ликию (самый юг нынешней Турции). Ликийцы поначалу встретили его сурово. Жители Ксанфа подожгли свой город, перебили своих родных и близких, сложили их тела в костры, а затем закололись сами. Из всего свободнорожденного населения города в живых осталось лишь несколько женщин и менее ста пятидесяти мужчин. На близлежащий город Патары, также не желавший подчиниться римлянам, Брут, опасаясь того же безумия граждан, не стал и нападать. Он даже приказал отпустить без выкупа нескольких знатных женщин из Патар, захваченных случайно его солдатами. После этого патарцы, а затем и все остальные ликийцы капитулировали и доверились Бруту, который никого не казнил, а ограничился наложением весьма умеренной контрибуции.
Перед тем как обе армии направились к Геллеспонту, Кассий обратился к солдатам с большой речью. Аппиан ее подробно пересказывает. Кассий начинает с изложения предыстории и защиты справедливости их дела (включая необходимость устранения Цезаря), затем он обличает злодеяния триумвиров и призывает воинов идти на бой «за свободу на пользу только сенату и народу». В заключение же объявляет о немедленной выдаче каждому солдату по весьма внушительной сумме в полторы тысячи денариев, соответственно еще больших денег центурионам и военным трибунам, да еще ценных подарков наиболее заслуженным воинам. Осуществив таким образом «идеологическую подготовку» своего войска, Кассий и Брут выступают в поход.
Плутарх рассказывает, что в ночь перед переправой в Европу Бруту было некое видение. Вряд ли мы поверим в этот рассказ, но воспроизвести его стоит, так как он характерен для мистических представлений древних римлян и добавляет еще один штрих к легендарному облику Марка Брута.
«Была самая глухая часть ночи, в палатке Брута горел тусклый огонь. Весь лагерь обнимала глубокая тишина. Брут был погружен в свои думы и размышления, как вдруг ему послышалось, будто кто-то вошел. Подняв глаза, он разглядел у входа страшный, чудовищный призрак исполинского роста. Видение стояло молча. Собравшись с силами, Брут спросил: «Кто ты — человек или бог, и зачем пришел?» Призрак отвечал: «Я твой злой гений, Брут, ты увидишь меня при Филиппах». — «Что ж, до свидания», — бесстрашно промолвил Брут». (Там же. XXXVI)
Любопытно, с какой вполне современной логикой трезвый и несуеверный Кассий на следующий день успокаивает Брута, рассказавшего ему о своем видении:
«...не все, что мы видим или же чувствуем, — говорит он, — истинно. Ощущение есть нечто расплывчатое и обманчивое, а мышление с необычайной легкостью сочетает и претворяет воспринятое чувствами в любые мыслимые образы предметов, даже не существующих в действительности... Это видно хотя бы на примере сновидений, силою воображения создаваемых почти из ничего, однако же насыщенных всевозможными картинами и событиями». (Там же. XXXVII)
Это сочетание суеверия и трезвой логики, — хотя здесь оно и поделено между двумя персонажами, — очень характерно для античного сознания. Но это так, попутно...
Войска противников сошлись близ македонского города Филиппы. Брут и Кассий прибыли туда раньше и заняли для своих лагерей выгодные позиции на холмах. Заболевший Октавиан вынужден был задержаться по дороге, и все войско триумвиров пришло под командой Антония. Через некоторое время на носилках принесли и Октавиана. Он еще не вполне поправился, но сумел спустя несколько дней совершить необходимые перед сражением очистительные обряды и жертвоприношения. То же самое в войске противников сделал Брут. Однако, если в лагере триумвиров при этом солдатам сумели выдать лишь по куску хлеба и по пять денариев, то Брут приказал распределить по центуриям множество жертвенных животных и выдать по пятьдесят денариев на человека. Сказались результаты морской блокады войска Антония и Октавиана.
В связи с блокадой и нехваткой продовольствия у противника, Брут и Кассий не торопились развязать решительное сражение. Но Антонию, с помощью смелого обходного марша через болота, удалось принудить их к этому. В день сражения, если верить Плутарху, между Брутом и Кассием состоялся интересный разговор, особенно примечательный в свете того, что очень скоро ожидало их обоих:
«На рассвете в лагерях Брута и Кассия был поднят сигнал битвы — пурпурный хитон, а сами полководцы встретились посредине между лагерями, и Кассий сказал: «Я хочу, чтобы мы победили, Брут, и счастливо прожили вместе до последнего часа. Но ведь самые великие из человеческих начинаний — в то же время самые неопределенные по конечному своему исходу, и если битва решится вопреки нашим ожиданиям, нам нелегко будет свидеться снова. Так скажи мне теперь, что думаешь ты о бегстве и смерти?» И Брут отвечал: «Когда я был молод и неопытен, Кассий, у меня каким-то образом — уже и сам не знаю, как — вырвалось однажды опрометчивое слово: я порицал Катона за то, что он покончил с собой. Мне представлялось и нечестивым, и недостойным мужа бежать от своей участи, не претерпеть бесстрашно все, что бы ни выпало тебе на долю, но скрыться, исчезнуть. Теперь я иного мнения. Если бог не судил нам удачи в нынешний день, я не хочу подвергать испытанию новые надежды и новые приготовления, но уйду с благодарностью судьбе за то, что в мартовские иды отдал свою жизнь отечеству и, опять-таки ради отечества, прожил еще одну жизнь, свободную и полную славы». Тогда Кассий улыбнулся, обнял Брута и промолвил: «Что же, с этими мыслями — вперед, на врага! Мы либо победим, либо не узнаем страха перед победителями». (Там же. XL)
У подножия холма войска противников выстроились в боевые порядки друг против друга. Брут командовал правым флангом. Против него стояло войско Октавиана, хотя сам он из-за нездоровья остался в лагере. На левом фланге Кассий стоял против Антония. Лагери всех четырех главнокомандующих, соответственно расположенные, находились неподалеку — за их боевыми линиями.
Сражение началось самовольной атакой солдат Брута. Не дождавшись приказа своего главнокомандующего, который еще только объезжал легионы, они в едином порыве ринулись на врага. Часть их завязала ожесточенную рукопашную схватку с солдатами передней линии Октавиана, а другая часть обошла ее справа и захватила лагерь (сам Октавиан успел его покинуть). Услыхав победные крики врагов у себя в тылу, воины, сражавшиеся на передней линии, пришли в замешательство, дрогнули, а затем обратились в бегство. Большая часть их была изрублена, и наемники Брута на плечах беглецов ворвались в тот же лагерь. Сам Брут был вместе с ними, но не смог удержать войско от грабежа, которому предались солдаты.
Между тем судьба сражения была еще отнюдь не решена. Нескоординированная атака правого фланга исказила и растянула боевую линию нападавших. Левый фланг, где находился Кассий, подвергся стремительной контратаке легионов Антония. Связи между флангами не было. Брут не пришел на помощь Кассию, да ему бы, наверное, и не удалось в первые пару часов оторвать своих воинов от увлекательного «дела», которым они были заняты. Кассий же и его солдаты, не имея вестей от Брута, решили, что он разбит, и это посеяло панику в их рядах. Легионерам Антония удалось зайти в тыл воинам Кассия, оттеснить их от лагеря, а сам лагерь захватить и разрушить. В результате жесточайшее сражение, где в общей сложности погибло около 25 тысяч человек — причем две трети из них пришлось на долю армии триумвиров — завершалось неопределенно. В этот момент шаткого равновесия у чересчур эмоционального коллеги Брута отказали нервы (или подвела гордыня?).
«Кассий, — рассказывает Аппиан, — оттесненный от своих укреплений и не имевший возможности вернуться в лагерь, бежал на холм, на котором расположены Филиппы, и оттуда смотрел на все происходящее. Но из-за поднявшейся пыли он видел не все или видел неясно. Заметил он лишь, что лагерь его взят, и приказал Пиндару, своему оруженосцу, чтобы тот бросился на него и убил его. В то время как Пиндар медлил выполнить это приказание, прибежал посланный с известием, что на другом фланге Брут одержал победу и разрушил неприятельский лагерь. Кассий ответил : «Скажи ему, пусть он одержит полную победу», а затем, обратившись к Пиндару: «Скажи, что ты медлишь, отчего не освобождаешь меня от позора?» Тогда Пиндар убил своего господина, подставившего ему горло.
Так представляют себе смерть Кассия некоторые. Другие же считают, что когда всадники Брута явились с доброй вестью, Кассий, думая, что это враги, послал для выяснения дела Титиния (по-видимому, одного из своих легатов. — Л.О.). А когда всадники встретили его радостно, как друга Кассия, и при этом кричали, Кассий, думая, что Титиний попал к врагам, сказал: «Итак, мы ждали, чтобы увидеть, как схватили нашего друга?» и удалился в палатку вместе с Пиндаром...» (Аппиан. Гражданские войны. IV, 113)
Плутарх, в частности, придерживается второй версии самоубийства Кассия и добавляет к ней еще и такую, как поется в песне Окуджавы, чисто «римскую деталь»:
«...Титиний с венком, которым его на радостях украсили, явился, чтобы обо всем доложить Кассию. Когда же он услыхал стоны и рыдания убитых горем друзей и узнал о роковой ошибке командующего и о его гибели, он обнажил меч и, отчаянно проклиная свою медлительность, закололся». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, XLV)
Между тем день битвы заканчивался. Брут, не имея вестей от Кассия, с опозданием повел своих воинов к нему на помощь, а легионеры Антония, заметив это, отошли в свой лагерь. На следующий день Брут снова вывел свое уже объединенное войско к подножию холма, но его противники отказались принять вызов. Наступило затишье.
Антоний и Октавиан ожидали прибытия подкреплений и транспорта с продовольствием из Италии. Ожидали напрасно, так как военным кораблям Брута удалось потопить флот, шедший на помощь триумвирам. Узнав об этом и понимая, что голод вскоре сделает их войско небоеспособным, Антоний и Октавиан стали готовиться к новой битве. Брут же, поостыв и имея большой запас продовольствия, считал теперь целесообразным оставаться в лагере и даже претерпеть длительную осаду, понимая, что противник не сможет продержаться долго. Так прошел целый месяц. В войске триумвиров, истерзанном голодом, зрела отчаянная решимость. Однако его полководцы понимали безнадежность попытки штурма хорошо укрепленного и выгодно расположенного на холме лагеря Брута. На их счастье, в этом лагере возникли свои трудности, хотя и совсем другого рода. Солдаты и командиры, особенно те, кто участвовал в разгроме войска Октавиана, были недовольны затяжкой войны и самоуверенно требовали сражения с неприятелем в открытом поле. Брут игнорировал их настояния и не собирал воинов на сходку, чтобы не оказаться вынужденным к неразумным действиям. Но солдаты стали роптать, собирались толпой между палаток и, подогреваемые своими командирами, громко упрекали главнокомандующего в постыдной робости. Конечно, суровый и властный Кассий сумел бы крутыми мерами пресечь эти нарушения воинской дисциплины. Но Брут, при всей своей личной отваге, был слишком мягок в отношениях с подчиненными. Он уступил их нажиму и обещал дать сражение.
Кроме прямой выгоды истощения сил противника, Брут, видимо, не очень доверял боевым качествам воинов Кассия, недавно потерпевших поражение. Чтобы укрепить их рвение, он обещал отдать солдатам после победы на разграбление города Фессалонику и Лакедемон, активно поддержавших Антония и Октавиана. Плутарх упрекает его за это:
«В жизни Брута, — пишет он, — это единственный поступок, которому нет извинения. Правда, Антоний и Октавиан, чтобы наградить солдат, чинили насилия, куда более страшные и, очищая для своих победоносных соратников земли и города, на которые те не имели ни малейших прав, чуть ли не всю Италию согнали с давно насиженных мест. Но для них единственной целью войны были власть и господство, а Бруту, чья нравственная высота пользовалась такою громкою славой, даже простой люд не разрешил бы ни побеждать, ни спасать свою жизнь иначе чем в согласии с добром и справедливостью, и особенно — после смерти Кассия, который, как говорили, иной раз и Брута толкал на чересчур крутые и резкие меры». (Там же. XLVI)
В середине октября 42-го года там же, близ Филипп, состоялось второе сражение двух римских армий. Вот как описывает Аппиан его начало:
«Таким образом, Брут против воли вывел войско, построил его в боевом порядке перед стеной (своего лагеря. — Л.О.) и наставлял воинов не выходить далеко за холм, чтобы им было возможно легко вернуться, если это понадобится, и чтобы им было удобнее обстреливать врагов с холма. С обеих сторон воины подзадоривали друг друга к битве. Тут и там наблюдалась большая уверенность и даже чрезмерная смелость: у одних она была вызвана страхом перед надвигающимся голодом, у других — естественным опасением, как бы они, принудившие полководца к выступлению, которое сам он хотел еще отсрочить, не показали себя хуже, чем обещали, слабее, чем хвастались... Такое же настроение внушал им своим строгим лицом Брут, объезжавший на коне войско...
Цезарь и Антоний, объезжая свои войска... еще строже убеждали их... «Мы нашли врагов, о мужи, — говорили они, — мы имеем тех, кого хотели получить за пределами их укреплений. Пусть же никто из вас не опозорит собственного своего вызова, оказавшись слабее на деле, чем в угрозах. Пусть никто не отдаст предпочтения голоду, бедствию неотвратимому и мучительному, перед укреплениями и трупами врагов. Их они предоставляют вашей храбрости, вашему оружию, вашей безумной отваге...» (Аппиан. Гражданские войны. IV, 125, 126)
После такой подготовки оба войска преисполнились жестокой решимости. Как тут же с горечью замечает Аппиан:
«В это время они уже вовсе забыли о том, что они — граждане одного государства. Они угрожали друг другу, как если бы природа и рождение создали их врагами». (Там же, 127)
Плутарх утверждает, что Брут не знал о гибели подкрепления, направлявшегося к триумвирам. Иначе он, по мнению историка, сумел бы воспротивиться преждевременному сражению. Примечательно, что это неведение Плутарх, писавший в пору расцвета Римской империи, приписывает вполне определенному «политическому выбору» и предусмотрительности... римских богов (!):
«Но власть, по-видимому, — пишет он, — не могла долее оставаться в руках многих, требовался единый правитель, и божество, желая устранить того единственного, кто еще стоял поперек дороги будущему правителю, не дало добрым вестям дойти до Брута. А между тем они едва не коснулись его слуха, ибо всего за день до битвы поздним вечером из вражеского стана явился перебежчик, некий Клодий, и сообщил, что Цезарь, получив донесение о гибели своего флота, жаждет сразиться с неприятелем как можно скорее. Но словам этого человека не дали никакой веры, и даже не допустили его к Бруту...». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут. XLVII)
Чуть ниже историк меланхолически добавляет:
«Говорят, что в эту ночь Бруту снова явился призрак. С виду он был такой же точно, как в первый раз, но не проронил ни слова и молча удалился». (Там же, XLVIII)
Предоставим Плутарху описать и ход самого этого рокового для Брута сражения: «Тот фланг, что находился под прямым начальством Брута, взял верх над неприятелем и обратил в бегство левое его крыло. Конница своевременно поддержала пехоту и вместе с нею теснила и гнала расстроенные ряды противника (начало такое же, как в первом сражении. — Л.О.). Но другой фланг начальники, чтобы предотвратить окружение, растягивали все больше и больше, а так как численное превосходство было на стороне Цезаря и Антония, боевая линия истончилась в середине и потеряла силу, так что натиска врага выдержать не смогла и побежала, а те, кто совершил этот прорыв, немедленно ударили Бруту в тыл. В этот грозный час Брут свершил все возможное и как полководец, и как воин, но победы не удержал, ибо даже то, что было явной удачей в первой битве, теперь обернулось ему во вред...
В этот же час сын Катона Марк, сражаясь среди самых храбрых и знатных молодых воинов и чувствуя, что неприятель одолевает, тем не менее не побежал, не отступил, но, громко выкликая свое имя и имя своего отца, разил врага до тех пор, пока и сам не рухнул на груду вражеских трупов. И по всему полю падали мертвыми лучшие, самые доблестные, бесстрашно отдавая свою жизнь за Брута». (Там же. XLIX)
Однако судьба сражения была уже решена. Еще не зная размеров постигшего его войска поражения, Брут не стал искать смерти в бою, но постарался выбраться из окружения. Далее Плутарх описывает эпизод, хотя и не подтвержденный в рассказе Аппиана, но очень характерный для представления древних римлян о воинской доблести и чести. Поэтому, даже допуская возможность того, что эпизод этот следует считать легендой, я нахожу уместным представить его тебе, читатель:
«Среди близких его (Брута. — Л.О.) друзей был некий Луцилий, человек благородный и достойный. Он заметил, что отряд варварской конницы (видимо, из вспомогательного, не римского контингента. — Л.О.), не обращая внимания ни на кого из беглецов, упорно гонится за Брутом, и решил любой ценой их остановить. И вот, немного поотстав от прочих, Луцилий кричит преследователям, что Брут — это он, и всадники поверили с тем большей легкостью, что пленник просил доставить его к Антонию: Цезаря, дескать, он боится, Антонию же готов довериться. В восторге от этой счастливой находки, восхваляя свою поразительную удачу, они повезли Луцилия в лагерь, выслав вперед гонцов, Антоний до того обрадовался, что, несмотря на поздний час — уже ложились сумерки, поспешил навстречу всадникам, а все остальные, кто узнавал, что Брута схватили и везут живым, сбегались вместе, и одни жалели об его злой судьбе, другие твердили, что он опорочил былую свою славу, сделавшись из недостойной привязанности к жизни добычею варваров. Конники были уже близко, и Антоний, не зная, как ему принять Брута, остановился, а Луцилий, когда его вывели вперед, без малейших признаков страха объявил: «Марка Брута, Антоний, ни один враг не поймал и, верно, никогда не поймает — судьба да не одержит такой победы над доблестью! Если же все-таки сыщут — живым или мертвым — он в любом случае окажется достоин себя и своей славы. Я обманул твоих воинов — и потому я здесь и без возражения приму любую, самую жестокую кару за свой обман». Все были поражены и растеряны, но Антоний, обернувшись к тем, кто привез Луцилия, сказал так: «Вас, друзья, эта ошибка, конечно, немало огорчает, вы считаете себя оскорбленными не на шутку. Но будьте совершенно уверены, вам досталась добыча еще лучше той, какую вы искали. Ведь искали вы врага, а привели нам друга. Что бы я стал делать с Брутом, если бы он живым попал в мои руки, — клянусь богом, не знаю, но такие вот люди пусть всегда будут мне друзьями, а не врагами!» Он обнял Луцилия и поручил его заботам одного из своих приближенных, а впоследствии мог твердо рассчитывать на его верность во всех случаях жизни, до самого конца». (Там же, L)
Благородное поведение Антония в этом эпизоде как-то не вяжется с тем неприглядным его обликом, который должен был сложиться у читателя после описания смерти Цицерона. Отнести весь эпизод к области фантазии историка мешает упоминание о том, что Луцилий оставался до конца дней связанным с Антонием. Чуть ниже я попытаюсь разрешить это противоречие, а сейчас продолжу описание событий дня.
Оторвавшись от преследователей, Брут вместе с сопровождавшим его отрядом укрылся в лесу на склоне холма за рекой. Он остановился, но его спутники настаивали на том, что медлить нельзя и надо бежать дальше. Тогда, продолжает свой рассказ Плутарх:
«...Брут, поднявшись, отозвался: «Вот именно, бежать, и как можно скорее. Но только с помощью рук, а не ног». Храня вид безмятежный и даже радостный, он простился со всеми по очереди и сказал, что для него было огромной удачей убедиться в искренности каждого из друзей. Судьбу, продолжал Брут, он может упрекать только за жестокость к его отечеству, потому сам он счастливее своих победителей — не только был счастливее вчера или позавчера, но и сегодня счастливее: он оставляет по себе славу высокой нравственной доблести, какой победителям ни оружием, ни богатствами не стяжать, ибо никогда не умрет мнение, что людям порочным и несправедливым, которые погубили справедливых и честных, править государством не подобает.
Затем он горячо призвал всех позаботиться о своем спасении, а сам отошел в сторону. Двое или трое двинулись за ним следом, и среди них Стратон, с которым Брут познакомился и подружился еще во время совместных занятий красноречием. Брут попросил его стать рядом, упер рукоять меча в землю и, придерживая оружие обеими руками, бросился на обнаженный клинок и испустил дух». (Там же. II)
По свидетельству Аппиана:
«Когда было найдено тело Брута, Антоний тотчас же обернул его в лучший пурпуровый плащ и по сожжении тела послал останки матери, его Сервилии. Войско Брута, узнав о его смерти, отправило послов к Цезарю и Антонию и, получив от них прощение, было распределено по их войскам...
...Порция, жена Брута и сестра Катона младшего, узнав о смерти их обоих, несмотря на то, что усердно оберегалась своими родными, схватила уголья с внесенной к ней жаровни и проглотила их». (Аппиан. Гражданские войны. IV, 135, 136)
Это свидетельство почти дословно совпадает с окончанием рассказа Плутарха о гибели Марка Брута и самоубийстве Порции.
Аппиан же свое повествование завершает неким заключением: «Так умерли Брут и Кассий, мужи, выделявшиеся среди всех римлян благородством, славой и неоспоримой доблестью». Затем он вспоминает всю их историю, начиная от перехода на сторону Юлия Цезаря после поражения и гибели Помпея Великого. Отметив, что значительная часть их войска (особенно у Кассия) состояла из ветеранов Цезаря, которые его в свое время боготворили, а теперь сражались под командованием его убийц, римский историк II века от Р.Х. роняет фразу, не совсем ясную и довольно неожиданную:
«Предлогом, побуждавшим нести все тяготы во время их службы у Помпея и в данном случае, служило для солдат то, что они действовали не из личных интересов, а ради демократии — слова красивого, но всегда бесполезного». (Там же. IV, 133)
Заканчивает же Аппиан свой рассказ (начатый похвалой благородству и доблес
ти Брута и Кассия) так:
«Однако всем этим их свойствам всецело противостоит их грех в отношении Цезаря. Ведь это был грех не простой и не малый: ведь он был совершен против друга, был совершенно неожиданным. Грех против спасшего их в войне благодетеля, представлявший поэтому проявление неблагодарности. Грех против императора, что было нечестиво. Грех, притом совершенный в курии, против жреца, облеченного в священные одежды. Грех против властителя, равного которому не было, принесшего пользу и родине, и власти более всех других. За это-то Брут и Кассий и подверглись гневу божества, часто подававшего им об этом знамения...
Ниспослано божеством было и то, что Кассий при еще не определившейся победе безрассудно отчаялся во всем, а Брут был вынужден оставить благоразумную медлительность и вступить в бой с людьми, обезумевшими от голода... оба они должны были наложить на себя руки, подобно тому как они наложили их на Цезаря. Так были наказаны Кассий и Брут». (Там же. IV, 134)
Из этого заключения видно, что нравственный критерий поступков человека римский историк ставит выше его благих намерений и личной доблести. Не знаю, как ты, читатель, а я с такой оценкой согласен.
Теперь самое время вернуться к благородному поведению Антония по отношению к Луцилию, спасшему от преследования Брута. К этому эпизоду можно добавить и упомянутые позже посмертные почести, которые он воздал и самому Бруту. Читатель может припомнить и то, что еще молодым офицером Антоний выказал достойное похвалы уважение к врагу, отыскав на поле боя и похоронив с царскими почестями тело египетского полководца Архелая. Наконец, вспомним, что он отверг предложение солдат Лепида убить своего главнокомандующего, который отказался принять его после бегства из Италии, а, напротив того, отнесся к нему с почтением, назвал отцом и сохранил за Лепидом титул императора. Плутарх отмечает, что Антоний был незлобив и нисколько не обижался, когда посмеивались над его похождениями, а своим солдатам внушал прямо-таки удивительную любовь и привязанность. Все это плохо согласуется с каннибальским обликом человека, который ставит перед собой на обеденный стол отрубленную голову врага. Но заметим, что упоминает об этом Плутарх с оттенком недоверия: «Говорят, что...» Конечно, не вызывает сомнения, что Антоний ненавидел Цицерона и домогался его гибели. Однако для этого у него было немало оснований: Цицерон казнил без суда его отчима, в своих филиппиках он с высокомерным презрением высмеивал грубость привычек и поведения Антония, издевался над его угождением Юлию Цезарю и панике, которой Антоний поддался в мартовские иды. Наконец, Цицерон всячески настраивал против него сенат и Октавиана, добился объявления его мятежником.
Представление о свирепости Антония, порожденное отвратительной картиной любования головой Цицерона, невольно заставляет нас приписать ему и инициативу введения проскрипций. Октавиану, ввиду его молодости, мы готовы отвести второстепенную роль. Так ли это? Прямых указаний на авторство в этом гнусном деле у нас нет. Как проходили переговоры триумвиров на острове, мы не знаем, а все последующие объявления о проскрипциях делались от имени всех троих. Но, может быть, прав Брут, когда он в своем письме называет Антония «прихвостнем Октавиана»? Приглядимся же повнимательней к молодому Цезарю. Он ловко обвел вокруг пальца Цицерона, легко менял фронт, силой добился от сената консульского звания. Все это говорит о хитрости, коварстве, неразборчивости в средствах, но не о жестокости. Однако обратимся к началу биографии императора Августа у Светония в «Жизни двенадцати цезарей». Сражению при Филиппах историк уделяет всего три строчки. Оно и понятно — в долгой жизни Августа это сражение всего лишь эпизод. Но вчетверо больше места Светоний отводит описанию поведения Октавиана после победы над Брутом и Кассием. Случайно ли это? Я предоставляю решить читателю:
«Вступив в союз с Антонием и Лепидом, он, несмотря на свою слабость и болезнь, окончил в два сражения филиппийскую войну При этом в первом сражении он был выбит из лагеря и едва спасся бегством на другое крыло к Антонию. Тем не менее, после победы он не выказал никакой мягкости: голову Брута он отправил в Рим, чтобы бросить ее к ногам статуи Цезаря, а вымещая свою ярость на самых знатных пленниках, он еще и осыпал их бранью. Так, когда кто-то униженно просил не лишать его тело погребения, он, говорят, ответил: «Об этом позаботятся птицы!» Двум другим, отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием или игрой на пальцах, кому остаться в живых, и потом смотрел, как оба они погибли — отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого сам покончил с собой. Поэтому иные, и среди них Марк Фавиний, известный подражатель Катона, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовали Антония почетным именем императора, Октавиану же бросали в лицо самые жестокие оскорбления». (Светоний. Божественный Август, 13)
Напомню, что в это время Октавиану едва исполнился 21 год. Снова вглядываюсь в скульптурный портрет молодого Августа. Выше я написал: «лицо волевое и даже злое, но вместе с тем надменно-красивое». Теперь я бы слово «злое» поставил на первое место и выделил курсивом. Этот «мальчик» способен был без колебаний воспользоваться бесчеловечным опытом проскрипций Суллы. И именно ему, уже тогда решившему стать единодержавным владыкой Рима, а не простоватому и лихому воину Антонию, нужно было уничтожить всех, кто мог бы стать на его пути. Все это, разумеется, лишь догадка. Но будем учитывать ее теперь, когда на политической арене Рима остались только Антоний и Октавиан.
После разгрома и гибели общего врага их союз должен был вновь смениться соперничеством. Вероятно, оба это отлично понимали. Но прежде следовало сообща разрешить трудную и чреватую опасностями для обоих проблему — рассчитаться с победившим войском. В критический момент перед последними сражениями Антоний и Октавиан обещали уплатить по пяти тысяч денариев каждому солдату. Даже если в живых осталось лишь 80 тысяч человек, это составляет четыреста миллионов. А денег нет: государственная казна пуста, деньги, собранные на войну истрачены, трофеев — никаких. Солдат, отслуживших срок, надо наделить землей. Где ее взять? Все государственные угодья поделил и раздал Цезарь старший. И если его ветераны, обожавшие своего вождя, готовы были ждать, то наемники Антония и Октавиана задержки не потерпят. Их возмущение обратится против обоих полководцев. Ввиду этого вчерашние соратники немедленно расстались, но с тем, чтобы решать общие проблемы. Антоний с частью войска прямо из Македонии отправился за деньгами в Азию, уже основательно обобранную Брутом и Кассием. Октавиан с остальными легионами отплыл в Италию — решать земельную проблему. Старослужащие солдаты были отпущены, кроме восьми тысяч, пожелавших продолжать службу. Антоний и Октавиан зачислили их в свою личную гвардию — «преторские когорты».
Оговорюсь сразу. Я не намерен вдаваться в подробности военных кампаний, которые обоим главнокомандующим пришлось вести в последующие десять лет, до того как случилось неизбежное — они столкнулись друг с другом. Антоний в эти годы безрезультатно воевал с парфянами. Октавиану пришлось подавлять восстание италиков, сражаться с младшим сыном Помпея, Секстом, и совершить поход в Иллирию (нынешняя Албания). Войны эти существенной роли в Римской истории не сыграли. Я буду их касаться лишь в целях раскрытия личностей двух главных персонажей. Особенно нас будет интересовать Октавиан — ведь его жизненный путь только начинается. Но сначала мы отправимся на Восток — вместе с Антонием.
Его путь лежал через Грецию, и здесь Марк был милостив. Ему льстило называться покровителем греков. Он слушал рассуждения ученых, смотрел игры, принимал посвящения в таинства, был снисходителен в суде. Афинам пожаловал щедрые дары. Затем перебрался в Азию и здесь приступил к делу. Остановившись близ Пергама, Антоний вызвал к себе представителей эллинских городов, расположенных на побережье Эгейского моря, и обратился к ним с такой речью:
«Для раздачи им всем (воинам. — Л.О.) земли и городов Цезарь отбыл в Италию. Если определить это одним словом — он поехал туда, чтобы выселить Италию. На вас же, чтобы вы не были выселены с вашей земли, из городов, домов, храмов и могил, мы наложим взнос денег, не всех (какие нужны. — Л.О.) — этого вы и не могли бы выполнить, но части их, притом самой незначительной. Этим вы, я думаю, останетесь довольны. Того, что вы дали нашим врагам в два года — а отдали вы им подать за десять лет — будет нам достаточно, но получить мы это должны в течение одного года: этого требуют наши нужды. Вам, услышавшим о такой нашей милости, я мог бы еще прибавить только одно: ни на кого из вас не налагается такое наказание, которое равнялось бы вашей провинности». (Аппиан. Гражданские войны. V, 6)
Затем Антоний с войском двинулся вдоль побережья на юг. Малоазиатские греки чествовали, его как бога Диониса. Он им охотно подыгрывал:
«Когда Антоний вступал в Эфес, впереди выступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличье панов и сатиров. Весь город был в плюще, в тирсах, повсюду звучали псалтерии (подобие арфы. — Л.О.), свирели, флейты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радостей, Источником милосердия. Нет спору, он приносил и радость, и милосердие, но — лишь иным, немногим. Для большинства же он был Дионисом Кровожадным и Неистовым ( все это — культовые прозвища бога Диониса). Он отбирал имущество у людей высокого происхождения и отдавал негодяям и льстецам. Нередко у него просили добро живых — словно бы выморочное — и получали просимое. Дом одного магнесийца он подарил повару, который, как рассказывают, однажды угостил его великолепным обедом...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, XXIV)
Объезжая провинции и государства Малой Азии, Антоний творил суд над городами и царями, обкладывал их за поддержку Кассия и Брута высокой данью. В общей сложности контрибуция, наложенная им на Азию, составила колоссальную сумму — около 1200 миллионов денариев. Для отчета по поводу обвинения в тайной поддержке Кассия он вызвал к себе в Киликию Клеопатру. Эта встреча с египетской царицей роковым образом перевернула и сломала всю жизнь Антония. Он — влюбился без памяти!
Торнтон Уайдлер в «Мартовских идах» намекает на то, что любовь Антония и Клеопатры началась еще в год смерти Юлия Цезаря, когда царица приезжала в Рим. Скорее всего, это вымысел. Писатели нашего времени — как мы видели на примере Бернарда Шоу — позволяют себе определенную вольность при использовании свидетельств древних авторов. В чем нельзя упрекнуть Шекспира. Если читатель возьмет на себя труд сопоставить текст трагедии «Антоний и Клеопатра» с жизнеописанием Антония у Плутарха, он обнаружит, что великий драматург совершенно точно, порой дословно, следует римскому историку в изложении фактов и обстоятельств. Вот только один пример. В шестой главе для обрисовки средств обольщения, которыми искусно пользовалась Клеопатра, я заимствовал у Плутарха описание прибытия царицы в Киликию. Того самого прибытия, о котором сейчас идет речь. Позволю себе повторить это описание словами Шекспира (в переводе Пастернака). Читатель может их сравнить:
Энобарб:
«Сейчас я расскажу.
Ее баркас горел в воде, как жар.
Корма была из золота, а парус
Из пурпура. Там ароматы жгли,
И ветер замирал от восхищенья.
Под звуки флейт приподнимались в лад
Серебряные весла, и теченье
Вдогонку музыке шумело вслед.
Ее самой словами не опишешь.
Она лежала в золотом шатре
Стройней Венеры, а ведь и богиня
Не подлинность, а сказка и мечта.
По сторонам у ней, как купидоны,
Стояли, с ямочками на щеках,
Смеющиеся дети с веерами,
От веянья которых пламенел
Ее румянец.
Агриппа:
Я воображаю Антония!
Энобарб:
Как нимфы на реке
Служанки не спускали глаз с царицы.
Одна вела баркас, в руках другой
Так и сновали шелковые снасти.
Как я сказал, с баркаса долетал
Пьянящий запах...»
(II акт, 2-я сцена)
Точно следуя за цепью событий в рассказе Плутарха, Шекспир чутьем художника воскрешает чувства и мотивы поведения героев трагедии. В первую очередь — историю трагической любви Антония и Клеопатры. Не случайно он не обращает внимания на упомянутую историком образованность египетской царицы. Теперь ее ум позволяет Клеопатре при первой же встрече найти верную манеру общения с Антонием. Сразу же разглядев в нем простоватого и грубого солдата, она, как пишет Плутарх, «сама заговорила в подобном же тоне — смело и без всяких стеснений». Антоний влюбляется не в умную, тонкую собеседницу, как некогда Цезарь, а просто в женщину, обольстительную, страстную, непрестанно меняющуюся. Приведенный мной отрывок разговора адъютанта Антония, Энобарба, и приближенных Октавиана, Агриппы и Мецената, относится к моменту первой после сражения при Филиппах встречи Октавиана и Антония. Октавиан сватает за Антония свою сестру. Когда они выходят, происходит следующий диалог, в котором речь идет о Клеопатре:
Меценат:
«Теперь ее он бросит навсегда.
Энобарб:
Антоний? Что ты! Ни за что на свете.
Ее разнообразью нет конца.
Пред ней бессильны возраст и привычка.
Другие пресыщают, а она
Все время будит новые желанья.
Она сумела возвести разгул
На высоту служенья и снискала
Хвалы жрецов».
Антоний теряет голову. Он бросает войско, начатый было поход в Парфию и уезжает вслед за Клеопатрой в Александрию. Этот гуляка, развратник, солдафон оставил в Истории ни с чем не сравнимый пример самоотверженной любви. Кому еще случилось сложить к ногам возлюбленной Римскую империю? А ведь не случись этого (по выражению Бунина) «солнечного удара», единоборство с Октавианом, скорее всего, окончилось бы в пользу Антония... А Клеопатра? Любит ли она Антония или расчетливо соблазняет могущественного римлянина ради укрепления своей власти над Египтом? Не для того ли она подделывается под его грубые привычки?
В Александрии они непрерывно пируют: бражничают ночи напролет. Чтобы показать размах этого чревоугодия, Плутарх приводит следующий дошедший до него рассказ.
«Врач Филот, родом из Амфисии, рассказывал моему деду Лампирию, что как раз в ту пору он изучал медицину в Александрии и познакомился с одним из поваров царицы, который уговорил его поглядеть, с какой роскошью готовится у них обед. Его привели на кухню, и среди прочего изобилия он увидел восемь кабанов, которых жарили разом, и удивился многолюдности предстоящего пира. Его знакомец засмеялся и ответил: «Гостей будет немного, человек двенадцать, но каждое блюдо надо подавать в тот миг, когда оно вкуснее всего, а пропустить этот миг проще простого. Ведь Антоний может потребовать обед и сразу, а случается, и отложит ненадолго — прикажет принести сперва кубок или увлечется разговором и не захочет его прервать. Выходит, — закончил повар, — готовится не один, а много обедов, потому что время никак не угадаешь...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, XXVIII)
В другом месте биографии Антония Плутарх записывает:
«Клеопатра... всякий раз сообщая все новую сладость и прелесть любому делу или развлечению, за какое ни брался Антоний, ни на шаг не отпуская его ни днем ни ночью, крепче и крепче приковывала к себе римлянина. Вместе с ним она играла в кости, вместе пила, вместе охотилась, бывала в числе зрителей, когда он упражнялся с оружием, а по ночам, когда в платье раба он бродил и слонялся по городу, останавливаясь у дверей и окон домов и осыпая обычными своими шутками хозяев — людей простого звания, Клеопатра и тут была рядом с Антонием, одетая ему под стать. Нередко он и сам слышал в ответ злые насмешки и даже возвращался домой, помятый кулаками александрийцев, хотя большинство и догадывалось, с кем имеет дело». (Там же, XXIX)
Похоже на расчетливое обольщение? Пожалуй, да. Но Шекспир другого мнения. Клеопатра полюбила так же горячо и беззаветно. На этот раз не ум и благородство, а просто мужскую стать и мальчишескую непосредственность Антония. Оценила силу его страстного влечения. Антонию сорок два года — наилучший возраст мужчины. А ей уже двадцать восемь! Кажется, что это — очень много. Она упоминает о появившихся морщинках. Антоний — ее последняя пылкая любовь. Как у Цветаевой (в том же возрасте): «Скоро уж из ласточек в колдуньи...» На протяжении четырех актов трагедии Шекспир, строго следуя фактологии Плутарха, четко выписывает образ сильной, страстно любящей, безумно ревнивой женщины.
Вот в первой же сцене спектакля Антонию сообщают, что прибыли гонцы из Рима. Подозревая, что это вести от жены Антония, Фульвии, Клеопатра в припадке ревности безжалостно язвит его:
Служитель:
«Из Рима вести, добрый государь.
Антоний:
Какая скука! Только поскорее.
Клеопатра:
Нет, расспроси, Антоний. Может быть,
Не в духе Фульвия и юный Цезарь
Приказывает: «Сделай то и то,
Займи то царство и очисти это,
Иначе будет плохо».
Антоний:
Милый друг!
Клеопатра:
Я не шучу. По-видимому, больше
Задерживаться здесь тебе нельзя,
Иначе Цезарь даст тебе отставку.
Как знаешь сам. Где Фульвии письмо?
Нет, Цезаря посланье, виновата.
Да нет, обоих, я хочу сказать,
Прими гонцов. Клянусь венцом Египта,
Ты покраснел, вернейший знак того,
Что ты боишься Цезаря, Антоний.
А может быть, стыдливость эта — страх
Пред Фульвией и будущей отчиткой? Но где ж гонцы?»
А в пятой сцене, когда Антоний уезжает на войну в Сирию, она тоскует, мечется, ежедневно шлет к нему гонцов. Во втором акте в припадке ярости пытается убить гонца, принесшего ей весть о новой женитьбе Антония. А когда гонец убегает, посылает вслед придворного, веля узнать, как выглядит ее новая соперница, сколько ей лет, каков оттенок ее волос и рост.
В одиннадцатой сцене третьего акта смиренно умоляет о прощении за свой испуг во время морской битвы.
В тринадцатой — покорно сносит жестокие оскорбления от отчаявшегося было Антония («Я взял тебя объедком с тарелки Цезаря»). И сама застегивает ему панцирь, когда он, поборов отчаяние, решает дать сражение Октавиану уже под стенами Александрии. В четвертом акте, после нового поражения Антония, Клеопатра без единого слова протеста выслушивает поток проклятий, который он обрушивает на ее голову, молча уходит, укрывается в гробнице. Не оскорбленная гордость владеет ею, а тревога — не разлюбил ли ее Антоний. Рушится царство, Октавиан уже у ворот столицы, а ее тревожит только это. Ей необходимо сейчас, немедленно разрешить свои сомнения. Она приказывает евнуху сообщить Антонию, что царица покончила с собой, и посмотреть, как он примет это известие. Узнав о мнимой смерти Клеопатры, Антоний пытается убить себя. Смертельно раненного, его приносят к высокой гробнице. С помощью служанок Клеопатра втаскивает его через окно. Видя, что Антоний умирает, Клеопатра теряет сознание. Решив наложить на себя руки, она не думает о смерти. Душа ее полна Антонием. В последней сцене трагедии, в полубреду она говорит:
Клеопатра:
«Мне снилось, был Антоний государь.
Еще один бы сон такой, чтоб снова
Такого человека увидать! ...Ногами
Переступал он океан. Рукой
Он накрывал вселенную, как шлемом.
Казался голос музыкою сфер,
Когда он разговаривал с друзьями,
Когда ж земной окружности грозил,
Гремел как гром. Он скупости не ведал,
Но, словно осень, рассыпал дары
И никогда не превращался в зиму.
Забавы не влекли его на дно,
Но выносили наверх, как дельфина.
Двором ему служил почти весь свет.
Как мелочью, сорил он островами
И царствами.»
И, наконец, уже в последние минуты жизни, перед тем как положить ядовитую змейку себе на грудь, обращаясь к служанке:
Клеопатра:
«Подай мне мантию, надень венец.
Я вся объята жаждою бессмертья.
Ах, больше этих губ не освежит
Букет египетского винограда.
Скорей, скорее, Ира! Мне пора,
Я чувствую, меня зовет Антоний.
Он просыпается, чтоб похвалить
Меня за доблесть. Он смеется.
Боги, — Он говорит, — шлют Цезарю успех,
Чтобы отнять потом его в возмездье.
Иду к тебе, супруг мой. Зваться так
Дает мне право беззаветность шага.
Я воздух и огонь...»
«Все это очень трогательно, — скажет иной скептически настроенный читатель, — но можно ли в историческом исследовании опираться на фантазию драматурга, даже если это сам великий Шекспир?» Ты прав, мой строгий критик. Но дело в том, что никакая другая версия не объясняет более чем странного поведения Антония. Впрочем, забежав далеко вперед, в приведенных отрывках из трагедии я смог упомянуть лишь о некоторых его не совместимых с разумом поступках. Восполним же пробел и вернемся на дорогу сухих фактов, чтобы пройти по ней вслед за Антонием от момента его внезапного отъезда к Клеопатре в Александрию до последнего сражения с Октавианом.
Зиму 41/40 годов Антоний провел в Александрии. Его времяпровождение там уже нам известно. Между тем жена Антония, Фульвия, женщина чрезвычайно решительная, и его брат, Луций, воспользовавшись возмущением италиков, у которых Октавиан отнимал города и земли, подбили их на вооруженное сопротивление. Началась так называемая Перузинская война. Необученное войско италиков было легко разгромлено ветеранами под командованием талантливого двадцатитрехлетнего полководца и друга Октавиана Марка Випсания Агриппы. Война закончилась осадой и капитуляцией города Перузии, откуда и получила свое название. Фульвия бежала в Грецию, отправив Антонию письмо с мольбой о помощи. Письмо нашло его в Финикии. Незадолго до того, с трудом оторвавшись от Клеопатры, Антоний вернулся к войску, чтобы выступить наконец против парфян. За время его отсутствия они успели завладеть всей Азией от Евфрата и Сирии до берегов Эгейского моря.
Получив письмо жены, Антоний отложил поход и на двухстах кораблях с войском поплыл в Италию. В Брундисии с ним должна была встретиться Фульвия, но по дороге туда умерла. Ее смерть предотвратила развитие конфликта. В конце 40-го года в Брундизии было заключено соглашение. Триумвиры поделили сферы влияния. Все провинции Рима на Востоке подпадали под власть Антония. Италия, Галлия и Испания подчинялись Октавиану. Африку уступили Лепиду.
У Октавиана была единокровная старшая сестра Октавия, которую он очень любил. Незадолго до того она овдовела. У приближенных обоих императоров возникла идея в интересах благоденствия и сплочения римского государства женить Антония на Октавии. Октавиан эту идею одобрил. Антоний согласился. Был ли это чисто политический расчет или он хотел избавиться от чар египтянки? Трудно сказать. Свою связь с Клеопатрой Антоний не отрицал, но признать ее браком отказывался. А иметь любовницу, тем более иностранку, в Риме той поры грехом не считалось. Друзья Антония надеялись, что выдающаяся красота, ум и благородное достоинство Октавии сумеют излечить его от пагубной страсти. Бракосочетание состоялось. Антоний отправил в Азию своего полководца Вентидия Басса, а сам с новой женой уехал в Афины, где и провел зиму 39/38 года, задавая грекам роскошные пиры по поводу своего вступления в брак. Клеопатра, казалось, была забыта. Вскоре Октавия родила Антонию дочь.
Тем временем Вентидий в двух сражениях разбил парфян и прогнал их до границ Месопотамии. Другой полководец Антония, Канидий, одержал верх над армянским царем и продвинулся до самого Кавказа. Молва о могуществе Антония гремела по всей Азии, хотя сам он лишь на непродолжительное время приезжал в Сирию. Так, в мире и семейном согласии Антоний проводит в Афинах еще год. На свет появляется вторая дочь. Однако в 37-м году из-за каких-то наветов возникает новый конфликт с Октавианом. Антоний на трехстах кораблях вновь отплывает с войском к берегам Италии. Октавия, беременная в третий раз, плывет вместе с ним. Благодаря ее усилиям, с помощью Агриппы и Мецената конфликт удается погасить. В 37-м году в Таренте заключено соглашение. Антоний передает Октавиану 130 кораблей для морской войны с Секстом Помпеем в обмен на 20 тысяч солдат для вторжения в Парфию. Октавию он отсылает в Рим, а сам для продолжения войны возвращается в Сирию. И тут наступает катастрофа. Дремавшая в нем страсть вспыхивает с новой силой. Антоний опять вызывает к себе Клеопатру. Он открыто признает своими детьми близнецов, которых родила царица.
Летом 36-го года, отослав Клеопатру обратно в Египет, Антоний во главе шестидесятитысячного войска направляется к границам Парфянского царства. Поход не удался. Не дойдя до цели, под натиском превосходящего по численности врага пришлось повернуть обратно. Терпя голод и лишения, непрестанно обороняясь от наскоков парфянской и мидийской конницы, войско Антония предгорьями Армении стало пробиваться назад к морю. В стычках с врагом и от болезней погибла почти половина солдат. Хотя в восемнадцати сражениях, которые случились за это время, легионеры Антония каждый раз оказывались победителями, все эти победы сводились лишь к отражению очередного натиска противника. В конце пути, терзаясь нетерпением увидеть Клеопатру Антоний оставил войско и с небольшим отрядом поскакал к берегу моря, куда в условное место должна была прибыть царица. Затем они вместе вернулись в Александрию. Второй поход против парфян в 34-м году был тоже неудачным. Антонию не удалось продвинуться дальше южных предгорий Армении.
Прошел еще год. С востока стали поступать сведения о раздоре между парфянами и их союзниками мидийцами. Весной 33-года Антоний собрался было вновь двинуть войска на восток. Но его остановила другая, «малая война», начавшаяся между двумя женщинами. Октавия решила ехать к мужу. Цезарь согласился, рассчитывая на то, что она будет встречена самым недостойным и оскорбительным образом, что даст ему повод для войны с Антонием. И действительно, в пути Октавия получила от него письмо, где ей предписывалось ввиду предстоящего похода оставаться в Афинах. Клеопатра в это время находилась в лагере Антония.
«Чувствуя, что Октавия вступает с ней в борьбу, — пишет с явной антипатией к царице Плутарх, — Клеопатра испугалась, как бы эта женщина, с достойной скромностью собственного нрава и могуществом Цезаря соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, не сделалась совершенно неодолимою и окончательно не подчинила Антония своей воле. Поэтому она прикидывается без памяти в него влюбленной и, чтобы истощить себя, почти ничего не ест. Когда Антоний входит, глаза ее загораются, он выходит — и взор царицы темнеет, затуманивается. Она прилагает все усилия к тому, чтобы он почаще видел ее плачущей, но тут же утирает, прячет свои слезы, словно бы желая скрыть их от Антония. Все это она проделывала в то время, когда Антоний готовился двинуться из Сирии к мидийской границе. Окружавшие его льстецы горячо сочувствовали египтянке и бранили Антония, твердя ему, что он жестокий и бесчувственный, что он губит женщину, которая лишь им одним и живет. Октавия, говорили они, сочеталась с ним браком из государственных надобностей, подчиняясь воле брата, и наслаждается своим званием законной супруги. Клеопатра, владычица огромного царства, зовется любовницей Антония и не стыдится, не отвергает этого имени — лишь бы только видеть Антония и быть с ним рядом, но если отнять у нее и это, последнее, она умрет. В конце концов, Антоний до такой степени разжалобился и по-бабьи растрогался, что уехал в Александрию, всерьез опасаясь, как бы Клеопатра не лишила себя жизни...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, III)
Октавия вернулась в Рим. Октавиан, считая, что ей нанесено тяжкое оскорбление, предложил сестре покинуть дом Антония и поселиться отдельно. Она отказалась и умоляла брата не ввергать из-за нее римлян в бедствия междоусобной войны.
Мы подошли к этой войне со стороны только одного из противников. Нам следует вернуться к моменту окончания битвы при Филиппах и последовать за Октавианом в Италию, чтобы описать события, происходившие там в течение десяти лет, которые предшествовали последнему сражению Гражданской войны. Тем более, что мы должны внимательнее присмотреться к будущему победителю, поскольку ему предстоит под именем императора Августа открыть новую эпоху Римской истории.
Итак, Октавиан повел в Италию войско, состоявшее по преимуществу из ветеранов обоих полководцев, отслуживших свой срок. Их надлежало уволить и наделить землей. Как я упоминал, государственных земель у римлян уже не было. Оставалась только одна возможность — «выселить Италию», как образно выразился Антоний в своей речи перед малоазиатскими эллинами. В свое время так поступил Сулла. Октавиан обдумывал, кого принести в жертву. Он наметил шестнадцать небольших италийских городов, населенных землепашцами и землевладельцами, чьи участки находились в ближайшей окрестности. А также большое число крупных имений аристократов и всадников из числа бывших активных сторонников Помпея или тех, кто был хоть как-то связан с убийцами Юлия Цезаря. Не только их земли, но и скот, дома, хозяйственный инвентарь — все подлежало конфискации.
Однако, как оказалось, выбор был уже сделан. Вот что пишет по этому поводу Аппиан:
«При составлении списков войска для поселения в колониях и при раздаче ему земель у Цезаря возникли затруднения. Солдаты просили дать им те города, которые, как лучшие, были ими выбраны еще до войны. Города же требовали, чтобы колонии были распределены по всей Италии или чтобы они получили наделы в других городах, а за землю требовали платы с получающих ее в дар. А денег не было. Тогда все обиженные, молодежь, старики, женщины с детьми, стали стекаться в Рим. Сходясь группами на форуме или в храмах, они с плачем говорили, что, не совершив никакого преступления, они, жители Италии, изгоняются со своих земель и от своих очагов, словно они проживали во вражеской стране. Слыша это, римляне негодовали и скорбели вместе с ними, так как понимали, что война велась не ради пользы Рима, а в интересах правителей, желавших произвести государственный переворот. Награды раздавались и колонии учреждались для того, чтобы более уже не возрождалась демократия, так как устраивались для правителей поселения наемников, готовых на все, чего бы от них ни потребовали...» (Аппиан. Гражданские войны. V, 12)
Распределяли землю высшие офицеры Октавиана. Участки нарезали небольшие. Например, известно, что «именьице» поэта Вергилия (он сам так его называл) было поделено на шестьдесят участков. Новые поселенцы вели себя агрессивно:
«...солдаты, — продолжает Аппиан, — стали нагло нападать на соседей, забирать себе больше, чем им было предоставлено, стали выбирать наилучшее. Не остановили солдат ни упреки Цезаря, ни его многочисленные новые подарки: к правителям, нуждавшимся в солдатах как опоре своей власти, солдаты относились с пренебрежением». (Там же)
Стараясь представить себя поборником справедливости, Октавиан выслушивал жалобы и кое-кого освобождал от конфискации. Так, например, он изъял из раздела земли сенаторов и земли, полученные женщинами в приданое. Эти изъятия, однако, так возмутили алчных отставников, что дело дошло до избиения друзей и охраны Октавиана. Еще немного — и они подняли бы руку на своего полководца. Пришлось взамен внести в списки для выселения родственников тех, кто пал в сражениях против цезарианцев (оставшиеся в живых служили теперь в войске триумвиров). Войсковые командиры Октавиана, собравшись, решили, что наделять землей надо только тех, кто был в бою под Филиппами. Власть в Италии фактически перешла к солдатам. Не преданным своему императору ветеранам Юлия Цезаря, а жадным и буйным наемникам. Степень бессилия и зависимости Октавиана от его солдатни прекрасно иллюстрирует следующий эпизод, рассказанный тем же Аппианом:
«Созванные в это время на Марсово поле для очередного наделения землею солдаты поспешили прийти еще ночью и сердились, что Цезарь медлит своим приходом к ним. Центурион Нонний стал смело порицать их, напоминал им о положении подчиненных по отношению к властвующему... Солдаты стали поносить его и кидать в него камнями, а когда он бросился бежать, начали его преследовать. Он прыгнул в реку. Они его вытащили, убили и труп бросили на дорогу, по которой должен был пройти Цезарь... Увидев труп Нонния, он отошел в сторону и упрекал за убийство солдат так, как если бы оно было делом рук немногих, убеждал их в будущем быть осторожнее. Затем произвел раздачу земель, предложил, чтобы за наградами приходили те, кто их достоин, и дал подарки также и некоторым не заслужившим их, сверх их ожиданий». (Там же, V, 16)
Добиваясь завершения раздела земель, солдаты оставались в Риме. Шло время. Естественно, что они занялись грабежом населения. Положение усугублялось острой нехваткой продовольствия в городе. Чуть позже я расскажу о появлении на италийской сцене младшего сына Помпея, Секста, и о его враждебных Цезарю действиях. Пока же лишь упомяну, что он блокировал своим флотом доставку в Италию хлеба из Сицилии, Африки и с Востока.
«А голод в это время терзал Рим: по морю ничего не доставлялось римлянам из-за Помпея. В самой Италии вследствие войн прекратились земледельческие работы. Если же что и произрастало, то шло для войска. Целые толпы занимались в городе по ночам грабежом. Делалось все это безнаказанно. Молва приписывала грабежи солдатам. А народ закрыл свои мастерские и не хотел знать никаких властей: в обедневшем и разграбленном городе не было, казалось, нужды ни в ремеслах, ни в магистратах», (там же, V, 18)
В Риме и других городах все чаще возникают столкновения между населением и солдатами.
Как уже упоминалось, зимой 41/40 годов началась Перузинская война. Ее истинной подоплекой являлась борьба за влияние в новых колониях ветеранов. Октавиан расселял не только своих солдат, но и отставников Марка Антония. Тем самым он становился их патроном. Брат Марка, Луций, консул 41-го года, стремясь помешать этому, стал подбивать италиков на вооруженное сопротивление конфискациям. Он представлял себя демократом, обвинял Октавиана в стремлении к тирании, говорил, что брат, вернувшись с Востока, сложит чрезвычайные полномочия и восстановит республиканские порядки. Многие знатные римляне, недовольные диктатом триумвиров, тайно или явно поддерживали Луция. Его «компаньонка» Фульвия, жена Марка Антония, во время проскрипций прославилась своей жестокостью и корыстолюбием.
Беззастенчивая интриганка, она не случайно связывала свою судьбу с самыми необузданными вожаками римской толпы. До Марка Фульвия была женой сначала Клодия, потом Куриона. Среди воинов она дерзко появлялась, опоясанная мечом. Возможно, что ее старания разжечь смуту в Италии диктовались еще и стремлением оторвать Антония от Клеопатры. От него у Фульвии было два малолетних сына. О нетрудной победе Марка Агриппы над италиками и смерти Фульвии нам уже известно. Так же, как и о соглашении триумвиров в Брундисий (октябрь 40-го года).
Более серьезная угроза для Октавиана возникла в результате выступления против него Секста Помпея. После заключительной победы Юлия Цезаря над помпеянцами при Мунде и гибели старшего брата Секст в течение нескольких лет скрывался в Испании, промышляя грабежом и понемногу собирая вокруг себя былых приверженцев отца. После убийства диктатора он стал действовать открыто. Собрал многочисленное войско и флот, в разбойном союзе с пиратами организовал морскую блокаду Рима, захватил Сицилию. Туда к нему стали собираться спасавшиеся от проскрипций аристократы, потом выселенные Октавианом италики, а также во множестве беглые рабы, которых он объявлял свободными и зачислял в свое войско или на флот.
Когда Антоний, вызванный письмом Фульвии, приплыл к Брундисию, он было заключил союз с Секстом Помпеем для совместных действий против Октавиана. Агриппа не без труда набрал новое войско и выступил против Антония. Но ветераны обеих армий не хотели воевать друг с другом. Под их давлением и в связи с предложением женитьбы на Октавии Антоний порвал с Секстом и перешел на сторону Октавиана. Помпей вернулся в Сицилию, потом захватил Сардинию и еще плотнее замкнул кольцо блокады. Антоний и Октавиан вместе вернулись в Рим, где состоялось бракосочетание Октавии и Антония.
Для обеспечения предстоящей войны с Секстом Помпеем Октавиан вводит новые налоги. В Риме возникают беспорядки: статуи триумвиров сброшены с пьедесталов, объявления о налогах сорваны. На форуме собирается и бушует огромная толпа народа. Октавиан тщетно пытается ее урезонить. Приходит Антоний. В обоих летят камни. Вызванные на форум солдаты разгоняют толпу. Много убитых. Преследуя горожан, ветераны врываются в дома и предаются грабежу. Наступает смутное время. Воевать в такой обстановке рискованно. Антоний и Октавиан вступают в переговоры с Помпеем. В 39-м году в Путеолах триумвиры заключают с ним соглашение, по которому Секст Помпей назначается командующим всеми морскими силами Италии. Ему в управление официально передаются Сицилия и Сардиния, обещана компенсация за конфискованное имущество отца. Аристократы, укрывшиеся на Сицилии, получают разрешение вернуться на родину и заверения в безопасности. Подтверждается свобода бывших рабов, находящихся в войске Секста. За это он обещает спять блокаду, прислать в Рим хлеб из Сицилии, вывести гарнизоны из городов, захваченных на побережье Италии, и не принимать больше беглых рабов. Антоний и Октавиан снова возвращаются в Рим, где их встречают как спасителей. После этого Антоний с Октавией отправляются в Афины.
Однако, как оказывается, Помпей вовсе не намерен соблюдать условия соглашения. Он продолжает пиратствовать и принимать на Сицилии рабов. Их бегство из Италии принимает угрожающие размеры. Секст строит новые корабли, готовит войско к высадке. Он не скрывает своего стремления к захвату власти в Риме. Настроение римлян меняется. Октавиану удается сколотить флот и войско. В 38-м году он плывет к Сицилии. Но Фортуна к нему неблагосклонна. В морском сражении, которым он командует сам, флот терпит поражение, а буря довершает его разгром.
На следующий год, весьма кстати, хотя, как мы помним, отнюдь не с добрыми намерениями, на трехстах судах приплывает Антоний. Благодаря соглашению, достигнутому в Таренте, Октавиан получает от Антония сто тридцать кораблей и может начать подготовку к новому наступлению на Помпея. Во время встречи в Таренте триумвиры решают продлить свои чрезвычайные полномочия (их пятилетний срок только что кончился) еще на пять лет. Согласия народа на это продление они спрашивать не собираются.
После Тарента происходит еще несколько морских сражений. Опять буря уничтожила флот Октавиана. Он с завидным упорством сумел построить новый. Гребцами на корабли посадил своих рабов и рабов своих приближенных, пообещав им после победы римское гражданство. Командование флотом поручается все тому же Агриппе. В решительном сражении ему наконец удается разгромить флот Помпея. Одновременно тот терпит поражение и на суше в Сицилии, куда из Африки с большим войском приплыл Лепид. Секст Помпей бежит в Азию, затевает там интригу против Антония и вскоре будет убит одним из его полководцев. Сицилия обложена контрибуцией в десять миллионов денариев. Октавиан возвращается в Рим.
Тем временем поступают сведения о том, что Антоний вновь сблизился с Клеопатрой. Цезарь в глубине души этому даже рад. Сестра оскорблена — у него будет повод начать войну с Антонием. Пора вернуть под свое владычество Азию и заодно захватить Египет. Однако опыт последних лет научил его, что опора на армию ненадежна. Он осознает необходимость поддержки римского народа и сената, а потому надевает личину поборника республиканских порядков. Тридцать тысяч беглых рабов, воевавших в армии Помпея, схвачены и возвращены хозяевам. На сходке граждан, а потом в сенате Октавиан смиренно отчитывается в своих действиях, лицемерно объявляет о наступлении гражданского мира и обещает, что после возвращения Антония будет восстановлен прежний государственный строй. Явно обозначается его сближение с сенатом, многие права в государственном управлении возвращаются выборным магистратам. В знак окончания преследований политических противников, Октавиан демонстративно сжигает все документы, относящиеся ко времени гражданской войны. Решительными мерами пресекает разбой и восстанавливает порядок в столице. За все это с благословения сената в 36-м году народ дарует ему трибунскую неприкосновенность — пожизненно.
На следующий год для укрепления своего авторитета, а также для того, чтобы пока занять делом не уволенных солдат, Октавиан затевает войну с иллирийцами, которые тревожат восточные границы северной Италии. Война длится два года в очень трудных условиях. Командует войском Агриппа. Наконец, иллирийское войско разгромлено. В 33-м году Агриппу избирают эдилом. Это не обычная ступень в государственной карьере, ведь он уже был консулом. Эдилат позволяет Агриппе, который очень богат (щедро награжден Октавианом землями в Сицилии), развернуть целую кампанию по завоеванию популярности у римского плебса — для себя, а значит, и для Октавиана. Он на свои средства восстанавливает здания и целые улицы в Риме, очищает клоаку, строит великолепные бесплатные бани для народа, раздает масло и соль, устраивает блестящие спортивные игры.
В результате всех этих хорошо продуманных и организованных мероприятий молодой Цезарь обеспечивает себе поддержку в сенате и во всех слоях римских граждан. Теперь он может приступить к войне против Антония. А я тем временем приближаюсь к концу своего рассказа.
Мы оставили Антония в Александрии, куда он на время вернулся вместе с Клеопатрой. Чтобы успокоить ее ревность и тревогу, он устраивает торжественную церемонию раздачи царств и земель членам свой новой семьи:
«Наполнивши толпою гимнасий и водрузив на серебряном возвышении два золотых трона, для себя и для Клеопатры, и другие, попроще и пониже, для сыновей, он прежде всего объявил Клеопатру царицею Египта, Кипра, Африки и Келесерии при соправительстве Цезариона, считавшегося сыном старшего Цезаря, который, как говорили, оставил Клеопатру беременной. Затем сыновей, которых Клеопатра родила от него, он провозгласил царями царей и Александру назначил Армению, Мидию и Парфию (как только эта страна будет завоевана), а Птолемею — Финикию, Сирию и Киликию. Александра Антоний вывел в полном мидийском уборе, с тиарою и прямою китарой, Птолемея — в сапогах, македонском плаще и украшенной диадемой кавсии. Это был наряд преемников Александра, а тот первый — царей Мидии и Армении. Мальчики приветствовали родителей, и одного окружили телохранители — армяне, другого — македоняне. Клеопатра в тот день, как всегда, когда появлялась на людях, была в священном одеянии Исиды. Она и звала себя новою Исидой». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, LIV)
Эта церемония означала открытый разрыв Антония с римским государством. Пожалованные царства и земли в Азии принадлежали Риму или были зависимы от него еще со времен Помпея Великого. Их захватили парфяне, а затем отвоевал Антоний, как считалось, для Рима. Египет после Юлия Цезаря находился под римским протекторатом. Пожалование этих богатейших провинций в дар египтянке и ее детям вызвало возмущение римлян.
Октавиан не упустил возможности начать открытую кампанию против Антония. Он избран консулом на 33-й год и в первой же консульской речи перед сенатом обрушивается с обвинениями на своего партнера по триумвирату. Тот в своих посланиях в Рим отвечает ему упреками в самоуправстве. Обмен «инвективами» продолжается целый год. Консулы 32-го года, сторонники Антония, от его имени предлагают в сенате, чтобы триумвиры объявили о сложении своих чрезвычайных полномочий, благо и второй срок этих полномочий уже кончается. Но при условии, что сенат утвердит все распоряжения Антония на Востоке. Один из народных трибунов накладывает вето на это предложение. Является Октавиан, окруженный солдатами, произносит обличительную речь против Антония и объявляет о разрыве с ним. Антоний присылает развод Октавии. Цезарь приказывает вскрыть и обнародовать хранящееся у весталок завещание своего противника. В нем римский консуляр Марк Антоний завещает, чтобы, если он умрет в Риме, его тело пронесли в погребальном шествии через форум, а затем отправили в Александрию. Он признает Цезариона сыном Юлия Цезаря и закрепляет за своими детьми от Клеопатры пожалованные им земли. Возмущение в Риме нарастает. Однако народ устал от гражданских междоусобиц, и потому сенат объявляет войну не Антонию, а Клеопатре.
Октавиан заставляет всю Италию, а также Галлию, Испанию и Африку присягнуть ему на верность. Закладывается строительство большого флота, объявлен новый набор в войско. Население облагается принудительными займами. Недовольство подавляется военной силой.
Узнав об этом, Антоний тоже начинает готовиться к войне. Он возвращает на побережье отправленные в Армению под командой полководца Канидия легионы. В Эфес со всех сторон собирается огромный флот. Он насчитывает восемьсот кораблей (включая грузовые), из которых двести — египетских. Туда же прибывают и Антоний с Клеопатрой. В какой-то момент, по настоянию своих командиров, Антоний предлагает Клеопатре вернуться в Египет и там ожидать окончания войны.
«Но, — как пишет Плутарх, — опасаясь, как бы Октавия снова не примирила враждующих, царица, подкупивши Канидия большою суммою денег, велела ему сказать Антонию, что прежде всего несправедливо силою держать вдали от военных действий женщину, которая столь многим пожертвовала для этой войны (деньги и продовольствие для армии Антония доставляет Египет. — Л.О.), а затем вредно лишать мужества египтян, составляющих значительную долю морских сил. И вообще, заключил Канидий, он не может назвать ни единого из царей, участвующих в походе, которому Клеопатра уступала бы разумом — ведь она долгое время самостоятельно правила таким обширным царством, а потом долгое время жила бок о бок с ним, Антонием, и училась вершить делами большой важности». (Там же, LVI)
Антоний без особых возражений соглашается с Канидием. Чтобы умилостивить обиженную царицу, он отплывает с ней на остров Самос и там пирует в окружении актеров, хористов и музыкантов, которых приглашает со всех концов Азии.
В конце августа 31-го года флот Октавиана под командованием Агриппы появляется у западных берегов Греции. Туда же приплывает и флот Антония, которым командует он сам. Клеопатра плывет на флагманском корабле египтян. Часть легионеров доставлена в Грецию на грузовых судах. Другая часть осталась в Эфесе. У Агриппы вдвое меньше боевых кораблей, чем у Антония, но они более маневренны и укомплектованы опытными моряками, в то время, как у Антония — наспех собранные люди.
2-го сентября близ мыса Акций происходит решающее морское сражение. Сухопутные войска обоих противников ожидают его исхода в своих лагерях на берегу. Агриппа побеждает. По версии Плутарха, флот Антония терпит поражение из-за внезапного бегства Клеопатры. Вот фрагмент из его описания хода битвы:
«Наконец, завязался ближний бой, но ни ударов тараном, ни пробоин не было, потому что грузные корабли Антония не могли набрать разгон, от которого главным образом зависит сила тарана, а суда Октавиана не только избегали лобовых столкновений, страшась непробиваемой медной обшивки носа, но не решались бить и в борта, ибо таран разламывался в куски, натыкаясь на толстые четырехгранные балки кузова, связанные железными скобами. Борьба походила на сухопутный бой или, говоря точнее, на бой у крепостных стен. Три, а не то и четыре судна разом налетали на один неприятельский корабль, и в дело шли осадные навесы, метательные копья, рогатины и огнеметы, а с кораблей Антония даже стреляли из катапульт, установленных в деревянных башнях... Битва сделалась всеобщей, однако исход ее еще далеко не определился, как вдруг, у всех на виду, шестьдесят кораблей Клеопатры подняли паруса к отплытию и обратились в бегство, прокладывая себе путь сквозь гущу сражающихся. А так как они были размещены позади больших судов, то теперь, прорываясь через их строй, сеяли смятение. А враги только дивились, видя, как они с попутным ветром уходят к Пелопоннессу.
Вот когда Антоний яснее всего обнаружил, что не владеет ни разумом полководца, ни разумом мужа и вообще не владеет собственным разумом, но — если вспомнить чью-то шутку, что душа влюбленного живет в чужом теле, — словно бы сросся с этою женщиной и должен следовать за нею везде и повсюду. Стоило ему заметить, что корабль Клеопатры уплывает, как он забыл обо всем на свете, предал и бросил на произвол судьбы людей, которые за него сражались и умирали, и, перейдя на пентеру (боевой корабль с пятью рядами весел. — Л.О.), в сопровождении лишь сирийца Алекса и Сцелия погнался за тою, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его». (Там же, LXVI)
Описание Плутарха чересчур романтическое, чтобы ему можно было доверять вполне. Что могло побудить Клеопатру к бегству? То ли она просто по-женски испугалась грохочущего вокруг сражения? А когда ее корабли оторвались от основного флота, за ней погнались суда Агриппы, и Антоний устремился вслед не потому, что «забыл обо всем на свете», а для того, чтобы защитить ее от преследователей? А, может быть, на египетской флотилии вспыхнул бунт, и египтяне ушли не по приказу царицы, а наоборот — увезли ее как пленницу. Посаженная на трон Юлием Цезарем, Клеопатра, наверное, была не очень популярна в своем народе. В пользу такой версии говорит то обстоятельство, что египетских кораблей осталось всего шестьдесят. Плутарх походя, без всяких комментариев упоминает, что перед сражением «Антоний распорядился все египетские суда, кроме шестидесяти, сжечь». Почему? Не доверял их командам? И потому эти шестьдесят разместил позади строя своих кораблей? В таком случае он пустился за ними вдогонку для того, чтобы выручить Клеопатру и, вероятно, сам был захвачен мятежниками. А, может быть, ничего этого вообще не было. У Светония никаких упоминаний об измене египтян нет. Плутарх пишет, что «немногие видели бегство Антония собственными глазами». Как это понять? На море не заметить отплытие флагманского корабля трудно. Таинственная история! Светоний, вслед за Плутархом, подтверждает, что морское сражение продолжалось до позднего вечера. Быть может, оно было просто проиграно Антонием вследствие превосходства боевых качеств флота Октавиана? Но куда после поражения делся сам Антоний? Его войска, оставшиеся на берегу, могли не только сопротивляться, но и выиграть сухопутное сражение. Плутарх утверждает, что они целых семь дней оставались в лагере, ожидая возвращения своего главнокомандующего и отвергая все предложения Октавиана. Антоний не вернулся. В конце концов скрылся из лагеря и Канидий. Преданные своими полководцами, солдаты перешли на сторону победителя. Так представляет дело Плутарх. Его рассказ в довольно невыгодном свете рисует Клеопатру. Да и Антония тоже. Досадно, если это — чистая выдумка.
Но так или иначе, а флот и войско, находившееся в Греции, потеряны. Антоний с остатками азиатской армии возвращается в Александрию. Последовать за ним туда сразу после тяжелого морского сражения Октавиан, очевидно, не мог. Между тем надвигалась зима. Он решил переждать ее в Самосе. Но пришло известие, что отправленные в Италию без выплаты жалованья (нет денег) отслужившие срок легионеры взбунтовались и требуют отставки, наградных и земли. Цезарь немедленно плывет к Брундисию. Едва не становится жертвой осенних бурь на море, но все же добирается до цели и остается до весны в Италии.
Будучи уверен, что богатства Египта скоро окажутся в его руках, Октавиан больше не хочет прибегать к конфискациям. Теперь у него другой, как нынче говорят, «имидж». Он покупает землю для солдат. Часть землевладельцев получает деньги наличными, другие довольствуются векселями. Умиротворение ветеранов обходится в сто пятьдесят миллионов денариев. Истрачены все собственные средства и средства друзей, он «по уши» в долгах. Не беда — все будет оплачено из сокровищницы египетских царей!
Зиму 31/30 годов Антоний и Клеопатра проводят в Александрии. Свою тревогу они стараются заглушить новой серией пышных пиров и развлечений. В то же время шлют послов к Октавиану. Клеопатра просит передать власть над Египтом ее детям, а Антоний — разрешения провести остаток дней частным лицом, если не в Египте, то в Афинах. Октавиан отказывает. Весной 30-го года он прибывает в Азию, куда Агриппа уже переправил войско. Сначала они обеспечивают себе тыл, приводя к покорности все отвоеванные у парфян государства Малой Азии и Сирии. Затем по суше выступают в поход на Египет. С запада, из провинции Африка к его границам направляют свои войска верные молодому Цезарю полководцы. Антоний вынужден оставаться в Александрии и готовиться к обороне. Агриппа без труда берет Пелусий и быстрым маршем движется к столице. Клеопатра приказывает все наиболее ценное из царской сокровищницы перенести к себе в усыпальницу.
«...это было высокое и великолепное здание, которое она уже давно воздвигла близ храма Исиды. Там же навалили груду пакли и смолистой лучины, так что Цезарь, испугавшись, как бы эта женщина в порыве отчаяния не сожгла и не уничтожила такое громадное богатство, все время, пока подвигался с войском к Александрии, посылал ей гонцов с дружелюбными и обнадеживающими письмами». (Там же, LXXIV)
Первое сражение Антоний выиграл — вражескую конницу он обратил в бегство и гнал до самого лагеря. Чтобы развить успех, он решил напасть на Агриппу одновременно на море и на суше. Однако на его глазах моряки (не те ли самые, что ушли от Акция?) приветствовали суда Цезаря и, смешавшись с ними, поплыли к городу. Затем на сторону неприятеля переметнулась и конница, а пехота потерпела поражение. Далее у Плутарха следует трогательное, но не очень надежное описание событий, связанных с известием о мнимой смерти Клеопатры и самоубийством Антония. В последнем акте своей трагедии Шекспир со всеми подробностями воспроизводит это описание. Было так или иначе, но факт самоубийства Антония подтверждает и Светоний.
Октавиан разрешает Клеопатре с царским великолепием похоронить своего возлюбленного. Намереваясь провести ее в своем триумфе, он приказывает неусыпно наблюдать за царицей, чтобы она не покончила с собой. Сам же обманными речами и обещаниями старается скрыть от нее свое намерение. Но один знатный юноша из его окружения, неравнодушный к чарам египтянки, тайно извещает Клеопатру о том, что ее ожидает. С помощью служанок царице удается обмануть бдительность своих тюремщиков. Какой-то крестьянин в корзине со смоквами проносит в усыпальницу ядовитую змейку — аспида.
«Цезарь, — пишет Плутарх, — хотя и был раздосадован смертью Клеопатры, не мог не подивиться ее благородству и велел с надлежащей пышностью похоронить тело рядом с Антонием», (там же, LXXXVI)
Царские сокровища, захваченные Октавианом в Египте, позволили ему не только расплатиться с долгами, но и выдать по двести пятьдесят денариев каждому легионеру. Александрию он не разрушил, а наоборот — приказал воинам очистить пришедшие в упадок ирригационные сооружения, чтобы восстановить плодородие страны. Себя объявил преемником фараонов. С этой поры Египет стал его собственностью и в таком качестве оставался при всех последующих императорах. Летом 29-го года Октавиан возвратился в Рим, где с 13-го по 15-е августа отпраздновал три триумфа: за победы в Иллирии, при Акции и под Александрией. Сын Юлия Цезаря, Цезарион, и старший сын Антония от Фульвии были казнены. Детей Клеопатры взяла к себе и вырастила вместе со своими детьми Октавия.
На этом я заканчиваю рассказ об эпохе Гражданских войн. Не буду предлагать тебе, читатель, какое-либо заключение. Эта эпоха была столь бурной, столь насыщенной событиями, такие крупные личности появлялись на ее сцене, что заключение оказалось бы слишком пространным. И, конечно же, недопустимо субъективным. Разве возможно оставаться беспристрастным, оценивая события хотя и двухтысячелетней давности, но так похожие на то, что происходит в наш, не менее бурный век? Однако я не вправе навязывать читателю свои оценки. У тех, кто не безразличен к людям, к судьбе их сообщества, в процессе чтения, я надеюсь, появились какие-то свои суждения, наметились аналогии. Если так — труд мой не напрасен. Если нет — заключением дела не поправишь.
Но, отказавшись от заключения для всего тома, я позволю себе несколько необычным образом закончить эту последнюю, столь драматическую главу. Хочу напомнить тебе, читатель, дивное стихотворение Анны Ахматовой, в котором царственная женщина — наша современница отдает дань восхищения другой женщине — древней царице, с которой мы только что расстались.
Клеопатра
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень
Пушкин
Уже целовала Антония мертвые губы
Уже на коленях пред Августом слезы лила...
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет пред собою...»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.
1940
И не дивное ли диво, что великий Шекспир и великая Ахматова читали одни и те же строки Плутарха, и оба были вдохновлены ими на чудо поэтического творчества?!
ТОМ III ИМПЕРИЯ
Глава I Август
Последняя глава предыдущего тома нашей истории названа именем Октавиана. Внимательный читатель может вспомнить мелькнувшее там замечание о том, что это — будущий император Август. Сейчас, в 29-м году, с победой возвратившись в Рим из Египта, он консул, триумфатор, но еще зовется Октавианом. Почетный титул Август будет пожалован ему через два года.
Деятельность юного преемника Цезаря вряд ли могла завоевать симпатии читателя. Скорее — отвращение. Я полагаю, что у меня было достаточно оснований ранее обвинить его не только в коварстве, но и в чудовищной жестокости. Вспомним хотя бы его расправу с пленными после победы под Филиппами. Или кошмар проскрипций, инициатором которых, по моему глубокому убеждению, был именно он. Недаром Светоний заключает, что ... «Будучи триумвиром, он многими поступками навлек на себя всеобщую ненависть». (Светоний. Божественный Август, 27)
Но подводя итоги долгого правления императора Августа, Светоний пишет нечто неожиданное и совсем противоположное:
«Какой любовью пользовался он за эти достоинства, нетрудно представить. О сенатских постановлениях я не говорю, так как их могут считать вынужденными или льстивыми. Всадники римские добровольно и по общему согласию праздновали его день рождения каждый год два дня подряд. Люди всех сословий по обету ежегодно бросали в Курциево озеро монетку за его здоровье, а на Новый год приносили ему подарки на Капитолий, даже если его и не было в Риме. На эти средства он потом купил и поставил по всем кварталам дорогостоящие статуи богов... На восстановление его палатинского дома, сгоревшего во время пожара, несли деньги и ветераны, и декурии, и трибы, и отдельные граждане всякого разбора, добровольно и кто сколько мог. Но он едва прикоснулся к этим кучам денег и взял не больше, чем по денарию из каждой. При возвращении из провинций его встречали не только добрыми пожеланиями, но и пением песен». (Там же. 57)
Как совместить эти два свидетельства одного автора, записанные через сто лет после смерти Августа? Многие современные историки ищут решение загадки в исключительном лицемерии Августа. Такое простое объяснение кажется сомнительным. Чего ради всесильному императору в течение всей своей долгой жизни притворяться? С другой стороны, в чудесное изменение характера уже вполне взрослого человека (к началу самодержавного правления ему далеко за тридцать) поверить тоже трудно. Загадка остается. Мы попытаемся ее разрешить в ходе тщательного анализа почти полувекового властвования создателя Великой Римской Империи. Этот анализ я намерен проводить не путем описания и оценки итогов его деятельности в разных сферах государственного управления, а в хронологической последовательности — пытаясь представить себе эволюцию психологии самого правителя.
Но прежде, чем начать этот долгий путь, я должен обратить внимание читателя на одну важную, как мне кажется, сторону жизни Августа — характер его взаимоотношений с женой, Ливией. Ввиду недостаточного внимания древних авторов к этим взаимоотношениям, они будут оставаться практически вне поля нашего зрения. Чтобы вовсе не потерять их из виду, я намерен предварить исследование государственной деятельности Августа изложением того немногого, что известно о его, как говорится, личной жизни.
Ливия Друзилла из знатного рода Друзов была третьей женой Октавиана. Первые два брака — с падчерицей Марка Антония Клавдией, а затем с родственницей Секста Помпея Скрибонией — были заключены из политических соображений и очень быстро расторгнуты. Однако вторая жена успела родить Октавиану дочь Юлию. В 39-м году, сразу после рождения дочери, он развелся со Скрибонией, отнял у одного из своих знатных противников, Тиберия Клавдия Нерона, его жену Ливию и женился на ней. Хранящийся в Копенгагене скульптурный портрет Ливии (в зрелом возрасте) изображает красивую, спокойную и волевую женщину с широким лбом, большими глазами, тонким, выдающимся вперед носом и маленьким ртом. Есть основание полагать, что это был брак по любви. Светоний пишет, что «ее он, как никого, любил и почитал до самой смерти». В свои девятнадцать лет новая жена Октавиана уже имела от первого мужа четырехлетнего сына Тиберия и была беременна вторым сыном, которого назовут в честь деда с материнской стороны Друзом. Наличие двух чужих детей не остановило двадцатипятилетнего Октавиана. Напротив, став императором, он явно благоволил к пасынкам.
Хотя начало пожизненного брачного союза Августа было, по-видимому, связано с сильным чувством, не оно одно обусловило его прочность. Октавиан, как и большинство молодых аристократов той поры, был порядочным распутником. В 32-м году Антоний по-приятельски писал Октавиану (тогда между ними еще не возникла смертельная вражда), отвечая на упреки по поводу своей связи с Клеопатрой:
«С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Теренциллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу — да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» (Там же, 69)
Ливия была достаточно умна, чтобы смотреть на это «сквозь пальцы». Более того, если верить тому же Светонию: «Сладострастным утехам он предавался и впоследствии, и был, говорят, большим любителем молоденьких девушек, которых ему отовсюду добывала сама жена». (Там же, 71)
Страдала ли она при этом? Август считал их брак счастливым. Умирая на руках у жены, семидесятишестилетний Август произносит последние в своей жизни слова: «Ливия, помни, как мы жили вместе! Живи и прощай!» (Там же, 76)
Писавший на рубеже двух первых веков нашей эры великий римский историк Корнелий Тацит, хотя и начинает свои «Анналы» с момента смерти Августа, посвящает несколько строк Ливии в качестве спутницы всей жизни первого императора:
«Святость домашнего очага, — пишет Тацит, — она блюла с неукоснительностью, свойственной нравам старины, но была приветливей, чем это было принято для женщин в древности; она была страстно любящей матерью, снисходительной супругой и хорошей помощницей в хитроумных замыслах мужу». (Тацит. Анналы. V, 1)
В прилагательном «хитроумных» есть оттенок осуждения. Тацит не любил Августа. Быть может, поэтому и не стал писать о нем. Но в приведенной фразе есть и признание того обстоятельства, что Ливия была не просто женой, а другом и советчицей мужа. В этом смысле я склонен трактовать и ту фразу Светония, которой обычно иллюстрируют педантизм Августа:
«Даже частные беседы, — пишет Светоний, — даже разговоры со своей Ливией в важных случаях он набрасывал заранее и держался своей записи, чтобы не сказать по ошибке слишком мало или слишком много». (Светоний. Божественный Август, 84)
Ведь не к обсуждению же чисто семейных, домашних дел так тщательно готовился Август. Кстати, нигде нет свидетельств о такого рода подготовке к частной беседе с кем-либо другим. Рядом Светоний упоминает, что так же основательно Август готовился к выступлениям перед сенатом, народом или войском, тем самым подтверждая серьезность вопросов, которые тот, по-видимому, обсуждал с Ливией.
На этом я закончу свое небольшое отступление. Оно появилось в связи с загадкой изменения отношений Октавиана-Августа с согражданами. Мы не можем исключить здесь влияние Ливии. Особенно ввиду ее необычной приветливости, которую считает нужным отметить Тацит. Однако вполне возможно, что роль и влияние Ливии были куда более значительны. Хотя бы вследствие ее страстной любви к своим детям. Ведь им предстояло соперничать с детьми Юлии — кровными внуками Августа. Впрочем, до той поры еще много воды в Тибре утечет. Начнем же по порядку.
Итак, в 29-м году Октавиан возвращается в Рим. Прах его последнего соперника, Марка Антония, покоится в египетской земле рядом с останками Клеопатры. Сам он объявлен преемником фараонов, властителем Египта. Все богатства страны, в первую очередь поставляемое на внешний рынок зерно, принадлежат теперь лично Октавиану.
В течение трех дней римская толпа развлечена зрелищем трех триумфальных шествий по поводу побед в Иллирике, при мысе Акций и в Египте. Но вот празднества окончены, и тридцатичетырехлетний триумфатор должен приступить к решению множества проблем, связанных с последствиями гражданских войн, опустошавших Италию в течение двух последних десятилетий. Наиболее неотложная проблема — увольнение отслуживших свой срок ветеранов и сокращение хотя бы на одну треть полумиллионного римского войска. Всем легионерам надо выплатить денежные награды, а увольняемые должны получить еще и наделы земли. Остающиеся в строю воины затем отправятся в Галлию, Испанию и Африку. В результате долгих междоусобиц власть Рима на этих обширных пространствах явно ослабела, а кое-где и вовсе утрачена.
Сокровища египетских царей позволят оплатить все расходы, включая покупку земель и даже раздачу по 100 денариев тремстам тысячам неимущих в Риме. Октавиан покупает земли не только в Италии, но и в далеких провинциях. Во время этого и следующего массового увольнения из армии (оно произойдет 15 лет спустя) будет основано 28 новых колоний ветеранов в Италии и примерно втрое больше за ее пределами. В них на своей земле обоснуется более трехсот тысяч отставников. Впрочем, покупка земли и организация колоний требуют времени. А пока в Риме, его окрестностях и в военных лагерях по всей Италии томится без дела огромная масса легионеров.
Хотя грабежи населения и самоуправство солдат еще не достигли того размаха, что был после Филипп, ситуация может стать опасной. Присутствие воинов позволяет Октавиану диктовать свою волю сенату и собранию народа, но затягивать процесс расселения ветеранов и отсылки войск в провинцию нельзя. А потому все вопросы организации управления государством в мирное время надо решать быстро. В стране царят анархия и разбой. Рабы, после всех мятежей и освобождений для участия в войнах, непокорны. В любой час могут восстать. Они составляют почти треть населения, и среди них немало свободнорожденных, захваченных разбойниками на дорогах Италии. Крестьянское хозяйство подорвано. Колонии ветеранов помогут его возрождению. Но ведь не сразу! Провинции истощены грабежом наместников и публиканов, многочисленными конфискациями. Налоги поступают плохо. В погоне за роскошью и наслаждениями «лучшие люди» забыли о чести и долге. Процветают взяточничество и подкуп. Семьи распадаются, традиции рушатся. Плебс продажен. Сенат чуть ли не вдвое разбавлен людьми недостойными. Его авторитет подорван. Народ устал от войн и беспорядков. Он жаждет мира и спокойствия. Как его добиться?
Цезарь был прав — республика изжила себя. Справиться со всем этим хаосом может только сильная власть всемогущего правителя. Октавиан хорошо помнит их разговор в начале того рокового года, перед отъездом в Македонию к войску. Такая власть теперь по праву принадлежит ему. Как сделать ее надежной, непоколебимой до конца его дней? Сейчас у него войско, память о проскрипциях еще жива — все боятся. Но войско уйдет из Италии, а строить государство на постоянном страхе нельзя. Тирания для римлянина отвратительна. Да и мало кто из тиранов умирал своей смертью. Цезарь тогда говорил о единовластии, опирающемся на доверие народа. И был убит на первых шагах к его осуществлению. Он недооценил силу традиции — действовал слишком круто! Надо отыскать более надежный, постепенный переход. Какой? Что посоветуют ближайшие друзья — Агриппа и Меценат?
...Вечером в триклинии скромного дома, что прилепился к склону холма неподалеку от Форума, после обеда Октавиан делится своими сомнениями и тревогами. Суждения его собеседников расходятся кардинально. Об этом рассказывает римский историк начала III века нашей эры Дион Кассий. Агриппа решительно высказывается в пользу восстановления Республики. Перечислив многие преимущества равноправия граждан, он заканчивает изложение своей позиции так:
«При единовластии все обстоит иначе. Сущность заключается в том, что никто не хочет ни видеть, ни иметь никаких достойных качеств (ибо имеющий высшую власть является врагом для всех остальных). Большинство людей думает только о себе, и все ненавидят друг друга, считая, что в благоденствии одного заключается ущерб для другого, а в несчастье одного — выгода для другого.
Поскольку все это обстоит так, то я не вижу, что могло бы склонить тебя к жажде единовластия. Кроме того, ведь такой государственный строй для народа тягостен, а для тебя самого он был бы еще более неприятен... Трудно сокрушить нашу народную массу, столь много лет прожившую при свободе, трудно снова обратить в рабство наших союзников, наших данников, одни из которых издавна жили при демократическом строе, а других освободили мы. Трудно это сделать, в то время как мы со всех сторон окружены врагами». (Дион Кассий. Римская История. 52, 2-5)
Агриппе возражает Меценат:
«Если ты заботишься об отечестве, — говорит он Октавиану — за которое вел столько войн, за которое с удовольствием отдал бы и свою душу, то преобразуй его и приведи в порядок наиболее рациональным образом. Возможность и делать, и говорить все, что только кто пожелает — это источник всеобщего благополучия, если имеешь дело с благоразумными людьми, но это приводит к несчастью, если имеешь дело с неразумными. Поэтому тот, кто дает свободу неразумным людям, все равно, что дает меч ребенку или сумасшедшему...
Поэтому я считаю необходимым, чтобы ты не обманывался, обращая внимание на красивые слова, но чтобы, взвесивши настоящее положение вещей, по существу поставил бы предел дерзким выходкам толпы и взял бы управление государством в свои руки совместно с другими достойными людьми. Тогда сенаторами были бы люди, выдающиеся своим умом, войсками командовали бы те, кто имеет опыт в военном деле, а несли бы военную службу и получали бы за это жалованье люди самые крепкие и самые бедные. Таким образом, каждый будет охотно делать свое дело, с готовностью помогать другому, не будет больше слышно о людях нуждающихся, все обретут безопасную свободу. Ибо пресловутая свобода черни является самым горьким видом рабства для людей достойных и одинаково несет гибель всем. Напротив, свобода, везде ставящая на первый план благоразумие и уделяющая всем справедливое по достоинству, делает всех счастливыми.
Ты не думай, что я советую тебе стать тираном и обратить в рабство народ и сенат. Этого мы никогда не посмеем, ни я сказать, ни ты сделать.
Но было бы одинаково хорошо и полезно и для тебя, и для государства, если бы ты вместе с лучшими людьми диктовал законы, а чтобы никто из толпы не поднимал голос протеста». (Там же. 52, 14-15)
В речи Мецената есть и такая, чисто тактическая рекомендация:
«Господином положения в государстве должен оставаться сенат. Все законы проводи через сенат и вообще ничего не проводи в жизнь без постановления сената». (Там же)
Выслушав и поблагодарив друзей, Октавиан надолго задумывается. В триклинии наступает молчание. Слышно, как потрескивает жир в светильниках. Остановив невидящий взор на пляшущем языке огня, Октавиан мысленно продолжает свой давний разговор с Цезарем:
— Ты говоришь, доверие народа. Что такое народ? Неужели это буйная и продажная римская чернь? Ты, наверное, имел в виду своих доблестных ветеранов. Я тоже уважаю ветеранов, хотя и не могу рассчитывать на такую же, как у тебя, преданность. Я дам им землю — пусть крестьянствуют. Быть может, мне удастся и немного очистить Рим от нищих бездельников. Кого-то вернуть к земле, кого-то завербовать в войско. Но как мне опереться на крестьян, разбросанных по всей Италии и в колониях вне ее? Совсем очистить Рим от черни не удастся. Такая опора на народ будет ненадежной. Ты полагал, что подобно Периклу будешь ежегодно переизбираться консулом. А если подкупленная толпа на Форуме однажды не выбрала бы тебя — достойнейшего из достойных? Подобно тому, как она в Афинах во время чумы вдруг свергла и едва не казнила того же Перикла. Разве такое не может случиться?..
...Еще ты собирался лишить сенат его влияния и власти. Они убили тебя. Из благородных побуждений, во имя Республики! Чтобы убить республиканскую традицию, потребовались бы долгие годы изнурительной борьбы с сенатом. Это ли наилучший путь? Вот Меценат советует наоборот — действовать через сенат. Быть может, он прав? Нет, конечно, не так, чтобы сенат стал господином положения. Пусть это сенаторам только кажется. Имеет смысл даже расширить их полномочия. Пусть обсуждают и принимают законы. Помимо комиций. Но по моим советам! Надо восстановить в государстве почитание сената. Пусть и меня почитают как сенатора, как старшего сенатора! Принцепс сената — возглавляющий список сенаторов! До сих пор это было лишь почетное звание, которое давалось пожизненно почтенным старцам. Я поставлю себя во главе списка. По праву моих заслуг перед государством. И это положение сделаю источником моего авторитета и власти. Источником традиционным, сенатским по своему происхождению! И консулом в Собрании народа меня будут проводить сенаторы и их клиенты. Я обменяю сохранение и почет сената на постоянную власть консула и первого сенатора. Так будет надежней!
...Позади почти прозрачного пламени светильника Октавиану чудится лицо Цезаря — то выступает явственно, то почти скрывается в полутьме. Он скептически усмехается и спрашивает:
— А ты уверен, что через год-другой, когда ветераны разбредутся по колониям, не будешь обманут?
— Нет, не уверен, — мысленно отвечает Октавиан.
— Найдется какой-нибудь новый Катон, — продолжает Цезарь, — и будет уличать тебя в попытке стать царем. Они опять сговорятся и если не убьют, то уж наверное сумеют помешать твоему переизбранию в консулы. А потом, ввиду молодости лет, лишат и положения принцепса. Что останется тогда от твоего влияния и власти? Ты не боишься потерять все, чего достиг, победив Брута и Антония?
— Боюсь, — признается Октавиан. — Но не вижу другого выхода. В крайнем случае Агриппа приведет в Рим войско.
— Не обольщайся, — говорит Цезарь. — Агриппа застрянет в Испании надолго. Я хорошо знаю этот народ. Свою свободу они будут отстаивать до последнего солдата.
— И все же я попробую. Мне ничего другого не остается...
— Ну, смотри...
Черты лица Цезаря расплываются и тают. Октавиан, очнувшись, говорит друзьям, что устал, и отпускает их...
...Конечно же, уважаемый читатель, я не могу поручиться, что именно таков был ход мыслей Октавиана. Но и Дион Кассий спустя двести лет после того знаменательного совещания вряд ли располагал стенографической записью речей Агриппы и Мецената. Он их реконструировал на основе тех сведений из не дошедших до нас источников, которыми располагал. Мне кажется, что у нас достаточно оснований для реконструкции размышлений Октавиана. Ситуация того времени в Риме нам известна. А главное — он попробовал!
Воспользовавшись своей пока еще не ограниченной властью, Октавиан, во-первых, очистил сенат от вовсе недостойных его членов, проникших в него после смерти Цезаря по протекции Антония или за взятку. Из списка в почти тысячу сенаторов он вычеркнул двести человек. Светоний рассказывает, что когда он объявил об этом на заседании сената, то сидел «на председательском кресле в панцире под одеждой и при оружии, а вокруг стояли десять самых сильных его друзей из сената». Первым в списке сенаторов, как тогда говорили, первоприсутствующим (принцепсом) сената, он назвал самого себя. Во-вторых, он установил, что сенатором может быть только тот, чье состояние оценивается не меньше, чем в миллион сестерциев. Это поднимало авторитет сената и, кстати говоря, уменьшало склонность его членов к взяточничеству. Сенаторам, которые пользовались его уважением, если у них недоставало денег, Октавиан помог из своих собственных средств. Все долговые расписки сенаторов государственной казне он приказал сжечь. В частности, таким образом он поддержал представителей древних, но обедневших родов. Вместе с тем он включил в сенат нескольких наиболее достойных людей из муниципий и колоний. Тут же было объявлено, что все решения сената будут иметь силу закона и для этого не требуется подтверждения их в комициях. Зато была введена строгая дисциплина: заседания сената проводились регулярно дважды в месяц, за опоздание и отсутствие взимался штраф. Опрос мнения сенаторов по обсуждаемому вопросу велся не в порядке старшинства, а по усмотрению принцепса. Отчеты о заседаниях сената, введенные Цезарем, Октавиан повелел больше не публиковать.
Для того, чтобы его роль в подготовке сенатских постановлений была неявной, он объявил о своем намерении учредить Совет принцепса, в состав которого будут входить: второй консул, по одному представителю от магистратов всех уровней и пятнадцать сенаторов по жребию, сменяющиеся каждые полгода. Октавиан справедливо рассудил, что с такой небольшой компанией он всегда сумеет справиться и добиться одобрения всего, что сам предложит. Докладывать рекомендации Совета будет консул, а подписывать решения сената — принцепс. Когда к этому привыкнут, — думал Октавиан, — то любые решения за его подписью будут иметь силу закона — в том числе и те, которые он примет без обсуждения в сенате.
Он потребовал от сенаторов согласия еще на одно нововведение, которое обдумал после того вечера, когда они обсуждали вопрос о власти с Агриппой и Меценатом. Пусть совместным решением Сената и Собрания народа ему будет присвоена высшая военная власть — империй. Но не на одну войну, а лет на пять или десять с последующим возобновлением. Пусть наименование император получит новое значение. Не просто победоносный полководец, а главнокомандующий всех римских армий. Как во время войны, так и в дни мира. Пусть оно станет одним из титулов подлинного властителя Рима. Сочетание военной власти императора, гражданской власти консула и авторитета принцепса Сената позволит защитить спасительное для государства единовластное правление от любых посягательств на него консерваторов-республиканцев. И хорошо, что все эти три должности заимствованы из арсенала Республики. Традиция будет как бы сохранена, и смена государственного устройства произойдет постепенно — без гражданских войн и потрясений.
Октавиан не ошибся в расчетах. Сделка состоялась. Совместным решением сената и народа ему был вручен особый, высший империй сроком на десять лет. В течение дальнейшего правления Августа это решение будет пролонгировано еще пять раз.
Прошло полтора года. Дела налаживались, порядок в стране понемногу восстанавливался, ветераны разъезжались по своим колониям. Октавиана дважды переизбирали консулом. Между тем, по мере того, как пустели расположенные близ Города военные лагеря, а война в Испании, где командовал Агриппа, затягивалась, в его душе росла тревога. Долго ли сохранится согласие с сенатом? Достаточно ли прочна его власть? Октавиан приходит к выводу о необходимости какого-то нового ее подкрепления. Быть может, даже выходящего за рамки республиканской традиции и тем самым лежащим вне компетенции сената. Какого-то свидетельства поддержки высшей силы, покровительства богов. Жреческий сан (а он уже член нескольких жреческих коллегий) для этого недостаточен. Жрецы в Риме — лишь хранители религиозного ритуала. Октавиан придумывает для себя новый титул. Его будут называть Август (Augustus). Он произвел это слово от общего корня со словами: возвеличивать (augerе), авгур — провозвестник воли богов (augur) и autoritas — авторитет. Имя Август будет говорить о древнем — моральным и религиозном — праве быть, подобно Ромулу вождем римского народа, хранителем заветов старины.
Чтобы заставить сенаторов, не раздумывая, принять соответствующее решение (он его подскажет через своих людей), Октавиан прибегает к шантажу. 13 января 27-го года, едва вступив пятый раз подряд (а всего — седьмой) в должность консула, он в своей речи перед сенатом неожиданно заявляет о своем намерении сложить консульские полномочия и удалиться от дел. Вот фрагмент его речи и реконструкции Диона Кассия:
«Мои слова, — так начал свою речь Октавиан, — многим из присутствующих могут показаться фальшивыми, ибо фальшивым каждый считает то, чего сам не в состоянии сделать...
Мои войска пышут силой и довольством. Меня окружают любовь, сила, богатство, многочисленные союзники. Самое же главное — то, что вы и римский народ своим благорасположением, любовью и доверием вознесли меня на вершину власти. И вот, чтобы ни у кого не оставалось мысли, что я насильственным путем удерживаю врученную мне единодержавную власть, я в настоящий момент перед вашим лицом слагаю с себя все свои полномочия и возвращаюсь к частной жизни...
Конечно, мой добровольный отказ не может быть рассматриваем как желание бросить государство и вас на произвол судьбы, отдав вас во власть честолюбивых и порочных людей и столь же порочной черни, всегда подрывающей общественный порядок. Вам самим, почтеннейшие и уважаемые люди, отныне я передаю управление государством. Я сделал для общественного блага все, что только мог. Теперь же я чувствую себя утомленным и нуждаюсь в глубоком покое. Мой дух, мои силы исчерпаны». (Там же, 53, 3-10)
Эта речь повергла римлян в величайшее смятение. Сенат — в панике. Никто не готов взять власть, и мало кто верит в искренность Октавиана. Город охвачен тревогой, ходят самые невероятные слухи. Три дня длятся переговоры сенаторов с принцепсом. Ему предлагают диктатуру, потом царскую корону. Он отказывается. Наконец, возникает вариант с титулом Август. Октавиан дает себя уговорить. Теперь он будет официально называться Император Цезарь Август, сын божественного (имеется в виду — обожествленного Юлия Цезаря). С этого момента и мы будем называть его Августом. В честь благополучного разрешения опасного кризиса принято постановление водрузить в сенатской курии от имени римского народа золотой щит с посвящением Августу. А шестой месяц года (секстилий) переименовать в месяц Август (год по римскому календарю начинался в марте).
16 января 27-го года можно считать днем рождения римской империи. Все последующие властители Рима будут именовать себя императорами. Те, о ком пойдет речь в этой книге, будут вслед за Августом сохранять сенат, в той или иной мере сотрудничать с ним и занимать первое место в списке сенаторов, т.е. будут принцепсами. Поэтому государственное устройство Рима двух первых веков нашей эры часто называют принципатом. Между прочим, благодаря умной позиции первого императора современники Августа искренне считали 16 января днем восстановления сенатской республики. Это впечатление укреплялось тем, что Италия освободилась от деспотизма полководцев гражданских войн, от грабежей и произвола их солдат. Был восстановлен порядок, который все эти годы граждане связывали с воспоминаниями о Республике.
За год до своей смерти Август в пространном документе сам перечислил и оценил главные, с его точки зрения, события своего правления. Текст этого документа, названного автором «Деяния божественного Августа», был, в соответствии с последней волей императора, вырезан на бронзовых досках, установленных перед его мавзолеем. Он состоит из тридцати пяти параграфов и хотя в копиях, но полностью дошел до наших дней. В дальнейшем я не раз буду цитировать этот бесценный документ — прямое свидетельство дел и личности основателя Римской империи. В 34-м, итоговом параграфе Август так описывает события двух первых лет своего единовластного правления:
«В шестое и седьмое консульство, после того, как Гражданские войны я погасил, с общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал. За эту мою заслугу постановлением сената я был назван Августом, и лаврами косяки моего дома были покрыты всенародно, и гражданский венок над моей дверью был закреплен, и золотой щит в Юлиевой курии был поставлен, надпись на каковом щите свидетельствует, что его сенат и народ римский дали за мужество, милосердие, справедливость и благочестие. После этого времени я превосходил всех авторитетом, но власти имел не больше, чем другие, кто были у меня когда-либо коллегами по должности». (Деяния божественного Августа. 34, 1-3)
Уважаемый читатель, я думаю, что ты вместе со мной порадуешься необыкновенной удаче, выпавшей на нашу долю. Через два тысячелетия до нас дошла самооценка важнейшего поступка человека, чью психологию и мотивы поведения мы стараемся понять. Проведем же небольшое расследование, сопоставляя этот документ с известными нам фактами. Начнем с последней фразы. Что касается авторитета, у меня нет возражений. В эпоху процветания государства — а первые две трети правления Августа вполне отвечают такому определению, — авторитет правителя стоит высоко. Коллеги — это консулы и народные трибуны. Только эти две официальные должноcти — не считая жреческих, где речь о власти неуместна, — занимал Август в течение всего времени своего правления. От консульства, как мы скоро узнаем, он отказался в 23-м году. А коллегами-трибунами у него были только члены его семьи: в течение шести лет Агриппа (в то время уже зять Августа) и в течение восемнадцати лет — Тиберий. Утверждение о том, что власти он имел не больше, чем они, представляется сомнительным.
Поднимемся выше по тексту. О золотом щите мы уже знаем. Кстати, мужество, милосердие, справедливость и благочестие — это классические древнеримские добродетели. Надо полагать, что они перечислены на щите не случайно, не без coглacoвания, как бы сейчас сказали, с адресатом. И вот, наконец, главный тезис: «Государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал». Его-то я и намерен подвергнуть особо тщательной проверке.
Начнем с сената. Во времена Республики одной из важнейших его прерогатив было ежегодное назначение наместников провинций — проконсулов и пропреторов! В силу их бесконтрольной власти, у наместников были возможности колоссального обогащения. Сенаторы в порядке живой очереди устремлялись к этим «кормушкам»! Август поделил все провинции на сенатские и императорские. Логика здесь, очевидно, была такова. Император — главнокомандующий всех римских армий. Армии должны находиться в угрожаемых, пограничных с варварами провинциях. Эти провинции оказываются постоянно как бы на военном положении. Поэтому распоряжаться в них должен император. Он будет назначать туда из числа сенаторов на угодный ему срок (стабильность, компетентность управления!) своих уполномоченных в звании легатов-пропреторов. Им же будет поручено командование находящимися в провинциях войсками. Порядок назначения наместников сенатских провинций останется прежним. Но, разумеется, «в интересах безопасности государства» император вправе контролировать положение дел и в них. Мало того. Сбор налогов в тех и в других провинциях передается в ведение специальных прокураторов, назначаемых принцепсом. Откупа сбора налогов, как правило, запрещаются, а если принцепс сочтет возможным их разрешить, то только провинциальным же муниципалитетам. Законы о наказании за вымогательство в провинциях будут ужесточены, а судопроизводство по ним — упрощено. Сенатской синекуре в провинциях придет конец. В государственную казну (эрарий), согласно решению Августа, будут поступать налоги только из сенатских провинций. Весь денежный доход из императорских провинций пойдет как бы в военную казну (фиск), находящуюся в полном и бесконтрольном распоряжении императора. Не стоит здесь перечислять те и другие провинции. Тем более, что число их за время правления Августа заметно возрастет. Из списка императорских провинций достаточно упомянуть такие обширные территории, как Галлия, Северная Испания и Сирия.
Далее. Во все времена до Августа финансами государства по закону распоряжался сенат. Это был главный инструмент его непосредственной власти. Даже ведущий войну консул должен был просить денег у сената. Эрарием ведали квесторы, подотчетные только сенату. Август повысил хранителей государственной казны до ранга преторов и подчинил их напрямую принцепсу сената, т.е. себе самому. Он постепенно прибрал к рукам и всю сферу дипломатических отношений с другими странами, что также издревле входило в компетенцию сената. Позволительно спросить, какую же власть Август «передал на усмотрение сената»? А как с передачей ее римскому народу? Комиций при Августе продолжали созываться. Не столько для принятия законов, сколько для выборов магистратов. Законотворческая функция, как мы уже знаем, перешла к сенату, точнее — к Совету принцепса, а, значит, фактически опять-таки к Августу. Но и выборами в комициях распоряжался принцепс. Ему было официально предоставлено право предложения и отвода кандидатов на все государственные должности. Он этим правом не злоупотреблял, но, если считал нужным, вмешивался решительно. Таким образом, утверждение о передаче власти народу тоже не выдерживает критики. Власть императора Августа была, конечно же, самодержавной (мы пока не обсуждаем, хорошо это или плохо), лишь завуалированной сохранением республиканских институтов, лишенных своих главных полномочий.
Чтобы в какой-то мере компенсировать римскому плебсу его отстранение от политической активности в Собраниях народа, Август вновь разрешил запрещенные Цезарем постоянные коллегии — объединения граждан по профессиям, по месту жительства, для учреждения касс взаимопомощи и организации похорон. В коллегии, наряду со свободнорожденными, входили вольноотпущенники, а иногда и рабы. Много позже (в 7-ом году) он разделит Рим на 14 районов и 265 кварталов. Там будут выбирать старост и других функционеров местного масштаба. В общей сложности около 1200 зажиточных простолюдинов (ремесленников и торговцев) смогут приобщиться к «малым формам» общественного самоуправления. Но, конечно же, главным средством удовлетворения интересов римского плебса и отвлечения его от политики останется выполнение знаменитого требования толпы: «Хлеба и зрелищ!»
В отношении хлеба Август был прижимист. Ему хотелось уменьшить число паразитирующих в Риме люмпенов. Вовсе отменить бесплатные раздачи хлеба он не решился. Но список нахлебников государства сократил с трехсот до двухсот тысяч человек и упорядочил процедуру раздачи зерна. Его стали выдавать по «талонам» (тессерам) из расчета примерно 1 килограмм в день на семью. Раз в месяц, на Марсовом поле зерно отвешивали в полусотне установленных там раздаточных пунктов. Хлеб доставлялся главным образом из Египта, т.е. за счет Августа. В неурожайные годы он прикупал зерно на свои средства. Кроме того, за время своего правления император шесть раз (когда ему необходимо было заручиться поддержкой плебса) раздавал неимущим гражданам деньги — по 60—100 денариев на человека. Что в общей сложности составило более 130 миллионов денариев. Об этом он с бухгалтерской скрупулезностью (даты, число получателей) записал в «Деяниях». Но особенно щедро Август потчевал сограждан зрелищами. Подробный их перечень он тоже включил в итоговый документ своей жизни. Чтобы читатель получил представление о размахе этих увеселений, я позволю себе здесь этот перечень (с некоторыми сокращениями) процитировать:
«Трижды гладиаторские игры я дал от моего и пять раз от имени моих сыновей и внуков, в каковых играх сражались около десяти тысяч человек. Дважды зрелище атлетов, отовсюду приглашенных, народу я представил от своего имени и в третий раз от имени моего внука. Игры я устраивал от моего имени четырежды, а через других магистратов двадцать три раза... Травли африканских зверей от моего имени или моих сыновей и внуков в цирке или на Форуме, или в амфитеатрах народу я дал двадцать шесть раз, для которых было доставлено зверей около трех тысяч пятисот. Зрелище морского сражения народу я дал за Тибром, на каковом месте теперь находится роща Цезарей, выкопав землю в длину на тысячу восемьсот футов, а в ширину на тысячу двести». (Там же. 22, 23)
Август и сам любил смотреть эти подчас жестокие зрелища. Особое пристрастие он питал к кулачным боям и даже к сражениям простых горожан, которые в переулках Рима бились стенка на стенку, без порядка и правил. Между прочим, Светоний рассказывает об эпизоде, который свидетельствует о поистине древнеримской силе характера императора:
«На играх, которые он давал от имени внуков, среди зрителей вдруг началось смятение — показалось, что рушится амфитеатр. Тогда, не в силах унять их и образумить, он сошел со своего места и сам сел в той части амфитеатра, которая казалась особенно опасной». (Светоний. Божественный Август. 43)
Затраты на организацию перечисленных Августом зрелищ трудно даже оценить. Добавим покупку земли для ветеранов, наградные воинам при увольнении и взносы, в поддержку городского хозяйства и в военную казну. Вместе с упомянутыми ранее раздачами денег неимущим, только перечисленные в «Деяниях» траты императора из. «личных средств» составили чудовищную сумму — более пятисот миллионов денариев. Это не считая организации зрелищ и колоссального строительства в Риме, о котором речь еще впереди. Силу денег, как мы помним, оценил еще Юлий Цезарь. Могущество Августа в значительной степени обеспечивалось его исключительным богатством. Главные источники этого богатства нам известны: Египет и доходы из императорских провинций. Добавим множество имений в Италии, принадлежащих лично императору, где под надзором местных управляющих трудились его рабы.
Но вернемся в русло нашей истории. Как я уже упоминал, военные действия в Испании затягивались. Август не любил войну, хотя был не трус. Читатель может припомнить, как молодой Октавиан в первом сражении с Антонием бился в рядах легионеров и вынес с поля боя тело убитого консула. Однако талантом полководца, Август явно не блистал. Тем не менее, он решил, что в трудное время императоре следует стать во главе войска. В 26-м году Август отправляется в Испанию. С собой в качестве военных трибунов, несмотря на их молодость (17 и 16 лет), он берет племянника Марцелла и Тиберия. Марцелл, по-видимому, вскоре был отослан в Рим. Во всяком случае, известно, что в следующем же году он по распоряжению Импepaтора женится на его дочери и своей кузине Юлии. Ей едва исполнилось четырнадцать лет, но римлянки выходили замуж рано. Очевидно, Август хотел иметь внука, в чьих жилах текла бы кровь хоть наполовину из рода Юлиев. Уже тогда, заботясь о преемственности своей власти, он даже усыновил Марцелла. Но тот спустя два года неожиданно умер, так и не оставив потомства.
В 24-м году по причине тяжелой болезни император возвращается в Рим, так и не снискав славы на полях сражений в Испании. Больше ему командовать легионами не случится. Все остальные войны в течение почти сорока последующих лет его правления будут вести Агриппа и пасынки императора — Тиберий и Друз. А испанская война закончится лишь через пять лет. Еще до своего возвращения Август заочно избирается консулом на 23-й год. Невыгодное впечатление от своих военных «успехов» он старается сгладить первой крупной раздачей денег плебсу. Сенаторы, однако, ропщут. Девятое консульство подряд (всего 13-е)! Это ли не попрание всех республиканских традиций? Открывается заговор с намерением убить Августа. Заговорщики казнены. Сенаторы попритихли. Тем не менее всесильного Принцепса опять одолевают сомнения. По-видимому, Цезарь был прав. Сенат и непрерывная власть консула несовместимы!..
...Перед отъездом в Испанию они с Ливией решили перебраться в более престижный район города, на Палатинский холм. Присмотрели дом, не примечательный ни размером, ни убранством, но удобный. Когда-то он принадлежал оратору Гортензию. Августа особенно привлекало в нем то, что на втором этаже есть изолированная комнатка, куда он может уединяться для размышлений. Из небольшого окна виден храм Юпитера на Капитолии. Глядя на храм и обдумывая дела государственные, Август как будто советуется с Вседержителем богов. Вот и сейчас, стоя у окна, он напряженно думает, как быть. Консул — освященная многовековой традицией креатура сената. Настаивать на ежегодном избрании консулом, тем более без коллеги, как предполагал Цезарь, значит, поддерживать постоянное недовольство и оппозицию сенаторов. Но консулат — единственный законно республиканский источник верховной власти. Правда, народный трибун, когда он накладывает вето на решение консула, кажется еще более могущественным. Но распорядительной власти у трибуна нет. Он может созывать сенат и собрание народа, предлагать законы, но не приказывать. Зато это — не сенатская должность. Что, если вместо консульства потребовать у сената и народа пожизненного трибунства? Распоряжаться делами государства он будет через Совет принцепса, опираясь на свой авторитет, а главное — на войско. Да и выбор консулов ведь зависит от него. Право рекомендации сохранить за принцепсом! А принцепс он пожизненно. Если же консул заупрямится — вето! Чтобы оно было всегда в руках, он должен быть единственным трибуном или иметь лишь одного надежного коллегу. Когда трибунов десять и вето должно быть поддержано всеми, одного из них всегда сумеют подкупить. В старину ведь было только два трибуна! Второго он будет подбирать себе сам. Если пожелает. Пожалуй, это выход! Вполне реальная власть. И опять традиционно республиканская по происхождению. То, что трибунат во всем объеме полномочий будет пожизненным — дело второстепенное. Он не из плебейского рода, а закон предписывает народным трибуном избирать только плебея. Что с того? Если народ решит — его право! В нем, Августе, императоре, он будет видеть своего могущественного защитника. И вполне справедливо. Разве Август намерен создать могучую империю для себя или для сената, а не для римского народа? Представитель и защитник народа! Это как раз то, чего хотел Цезарь. Конечно же, народ согласится! И сенат тоже. Они будут счастливы вернуть себе консульство. Но Август должен обязательно сохранить за собой командование войсками! В конечном счете, только в них сила. Прежде всего — император! Все остальное — потом...
...За Тибром в облака садится солнце. Колонны храма с левой стороны залиты желтым светом закатного неба. В прозрачной тени портика чудится присутствие бога...
Свой замысел Август осуществляет без промедления. В начале 23-го года он отказывается от должности консула. Собрание народа по предложению сената избирает его пожизненным трибуном. Высший империй, т.е. начальство над всеми проконсулами — командующими армиями подтверждается совместным решением сената и народа. В «Деяниях» он запишет:
«Никакой должности, дававшейся вопреки отеческим обычаям, я не принимал. То, что сенат через меня совершить желал, я выполнил, пользуясь трибунской властью. И в самой этой должности коллегу сам по своей воле у сената просил и принимал». (Там же. 6)
Разрешив таким образом проблему организации своей власти на высшем уровне, Август занялся укреплением ее основания — армией. Численность всего римского войска он постепенно сократил до 25 легионов, т.е. примерно 150 тысяч человек. В нее на добровольной основе зачисляли только римских граждан. Для неимущих служба в армии открывала возможность как-то устроить свою жизнь. Длилась она лет 20-25. Легионеры, помимо военных трофеев и наград, получали жалованье по 250 денариев в год, центурионы — по 375. Хотя стоимость оружия и питания у них удерживали, к концу службы можно было скопить порядочную сумму. Лет в сорок ветераны выходили в отставку, получая надел земли (после 13-го года — денежную компенсацию) и могли обзавестись своим хозяйством, семьей. Соответственно каждый год в армию вербовали 8-10 тысяч новобранцев. Порою — не без труда. В тяжелые военные годы сенат объявлял принудительную мобилизацию. Структура регулярной армии при Августе в основном сохранялась прежней. Основной цементирующей силой в войске, как и прежде, оставались командиры центурий — центурионы, выслужившиеся из солдат. Когортами командовали военные трибуны, легионами — легаты, всем войском провинции, как мы знаем, легат-пропретор. Все это были сенаторы или дети сенаторов, назначенные лично Августом, и не на год, а на тот срок, который он считал нужным. Все продвижения по службе целиком зависели от благоволения императора. Во избежание опасного усиления корпоративного духа в войске и возможности военных заговоров Август часто переводил старших офицеров из одного легиона в другой, а сами легионы перемещал с места на место, меняя соседей. Каждому римскому легиону придавалось равное по численности и аналогично организованное вспомогательное войско «варваров» — провинциалов. Здесь командовали префекты из римских всадников. Префектов тоже подбирал сам император. Заметим попутно, что этим было положено начало «варваризации» римского войска, которой предстояло сыграть важную роль в дальнейшей истории Империи.
Главной заботой Августа было обеспечение полного послушания войска. Он хорошо запомнил самоуправство солдат в 31-м году. Юлий Цезарь мог себе позволить отеческие отношения с ветеранами. Почти десять лет он с ними прошагал по дорогам Галлии, делил голод и холод, удачно командовал во множестве сражений. И то, когда после Фарсалы им не дали обещанных наград, они взбунтовались. Август был убежден — надежные и долговременные отношения с войском можно строить только на основе железной дисциплины. Привычка к беспрекословному подчинению приказу должна войти в плоть и кровь каждого солдата. Если плохо входит, надо вогнать розгами. Как в доброе старое время. А то и казнью — для острастки. И никаких «соратников» в обращении к солдатам! Только «воины». Опора на центурионов! Особо ревностные из них могут рассчитывать на перевод во всадническое сословие и дальнейшее повышение.
«Дисциплину, — свидетельствует Светоний, — он поддерживал с величайшей строгостью. Даже своим легатам он дозволял свидания с женами только в зимнее время, да и то с большой неохотой... Десятый легион (помните? Любимцев Цезаря. — Л.О.) за непокорность он весь распустил с бесчестием. Другие легионы, которые неподобающим образом требовали отставки, он уволил без заслуженных наград. В когортах, отступивших перед врагом, он казнил каждого десятого, а остальных переводил на ячменный хлеб. Центурионов, а равно и рядовых, покинувших строй, он наказывал смертью, за остальные проступки налагал всякого рода позорящие взыскания...» (Светоний. Божественный Август. 24)
Для войска была установлена своя религия — культ Гения-императора. Ему присягали на верность и беспрекословное повиновение. Легионы были расквартированы далеко в провинциях. На случай беспорядков в Риме или Италии, а также для давления на сенат Август счел необходимым иметь отборную военную силу «под рукой». Он создал императорскую гвардию — «преторианцев». Девять когорт по 1000 пехотинцев и сотне всадников. Жалованье у преторианцев было втрое выше, чем в, регулярной армии, срок службы сокращен до шестнадцати лет, а набирали их только из Лациума. Три когорты постоянно находились в Риме, остальные шесть — распределены по всей Италии. Командовали ими два префекта из всадников — один в Риме, другой вне его. Легко понять, что должность префекта претория была ключевой во всем построении государственной власти императора. Август назначал на нее обычно преданных ему людей. Тем не менее, для подстраховки и непосредственной защиты от покушений он завел свирепую и неусыпную личную стражу из чужеземных наемников (сначала испанцев, потом германцев), которая его повсюду сопровождала.
Я понимаю: перечень реформ и государственных преобразований, совершенных правителем в столь далекую эпоху, не может претендовать на увлекательность. Куда интереснее психология реформатора, его отношение к своему народу. Подчас они очень явственно проецируются на фон современной жизни. Ведь психология людей, несмотря на кардинальную смену условий их существования, даже за тысячелетия мало меняется. Но попытка понять логику и мотивы действия правителя без хотя бы краткого описания самих реформ повиснет в воздухе. Поэтому прошу читателя ненадолго запастись терпением.
Одновременно с изменением отношений в армии Август занялся созданием того, что ныне именуется аппаратом государственного управления. Разумеется, то и другое происходило постепенно, в течение чуть ли не всей его жизни. Но чтобы далее не отвлекаться, я опишу структуру «администрации» Августа здесь. В ней ясно просматривается его стремление, говоря современным языком, обеспечить все важные сферы общественной жизни квалифицированным руководством. Раньше все вопросы снабжения города продовольствием, поддержания порядка, ремонта зданий, дорог и прочих общественных сооружений решали часто сменяющиеся эдилы, консулы или цензоры. Они поручали соответствующие работы в порядке государственного заказа подрядчикам-рабовладельцам. Август для распоряжения всеми делами такого рода стал самолично назначать на неограниченное время опытных и надежных людей. Под командой префекта Рима (сенатора) находились три городские когорты по тысяче человек, наблюдавшие за порядком, — по существу, полиция. У префекта стражи (vigilis) из всадников в подчинении было семь тысяч вольноотпущенников. В их обязанности входило тушение пожаров и охрана города ночью. (Помните, у Мандельштама в Tristia: «Последний час вигилий городских»?) Префект, ведающий снабжением города продовольствием и раздачей хлеба неимущим, назначался тоже из сословия всадников. Сенаторскими были ответственные должности: куратора сохранности и ремонта общественных зданий (храмов, театров, портиков и проч.), куратора дорог и мостов, куратора акведуков, ведавшего еще и всем сложным подземным хозяйством водораспределения в огромном городе. Всех их тоже назначал сам император. У этих «чиновников» был, конечно, свой штат помощников. А у самого Августа — целая канцелярия, состоявшая из верных вольноотпущенников и рабов. Она располагалась на втором этаже его дома. Отсюда рассылались распоряжения императора, сюда стекались все отчеты и донесения с мест. И не только от официальных лиц — у принцепса повсюду были «глаза и уши».
На наиболее важные посты он постепенно стал все чаще выдвигать всадников. Когда-то, на заре римской истории это второе по значению сословие действительно поставляло в армию конных воинов. Потом оно состояло, главным образом, из богатых коммерсантов, банкиров и откупщиков, связанных с римской аристократией. Теперь сословие всадников было представлено, по преимуществу, дельными людьми, воспитанными в правительственных учреждениях Рима или муниципий, часто — незнатными, вышедшими в отставку офицерами, порою даже разбогатевшими вольноотпущенниками. Чтобы поднять престиж всадников, Август установил для них ценз в 400 тысяч сестерциев, определенные льготы и почести, а также процедуру ежегодной аттестации, которая происходила в присутствии императора. Сословие всадников насчитывало около пяти тысяч человек. В качестве своего главы и покровителя они избирали одного из членов императорской семьи. Служилое сословие людей богатых, толковых и вместе с тем целиком обязанных своим положением императору, начинает при Августе играть все большую роль в управлении государством, составляет его деловую элиту. Особенно влиятельным был узкий круг приближенных, хотя и не занимавших никаких должностей лиц, которые именовались просто «друзьями принцепса». Ну, вот пока и все. Двинемся дальше по биографии Августа.
На следующий год после сложения им консульских полномочий в Египте случился неурожай. В Риме наступил жестокий голод. Вслед за ним вспыхнули эпидемии.
Император в это время находился в Кампании. Плебс заволновался, приписывая эти беды неспособности консулов и сената управлять государством. Разъяренный народ окружил курию, угрожая сжечь ее вместе с сенаторами и требуя назначить Августа диктатором. Его срочно вызвали в Рим. Император чуть ли не на коленях умолял сограждан отказаться от этого требования и обещал, что справится с голодом без всяких чрезвычайных полномочий. И справился! В течение всего года, до нового урожая он ежемесячно закупал хлеб для двухсот тысяч человек на собственные средства.
В конце 22-го года, когда народ успокоился и жизнь вошла в нормальную колею, Август отбывает на Восток. Он намерен произвести инспекцию восточных провинций, а, главное, разрешить дипломатическим путем давнее и опасное противостояние с Парфией. Момент был благоприятным. Могучее парфянское царство раздирали жестокие междоусобицы. Новый парфянский царь Фраат, захвативший престол убитого им отца, стремился укрепить свои позиции дружбой с Римом. Он согласился освободить земли, захваченные в соседних римских провинциях и зависимых государствах. Граница раздела сфер влияния между двумя великими державами была установлена по Евфрату. Караванная торговля с Индией и Китаем возобновилась. Великий торговый путь шел через Антиохию и Пальмиру. Вопрос об Армении, служившей яблоком раздора между Римом и Парфией, был разрешен путем компромисса. Армянское царство обрело самостоятельность, но на его престол был возведен ставленник Рима Тигран III. Наконец — и это для римлян было важнее всего — парфяне обязались вернуть захваченные после разгрома Красса знамена и легионные значки. Попранная и оскорбленная более тридцати лет назад честь римского оружия была восстановлена. Римляне ликовали! Принять знамена и возложить царскую корону на голову Тиграна император поручает Тиберию. Успех своей дипломатической миссии на Востоке Август в «Деяниях» описывает в следующих несколько витиеватых выражениях:
«Парфян трех римских войск доспехи и знамена отдать мне и, умоляя, просить о дружбе римского народа я принудил. ...Ко мне царь парфян Фраат, сын Орода, своих сыновей и внуков всех послал в Италию, не будучи побежденным в войне, но нашей дружбы прося, отдавая в залог своих детей». (Там же. 29, 32)
После почти трехлетнего отсутствия император возвращается в Рим. Слава его в зените, власть — неоспорима. С величайшей энергией, решительно и умно он начинает совершенствовать устройство всего римского государства. Разумеется, и эта его деятельность растягивается на многие годы. Но я опять, ради компактности изложения, опишу ее результаты здесь, в одном месте.
Италия в ту пору насчитывала около десяти миллионов свободнорожденных (из них половина — римские граждане) и примерно четыре миллиона рабов. Август разбивает всю страну на одиннадцать областей. В каждой — несколько городских центров: муниципий и колоний. Гражданские права италиков уважаются. Члены городских советов (декурионы) участвуют в столичных выборах должностных лиц государства, присылая заверенные печатью результаты в Рим. Наиболее именитых граждан Август возводит во всадническое и даже сенаторское достоинство. Желая отличиться, декурионы ревностно следят за порядком и спокойствием в городе и прилегающей к нему сельской округе, а также за сбором налогов. Впрочем, налоги в Италии носят лишь эпизодический характер: налог на наследство, при отпуске на волю раба и всего один процент с торговых операций. В муниципиях есть своя полиция, а в случае необходимости можно вызвать преторианцев из ближайшего лагеря. Рабы в крупных латифундиях находятся под бдительным надзором. Мелкие и средние крестьянские хозяйства, особенно в колониях ветеранов, становятся на ноги. Италийские купцы по всей империи пользуются льготами беспошлинной торговли. Повсюду строятся дороги и мосты. Страна оправляется после разрухи и потрясений гражданских войн. Народ благословляет мудрое правление Августа.
Провинции Рима (в них проживают около шестидесяти миллионов человек) тоже оживают. Провинциалы платят подушный и поземельный налоги, а также налог на недвижимость. Но злоупотребления при их взимании пресечены. Во многих провинциях по указанию Августа проводятся переписи населения, составляются земельные кадастры. Суммы налогов заранее известны. Их собирают муниципалитеты провинциальных городов под наблюдением прокураторов, которых назначает император. Грабежи, вымогательство и произвол наместников ушли в прошлое. Повсюду воцарился мир. Города растут и богатеют.
В западных провинциях постепенно устанавливаются римские порядки и римское право — идет их быстрая романизация. Ведущую роль в этом играют многочисленные колонии ветеранов. На востоке их сравнительно мало, и Август благоразумно сохраняет здесь эллинистический уклад жизни. В традиции этих мест — религиозный культ властителя. Повсеместно возводятся храмы, посвященные совместно Августу и богине Рима. В главном храме провинции в день рождения императора для благодарственного молебствия собираются жрецы из всех ее городов. Эти собрания имеют право, в случае необходимости, обращаться с посланиями непосредственно к Августу, излагая в них свои просьбы или жалобы. Положение провинций понемногу приближается к статусу частей единой империи. Сам император регулярно объезжает их с инспекцией. Афины и Спарту, между прочим, он не включил в состав греческой провинции Ахайя. Из уважения к их прошлому эти два города оставались свободными и не платили дань Риму. Чтобы быстрее получать вести из провинций, Август учреждает государственную почту. По военным дорогам через определенные промежутки велит расставить постоялые дворы, а между ними еще семь-восемь станций для смены лошадей. Таким образом, императорские гонцы могут целый день скакать во весь опор, после чего их ждет пусть короткий, но благоустроенный ночлег. Гонцы имели при себе подорожные бумаги, а в запечатанных письмах, которые они везли, Август указывал сам и велел своим корреспондентам точно проставлять день и час отправления почты.
Фиск в Риме чеканит золотые и серебряные монеты. Эрарий — медные. Море очищено от пиратов. Торговля расцветает. Торговые пошлины ощутимо пополняют казну. Отметим еще раз, что император действует очень осторожно. В Риме, Италии и провинциях — повсюду он старается сохранить традиционный уклад жизни, постепенно внося в него изменения, необходимые для новой системы управления. Наступает эра небывалого могущества и процветания римского государства.
Между тем, Августа не оставляет забота о наследнике. Приходится смириться с мыслью, что сына у них с Ливией не будет. Значит, Юлия должна родить ему внука! Если не от родного племянника, Марцелла, то от верного друга, Агриппы. Еще в 21-м году по настоянию императора Агриппа расторгает свой первый брак и женится на Юлии. На этот раз надежда не обманывает Августа. Через год Юлия рожает своего первенца Гая, на следующий год, дочь Юлию (младшую), в 17-м году — второго сына, Луция, потом еще дочь, Агриппину и в 12-м году — третьего сына, Агриппу Постума.
Родственные отношения в семье Августа и его преемников будут играть очень важную роль. Чтобы разобраться в грядущих сложных ситуациях «престолонаследия», читателю придется постоянно иметь их в виду. Для облегчения этой задачи я здесь в виде схемы привожу родословное древо главных членов семьи Августа и его потомков. Имеет смысл собрать их, чтобы впоследствии было удобно обращаться к уже знакомой схеме. Хотя с персонажами ее нижней половины читателю предстоит встретиться лишь в четырех последующих главах. Для упрощения имена на схеме записаны не полностью, а в обычных сокращениях. Супруги, имевшие потомство, подчеркнуты, и стрелки, идущие от их имен, сливаются в одну, указывающую потомство. Братья и сестры записаны рядом, под одной горизонтальной линией. Две пунктирные линии указывают на перенос уже появившегося на схеме имени женщины к имени ее будущего супруга. Годы жизни главных персонажей указаны около их имен: годы до нашей эры без отметки, годы нашей эры с пометкой Р.Х. В рамках имена императоров — опять-таки в тех сокращениях, в каких они вошли в римскую историю. Имена Ливии и ее первого мужа записаны полностью для того, чтобы стало ясно, почему в потомстве Ливии так часто встречаются имена: Тиберий, Друз (Друзилла), Клавдий и Нерон. Вот и все. Читатель, я надеюсь, легко сможет разобраться в этой схеме. Определим, к примеру, в ее верхней половине семью Августа к тому моменту времени, до которого мы успели дойти в нашей истории. В центре сверху мы находим Августа, его первую жену Скрибонию и их дочь Юлию. Ее стали именовать Юлией старшей после того, как у нее от Агриппы родилась дочь — Юлия младшая. Эту дочь мы отыщем среди братьев и сестер в третьем сверху ряду схемы. В правом верхнем углу схемы находим Ливию и ее первого мужа, а затем и пасынков Августа — Тиберия и Друза старшего. У Тиберия скоро появится от первой жены Випсании сын — Друз младший.
Но я опять был вынужден изменить хронологическому порядку повествования. Вернемся же к нему. Итак, после почти трехлетнего отсутствия Август возвращается в Рим с Востока. Его ждет восторженная встреча. Сенат жалует ему пожизненные знаки консульского достоинства и право на сопровождение двенадцатью ликторами. На Форуме, куда он нередко спускается пешком, смешиваясь с толпой, его приветствуют хвалебными кликами. В их громком разноголосье явно доминирует главная нота — благодарность за возвращение римских знамен из парфянского плена. Когда же эти знамена и значки легионов в сопровождении почетного эскорта воинов прибывают наконец в город, его охватывает ликование.
...Опускается ночь, а Рим все не затихает. На вершину респектабельного Палатинского холма снизу, с разных сторон, поднимается невнятный шум множества голосов, долетают звуки музыки, обрывки песен, веселые возгласы и смех. На Форуме горят костры. В лабиринте узких улочек качаются и пляшут бесчисленные огоньки факелов.
Август укрылся в своей комнатке наверху. Он обещал Меценату просмотреть первые главы «Истории Рима» Тита Ливия. На завтрашний обед приглашены только эти двое. Личность историка давно привлекает внимание императора. Но толком поговорить с ним все как-то не случалось. На столе перед окном — груда свитков рукописи. Ничего — впереди ночь и завтрашний день... Доносящиеся снизу звуки отвлекают Августа... Почему они так бурно радуются? — думает он. Тридцать лет прошло после разгрома и гибели Красса. Мало кто вспоминал об этом несчастье в заполненные иными бедами годы... Он заставляет себя сосредоточиться и разворачивает первый свиток. Авторское вступление...
«Мне бы хотелось, — пишет Ливий, — чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий — дома ли, на войне ли — обязана держава своим зарождением и ростом: пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах». (Тит Ливий. История Рима. Т. I. Предисловие)
— Да, это так, он прав, — думает Август.
«Впрочем, — читает он далее, — либо пристрастность к взятому на себя делу вводит меня в заблуждение, либо и впрямь не было никогда государства более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и так высоко чтили бы бедность и бережливость». (Там же)
Август поднимает глаза от рукописи, задумчиво смотрит на блуждающие внизу огни, потом на темный, едва различимый на фоне вечернего неба контур храма Юпитера.
— Не только бережливость и воздержанность, — мысленно возражает он Ливию, — но военная и гражданская доблесть, уважение законов, а главное — преданность Риму в сочетании с чувством собственного достоинства. Все это в течение веков составляло незыблемую основу могущества римского государства. Сейчас, после хаоса гражданских войн, она зашаталась и вот-вот обрушится. Римская доблесть, которой так гордились предки, теперь осмеивается памфлетистами из аристократической молодежи. Но не все еще утрачено. В народе живы традиции великого Рима, приверженность его бессмертной славе. Поэтому они так рады возвращению знамен!
Август возобновляет чтение, но тревожная мысль мешает сосредоточиться:
— А, может быть, эта доблесть и чувство собственного достоинства присущи только свободным гражданам Республики и несовместимы с правлением одного, даже самого достойного мужа? Как тогда сказал Агриппа? «При единовластии никто не хочет ни видеть, ни иметь никаких достойных качеств». И объяснил это тем, что властитель является врагом всех. Но почему? Разве я враг моим согражданам? Разве я не хочу процветания Рима и возрождения в его народе древних добродетелей? Разве сам не стараюсь подать тому пример? Свобода?! Неужели она в том, чтобы невежественный и продажный плебс, толпясь на Форуме, решал судьбу огромного государства? Или в том, чтобы почтенные сенаторы торговали должностями и государственными подрядами, а публиканы и те же сенаторы-наместники грабили провинциалов? Не больше ли свободы у гражданина государства, где царят закон и порядок, обеспеченные твердым и разумным правлением одного? Разве в таком государстве нет поля деятельности для служения отчизне, проявления военной и гражданской доблести? Разве ущемляется чувство собственного достоинства? Если, конечно, царит именно закон, а не произвол. Когда правитель по возможности воздерживается от насилия — опираясь на свой авторитет, любовь и доверие народа... Воздерживается от насилия?.. А проскрипции?..
Лицо императора мрачнеет. Он надолго задумывается, потом возвращается к чтению...
...Назавтра во время обеда Август признается, что закончить чтение не успел, но лестно отзывается о прочитанном. Потом, возвратившись к началу рукописи, спрашивает:
— Ты сетуешь на то, что в Риме воцарились алчность и роскошь, на падение нравов. Быть может, это в природе нашего поколения — мы другие, чем были наши предки?
— В этом твоем доме, — отвечает с горячностью Ливий, — нет ни мрамора, ни штучных полов. Твои простота и умеренность известны всем в Риме. А посмотри кругом! Сенаторы и богатые всадники стремятся перещеголять друг друга в роскоши и убранстве вилл, в дорогой посуде, изобилии и изысканности пиров. Во время твоего отсутствия вновь расцвели взяточничество и подкупы избирателей в комициях. Рядом с роскошью идет разврат. Семьи рушатся. Мужчины и женщины из аристократических семейств сожительствуют вне брака и не хотят иметь детей. Ты приблизил к себе небогатых и дельных людей из всаднического сословия. Это хорошо. Но в Риме традиции достоинства и чести привыкли связывать с именами древних и знатных родов. А какой пример ныне подают их отпрыски? Да и сами эти роды скоро исчезнут за неимением потомства. Примеру аристократов начинают следовать люди из народа. Если так пойдет дальше, не из кого будет набирать римское войско...
Ливий вдруг спохватывается, что увлекся, и умолкает.
— Мне это известно, — отвечает Август. — Но как их остановить? Я надеялся убедить римлян своим примером. Но, видимо, не сумел...
— Ты должен власть употребить, — говорит Меценат
— Законы о роскоши не раз принимались и тут же нарушались, — замечает Август.
— Это зависит от строгости наказания.
— Не хочется наказывать, — возражает Август. — Довольно было строгостей и жестокостей. — Потом, помолчав, обращается к Ливию:
— Если ты доведешь свои исследования до наших дней, что ты напишешь о проскрипциях? Простит ли их мне История?
Услышав это, Меценат с тревогой взглядывает на Ливия. Историк побледнел и приподнялся на ложе. Потом твердо произнес:
— Я напишу правду Цезарь. — И, помолчав, добавил. — История, быть может, не простит, а люди забудут, если твое правление воскресит доблесть и славу Рима.
— Спасибо за откровенность, — усмехается Август. — Ты смелый человек. — Потом с горечью продолжает: — Если будешь писать, учти, что я был тогда очень молод. А молодость порой безжалостна. И еще я боялся сената. Боялся, что они убьют меня, как Цезаря.
В триклинии опять повисает молчание. Потом, уже другим тоном, Август спрашивает:
— Еще скажи, ученый муж, чем я могу помочь восстановлению добрых нравов простого народа?
— Верни ему уважение к религии предков. Даже, если сам не очень веришь. Ты начал свое правление с того, что восстановил семьдесят два храма. Построй новые, достойные тебя и твоей власти. Воскреси древние обряды и моления. Окружающее величие храмов и торжественная обстановка жертвоприношений благотворно влияют на поведение простых людей — возвышают их души.
— Наверное, ты прав, — кивает Август, — я уже думал об этом...
Жестом руки он отпускает гостей и еще долго остается один в триклинии. Рабы-прислужники не решаются потревожить его задумчивость...
«Ну вот! — восклицает строгий читатель. — Еще одна «реконструкция». Уж вовсе фантастическая! Есть ли у автора хоть какие-нибудь основания приписать Октавиану-Августу сожаления по поводу проскрипций? И насчет простоты и умеренности его жизни я тоже сильно сомневаюсь: римские императоры этим вроде бы не отличались».
Ты прав, мой критик. Прямых свидетельств о раскаянии Августа нет. В «Деяниях» он о проскрипциях не упоминает. Зато сразу после сообщения о мести убийцам Цезаря спешит подчеркнуть свое милосердие:
«Войны на суше и на море, гражданские и с внешними врагами, по всему земному кругу часто я вел и, будучи победителем, всем гражданам, молившим о милости, я даровал пощаду...» (Деяния божественного Августа. 3)
С проскрипциями не вяжется, но ясно указывает позицию автора документа. Помнишь, в начале главы я цитировал из Светония описание любви, которую удалось снискать у сограждан императору Августу. О жестокости Октавиана они, видимо, успели забыть. Ниже я приведу еще примеры милосердия и терпимости Августа. Все-таки: лицемерие или эволюция личности? Я склоняюсь ко второму. Позже попробую обосновать.
Что же касается его знакомства со знаменитым сочинением Тита Ливия, да и с ним самим, то на этот счет нет сомнений. Император и сам был человеком высокообразованным. В биографии, написанной Светонием, об этом часто упоминается. Например: «Красноречием и благородными науками он с юных лет занимался с охотой и великим усердием...» или «...Он написал много прозаических сочинений разного рода; некоторые из них он прочитывал перед друзьями или перед публикой. Таковы «Возражения Бруту о Катоне», «Поощрение к философии» и сочинение «О своей жизни»...» Или: «В слоге он стремился к изяществу и умеренности, избегая как пустых и звонких фраз, так и, по его выражению, «словес, попахивающих стариной». Больше всего он старался как можно яснее выразить свою мысль». И еще: «Греческой словесностью занимался он с не меньшим усердием и достиг больших успехов... Читая и греческих, и латинских писателей, он больше всего искал в них советов и примеров, полезных в общественной и частной жизни. Часто он выписывал их дословно и рассылал или своим близким, или наместникам и военачальникам, или должностным лицам в Риме, если они нуждались в таких наставлениях...» Наконец, такое замечание: «Всем талантам своего времени он оказывал всяческое покровительство. На открытых чтениях он внимательно и благосклонно слушал не только стихотворения и исторические сочинения, но и речи, и диалоги». (Светоний. Божественный Август. 84-86, 89)
Пожалуй, достаточно, чтобы убедить любого скептика: столь небезразличный и даже лично причастный к современной ему культуре правитель не мог не обратить внимания на выдающийся труд Тита Ливия. Что же касается личности и взглядов самого историка, то читатель имел возможность составить о них достаточно полное представление по многочисленным отрывкам из его «Истории», приведенным в двух первых томах этой книги. Так что вполне возможно критически оценить предложенную «реконструкцию» разговора императора и историка.
Ну вот, я опять оправдываюсь. Пожалуй, объяснюсь. Исторические персонажи у меня уже в который раз разговаривают и размышляют. И если их разговоры и публичные выступления в двух первых томах были реконструированы древними авторами — надо полагать, на основании доступных им материалов, — то ответственность за мысли моих героев мне переложить не на кого. Элемент фантазии вполне законен в исторических романах, что в лучших образцах жанра ничуть не уменьшает их достоверности. Профессиональные же историки с негодованием отвергают любое отступление от надежно документированных фактов. Они трактуют и оценивают поступки исторических персонажей только со своей точки зрения. Мне хотелось бы примирить оба жанра. Не жертвуя полнотой и достоверностью фактического материала, я, по примеру романистов, позволяю героям моей «Истории Рима» чувствовать, мыслить и говорить. Но стараюсь тщательно следить, чтобы это не противоречило документам. Читатель всегда может проверить мои домыслы. Поэтому, уже без всяких оговорок, я намерен таким образом вести повествование и дальше.
Что же до скромности образа жизни Августа, то Светоний приводит тому множество примеров (я процитирую лишь некоторые):
«В простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы и простого обывателя. Даже спал он, говорят, на постели низкой и жестко постланной. Одежду надевал только домашнего изготовления, сработанную сестрой, женой, дочерью или внучками... Впрочем, нарядную одежду и обувь он всегда держал под рукой в спальне на случай внезапной и неожиданной надобности...» (Там же, 73)
Все-таки император! Порой положение обязывает. Но продолжим цитату:
«Давал обеды он постоянно, а приглашения посылал с большим разбором и званий, и лиц... За обедом бывало три перемены, самое большее — шесть. Все подавалось без особой изысканности, но с величайшим радушием. Тех, кто молчал или беседовал потихоньку, он вызывал на общий разговор, а для развлечения приглашал музыкантов, актеров и даже бродячих плясунов из цирка, чаще же всего — сказочников». (Там же, 74)
В этом отрывке Август выглядит столь привлекательно, что у читателя может возникнуть подозрение в пристрастности историка. Поэтому нелишне будет напомнить, что в этой же самой биографии, рассказывая об Октавиане, Светоний пишет, что «будучи триумвиром, он многими поступками навлек на себя всеобщую ненависть».
Еще один небольшой фрагмент из Светония:
«Что касается пищи — я и этого не хочу пропустить, — то ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора... Вот его собственные слова из письма: «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками». И еще: «Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда». И опять: «Никакой иудей не справлял субботний пост с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче: только в бане, через час после захода солнца пожевал я кусок-другой перед тем, как растираться». (Там же, 76)
В 18-м году по рекомендации Совета принцепса сенат принимает серию строгих законов, направленных на нравственное оздоровление римского нобилитета. Закон о роскоши ограничивает затраты на пиршества 100 денариями в обычные дни, вдвое большей суммой в праздники и 250 денариями на свадьбу. Другой закон усиливает наказание за взяточничество, Виновные в подкупе избирателей лишаются права занимать государственные должности в течение пяти лет.
Закон о браке предписывает его обязательность для всего сенатского и всаднического сословий: мужчинам вплоть до 60 лет, женщинам — до 50. Разводы затруднены. Холостяки облагаются высоким налогом. Им запрещают посещение зрелищ и ограничивают права наследования. Позже будет принят закон о привилегиях для многосемейных при соискании магистратур. Закон о прелюбодеяниях особенно cyров. Любовники подлежат ссылке на острова с конфискацией половины имущества, Отец получает право безнаказанно убить свою беспутную дочь и ее возлюбленного, если это вольноотпущенник, гладиатор или актер. Если же отец или муж в течение полугода не привлекают к суду неверную жену, то они сами подлежат судебному преследованию, как сводники.
В том же году Август производит новую чистку сената. Правда, на этот раз процедура более демократична. Император демонстрирует свое уважение к сенату: он выбирает тридцать наиболее достойных сенаторов и предлагает каждому назвать еще пятерых. В этих пятерках жеребьевкой избирают по одному человеку. Новые тридцать избранников под наблюдением принцепса повторяют подбор пятерок и жеребьевку. И так до укомплектования всего состава сената, численность которого император уменьшает до шестисот человек.
Одновременно принимаются радикальные меры для укрепления и очищения древнеримской религии. Помимо восстановления множества храмов и старинных обрядов богослужений, Август повелел собрать и сжечь более двух тысяч ходивших по рукам пророческих книг Были приняты, по-видимому, еще какие-то законы, воскрешавшие старинные обряды и обычаи. Об этом Август в «Деяниях» пишет так: «Новыми законами, введенными по моей инициативе, многие примеры древних, забытые уже нашим веком, я вернул и сам многих дел примеры, достойные подражания, потомкам передал». (Деяния божественного Августа. 8)
Из «примеров для подражания», следуя Светонию, можно указать, в частности, патриархальный уклад, который император установил в своей семье:
«Дочь и внучек он воспитывал так, что они умели даже прясть шерсть. Он запрещал им все, чего нельзя было сказать или сделать открыто, записав в домашний дневник; и он так оберегал их от встреч с посторонними, что Луция Виниция, юношу знатного и достойного, он письменно упрекнул в нескромности за то, что в Байях (модный курорт того времени. — Л.О.) он подошел приветствовать его дочь. Внуков он обычно сам обучал читать и писать, и другим начальным знаниям, в особенности стараясь, чтобы они перенимали его почерк». (Светоний. Божественный Август. 64)
Понемногу в Рим, надо полагать, не без одобрения Августа, проникает и культ императора. Простолюдины и вольноотпущенники создают религиозные братства «августалиев». Наряду с реанимацией традиционной религии принцепс поощряет поклонение своему приемному отцу, божественному Юлию, и «прародительнице» всего рода Юлиев — Венере. Себя при жизни он не разрешает причислить к сонму богов, но из армии в столицу переносится культ Гения императора — присущего ему божественного начала. Гений Августа включается в систему домашних богов. В молитвах о благополучии семейного очага его полагается упоминать вслед за Юпитером Всеблагим и Величайшим, перед Пенатами.
В провинциях, как я уже упоминал, был широко распространен, так сказать, совмещенный культ Августа и богини Рима. Например, в Галлии главный алтарь этого культа находился в священном лесу близ Лугунда (нынешний Лион). Вокруг алтаря стояло шестьдесят статуй, олицетворявших все галльские племена. Там ежегодно собирались их жрецы для жертвоприношения обоим богам и избрания верховного жреца. Впрочем, египтяне поклонялись лично Августу — как фараону, сыну бога солнца Ра.
Император покровительствует науке и литературе, особенно поэзии. При этом своим одобрением он явно стимулирует их к восхвалению нравов римской старины, сельского труда и невзыскательного образа жизни.
Но, конечно же, самым впечатляющим, и быть может, самым эффективным вкладом Августа в возрождение древнеримской нравственной культуры и традиций было колоссальное строительство в Риме. В «Деяниях» приведен список сооружений религиозного и гражданского характера. Август имел право заявлять, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Это относится не только к новым постройкам, но подразумевает и облицовку многих старых зданий. Тому способствовало открытие карьеров знаменитого на долгие века каррарского мрамора в Северной Италии. До той поры мрамор везли из Греции, и он был очень дорогим. Кстати, неверно полагать, что на строительных работах были заняты только рабы. Появились большие возможности заработка и у неимущих граждан Рима, что, конечно же, оздоровило обстановку в городе.
Не только император, но и многие знатные римляне по его примеру строили в Риме храмы и общественные здания. Театр Бальба, например, расположился неподалеку от театров Помпея и Марцелла. Треугольник этих театров образовал на Марсовом поле близ берега Тибра настоящий театральный район. Но следующее за Августом место по числу и великолепию оставленных им сооружений, бесспорно, принадлежит Агриппе. Ближайший друг принцепса и первый полководец империи был богат. Ему были пожалованы обширные земельные угодья в Сицилии. Доходы от них Агриппа щедро тратил на обустройство и украшение Рима. На Марсовом поле он завершил строительство и роскошно отделал задуманные еще Юлием Цезарем «Ограды» — портик, охватывающий прямоугольник размером примерно 250 х 100 метров (нелишне напомнить, что уменьшительным в русском языке словом «портик» римляне называли как небольшую колоннаду, предваряющую вход в храм, так и крытую, подчас очень протяженную галерею, образованную одним или двумя рядами колонн и наружной стенкой). «Ограды» предназначались для центуриатских комиций, где граждане по традиции собирались вооруженными, что было запрещено в черте города. Рядом с «Оградами» Агриппа построил первые в Риме большие общественные бани (термы Агриппы). Для обеспечения их водой он соорудил еще один водопровод. К баням примыкал портик Аргонавтов с базиликой Нептуна в честь победы при Акциуме. Центром ансамбля являлся Пантеон — храм всех богов. Там же располагался архитектурно-парковый ансамбль с проточным озером и фонтанами — так называемые «Поля Агриппы». Об устройстве римских бань и их роли в общественной жизни города будет рассказано позже.
Однако вернемся к постройкам Августа. Чтобы хоть как-то представить себе масштаб и великолепие того, что было императором возведено в Риме, хорошо бы описать одно-два из перечисленных в «Деяниях» сооружений. Хотя бы те, которыми он, надо полагать, не случайно, завершает свой длинный список. Я имею в виду форум Августа с храмом Марса Мстителя и театр Марцелла. К счастью, по найденным свидетельствам и сохранившимся руинам можно с высокой степенью вероятности составить эти описания (они заимствованы из книг: «Всеобщая история архитектуры» т. 2, ч. 2, М., 1973 и Шифман И. Ш. «Цезарь Август». Наука, 1990).
Древний римский Форум, как мы знаем, по своему происхождению и основной функции был торговой площадью. Его окаймляли ряды лавок, две большие базилики и несколько храмов. Форум Юлия Цезаря, строительство которого начал Цицерон, а закончил Август, предназначался в первую очередь для собраний граждан, судебных разбирательств и иных общественных надобностей. С трех сторон его окружал портик, с четвертой замыкал храм Венеры Прародительницы рода Юлиева. Располагался Юлиев форум вблизи древнего Форума, справа от него. Его продольная ось шла под углом примерно в 20 градусов к оси первого римского форума. Августов форум вплотную примыкал к форуму Юлия и был ориентирован к нему перпендикулярно. Архитектурное решение нового форума было совсем иным. Оно диктовалось его особым назначением. Форум Августа создавался как воплощение величия Римской державы, ее культовый центр, олицетворявший завершение трудов великих предков. Торговля из его пределов была изгнана. Сами эти пределы, в отличие от всего предыдущего, были ограничены глухой, как бы крепостной стеной высотой в современный десятиэтажный дом. Перед глазами римлянина, проходившего внутрь через арку со стороны форума Юлия открывалась прямоугольная площадь размером примерно 120х90 метров. Ее великолепие создавало разительный контраст с суровым наружным обликом стены. Вся площадь форума была вымощена цветным мрамором. Справа и слева вдоль всей ее длины уходили вперед линии высоких колонн двухъярусных портиков. Колонны были изготовлены тоже из цветного мрамора. Верхние ярусы портиков — глухие. Их передние стены украшали кариатиды, стоявшие над колоннами, а в промежутках — медальоны. Там на втором этаже, вероятно, размещались залы для судебных заседаний, парадных встреч и важных собраний. Внизу, в тени портиков приятно было укрыться как для спокойной беседы с друзьями, так и для горячего спора о событиях гражданской жизни Города.
В дальнем конце форума возвышался величественный храм Марса Мстителя. Его основание было поднято над площадью на высоту в три с половиной метра. Во всю тридцатипятиметровую ширину подиума к площади спускалась беломраморная лестница. Стены подиума и самого храма тоже были облицованы белым мрамором. Восемь могучих колонн портика поднимались на высоту шестиэтажного дома. Храм Марса был одним из самых величественных в Риме. Собственно, весь форум Августа играл роль храмового двора.
Внутри храма по обеим его продольным сторонам шли декоративные колоннады. Капители колонн украшал растительный узор нарядного коринфского ордера. В храме были собраны шедевры греческой скульптуры. В глубине абсиды, замыкавшей целлу, возвышались колоссальные статуи Марса и Венеры.
Храм Марса Мстителя Август построил согласно обету, который он дал накануне битвы при Филиппах, моля богов об отмщении убийцам Юлия Цезаря. Форум и храм были освящены лишь в 29-м году от Р.Х. После этого здесь расположился политический центр Рима (дворца для себя Август не выстроил). На площади проходили процессы по преступлениям против государства. В храме заседал сенат. Отсюда направлялись полководцы на войну и наместники в провинции. Полководцы приносили сюда трофеи и украшения триумфа. Здесь же были установлены освобожденные из парфянского плена знамена. Храм являлся средоточием славы великого Рима.
А на подходе к нему взору открывались две галереи, посвященные героической истории римского государства. С обеих сторон форума стены отступали, образуя полукружия диаметром около 40 метров. Там за рядом колонн, продолжавших линию портиков, в нишах, окаймленных цветными полуколоннами, были установлены статуи великих полководцев и законодателей — от Энея до Юлия Цезаря. В специальном эдикте Август объявил, что «он их там поставил для того, чтобы и его самого, пока он жив, и тех властителей, которые будут после него, граждане побуждали брать с них пример». И, разумеется, следовали ему сами. Статуя Августа появилась на форуме только после его смерти.
Построенный Августом театр Марцелла был немного меньше, чем театр Помпея. Некоторые историки архитектуры оценивают вместимость этих театров соответственно в 12 и 17 тысяч зрителей. В отличие от греческих, где скамьи вырубались или устанавливались на склонах холмов, римские театры строились в самом городе, на плоскости, и потому представляли собой гигантские сооружения. Снаружи их амфитеатры выглядели как полуцилиндры высотой в несколько десятков метров. Диаметр полукруга театра Марцелла, согласно обмеру его сохранившейся части, достигал ста тридцати метров. Задняя стена сцены поднималась на такую же высоту, как амфитеатр. Здание в целом имело вид замкнутой подковы. По округлой поверхности театра Марцелла в три яруса, высотой по 10 метров каждый, располагались ряды больших арок, опиравшихся на мощные столбы, декорированные полуколоннами: внизу дорического, выше — ионийского, а в верхнем ряду коринфского ордера. За арками, под скамьями зрителей находились просторные галереи. Театр был облицован мрамором и богато украшен скульптурами.
Еще одно грандиозное сооружение Августа, о котором сам он не упоминает (быть может, из суеверия) в «Деяниях» — его мавзолей. Вид посмертной обители собственного праха, сооруженной правителем при жизни, всегда выдает его пристрастия. В мавзолее Августа можно усмотреть и влияние древних этрусских погребальных сооружений, и отголоски впечатления от пирамид египетских фараонов. На круглом барабане диаметром около 90 метров был насыпан холм высотой в 40-50 метров. По склонам холма поднималась кипарисовая роща. Конечно, землю насыпали не на плоскую крышу барабана (такой вес не выдержали бы перекрытия), а на каменную или бетонную (римляне уже знали бетон) ступенчатую конструкцию, образованную четырьмя поставленными друг на друга барабанами постепенно уменьшающегося диаметра. Конструкцию облегчали идущие внутри каждого барабана кольцевые сводчатые галереи. Усыпальница императора находилась в центре нижнего барабана. Над ней до самой вершины холма поднимался каменный столб-пьедестал. На этом пьедестале, возвышаясь над рощей, стояла огромная статуя императора. Немного позже у меня будет повод описать еще один знаменитый архитектурный памятник эпохи — Алтарь мира.
В течение первых трех дней июля 17-го года Рим исключительно торжественно праздновал начало нового века («Секулярные игры»). Слово «век» в те времена означало не столетие, а, согласно еще этрусским верованиям, некий важный период в жизни народа. Тем не менее, продолжительность таких периодов была примерно одинаковой — около 110 лет. Их границы отмечались божественными знамениями. На этот раз таковым сочли появление кометы. Август сам возглавил подготовку праздника. Начался он глубокой ночью 1 июля. На берегу Тибра на специально воздвигнутых трех алтарях император принес жертвы и прочитал молитвы о процветании Рима, адресованные трем сестрам мойрам — богиням Судьбы. На вторую ночь моления и жертвы были посвящены богине рождения, на третью — матери Земле. А днем торжественные процессии во главе с Августом направлялись к храмам главных богов. В первый день на Капитолии принесли в жертву Юпитеру белого быка, на второй, там же, белую корову Юноне. На третий день процессия направилась на Палатин к новому храму Аполлона. Все остальное время было отдано спортивным играм и представлениям. Хор мальчиков и девочек исполнил «Вековую песнь», написанную специально для этого случая Горацием.
Эти годы можно считать апогеем правления Августа. Они были отмечены миром и относительным процветанием всех частей огромного государства. Власть принцепса укрепилась окончательно. Народ его боготворил, сенат был послушен. Надо сказать, что и сам Август по мере утверждения своего единовластия все чаще пользовался любым удобным случаем, чтобы показать свое уважение к римскому народу и сенату. Светоний пишет, что...
«К общим утренним приветствиям он допускал и простой народ, принимал от него подношения с необычной ласковостью: одному оробевшему просителю он даже сказал в шутку, что тот подает ему просьбу, словно грош слону. Сенаторов в дни заседаний он приветствовал только в курии на их местах, к каждому обращаясь по имени, без напоминания (т. е. шестьсот человек знал по имени. — Л.О.). Даже уходя и прощаясь, он не заставлял их вставать с места. Со многими он был знаком домами и не переставал бывать на семейных праздниках, пока однажды в старости не утомился слишком сильно на чьей-то помолвке...
...Не раз, возмущенный жестокими спорами сенаторов, он покидал курию. Ему кричали вслед: «Нельзя запрещать сенаторам рассуждать о государственных делах!». При пересмотре списков, когда сенаторы выбирали друг друга, Антистий Лабеон подал голос за жившего в ссылке Марка Лепида, давнего врага Августа, и на вопрос Августа, неужели не нашлось никого достойнее, ответил: «У каждого свое мнение». И все-таки за вольные или строптивые речи от него никто не пострадал. Даже подметные письма, разбросанные в курии, его не смутили: он обстоятельно их опроверг и, не разыскивая даже сочинителей, постановил впредь привлекать к ответу тех, кто распространяет под чужим именем порочащие кого-нибудь стихи или письма.
...Присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими кандидатами и просил за них, по старинному обычаю. Он и сам подавал голос в своей трибе, как простой гражданин. Выступая свидетелем в суде, он терпел допросы и возражения с редким спокойствием. Он уменьшил ширину своего форума, не решаясь выселить владельцев из соседних домов». (Светоний. Божественный Август. 53-57)
Республика как будто воскресла, и Август — истинный ее властитель — казался олицетворением республиканских традиций и добродетелей. В его отношении к согражданам нет теперь и тени высокомерия. Скорее его отмечает дружелюбная простота:
«Праздники и торжества, — пишет Светоний, — справлял он обычно с большой пышностью, а иногда — только в шутку. Так на Сатурналиях... он иногда раздавал в подарок и одежды, и золото, и серебро, иногда — монеты разной чеканки, даже царские и чужеземные, а иногда только войлок, губки, мешалки, клещи и тому подобные предметы с надписями двусмысленными и загадочными. Любил он также на пиру продавать гостям жребии на самые неравноценные предметы или устраивать торги на картины, повернутые лицом к стене, чтобы покупки то обманывали, то превосходили ожидания покупателей». (Там же, 75)
Наверное, пора попытаться разрешить загадку, поставленную в начале этой главы. Как совместить утверждения Светония о любви, которую питали римляне к Августу, а также только что приведенные свидетельства его терпимости и дружелюбия с обликом мстительного и крайне жестокого молодого человека, каким выказывает себя Октавиан в последних главах 2-го тома нашей «Истории»? Ну, конечно, многое можно отнести на счет его молодости и страха, который испытывал Октавиан в первые годы своей борьбы за власть в Риме. А потом? Как объяснить столь существенную перемену к лучшему, произошедшую с ним за годы единоличного правления? Ведь очень часто «испытание властью» дает прямо противоположные результаты. Я уже упоминал, что Август был личностью не обычной — он был умен и крепок духом. Жизненный опыт постепенно убеждал первого императора в мудрости политики милосердия, о которой ему в свое время говорил Юлий Цезарь. Кроме того, его правление было счастливым, а счастье — великодушно! Быть может, свою роль сыграли влияние Ливии и то обстоятельство, что в семье императора царил мир. К тому же, наконец, возникла радостная уверенность в том, что он сможет передать власть в Риме своему прямому потомку. В 17-м году Юлия родила второго мальчика. Август усыновил обоих внуков. Теперь они именовались торжественно: Гай и Луций Цезари. Если случится так, что он не доживет до тех пор, пока они вырастут, регентом останется их родной отец — верный друг Агриппа. Все это способствовало милости и благорасположению императора. Я вовсе не хочу сказать, что Август сумел совсем избавиться от некоторой, по-видимому прирожденной, жестокости. Но в отсутствие серьезных жизненных затруднений жестокость может уйти в самую глубину души человека. В конце жизни Августа, как мы увидим, она проявится довольно своеобразно.
В течение трех последующих лет Август принимает меры по укреплению безопасности северной границы Италии. Возможно, для этого имелись объективные предпосылки. Во всяком случае в эти годы римские войска под командованием Тиберия и Друза оттесняют варварские племена от предгорий Альп на север, за верхнее и среднее течение Дуная. Образуются две новые римские провинции: Ретия и Норик (на территории нынешних Баварии и Австрии).
Заняв линию обороны по правому берегу Дуная, Август в 14-м году проводит второе крупное сокращение римского войска. Как и прежде, император наделяет ветеранов землей, купленной на собственные средства. Появляется уверенность в том, что мир для Рима обеспечен надежно и на долгие времена. В связи с этим пантеон римских богов пополняется еще одним божеством, которое именуется Августов мир. По постановлению сената в 13-м году на Марсовом поле закладывается строительство алтаря для нового божества. Знаменитый «Алтарь мира» будет освящен лишь в 9-м году. Однако имеет смысл кратко описать его в этой главе, рядом с рассказом о других сооружениях эпохи Августа. По сравнению с ними алтарь был невелик, но искусно украшен. Он представлял собой прямоугольную мраморную ограду размером 11,6х10,6 метров при высоте 6 метров. В центре огражденной площадки на ступенчатом постаменте стоял жертвенник. Проемы в западной и восточной стенах ограды открывали сквозной проход мимо алтаря. Примечательны двухъярусные барельефы, покрывавшие всю наружную поверхность ограды. Нижний ярус был декорирован сложным растительным орнаментом, а верхний заполнен многофигурными композициями. Здесь и Земля, вскармливающая двух младенцев, и богиня Рима, и Эней, приносящий жертву Пенатам, и торжественная процессия во главе с самим Августом. Ежегодно на Алтаре магистраты, жрецы и весталки славили Августов мир, приносили жертвы и молились о его сохранении.
В 12-м году в возрасте семидесяти семи лет умер Марк Лепид, освободив наконец высший жреческий сан великого понтифика. В «Оградах» Цезаря собрались комиции для избрания его преемника. Единственный претендент — Август. Вот уже прошло тайное голосование, заканчивается подсчет голосов по трибам. Он затянулся потому, что стечение народа на эти выборы необычайное. Многие граждане специально прибыли в Рим из муниципий, деревень и колоний ветеранов. Они хотели» увидеть императора и голосованием выразить ему свою любовь. Огромный прямоугольник «Оград» заполнен до отказа. В лучах вечернего солнца розовеют белые парадные тоги. В толпе царит настроение радостного ожидания, к синему небу поднимается праздничный гул доброй сотни тысяч голосов. На трибуне, воздвигнутой в середине длинной восточной стороны портика, лицом к народу стоит Август в окружении семьи и ближайших друзей. Он тоже ждет результатов голосования, в которых, впрочем, нет оснований сомневаться. Рядом с ним девятилетний Гай и пятилетний Луций Цезари. Император положил руки на плечи внуков и задумался:
«Мальчики подрастают, — думает он, — надо пригласить для них хороших учителей. Его собственное детство после смерти отца и второго замужества матери тоже протекало под опекой деда — муниципального советника в провинциальных Велитрах. Хорошего образования он там получить не смог. Из Рима его увезли совсем крошкой, а вернулся он туда, уже надев тогу взрослого. За неимением более близких юных родственников, великий Цезарь пригласил Октавиана сопровождать его в триумфе после Африканской войны. Ему едва исполнилось восемнадцать лет, когда, преодолев болезнь и все опасности путешествия, он последовал за дядей в Испанию и там сумел завоевать его симпатию и доверие. Он помнит, как Цезарь говорил ему о грядущем возрождении величия Рима, о своих планах организации государства. Что он мог понять тогда — мальчишка, неуч? Ему не случалось, как другим юношам из знатных семей, посещать школу риторики и заканчивать свое образование в Афинах. Всю жизнь он учился сам, по книгам. Начал еще в Аполлонии, во время подготовки парфянского похода. Потом все оборвалось со смертью Цезаря...
...Его первые шаги в Риме, первая унизительная встреча с Антонием. Потом война с ним. Какой он был тогда еще дикарь! Как им владели страсти: ревность, страх, обида! Потом этот злополучный союз с Антонием и Лепидом... Нет, сегодня он не хочет вспоминать те мрачные годы. Как о них тогда сказал Тит Ливий? «Люди забудут, если твое правление воскресит славу и доблесть Рима». Да, похоже, что забыли. Прах Антония давно истлел в египетской земле. Вот, наконец, умер и Лепид. Он мог бы давно отобрать у него сан великого понтифика, на который имел все права как преемник Цезаря. Но сначала ждал, что Лепид вот-вот умрет. Потом понял, что не следует, если только возможно, прибегать к насилию. Он многое понял за эти годы. Много прочитал. Прав Цицерон: бесчисленные образы достойнейших мужей, созданные для подражания, оставили нам греческие и латинские писатели. Честь, доблесть и личное достоинство гражданина — вот главный завет предков, нерушимый залог бессмертного величия и могущества Рима.
...Я тоже немало сделал для воскрешения этих добродетелей, униженных несчастьями гражданских войн. Но надо сделать больше. Скорее закончить форум, галерею славы при нем и храм... Мой авторитет велик, личный пример убедителен для сограждан. Теперь, в сане великого понтифика, на возрождение древних традиций я направлю усилия всех жреческих коллегий...»
...На трибуне появляется консул. Площадь затихает. Он объявляет торжественно (двое глашатаев через рупоры доносят его слова до самых дальних уголков площади): «Все трибы римского народа единогласно избрали великим понтификом Императора Цезаря Августа, сына божественного!» Как ударившая о скалу волна бушующего моря, взмывает над толпой крик всеобщего ликования. Как его неутолимые валы, вновь и вновь возникает и прокатывается из конца в конец площади громогласное: «Слава императору! Слава великому понтифику! Слава, слава!..»
...Розовый отблеск на кровлях, колоннах портика и белоснежной тоге Августа вдруг погас. Солнце исчезло, не дойдя до края горизонта. Поглотив его, по небу с запада поднималась иссиня-черная грозовая туча...
Интерлюдия первая Вергилий
Эта короткая вставная глава начинает серию ей подобных, названных интерлюдиями. История Рима в них не продвигается. Зато читатель получает представление о некоторых дошедших до нас памятниках культуры той поры: сочинениях поэтов, эпистолярном наследии выдающихся людей Рима. Включение этого материала в очередные главы прерывало бы последовательное изложение хода исторических событий. К тому же эти, увы, немногочисленные памятники заслуживают того, чтобы быть выделенными особо. Что, кстати, облегчит читателю возможность к ним возвратиться, если у него возникнет такое желание. (Или наоборот — без ущерба пропустить те интерлюдии, которые его не заинтересуют). Сейчас мы начнем знакомство — поневоле беглое — с творчеством великого поэта эпохи Августа, Вергилия.
Но прежде надо сказать несколько слов о человеке, имя которого известно массе людей в наши дни, пожалуй, лучше, чем имена римских поэтов. Действительно, трудно найти в Истории еще одно личное имя, которое бы стало нарицательным во всех без исключений европейских языках, включая и столь отдаленные от латыни, как финский и шведский. Я полагаю, что многие уже догадались: это имя — Меценат.
Гай Цильний Меценат родился где-то около 70-го года до Р.Х. (точно неизвестно), а умер в 8-м году от Р.Х. Он принадлежал к всадническому роду и был очень богат. Мы уже встречались с ним как с другом, советником и доверенным лицом Августа. Меценат никогда не занимал официального поста, но неоднократно выполнял ответственные, в частности дипломатические, поручения императора. Это был высокообразованный человек. Он и сам писал публицистическую прозу и стихи (до нас не дошедшие). Но наиболее ценной для истории мировой культуры оказалась его редкая у людей пишущих способность рано распознать большой талант в ком-то другом и без тени ревности его пестовать и поддерживать. В том числе материально. Под эгидой Мецената образовался кружок выдающихся поэтов, художников и ученых.
Публий Вергилий Марон родился в 70-м году до Р.Х. близ провинциального города Мантуя в Северной Италии. Отец его был зажиточным землевладельцем. С пятнадцати лет мальчик учился в Риме, в привилегированной школе. Военную и адвокатскую карьеру он отверг сразу и целиком посвятил себя поэзии. Пристрастие к ней Вергилий питал еще со школьной скамьи. В двадцать пять лет он на деньги отца купил небольшое поместье близ Неаполя, чтобы быть поближе к своему кумиру — философу Сирону вокруг которого собиралась просвещенная молодежь.
В 39-м году произошло временное примирение Октавиана, Антония и Секста Помпея. Римляне устали от десяти лет кровавых междоусобиц и хаоса. Жажда мира и порядка владела большинством умов. Как всегда в таких случаях, с романтической грустью вспоминали былые идиллически-мирные времена, труд земледельца или пастуха на лоне природы. Этому настроению отвечало написанное в те годы первое крупное поэтическое произведение Вергилия «Буколики» (bucolicus — пастушеский), принесшее ему сразу общеиталийскую славу. Десять диалогов и элегий («эклог») содержат то поэтические жалобы влюбленных пастухов, то их песенные состязания, то бытовые сценки на фоне мирных полей, лугов и рощ. Идиллическая, «буколическая» поэзия и музыка стали популярны в эпоху позднего средневековья и вплоть до XIX века (вспомните дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы» Чайковского). А во времена Вергилия это было как бы воскрешение давно забытых радостей, иного смысла жизни, чем ненависть и месть, глоток чистого воздуха после долгого угара братоубийственных войн.
«Буколики» привлекли внимание Мецената. По-видимому, по его совету Вергилий в 37-м году начинает работу над большой — в четырех книгах — поэмой «Георгики» (georgicus — земледельческий). Она даже написана в форме обращения к Меценату. Своеобразие этого произведения в том, что оно содержит массу практических рекомендаций по земледелию, садоводству, скотоводству и пчеловодству. Автор не только делится собственным опытом, но и сведениями, почерпнутыми из уже существовавших в то время трудов по сельскому хозяйству. «Георгики» — идеализация и горячая похвала уже не буколической, а реальной сельской жизни, ее противопоставление суетному существованию горожан. Например:
«Трижды блаженны — когда бы они счастье свое сознавали!
— Жители сел. Сама, вдалеке от военных усобиц,
Им справедливо земля доставляет нетрудную пищу.
Пусть из кичливых сеней высокого дома не хлынет
К ним в покои волна желателей доброго утра,
И не дивятся они дверям в черепаховых вставках,
Золотом тканных одежд, эфирейской бронзы не жаждут;
Пусть их белая шерсть ассирийским не крашена ядом,
Пусть не портят они оливковых масел корицей, —
Верен зато их покой, их жизнь проста и надежна.
Всем-то богата она! У них и досуг и приволье,
Гроты, озер полнота и прохлада Темпейской долины, —
В поле мычанье коров, под деревьями сладкая дрема, —
Все это есть. Там и рощи в горах, и логи со зверем;
Трудолюбивая там молодежь, довольная малым;
Вера в богов и к отцам уваженье. Меж них Справедливость
Прочь с земли уходя, оставила след свой последний».
(Вергилий. Георгики. Кн. 2, 458-474, пер. С. Шервинского)
Это написано как раз вскоре после массового увольнения ветеранов и наделения их землей. В 29-м году Вергилий читал недавно оконченную поэму самому Октавиану. Утверждение знаменитым и почитаемым поэтом престижности сельского труда, так же как и практические советы новым земледельцам, были как нельзя кстати. Вергилий был приближен и обласкан императором. Не желая остаться в долгу, он в нескольких лирических отступлениях от основной темы воздает хвалу Октавиану — впрочем, по тем временам не чрезмерную.
Результатом сближения поэта и властителя Рима явилась, быть может, даже общая их идея — изложить подробно и в художественной форме предысторию основания Вечного Города. Тит Ливий лишь слегка коснулся ее в начале своей «Истории». В подобном сочинении Октавиан искал содействия решению двух своих политических задач: воскрешения древнеримских нравственных традиций и подтверждения божественного происхождения рода Юлиев, к которому после усыновления Юлием Цезарем принадлежал и он сам. Вергилия привлекла эта тема. Так возник замысел знаменитой «Энеиды» — большой поэмы (в 12-ти книгах), обессмертившей имя автора. Над ее созданием поэт работал последние десять лет своей жизни. Закончить он ее не успел и потому даже хотел уничтожить свой труд перед смертью. Ему помешали. По велению Августа «Энеида» была издана членами кружка Мецената уже после кончины поэта.
Сюжетная линия поэмы начинается с падения Трои и бегства из-под нее Энея — одного из героев великой войны — славного своим мужеством и благочестием сына богини Венеры от троянца Анхиза. Эней бежит на кораблях в сопровождении отряда воинов и увозит с собой престарелого отца. Юпитер направляет их в Италию, в Лациум — древнюю прародину троянцев (об этой легенде я упоминал в самом начале 1-й книги). Из-за интриг Юноны Энею приходится помыкаться по дороге: оказаться сначала в Сицилии, потом в Карфагене у царицы Дидоны, потерять отца, затем спуститься в загробный мир для свидания с его духом.
Высадившись в Лациуме, Эней женится на дочери царя Латина и основывает город Лавиний, названный им так в честь жены. Ему приходится выдержать войну с Турном — царем соседнего племени рутулов — отвергнутым женихом Лавиний. Потерпев поражение, Турн призывает на помощь воинственных этрусков. В сражении с ними Эней погибает, успев, однако, оставить на земле сына по имени Юл. Так начинается династия царей, которые правят в основанном Юлом городе Альба Лонга. Здесь спустя три столетия появятся на свет Ромул и Рем. От сына Энея Юла, а, следовательно, и от Венеры полагал происхождение своего рода Юлий Цезарь.
Возможно, древних римлян особенно интересовало содержание шести последних книг поэмы Вергилия. Там излагается предыстория Рима, начиная от высадки троянцев в Лациуме, где правил старый царь Латин, до гибели Турна в единоборстве с Энеем. Главное место в этих книгах занимают описания сражений между троянцами и рутулами. Нам они не представляются столь увлекательными. Поэтому я отмечу лишь явное влияние Гомера в описании батальных сцен, например, смелое использование метафоры. Следующие строки из последней книги «Энеиды» очень похожи на описание появления на поле сражения Ахилла в «Илиаде».
«Словно огонь в сухостойном лесу, с двух сторон запаленном,
С ревом несется вперед по кустам низкорослого лавра.
Словно потоки в горах, водопадами с круч низвергаясь,
Пеной покрыты, стремят на равнину ревущие воды,
Все на своем сметая пути, — так оба героя
Турн и Эней, несутся сквозь бой...»
(Вергилий. Энеида. Кн. 12, 521-526, пер. С. Ошерова)
Любопытен вставной эпизод из 8-й книги. Эней плывет вверх по Тибру, чтобы заключить союз с выходцами из Греции — аркадцами, проживающими на месте будущего Рима. Их царь Эвандр рассказывает ему местную легенду. Оказывается, Сатурн, после того как был изгнан с Олимпа своим сыном Юпитером, именно здесь сошел на землю и затем...
«Он дикарей, что по горным лесам в одиночку скитались,
Слил в единый народ, и законы им дал, и Латинской
Землю назвал, в которой он встарь укрылся надежно.
Век, когда правил Сатурн, золотым именуется ныне:
Мирно и кротко царил над народами бог, — но на смену
Худший век наступил, и людское испортилось племя,
Яростной жаждой войны одержимо и страстью к наживе.
Вскоре явились сюда авзонийская рать и сиканы,
Стали менять имена все чаще Сатурновы пашни.
Много здесь было царей и средь них — суровый и мощный
Тибр, — в честь него нарекли и реку италийскую Тибром,
И потеряла она старинное Альбулы имя».
(Там же. Кн. 8, 321-332)
Однако бессмертную славу в отдаленных поколениях принесла Вергилию не вторая, а первая половина «Энеиды». Ее я намерен представить подробнее и проиллюстрировать рядом фрагментов.
В 1-й книге поэмы рассказывается о путешествии Энея со спутниками к Сицилии и о том, как буря выбрасывает их на берег Ливии в окрестностях Карфагена. Юнона (в «Илиаде» — Гера) всячески препятствует Энею. Она ненавидит троянцев и к тому же получила предсказание, что любимый ею Карфаген будет — через добрых семь столетий — разрушен римлянами.
В Карфагене правит прекрасная Дидона, бежавшая из Тира — столицы Финикии (нынешний Ливан) — от злодея брата, финикийского царя, убившего ее мужа Сихея. Она радушно принимает путников. На пиру во дворце Дидоны Эней по ее просьбе рассказывает о последних днях Трои. Рассказ продолжается во 2-й и 3-й книгах поэмы. Живое описание трагических событий. История с троянским конем, резня в городе, штурм дворца Приама и смерть его. Эней во главе собранного им отряда сражается на улицах, терпит поражение. Явившаяся ему во сне тень Гектора велит бежать. На своих плечах Эней уносит престарелого отца Анхиза. Тот держит в руках изображение пенатов. Рядом сын Юл и жена Креуса. На пути к берегу она умирает. Воины Энея строят корабли и отплывают. Бури в пути. В рассказ вплетаются эпизоды греческого эпоса: высадка троянцев на остров Строфад — обиталище гарпий, на сицилийский берег циклопов, где они находят ослепленного Одиссеем Полифема. Там же умирает Анхиз. Затем встреча с Андромахой, вдовой Гектора. Ее новый супруг, прорицатель Гелен, предрекает Энею путь вокруг Италии и примету места высадки на берег. Он же предсказывает встречу в Кумах с пророчицей и жрицей Сивиллой, которая поможет Энею спуститься в царство мертвых для свидания с тенью отца.
Между тем Венера через Купидона зажигает в груди Дидоны любовь к Энею. 4-я книга «Энеиды» содержит несравненное по поэтичности описание женской любви. Дидона признается в ней сестре Анне, но не хочет изменить памяти мужа. Анна советует уступить чувству, тем более что следует подумать о супруге, достойном царицы Карфагена. Дидона не решается, страдает. Тогда Юнона берет на себя содействие браку Энея и Дидоны, чтобы таким образом помешать основанию Рима. Во время их совместной охоты она насылает внезапную бурю. Царица и ее гость укрываются в пещере, где происходит их роковое сближение. Эней отвечает на чувство Дидоны. Зима проходит в счастливом любовном союзе. Но вот Юпитер посылает Меркурия напомнить во сне троянцу о его миссии. Эней в смятении, но не смеет ослушаться Владыки богов. Приказывает готовить корабли к отплытию. Дидона догадывается о его намерении. Горько упрекает Энея. Тот объясняет ей предначертание Юпитера. Дидона не верит, в гневе убегает в отдаленный чертог. Эней со стоном, но велит воинам сдвинуть корабли на воду, и сам поднимается на один из них. С высоты дворца Дидона наблюдает последние приготовления к отплытию. Терзается любовью, гордостью, отчаянием. Шлет к Энею Анну с просьбой об отсрочке: «Жалкой отсрочки прошу, чтоб утихнуть успело безумье, чтобы страдать научили меня, побежденную, судьбы». Но Эней непреклонен — утром он выйдет в море. Наступает ночь, Дидона хочет покончить с собой, но в ней просыпается царственный гнев. Тот же Меркурий опять во сне предупреждает Энея об опасности. Троянец велит поднять паруса до рассвета. Утром Дидона видит их уже далеко в море. Погоня бессмысленна. Обезумев, она проклинает Энея и весь род его. Отослав сестру за водой для омовения, Дидона всходит на приготовленный для ворожбы костер и закалывается мечом. Убитый горем Эней издалека видит пламя погребального костра своей возлюбленной.
Таков краткий сюжет одной из самых знаменитых в истории мировой культуры повестей о несчастной любви. Теперь несколько фрагментов из этой повести. Вот, например, облик Молвы (как не вспомнить «Севильского цирюльника»?), летящей из Карфагена к окрестным племенам оповестить о грехопадении царицы:
«Зла проворней Молвы не найти на свете иного:
Крепнет в движеньи она, набирает силы в полете,
Жмется робко сперва, но потом вырастает до неба,
Ходит сама по земле, голова же прячется в тучах.
Мать-Земля, на богов разгневавшись, следом за Кеем
И Энкеладом Молву, как преданья гласят, породила,
Ног быстротой ее наделив и резвостью крыльев.
Сколько перьев на ней, чудовищной, страшной, огромной,
Столько же глаз из-под них глядят неусыпно и столько ж
Чутких ушей у нее, языков и уст говорливых.
С шумом летает Молва меж землею и небом во мраке
Ночи, и сладостный сон никогда ей век не смежает;
Днем, словно стражник, сидит на верхушке кровли высокой
Или на башне она, города устрашая большие,
Алчна до кривды и лжи, но подчас и вестница правды».
(Там же. Кн. 4, 174-188)
А вот сцена безумия и самоубийства Дидоны:
«Чуть лишь Аврора, восстав с шафранного ложа Тифона,
Зарево первых лучей пролила на земные просторы,
С башни высокой дворца в сиянии первом рассвета
Ровный строй парусов уплывающих видит царица,
Видит: пусты берега и гребцы покинули гавань.
Трижды в прекрасную грудь и четырежды больно ударив,
Кудри терзая свои золотые, стонет Дидона:
«Внемли, Юпитер! Ужель надо мной посмеется пришелец?
Прочь он бежит, — а у нас и оружия нет, и вдогонку
Город не бросится весь, не предаст корабли истребленью?
Эй, несите огонь, паруса распускайте, гребите!..
Где я? Что говорю? Помутило разум безумье...
Только теперь ты скорбишь о его злодеяньях, Дидона?
Надо б тогда, когда власть отдавала! — Вот она, клятва,
Вот она, верность того, кто родные спасает пенаты,
Кто, говорят, на плечах отца престарелого вынес!
Пусть войной на него пойдет отважное племя,
Пусть изгнанником он, из объятий Аскания вырван,
Бродит, о помощи всех умоляя и жалкую гибель
Видит друзей, и пусть, на мир согласившись позорный,
Не насладится вовек ни властью, ни жизнью желанной:
Пусть до срока падет, пусть лежит на песке не зарытый.
С этой последней мольбой я в последний мой час обращаюсь.
Вы же, тирийцы, и род, и потомков его ненавидеть
Вечно должны: моему приношением праху да будет
Ненависть. Пусть ни союз, ни любовь не связует народы!
О, приди же, восстань из праха нашего мститель,
Чтобы огнем и мечом теснить поселенцев дарданских[1].
Ныне и впредь и всегда, едва появятся силы,
Берег пусть будет, молю, враждебен берегу, море —
Морю и меч — мечу: пусть и внуки мира не знают!»
Так говорила она и металась мыслью нестойкой;
Жизни постылые дни ей хотелось прервать поскорее.
Барку Дидона к себе, Сихея кормилицу, кличет
(Ибо свою схоронила еще на родине прежней):
«Милая няня, найди сестру мою Анну, скажи ей,
Чтобы тело себе омыла водою проточной,
Чтобы овец привела и все, что жрица велела,
Мне принесла; и сама на висках затяни ты повязки:
Жертвы, что я начала готовить стигийскому богу,
Нынче хочу завершить, навсегда с заботой покончить,
Сжечь на жарком костре дарданца коварного образ».
Так сказала она, — и старуха спешит, что есть силы.
Замысел страшный меж тем несчастную гонит Дидону:
Мчится она, не помня себя, с блуждающим взором
Кровью налитых очей; на щеках ее бледные пятна —
Близкой гибели знак. В глубине дворца на высокий
Всходит царица костер и клинок обнажает дарданский,
Не для того этот дар просила она у Энея!
Но увидав илионскую ткань и знакомое ложе,
Слезы сдержала на миг, на костер опустилась Дидона,
Молвив в последний раз: «Вы, одежды и ложе, — отрада
Дней, когда бог и судьба мне отраду узнать разрешили!
Душу примите мою и меня от муки избавьте!
Прожита жизнь, и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен,
В царство подземное я нисхожу величавою тенью.
Город могучий создав, я свои увидела стены,
Брата могла покарать, отомстить за убитого мужа, —
Счастлива, о, как счастлива я была, если б только
Наших вовек берегов дарданцев корма не касалась».
Тут устами она прижалась к ложу — и молвит:
«Хоть неотмщенной умру, — но умру желанною смертью.
С моря пускай на огонь глядит дарданец жестокий,
Пусть для него моя смерть зловещим знаменьем будет!»
Только лишь молвила так — и вдруг увидали служанки,
Как поникла она от удара смертельного, кровью
Руки пятная и меч. Полетел по высоким покоям
Вопль и, беснуясь, Молва понеслась по смятенному граду.
Полнится тотчас дворец причитаньями, стоном и плачем
Женщин, и вторит эфир пронзительным горестным криком.
Кажется, весь Карфаген иль старинный Тир под ударом
Вражеским рушится в прах, и объемлет буйное пламя
Кровли богов и кровли людей, пожаром бушуя.
Слышит крик и бежит, задыхаясь, с трепещущим сердцем,
В кровь расцарапав лицо, кулаками в грудь ударяя,
Анна и кличет сестру, на смертном простертую ложе:
«Вот в чем твой замысел был! Меня обмануть ты стремилась!
Вот что этот костер, и огонь, и алтарь мне сулили!
Плач мой с чего мне начать, покинутой? Ты не хотела
Спутницей взять и меня... О, когда бы меня позвала ты, —
В то же мгновенье двоих один клинок погубил бы!
Этот костер я сложила сама, и сама я взывала
К отчим богам — лишь затем, чтоб не быть здесь в миг твой последний...
Ты, себя погубив, погубила меня и народ свой,
Город и тирских отцов. Дайте влагою рану омою
И, коль осталось у ней дыханье в груди, я устами
Вздох последний приму». На костер со словами такими
Анна взошла и сестру умиравшую грела в объятьях,
Темную кровь одеждой своей утирала, стеная.
Тяжкие веки поднять попыталась Дидона — но тщетно.
Воздух, свистя, выходил из груди сквозь зиявшую рану.
Трижды старалась она, опершись на локоть, подняться,
Трижды падала вновь и блуждающим взором искала
Свет зари в небесах — и стонала, увидев сиянье».
(Там же. 584-599, 615-692)
Тема любви Дидоны и Энея пережила тысячелетия. В конце XVII века английский композитор Генри Перселл написал оперу «Дидона и Эней». Она исполняется до сих пор. Существует даже джазовая композиция знаменитого джазмена Джона Луиса на ту же тему.
В 6-й книге «Энеиды» описано сошествие Энея в царство мертвых. В сопровождении Сивиллы, с золотой ветвью в руках — залогом возвращения — он спускается в провал пещеры, что находится неподалеку от Кум. Сначала они встречают тени тех, что мы бы назвали горестными понятиями. Это скорбь, заботы, болезни, старость, страх, нищета, позор, голод, муки, тягостный труд — «ужасные видом обличья». Затем видят вторую мрачную группу: сон, смерть, злобную радость, эвменид — богинь мщения... Наконец, Эней и Сивилла подходят к Ахеронту — реке, обтекающей подземное царство. На ее берегу томятся сонмы теней усопших, умоляющих перевезти их, но так как тела их бывших владельцев не погребены, им надлежит сто лет промыкаться без пристанища. Увидав золотую ветвь в руках Энея, перевозчик Харон подгоняет свой челн к берегу. Все выписано с жутковатыми подробностями:
«К берегу лодку подвел вперед кормой потемневшей
Души умерших прогнав, что на длинных лавках сидели,
Освободил он настил и могучего принял Энея
В лодку. Утлый челнок застонал под тяжестью мужа,
Много болотной воды набрал сквозь широкие щели;
Но через темный поток невредимо героя и жрицу
Бог перевез и ссадил в камышах на илистый берег».
(Там же. Кн. 6, 410-416)
Ожидающего там ужасного пса Цербера Сивилла усыпляет лепешкой со снотворной травой, и путешественники идут дальше. Встречаются недавно прибывшие души умерших. Вот тень Дидоны. Эней спешит к ней, чтобы оправдаться, но она не отвечает и уходит в тенистый лес, где «по-прежнему жаркой любовью муж ее первый, Сихей, на любовь отвечает царице». Эней и Сивилла подходят к развилке дорог. Правой дорогой они пойдут в Элизий, а левой — злые идут на казнь и в Тартар. Казни происходят в некоем городе, обнесенном тройной стеной. «Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных. Лязг влекомых цепей и пронзительный скрежет железа». Судит Радамант. В глубине города «Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше, чем от земли до небес». Там корчатся тени нечестивцев. Любопытен перечень преступлений (их называет Сивилла):
«Тот, кто при жизни враждой родных преследовал братьев,
Кто ударил отца или был бесчестен с клиентом,
Или, богатства нажив, для себя лишь берег их и близким
Не уделял ничего (здесь таких бессчетные толпы),
Или убит был за то, что бесчестил брачное ложе,
Или восстать на царя дерзнул, изменяя присяге.
...
Этот над родиной власть за золото продал тирану
Иль законы за мзду отменял и менял произвольно.
Тот на дочь посягнул, осквернив ее ложе преступно —
Все дерзнули свершить и свершили дерзко злодейство.
Если бы сто языков и столько же уст я имела,
Если бы голос мой был из железа, — я и тогда бы
Все преступленья назвать не могла и кары исчислить».
(Там же, 608-627)
В поисках Анхиза путники отправляются к месту пребывания праведников в Элизий. Вот его весьма любопытное описание:
«В радостный край вступили они, где взору отрадна
Зелень счастливых дубрав, где приют блаженных таится.
Здесь над полями высок эфир, и светом багряным
Солнце сияет свое, и свои загораются звезды.
Тело себе упражняют одни в травянистых палестрах
И, состязаясь, борьбу на песке золотом затевают.
В танце бьют круговом стопой о землю другие,
Песни поют, и фракийский пророк в одеянии длинном
Мерным движениям их семизвучными вторит ладами,
Пальцами бьет по струнам или плектром из кости слоновой.
Здесь и старинный род потомков Тевкра[2] прекрасных,
Славных героев сонм, рожденных в лучшие годы:
Ил, Ассарак и Дардан, основатель Трои могучей.
Храбрый дивится Эней: вот копья воткнуты в землю,
Вот колесницы мужей стоят пустые, и кони
Вольно пасутся в полях. Если кто при жизни оружье
И колесницы любил, если кто с особым пристрастьем
Резвых коней разводил, — получают все то же за гробом.
Вправо ли взглянет Эней или влево, — герои пируют,
Сидя на свежей траве, и поют, ликуя, пеаны
В рощах, откуда бежит под сенью лавров душистых
Вверх на землю стремясь, Эридана поток многоводный.
Здесь мужам, что погибли от ран в боях за отчизну,
Или жрецам, что всегда чистоту хранили при жизни,
Тем из пророков, кто рек только то, что Феба достойно,
Тем, кто украсил жизнь, создав искусства для смертных,
Кто средь живых о себе по заслугам память оставил, —
Всем здесь венчают чело белоснежной повязкой священной».
(Там же. 638-665)
Эней спрашивает тень Мусея-певца, ученика Орфея, — где найти Анхиза, и слышит в ответ:
«Нет обиталищ у нас постоянных: по рощам тенистым
Мы живем, у ручьев, где свежей трава луговая, —
Наши дома. Но если влечет вас желание сердца,
Надо хребет перейти. Вас пологим путем поведу я», —
Так он сказал и пошел впереди и с горы показал им
Даль зеленых равнин. И они спустились с вершины.
Старец Анхиз между тем озирал с усердьем ревнивым
Души, которым еще предстоит из долины зеленой,
Где до поры пребывают они, подняться на землю,
Сонмы потомков своих созерцал он и внуков грядущих,
Чтобы узнать их судьбу и удел, и нравы, и силу».
(Там же. 673-683)
Поспешу развеять недоумение читателя. Римляне верили в переселение душ. Анхиз созерцает души, которым предстоит вселиться в тела его потомков. Подробнее об этом устами Анхиза расскажет Вергилий.
Эней спешит к отцу. Оказывается, тот осведомлен о земных делах сына. Он начинает разговор:
«Сколько прошел ты морей, по каким ты землям скитался,
Сколько опасностей знал, — и вот ты снова со мною!
Как за тебя я боялся, мой сын, когда в Ливии был ты!»
Сын отвечал: «Ты сам, твой печальный образ, отец мой,
Часто являлся ко мне, призывая в эти пределы.
Флот мой стоит в Тирренских водах. Протяни же мне руку,
Руку, родитель, мне дай, не беги от сыновних объятий!»
Молвил — и слезы ему обильно лицо оросили.
Трижды пытался отца удержать он, сжимая в объятьях, —
Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала,
Словно дыханье, легка, сновиденьям крылатым подобна.
Тут увидел Эней в глубине долины сокрытый
Остров лесной, где кусты разрослись и шумели вершины:
Медленно Лета текла перед мирной обителью этой.
Там без числа витали кругом племена и народы.
Так порой на лугах в безмятежную летнюю пору
Пчелы с цветка на цветок летают и вьются вкруг белых
Лилий, и поле вокруг оглашается громким гуденьем.
Видит все это Эней — и объемлет ужас героя.
«Что за река там течет, — в неведеньи он вопрошает, —
Что за люди над ней такою теснятся толпою».
Молвит родитель в ответ: «Собрались здесь души, которым
Вновь суждено вселиться в тела, и с влагой летейской
Пьют забвенье они в уносящем заботы потоке.
Эти души тебе показать и назвать поименно
Жажду давно уже я, чтобы наших ты видел потомков,
Радуясь вместе со мной обретенью земли Италийской».
«Мыслимо ль это, отец, чтоб отсюда души стремились
Снова подняться на свет и облечься тягостной плотью?
Злая, видно, тоска влечет несчастных на землю».
(Там же. 692-722)
Далее следует изложение учения стоиков о мироздании. Продолжаю цитату:
«Что ж, и об этом скажу, без ответа тебя не оставлю, —
Начал родитель Анхиз и все рассказал по порядку. —
Землю, небесную твердь и просторы водной равнины,
Лунный блистающий шар и Титана светоч, и звезды —
Все питает душа, и дух, по членам разлитый,
Движет весь мир, пронзая его необъятное тело.
Этот союз породил и людей, и зверей, и пернатых,
Рыб и чудовищ морских, скрытых под мраморной гладью.
Душ семена рождены в небесах и огненной силой
Наделены — но их отягчает косное тело,
Жар их земная плоть, обреченная гибели, гасит.
Вот, что рождает в них страх, и страсть, и радость, и муку.
Вот почему из темной тюрьмы они света не видят.
Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает,
Им не дано до конца от зла, от скверны телесной
Освободиться: ведь то, что глубоко в них вкоренилось,
С ними просто срослось — не остаться надолго не может.
Кару нести потому и должны они все — чтобы мукой
Прошлое зло искупить. Одни, овеваемы ветром,
Будут висеть в пустоте, у других пятно преступленья
Выжжено будет огнем или смыто в пучине бездонной.
Маны[3] любого из нас понесут свое наказанье,
Чтобы немногим затем перейти в простор Элизийский.
Время круг свой замкнет, минуют долгие сроки, —
Вновь обретет чистоту, от земной избавленный порчи
Душ изначальный огонь, эфирным дыханьем зажженный.
Времени бег круговой отмерит десять столетий, —
Души тогда к Летейским волнам божество призывает,
Чтобы, забыв обо всем, они вернулись под своды
Светлого неба и вновь захотели в тело вселиться».
(Там же, 723-751)
Анхиз показывает сыну ожидающие очереди души будущих знаменитых римлян от царей Альбы Лонги, потом Ромула до Юлия Цезаря и Августа, перечисляя эпизоды будущей истории Рима. Наконец, он приводит Энея и Сивиллу к вратам вылета снов и выпускает их, откуда «к спутникам кратким путем и к судам Эней возвратился».
Описание загробного мира было сделано великим поэтом столь ярко и убедительно, что в средние века его почитали колдуном и чернокнижником, действительно побывавшим в царстве теней. Поэтому-то Данте и избрал Вергилия проводником в своих скитаниях по кругам Ада.
Уважаемый читатель, следующая интерлюдия будет посвящена творчеству Овидия. Но ты не найдешь в этой книге ни биографий, ни фрагментов из произведений двух других великих поэтов — современников Августа, Лукреция и Горация. Во избежание упрека в неуважении к их наследию считаю нужным объясниться.
Замечательная и очень большая (почти семь с половиной тысяч строк) поэма Лукреция «О природе вещей» является непревзойденным по полноте изложением материалистической философии древности и взглядов великого Эпикура. Пересказ ее идей выходит за рамки нашей книги, а цитирование отдельных фрагментов этого внушительного и стройного целого вряд ли целесообразно.
Теперь о Горации. Должен признаться, что поначалу я написал посвященную ему интерлюдию. В своих сатирах, этюдах (двустишиях), одах и посланиях Гораций достиг, по мнению современных латинистов, высочайших вершин поэтического творчества, но... переводу на русский язык его стихи плохо поддаются. Художественная манера Горация намного сложнее, чем у Вергилия. Стихотворные строки, входящие в состав строфы, различаются по своей метрике. Повторяющейся метрической единицей стиха является целая строфа. Поэт использует около двадцати различных вариантов ее построения. В содержании стихотворений преобладает похвала миру, душевному покою и достаточности скромного существования человека. Однако даже в превосходных, по мнению специалистов, переводах М. Гаспарова стих Горация воспринимается с трудом. Поэтому я решил интерлюдию, посвященную Горацию, опустить. Тех, кого это огорчит, позволю себе отослать к сборнику стихотворений Горация (издательство «Художественная литература», 1970 год) с интереснейшей вступительной статьей и комментариями переводчика. Но не могу не привести здесь, в порядке исключения, оду «К Мельпомене». Ведь это — предшественник всех написанных последующими поэтами «Памятников».
«Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон[4] лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет — время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Назван буду везде — там, где неистовый
Авфид[5] ропщет, скудный водой, где Давн[6], царем
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,
Первый я приобщил песню Эолии
К италийским стихам. Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись, и, благосклонная
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу».
(Гораций. Оды. Книга 3, № 30 «К Мельпомене»)
Глава II Тиберий
Те, кто немного знаком с римской историей, представляют Тиберия, скорее всего, в виде, мягко говоря, отталкивающем: старик на восьмом десятке, укрывшийся от глаз людских на острове Капри, предается там какому-то не очень понятному для такого возраста разврату. А тем временем в Риме по его распоряжению, во исполнение страшного своей неопределенностью закона «об оскорблении величия» непрерывной чередой следуют казни и вынужденные самоубийства видных людей государства. Но ведь старец был когда-то молодым человеком, не лишенным достоинств. Как объяснить такую деградацию личности? Почему не закончил он свои дни так же, как его отчим, император Август — окруженным всеобщей любовью и умиротворенным патриархом? Впрочем, если об этой все простившей любви народа мы уже говорили, то об умиротворенности на склоне лет можно судить, узнав о последнем часе жизни Августа. Между тем, первая глава книги закончилась описанием апогея его владычества. Это сделано преднамеренно. Сейчас мы изучим вторую половину правления первого римского императора. Но одновременно будем внимательно наблюдать и за судьбой Тиберия — пока что только императорского пасынка и полководца. Впрочем, именно в качестве полководца он начинает играть, пожалуй, главную роль в римской истории.
Итак... розовый отблеск на кровлях, колоннах портика и белоснежной тоге Августа вдруг погас. Солнце исчезло, не дойдя до края горизонта. Поглотив его, по небу с запада поднималась иссиня-черная грозовая туча... Так (по Булгакову — не отрицаю) завершалась церемония провозглашения Августа великим понтификом... Подобно грозовой туче, надвигалась на великого и счастливого императора черная полоса несчастий, утрат и разочарований.
В том же 12-м году до Р.Х. неожиданно, на пятьдесят втором году жизни умер блистательный полководец, верный друг, зять и надежная опора Августа — Марк Агриппа. В следующем году скончалась любимая сестра Октавия.
...Тревожные мысли одолевают Августа. Агриппа умер не на поле боя — в своей постели. Они с ним однолетки. Истинный римлянин не боится смерти... Но что будет с империей? Кто завладеет властью в Риме? ... Внуки еще так малы. Нужно подыскать им отчима. И только в своей семье... Тиберий?! Он женат, но что с того? ... Если Августа призовут боги, Тиберий сможет заменить его до тех пор, пока мальчики не встанут на ноги. Заодно он сумеет обуздать беспутство Юлии... Ливия за ним присмотрит. Она любит сына, но волю покойного супруга исполнит. Ее слово нерушимо — он в этом успел убедиться за четверть века, что они живут вместе... Во главе римского государства должен оставаться род Юлиев! Похоже, Тиберий очень любит свою жену и маленького сына. Но интересы Рима превыше всего!.. Август приказывает Тиберию развестись с Випсанией и жениться на Юлии...
Мрачные мысли не оставляют императора. Близится к концу сооружение Алтаря мира, а мира все нет. Война с придунайскими племенами не закончилась выходом к верховьям великой реки и образованием двух новых провинций. Чтобы обезопасить от набегов варваров соседние с Италией Далматию и Иллирик (нынешняя Югославия), пришлось двинуться ниже по течению Дуная. Сейчас Тиберий заканчивает покорение обширного края к югу от его среднего течения. Там решено создать еще одну провинцию — Паннонию (примерно нынешняя Венгрия). Военные действия длились четыре года, а нет уверенности ни в долговременной покорности побежденных, ни в том, что зимой по льду Дуная с севера не нагрянут новые полчища варваров. Впрочем, Тиберий — молодец и сделал все, что было возможно.
В Германии дела немногим лучше. Младший пасынок, Друз, как полководец не уступает брату. Он уже прошел далеко за Рейн. Но это вовсе не означает, что разбросанные среди дремучих лесов дикие германские племена покорились. Тем не менее, в 10-м году Рим встречал Друза овацией (малым триумфом). В следующем году происходит торжественное освящение Алтаря мира. Тиберий, тоже с овацией — за Паннонию — возвращается в Рим. Друз избран консулом и вновь убывает в Германию, чтобы погибнуть глупейшим образом — в результате неудачного падения с лошади. Главнокомандующим римского войска в Германии назначен Тиберий. Он должен завершить усмирение этого дикого края...
...Узкая лесная дорога. Холодный, пасмурный день. В сопровождении сильного отряда конников Тиберий едет к месторасположению армий Друза. Мрачные ели сплошным массивом с обеих сторон наступают на дорогу. Могучие стволы утопают в призрачно-сером ковре мхов. Всадники с тревогой вглядываются в непроницаемую темноту леса... Тиберий едет чуть впереди, отрешенно опустив поводья. Взгляд его обращен внутрь...
Будущему преемнику Августа уже тридцать четыре года. Оставим же его ненадолго на лесной дороге и посмотрим на него глазами Светония:
«Телосложения он был дородного и крепкого, росту выше среднего, в плечах и груди широк, в остальном теле статен и строен с головы до пят. Левая рука была ловчее и сильнее правой, а суставы ее так крепки, что он пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши. Цвет кожи имел белый, волосы на затылке длинные, закрывающие даже шею, — по-видимому, семейная черта. Лицо красивое, хотя иногда на нем вдруг высыпали прыщи. Глаза большие и с удивительной способностью видеть и ночью, и в потемках, но лишь ненадолго и тотчас после сна, а потом их зрение вновь притуплялось. Ходил он, наклонив голову, твердо держа шею, с суровым лицом, обычно молча... Здоровьем он отличался превосходным, и за все время своего правления не болел ни разу, хотя с тридцати лет заботился о себе сам, без помощи и советов врачей». (Светоний. Тиберий, 68)
...Спутники Тиберия примолкли. Осторожно ступает его могучий конь. Еще мрачнее, еще замкнутее, чем обычно, лицо полководца. Плавно течет поток его невеселых мыслей...
...Совсем недавно этой же дорогой он сопровождал прах Друза. Весь долгий путь от лагеря до Рима прошел пешком, отдавая брату последнюю воинскую честь. Хотя! они никогда не были близки. Да и не похожи!.. У Друза был легкий характер. Его вся любили. И мать, и Август... Может быть, правда, что болтают в тавернах — будто Август был отцом Друза. Впрочем, какое это теперь имеет значение?.. Друза любили и воины, и народ... Надеялись, что когда-нибудь он восстановит Республику, облагодетельствует всех. Кучка пепла — вот что осталось от этих надежд! А его, Тиберия, не любят. Даже Юлия, хотя так увивалась за ним, когда еще была за Марцеллом... По углам шепчутся, что теперь она в его отсутствие меняет любовников. Развратная дрянь! Еще упрекает его, что неласков, мрачен, нелюдим... Хотя бы и так. Что удивительного? Детство прошло в изгнании. Потом в доме Августа... Его не обижали, но разве мог он забыть, кто отнял у него отца? Мрачен?.. Випсания этого бы не сказала. После развода он видел ее только один раз и, наверное, не увидит больше. Во всяком случае, пока жив Август... Цезарь Август, сын божественного... Род Юлиев, потомки Венеры... Его нынешняя жена обожает похваляться своим происхождением от богини, которое придумал Юлий Цезарь и так старательно расписал Вергилий... Сказка для простаков! Вот его, Тиберия, род — не сказка! Род Клавдиев проходит через всю историю Рима. Начиная от Аппия Клавдия, главы децемвиров, что писали законы двенадцати таблиц, и Аппия Клавдия Слепого, который уговорил римлян не принимать предложения Пирра. Потом Гая Клавдия Нерона, разгромившего Гасдрубала, когда тот с войском из Испании шел на выручку Ганнибала. А дальше длинная-длинная череда консулов, цензоров, прославленных мужей. Разве не к нему, Тиберию Клавдию Нерону, должна по праву высокого рождения перейти верховная власть в государстве? Разве не он после смерти Агриппы, а теперь еще и Друза, единственный великий римский полководец? Не он завоевал Ретию, Норик и Паннонию?.. Если боги не дали Августу родного сына!.. Но Цезарь, вопреки их воле, хочет передать государство внукам. И он, Тиберий, должен ради этого растить и опекать детей Агриппы, обуздывать или терпеть попреки и беспутство Юлии? Какая насмешка судьбы! Слава богам, мальчики неплохие, не в мать. Но у него есть свой сын, Друз младший! Он всего на два года моложе Луция Цезаря... Август еще крепок. Он успеет вырастить Гая и Луция. А Тиберия использует и отодвинет, как ненужную вещь...
...Неслышно ступает по мягкой дороге конь Тиберия. Не сбегают тучи с его лица. В молчании следуют за ним воины...
Проходит год. Пока Тиберий добивает германцев, Августа настигает еще один удар. Уходит из жизни Меценат.
К середине 7-го года Тиберий, при поддержке флота с моря, доходит до Эльбы. Германия покорена, она объявлена провинцией Рима. Победителя и его войско ожидает торжественный триумф. В следующем году Август после семнадцатилетнего перерыва принимает звание консула для того, чтобы представить сенату достигшего совершеннолетия Гая Цезаря. По его предложению сенаторы заранее (за пять лет) избирают Гая консулом. Ради такого события император раздает народу по 60 денариев (то же повторится через четыре года, когда совершеннолетия достигнет Луций Цезарь).
В том же 6-м году Август проводит избрание Тиберия народным трибуном сроком на пять лет. Он хочет подсластить пилюлю. Но Тиберий не желает больше играть эту роль. Ссылаясь на усталость от ратных трудов, он заявляет о своем намерении удалиться от дел и уехать на Родос. Мать умоляет его остаться, Август не хочет отпускать, но Тиберий настаивает: пусть попробуют обойтись без него! Однако на границах спокойно, и Август, в конце концов, соглашается. Тиберий, не простившись с семьей, отбывает на Родос.
Во 2-м году до Р.Х., в торжественной обстановке Августа провозглашают «отцом отечества». До него этого наивысшего почетного звания в Риме удостаивались только двое: Цицерон после подавления заговора Катилины и Юлий Цезарь после победы при Мунде.
Однако положение обязывает! В отсутствие мужа Юлия предалась открытому разврату. Отец должен показать своему народу, что закон о прелюбодеяниях не знает исключений. Август официально докладывает сенату о поведении дочери. Доложил заочно, в послании, и, как утверждает Светоний, «после этого долго, терзаясь стыдом, сторонился людей..» Юлия была сослана на остров близ берегов Кампании. Один из ее любовников покончил с собой, несколько других — были сосланы. Перед высылкой дочери император дал ей от имени Тиберия развод. Чему тот, наверное, был рад, но счел своим долгом в письмах к Августу заступаться за жену.
В 1-м году после Р.Х. истек срок трибунских полномочий Тиберия. В том же году он ездил на остров Самос, чтобы повидать своего пасынка Гая Цезаря, который следовал в качестве наместника на Восток. Тот его принял весьма холодно. Поняв, что пять лет назад он совершил ошибку, Тиберий просит Августа разрешения приехать в Рим, чтобы повидать родственников, но получает отказ. Ему объявлено, чтобы он оставил всякую заботу о родственниках, которых сам покинул. Это означает бессрочное изгнание — самое тяжкое наказание для римлянина. Теперь, когда его не защищает звание трибуна и всем известно об опале у императора, Тиберий вдруг оказывается предметом ненависти и насмешек всех, кто хочет выслужиться перед Римом. Ему приходится бежать в глубь острова, где его не знают в лицо.
В простом греческом плаще и сандалиях он бесцельно бродит по полям и лесным тропинкам, ссутулившись, сидит на лавке возле сельской таверны, слушая и не слыша гортанные песни крестьян. О чем он думает, какие чувства владеют бывшим римским консулом, полководцем и триумфатором? Наверное, смесь раскаяния, горечи и отчаяния. Раскаяния в том, что необузданный порыв гордости заставил его покинуть Рим, восстать против воли всемогущего императора. Горечи при воспоминании о былых сражениях и победах над свирепыми даками и германцами. Отчаяния оттого, что в пору самого расцвета вдруг окончилась его жизнь, что он больше не увидит ни Випсанию — ее Август выдал замуж за сенатора Азиния Галла, — ни своего Друза, которому уже исполнилось двенадцать лет.
Тиберия забыли, и он все глубже погружался в зыбкое болото тоски. А, между тем, судьба исподволь готовила новый крутой поворот его жизни. Уступая настойчивым мольбам Ливии или побуждаемый смутным предчувствием беды, Август внезапно сменяет гнев на милость. Он разрешает Тиберию вернуться в Рим — при условии, что тот не будет принимать никакого участия в государственных делах. Светоний утверждает, что Тиберий возвращался «с уверенностью, питая большие надежды на будущее». Сомневаюсь. Гаю Цезарю уже 23 года, его брату Луцию — 19. Оба — здоровые, полные сил молодые люди. Под покровительством властного и всемогущего деда они уверенно идут к вершинам власти в Риме. Тиберию рядом с ними места нет. В лучшем случае он может надеяться со временем стать полководцем в подчинении у одного из своих пасынков. И то, если ждать придется не слишком долго — ведь ему уже 44 года. С волнением вглядываясь в появившуюся на горизонте полоску италийского берега, Тиберий вряд ли лелеял большие надежды, а уж тем более не испытывал уверенности в будущем...
По прибытии в Рим он представил народу своего достигшего совершеннолетия сына Друза, оставил ему свой дом, некогда принадлежавший Помпею Великому, а сам переселился из аристократического квартала города на Эсквилинский холм, в сады Мецената, где, как пишет Светоний, «предался полному покою и занимался только частными делами». Однако колесо судьбы только начало свой скрипучий и неспешный поворот. Какой прорицатель в Риме смог бы (и посмел!) предсказать, что этот поворот развеет в прах упования великого императора и вознесет на вершину могущества вчера еще опального Тиберия?
Никому не ведома длина и форма нити жизни человеческой, которую прядут великие Парки. Никому не ведом момент, когда они ее оборвут. В том же 2-м году от Р.Х. в Массилии, по дороге в Испанию, по-видимому, от какой-то болезни умирает Луций Цезарь. Еще через два года, не успев возвратиться в Рим с Востока, скончался от раны и его старший брат Гай. Боги отвернулись от Августа. Или это была расплата за великое святотатство, что он совершил в юности, пролив кровь стольких неповинных римских граждан?
Огромное горе обрушилось на плечи 67-летнего императора, но не сломило могучего старика. Он усыновил своего последнего внука, 16-летнего Агриппу Постума, и одновременно с ним Тиберия. Внук был еще слишком молод. Бремя правления нужно было передать в надежные руки. Кроме того, Агриппа уже успел проявить дурные наклонности, не подобающие будущему императору. Поэтому, одновременно с усыновлением Тиберия Август повелел ему, в свою очередь, усыновить Германика, в чьих жилах текла кровь Юлиев — он внук сестры императора, Октавии (см. родословное древо). Август понимал, что после его смерти Тиберий не уступит власть Германику. Но Тиберию 46, а Германику — 19 лет. Да и сам принцепс еще не чувствовал себя немощным. Пусть когда-нибудь верховная власть перейдет к Тиберию. После недолгого перерыва она снова вернется к правителю из рода Юлиев.
А пока император Август вручает Тиберию всю возможную для подданного власть. Он стал именоваться Тиберий Цезарь и был вновь избран вторым (вместе с Августом) народным трибуном сроком еще на пять лет. И вовремя! Империя стояла на пороге новых тяжелых испытаний. Десять лет не минуло с того дня, когда в триумфальном шествии Рим праздновал окончательное покорение Германии, а уже поступают сообщения о новых восстаниях германских племен. Опять Тиберий встает во главе римских легионов. Два года длится трудная война. Она еще далека от победного завершения, когда в Рим приходят несравненно более тревожные известия. Восстали Паннония и Иллирик, мятежники перебили римских граждан и гарнизоны. Восстали не менее 800 тысяч человек. Из них в вооруженные отряды сведено около 200 тысяч воинов. Пожар полыхает уже не на далеком Севере, в Германии, а у самых границ Италии. Имеются сведения и о том, что повстанцы не собираются ограничиться освобождением своих стран. Они намерены двинуться на Рим, чтобы навсегда покончить с ненавистным владычеством.
Тревогу, охватившую в те дни Вечный Город, древние авторы сравнивают с временами нашествия Ганнибала. Как тогда, римляне должны напрячь все силы. Производится поголовная мобилизация граждан, способных носить оружие. Ветеранов вызывают из колоний. Август приказывает состоятельным римлянам освободить часть рабов для включения их в римское войско. В самом Риме вот-вот могут вспыхнуть волнения по поводу трудностей с продовольствием.
Престарелый император с отчаянием ощущает содрогания недавно еще столь прекрасного и незыблемого здания Империи. Он срочно вызывает в Рим Тиберия и наделяет его чрезвычайными полномочиями. В Германии можно ограничиться сдерживанием непокорных племен. Слава богам, это — далеко. Впрочем, волнения могут оттуда перекинуться в соседнюю Галлию. А галлам дорога на Рим давно известна. Нынешним римлянам, привыкшим воевать руками наемников, в сражениях на два фронта не устоять!
Судьба империи в руках Тиберия. Ему удается набрать 15 легионов из римских граждан и равное количество вспомогательных войск. С этой армией он отправляется в Иллирик. Три года длится безжалостная война. Римляне пленных не берут, сжигают посевы и поселения на своем пути. Тем временем на семью Августа продолжают сыпаться несчастья. В 7-м году за разгульное поведение он отправляет в ссылку на остров близ Эльбы последнего внука — Агриппу. Годом позже, в связи с откровенным развратом («яблоко от яблони...»), та же участь постигает внучку Августа, Юлию младшую. Остров, разумеется, другой — в Адриатике. В том же году император ссылает поэта Овидия (об этом — позже). Прорывается прирожденная жестокость Октавиана-Августа: горько осознавать крах с таким упорством выстроенной Империи...
Наконец, Паннонское восстание подавлено. Рим спасен! Слава Тиберия достигает небывалой высоты. Победителя ожидает грандиозный триумф, но... приходит новое ужасное известие из Германии. Вдохновленные восстанием в Паннонии и понимая, что римское войско в их стране ослаблено, северные германские племена начинают активные боевые действия под руководством вождя Арминия (он состоял прежде на службе у римлян, получил римское гражданство и даже зачислен в сословие всадников). Толчком для выступления послужили неразумные действия римского наместника, Квинтилия Вара. Он обложил германцев непосильными налогами, ввел в стране римские суды и принудительную мобилизацию во вспомогательные войска римлян. Арминий пользовался полным доверием у Вара. Ему удалось завлечь три римских легиона со всеми вспомогательными войсками в глухой Тевтобургский лес, окружить их там и полностью уничтожить. Вар покончил жизнь самоубийством. Это известие потрясло Рим. Такого сокрушительного поражения римляне не знали за всю свою историю. Август был до такой степени подавлен, что «несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды и не раз бился головой о косяк, восклицая: «Квинтилий Вар, верни легионы!», а день поражения каждый год отмечал трауром и скорбью». (Светоний).
К счастью, германцы не перешли Рейн и восстание не перекинулось на Галлию. Триумф Тиберия был отложен. Едва вернувшись в Рим, он вновь собирается в Германию. Двадцатипятилетний Германик (почетное прозвище «Германик» было сенатом присвоено Друзу старшему за победы в Германии, молодой Германик получил его по наследству от отца) отправляется вместе с ним — его легатом. Еще два года с крайним напряжением сил длится новая война. К 11-му году Германия снова приведена к покорности. Тиберий возвращается в столицу, празднует отложенный триумф за победу в Паннонии. Командование войсками Август передает Германику Он и добивает германцев. Но мощь Рима сломлена. Удержать Германию в подчинении невозможно. Август приказывает Германику отвести римские войска за Рейн, в Галлию.
Все это время Тиберий остается в Риме. Август объявляет его своим соправителем. В этом можно усмотреть определенный расчет. 76-летний император понимает, что жить ему осталось недолго. Он уже составил завещание. Наследниками первой степени в нем названы Тиберий и Ливия. Ее он даже удочеряет После его смерти она будет именоваться Августа. Власть перейдет в руки Тиберия. Если Германик будет находиться в Галлии, во главе восьми легионов, положение внучатого племянника Августа будет достаточно прочным...
Легионерам Август завещает сразу после своей смерти раздать по семьдесят пять денариев, преторианцам — по двести пятьдесят. Неимущим гражданам отказано десять миллионов денариев. Деньги для всех раздач припасены. Дочь и внучку император запретил хоронить в своем Мавзолее. Вместе с завещанием он передал на хранение девам-весталкам уже известный нам список «Деяний». А, кроме того, реестр государственных дел: где сколько находится воинов, сколько денег в императорской казне и в государственном казначействе, за кем числятся недоимки. Вплоть до поименного списка своих доверенных рабов и вольноотпущенников, с которых можно потребовать отчет.
Дела в полном порядке, осталось только ждать смерти. Горьким, надо полагать, было это ожидание. Итог жизни неутешителен. Хотя восстания варваров Тиберий сумел подавить, надеяться на долгий прочный мир римлянам не приходилось. Императорская власть уходила в род Клавдиев. Германик ведь по отцу тоже Клавдий, да и неизвестно, будет ли он когда-нибудь править... Памятниками его, Августа, эпохи останутся храмы и форум. Это бесспорно! Кое-какие успехи в восстановлении древних традиций, былой доблести и достоинства римлян он, пожалуй, тоже может поставить себе в заслугу. Об этом говорят хотя бы трудные победы Тиберия. Римский дух, римская стойкость все же себя проявили! Но надолго ли? Одолеть пристрастие аристократов к роскоши и разврату не удалось. Будущее Империи представлялось ее создателю туманным и тревожным.
В конце лета 14-го года Август решает снова направить Тиберия в Иллирик для наведения порядка, нарушенного восстанием. Рим императору опостылел, и он вознамерился проводить своего преемника до Неаполя. По дороге заболел. На обратном пути болезнь усилилась. Из-за сильных приступов болей в желудке он вынужден был остановиться и слечь в городе Нола, что неподалеку от Неаполя. Там и умер. Согласно Светонию: «В свой последний день он все время спрашивал, нет ли в городе беспорядков из-за него. Попросив зеркало, он велел причесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И произнес заключительные строки:
Как хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием.
Затем он всех отпустил». (Там же, 99)
Умер Август 19-го августа 14-го года на руках у Ливии. «Смерть ему, — продолжает Светоний, — выпала легкая, какой он всегда желал. В самом деле, всякий раз, как он слышал, что кто-то умер быстро и без мучений, он молился о такой же доброй смерти для себя и для своих — так он выражался. До самого последнего вздоха только один раз выказал он признаки помрачения, когда вдруг испугался и стал жаловаться, что его тащат куда-то сорок молодцов. Но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно сорок воинов-преторианцев вынесли потом его тело к народу». (Там же) Последний свой путь до Рима Август совершил на плечах декурионов из муниципий и всадников. Сенаторы перенесли тело на Марсово поле и там сожгли. Самые видные граждане в одних туниках, без пояса, босиком собрали прах и положили в мавзолей.
Так закончилось почти полувековое владычество императора Августа. Он сумел реализовать замысел Цезаря — авторитарное правление, единственно возможное при тех размерах, которых достигло римское государство.
В конце жизни, когда Рим едва отбивался от варваров, он опасался, что выстроенное им здание вот-вот рухнет. Но оно устояло, и Рим, как мы увидим, пройдя через многие тяжелые испытания, сохранил свое величие еще на добрых полтора столетия. В одном только Август существенно отклонился от линии, намеченной Цезарем: вместо демократической диктатуры он ввел традицию (еще не закон!) «престолонаследования» по крови. Фактически это была монархия.
На фоне полыхавшего на всю империю зарева погребального костра великого Августа еще одна смерть, случившаяся почти одновременно, осталась незамеченной. На острове Планазия в возрасте двадцати шести лет был убит сосланный туда навечно последний внук императора, Агриппа Постум. И древние, и новые историки уделяют этому событию одну-две фразы. Мне кажется, оно заслуживает большего внимания. Быть может, в нем следует искать ключ к выяснению психической эволюции императора Тиберия. Поэтому я приглашаю читателя провести дополнительное расследование обстоятельств этого убийства. В нашем распоряжении свидетельские показания двух древних авторов: Светония и Тацита. Сопоставим и проанализируем их. Начнем с основного свидетельства Светония: «Кончину Августа он держал в тайне до тех пор, пока не был умерщвлен молодой Агриппа. Его убил приставленный к нему для охраны войсковой трибун, получив об этом письменный приказ. Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий Август, чтобы после его смерти не было повода для смуты, или его от имени Августа продиктовала Ливия, с ведома или без ведома Тиберия. Сам Тиберий, когда трибун доложил ему, что приказ исполнен, заявил, что такого приказа он не давал, и что тот должен держать ответ перед сенатом. Конечно, он просто хотел избежать на первое время общей ненависти, а вскоре дело было замято и забыто». (Светоний. Тиберий, 22)
Кто же отдал приказ убить Агриппу Постума? Для этого постараемся понять истинную причину ссылки Агриппы и что представляла собой эта ссылка. Несколькими страницами выше, следуя привычному шаблону, я написал: «...в 7-м году за разгульное поведение он (Август) отправляет в ссылку на остров близ Эльбы последнего внука — Агриппу». Что значит разгульное поведение? С Юлией все ясно — названы любовники. А здесь? Связи с женщинами легкого поведения? Это не криминал. Законы о нравственности касались только отношений внутри нобилитета. Агриппе всего девятнадцать лет. Ежели какая-нибудь развратная матрона и положила, как ныне говорят, на него глаз, то это вряд ли можно поставить ему в вину. Быть может, переходящие всякие границы пьяные дебоши, насильственные действия? Нет на то указаний. Светоний ограничивается весьма общим замечанием: «...от Агриппы за его низкий и жестокий нрав он вскоре отрекся и сослал его в Соррент». (Светоний. Божественный Август, 65) Маловато для ссылки единственного внука, совсем еще мальчика. Впрочем заметим, что ссылка-то поначалу не на пустынный остров, находящийся более, чем в 60 километрах от берегов Северной Италии, а в благодатный край на берегу Неаполитанского залива. По поводу перевода на остров Планазия Светоний чуть ниже дает такое пояснение: «...Агриппу, который не становился мягче и с каждым днем все более терял рассудок, он перевез на остров и, сверх того, заключил под стражу. Особым сенатским постановлением он приказал держать его там пожизненно». (Там же) Отметим: «Заключил под стражу». Зачем? Бежать с удаленного острова практически невозможно. А стража — солидная. Светоний упоминает, что Агриппу убил приставленный для охраны войсковой трибун. В регулярной армии такое звание имели командиры легионов. Надо полагать, что здесь, на острове, у трибуна в подчинении были воины. Для чего? Не для того же, чтобы смирить буйство одинокого изгнанника! Быть может, чтобы помешать высадке на остров с кораблей тех, кто захочет его освободить? Но вернемся к причине ссылки и послушаем второго свидетеля: «Ливия, — утверждает Тацит, — так подчинила себе престарелого Августа, что тот выслал на остров Планазия единственного своего внука Агриппу Постума, молодого человека с большой телесной силой, буйного и неотесанного, однако не уличенного ни в каком преступлении». (Тацит. Анналы, Кн. 1, 3)
Итак, интрига Ливии, которая, очевидно, стремилась гарантировать переход власти к Тиберию. Однако в последней воле императора она могла не сомневаться. Август уже объявил Тиберия своим соправителем. Он ни за что не согласился бы передать империю — плод усилий всей жизни — в руки неопытного и необузданного юнца. Значит, существовала в сенате или среди всадников, а, может быть, и в армии, достаточно сильная оппозиция, которая могла бы воспользоваться именем внука Августа и оспорить власть Тиберия после смерти императора. Тем более что никакого закона о передаче власти наследнику не существовало. Формально Тиберий был только трибуном — не более того. О возможности смуты упоминает и Светоний. Так, может быть, от контактов с этой опасной для римского государства оппозицией удалял, а затем и охранял своего внука Август? Есть и более прямые указания на такую опасность. Тот же Светоний немного раньше упоминает, что некие люди низкого происхождения (возможно, просто исполнители) Авдасий и Эпикад предполагали похитить Агриппу и привезти его к войску. У Тацита (и у Светония) есть упоминание о попытке похищения Агриппы после смерти Августа: «Раб Агриппы Постума по имени Клемент, узнав о кончине Августа, задумал с несвойственной рабской душе отвагой отплыть на остров Планазия и, похитив там силою или обманом Агриппу, доставить его затем к войску, стоявшему против германцев. Осуществлению его замысла помешала медлительность торгового судна, и расправа над Агриппой была совершена». (Там же. Кн. 2, 39)
Почва для смуты была столь подготовлена, что Клементу удалось впоследствии выдать себя за Агриппу, будто бы спасшегося от смерти. Появление лже-Агриппы вызвало серьезные волнения по всей Италии. Хитростью его удалось захватить и убить. Отметим, что Тацит называет войско, к которому предполагалось доставить Агриппу. Это войско Германика, находящееся в Галлии. Таким образом, оппозиция власти Тиберия приобретает реальные черты и нешуточную силу — германское войско, а может быть, и лидера в лице самого Германика. Все это уже очень серьезно!
Но кто же отдал приказ убить Агриппу, Август (в интересах государства) или Ливия от его имени? (приказ был официальным: наемный убийца не смог бы пробиться через охрану к Агриппе). Тацит не верит, что автор приказа — престарелый император: «Август, — пишет он, — конечно, много и горестно жаловался на нравы этого юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским постановлением; однако никогда он не ожесточался до такой степени, чтобы умертвить кого-либо из членов своей семьи, и маловероятно, чтобы он пошел на убийство внука ради безопасности пасынка». (Там же. Кн. 1, 6)
Тот же Тацит, между прочим, упоминает: «Ходил слух, что за несколько месяцев перед тем Август, открывшись лишь нескольким избранным и имея при себе только Фабия Максима, отплыл на Планазию, чтобы повидаться с Агриппой. Здесь с обеих сторон были пролиты обильные слезы и явлены свидетельства взаимной любви...» (Там же. Кн. 1, 5) Итак, по совокупности свидетельских показаний Августа от подозрения в убийстве внука мы можем освободить. Кто же отдал роковой приказ? Мог бы и Тиберий как соправитель Августа. Но тогда вряд ли бы он в ответ на доклад трибуна об исполнении публично заявил, что «такого приказа не давал» (у Тацита: «Тиберий ответил, что ничего не приказывал»). Нашлись бы еще свидетельства. Остается Ливия. Она могла написать от имени больного Августа, и за давностью их фактически совместного правления никто бы не посмел ослушаться. Но тогда почему медлила? О странном промедлении с уведомлением о смерти императора пишет Светоний, а Тацит вполне определенно приписывает его Ливий: «Тиберий, — пишет он, — едва успевший прибыть в Иллирию, срочно вызывается материнским письмом; не вполне выяснено, застал ли он Августа в городе Нола еще живым или уже бездыханным. Ибо Ливия, выставив вокруг дома и на дорогах к нему сильную стражу, время от времени, пока принимались меры в соответствии с обстоятельствами, распространяла добрые вести о состоянии принцепса...» (Там же) Что это за «меры в соответствии с обстоятельствами»? Путешествие гонца до Иллирии и Тиберия обратно в Нолу занимает не менее четырех дней. Все это время Ливия ждет, не посылает при-! каза об убийстве Агриппы. Чего ждет? Очевидно, соучастия Тиберия в злодеянии. Можно вообразить, сколь трудным был разговор между матерью и сыном. Тиберий не царедворец, не интриган, он — воин, всю жизнь (если не считать изгнания на Родос) проведший в битвах и походах. Убийство безоружного ему отвратительно. Он еще не знает, но предчувствует, что воспоминание об этом преступлении будет преследовать его долгие годы, все более удаляя от людей, все сильнее ожесточая и без того мрачную природу его души. Между прочим, опальный внук императора для Тиберия, пожалуй, даже больше, чем пасынок. Ведь он появился на свет после смерти Агриппы старшего. Родной отец не поднимал его, согласно римскому обычаю, с земли.
Но мать права: верховная власть в Риме по праву древности рода, по многочисленным заслугам перед отечеством, после столь долгого ожидания, сейчас, в 56 лет, переходящая в его руки, может быть отнята заговорщиками, поднявшими на щит этого беспутного сына Агриппы. Ничего не совершившего, не побывавшего ни в одном сражении! Это несправедливо... Зачем только она не распорядилась без него? Впрочем, он прекрасно знает, зачем! «Хотела посоветоваться!» Как бы не так! Хотела впутать его в убийство, от которого придется открещиваться перед сенатом и народом. Впутать, чтобы потом грозить разоблачением и по-прежнему править, править, командовать им, как она командовала Августом. Откуда такая жажда власти без малого в семьдесят лет?..
...Но вернемся на Марсово поле к погребальному костру Августа. Нагоняя друг друга, извиваясь, устремляются вверх языки пламени. Смолистые поленья время от времени выстреливают, выбрасывая к ночному небу яркий шлейф искр. Тогда из темноты выступают дальние ряды скорбных лиц бессчетного множества людей, заполнивших огромную площадь. Вечный Город прощается со своим первым императором. Непроницаемо озаренное пламенем лицо Тиберия. Неподвижным взглядом смотрит он на огонь, пожирающий останки того, кто всю долгую жизнь был для него и богом, и отцом, и тираном. Теперь он свободен! Но радости нет... Он еще не правитель, еще неизвестно, будет ли правителем, а руки уже в крови Агриппы... Что потом? Германик в Галлии, во главе восьми легионов... Август заставил усыновить его, прочил в преемники Тиберию... Пусть так, но многие в Риме не хотят ждать. Завидуют ему и боятся... Значит, опять борьба, интриги, заговоры?.. Он уже стар! Не отказаться ли?.. Мать не допустит... И все-таки, почему Германик, а не его сын Друз? Почему снова род Юлиев? Несправедливо. Своим сегодняшним могуществом Рим обязан Агриппе старшему, брату Друзу и ему Тиберию, а не тому, чей пепел соберут с этого костра... С тревогой следят сенаторы за выражением лица соправителя и наследника великого императора. В беглом зареве костра его неподвижно-мрачные черты вдруг оживают — будто искажаются злой усмешкой.
Первое заседание сената состоялось накануне. Тиберий, в качестве народного трибуна, созвал его для обсуждения процедуры похорон и зачтения завещания. Оглашенное вольноотпущенником, оно начиналось словами: «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере двух третей будет Тиберий Цезарь...» Еще одно оскорбление — уже из могилы! Он, впрочем, был к этому готов. И, несмотря на сомнения, начал действовать с решительностью опытного полководца. Преторианцам он сообщил, что их привилегированное положение остается без изменений, и дал пароль. Они, в свою очередь, выделили внушительный отряд для его охраны. Это произвело нужное впечатление на сенаторов. Тело Августа еще не было предано огню, а оба консула уже поспешили присягнуть Тиберию. Потом они сами приняли присягу у Сея Страбона — верного ему префекта претория. На этом настоял Тиберий, который, как пишет Тацит: «...все дела начинал через консулов, как если бы сохранялся прежний республиканский строй, и он все еще не решался властвовать...» (Там же. Кн. 1, 7)
Разумеется, это было притворством. Хотя еще никаких решений о власти действительно принято не было, Тиберий уже посылает гонцов в провинции к войскам с распоряжением присягать ему как императору. Тацит по этому поводу замечает: «Он направил войскам послания, словно принял уже титул принцепса, и вообще ни в чем, кроме своих речей в сенате, не выказывал медлительности. Основная причина этого — страх, как бы Германик, опиравшийся на столькие легионы, на сильнейшие вспомогательные войска союзников и исключительную любовь народа, не предпочел располагать властью, чем дожидаться ее». (Там же)
В Риме же еще некоторое время продолжались лицемерные препирательства между Тиберием, который отказывался принять всю полноту власти, и сенаторами, старавшимися наперебой выразить свою убежденность в необходимости этого, — опасаясь нечаянно обнаружить, что понимают притворство наследника. Наконец, Тиберий дал себя уговорить, и консулы провозгласили его принцепсом сената. В качестве вознаграждения за лояльность Тиберий объявляет, что отныне избрание всех магистратов будет производиться в сенате. Комиции римского народа на этом прекратили свое существование. «И народ, — отмечает Тацит, — если не считать легкого ропота, не жаловался на то, что у него отняли исконное право, да и сенаторы, избавленные от щедрых раздач и унизительных домогательств, охотно приняли это новшество...» (Там же. Кн. 1, 15)
Тогда же Тиберий потребовал у сената пожизненной проконсульской власти (т.е. права командования армиями и наместничества в провинциях) для Германика. Сын Тиберия, Друз младший, был избран консулом на 15-й год.
Серьезные осложнения начались вскоре после того, но вдалеке от Рима. Первыми, вопреки ожиданию Тиберия, взбунтовались три легиона, стоявшие в Паннонии. Большую часть регулярного войска в ту пору уже составляли римские граждане — не италийцы. Сложилось так, что ввиду затруднений с добровольным набором войск и в интересах экономии они еще при Августе стали объектом противозаконных притеснений. Вместо положенных двадцати их заставляли служить тридцать—сорок лет. При увольнении давали на окраинах империи малопригодные для земледелия участки в горах или среди болот. Скудного солдатского жалованья, в отсутствие трофеев и наградных, едва хватало на оплату пропитания и обмундирования. А между тем палочная дисциплина становилась все жестче, центурионы — все свирепее.
Восставшие прогнали военных трибунов и префекта лагеря, убили одного из самых ненавистных центурионов и разграбили окрестные селения. Тиберий отправляет к мятежному войску с неограниченными полномочиями своего сына Друза (ему уже 27 лет). С ним выступают две усиленные конницей когорты преторианцев во главе с недавно назначенным вторым префектом претория Элием Сеяном, сыном Страбона.
Неизвестно, чем бы закончилась эта экспедиция, если бы не случай. В ночь после прибытия Друза в лагерь произошло лунное затмение, и, кроме того, вдруг грянула очень ранняя зима с холодными проливными дождями. Солдаты приписали это гневу богов. Друзу удалось расколоть единство бунтовщиков, схватить и казнить зачинщиков. Мятеж был подавлен, легионы покорно, по одному, ушли на зимние квартиры. Друз и Сеян вернулись в Рим.
Тем временем приходит ожидавшееся со страхом известие о восстании германских легионов. В Галлии, под общим начальством Германика, вдоль берегов Рейна располагалось два римских войска — по четыре легиона в каждом. Верхнегерманским войском командовал легат Силий, нижнегерманским — легат Цецина. Сам Германик в этот момент был занят сбором налогов в срединной Галлии.
Мятеж начинается в нижнем войске. Требования у солдат те же, что в Паннонии: сокращение срока службы до шестнадцати лет, увеличение жалованья, смягчение жестокости наказаний. Восставшие рассчитывают на то, что Германик, не желая признать власть Тиберия, их поддержит. По этой же причине Цецина и не пытается усмирить солдат. Внезапная ярость овладевает толпой. Начинается жестокая расправа с центурионами. Офицеров не трогают, но и не слушают их команд. Воины сами управляют лагерем, распределяют дозоры, выставляют караулы: они не забыли, что за Рейном — враг. Германик срочно возвращается в нижний лагерь. И солдаты, и Тиберий ошиблись, предполагая в нем склонность к мятежу против новой власти. Этот в высшей степени достойный и благожелательный к своим подчиненным полководец был, тем не менее, в первую очередь истинным римлянином в традиционном смысле этого слова. А потому превыше всего он чтил верность Риму, его законам и своему гражданскому долгу.
На сходке он обращается к солдатам с речью, где прославляет победы и триумфы Тиберия, завоеванные с этими самыми легионами. Затем упрекает их в утрате выдержки и воинской дисциплины. В ответ воины с укоризной показывают ему следы от плетей, жалуются на бессмысленную изнурительность лагерных работ, жестокость и взяточничество центурионов. Многие требуют раздачи денег, завещанных божественным Августом. При этом они выказывают свою привязанность к Германику и изъявляют готовность поддержать его, если он захочет достигнуть верховной власти. Далее у Тацита следует описание знаменитого эпизода: «Тут Германик, как бы запятнанный соучастием в преступлении, стремительно соскочил с трибуны. Ему не дали уйти, преградили дорогу, угрожая оружием, если он не вернется на прежнее место, но он, воскликнув, что скорее умрет, чем нарушит долг верности, обнажил меч, висевший у него на бедре, и, занеся его над своей грудью, готов был поразить ее, если бы находившиеся рядом не удержали силою его руку. Однако кучка участников сборища, толпившаяся в отдалении, а также некоторые, подошедшие ближе, принялись — трудно поверить! — всячески побуждать его все же пронзить себя, а воин по имени Калузидий протянул ему свой обнаженный меч, говоря, что он острее. Эта выходка показалась чудовищной и вконец непристойной даже тем, кто был охвачен яростью и безумием. Воспользовавшись мгновением замешательства, приближенные Цезаря увлекли его за собой в палатку». (Там же. Кн. 1, 35)
Между прочим, в своих «Замечаниях на Анналы Тацита» Пушкин по поводу дерзкой реплики Калузидия записывает следующее: «По нашим понятиям слово сие было бы только грубая насмешка; но самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена, и вряд ли бы мог Германик отказаться от сего предложения, когда бы прочие не воспротивились...»
Однако, поскольку Германик остался жив, ему надлежало найти способ погасить мятеж. Тем более, что германцы не преминули бы воспользоваться смутой для вторжения в Галлию. От имени принцепса Германик объявляет об увольнении всех отслуживших двадцать лет и освобождении от лагерных работ тех, кто прослужил шестнадцать. Деньги, завещанные Августом, он обещает выплатить в двойном размере. Увольнение было произведено немедленно, а для доставки денег, естественно, требовалось время. Два легиона согласились ждать и ушли на зимние квартиры. Два других требовали немедленной выплаты и получили ее за счет денег на дорожные расходы, которыми располагали сам Германик и его приближенные.
После этого он отправился к верхнему войску, которое удалось без особого труда привести к присяге Тиберию. Затем возвратился в расположение далеко еще не успокоившегося нижнего войска. Под давлением приближенных Германик решает отправить подальше от опасностей, к дружественному галльскому племени треверов, всех находившихся в лагере жен старших офицеров. В их числе свою беременную жену и двухлетнего сына. Агриппина старшая долго отказывалась ехать, говоря, что ей, внучке божественного Августа, не подобает отступать перед Гласностью. Потом все же согласилась. Зрелище процессии плачущих, покидающих лагерь женщин, в том числе жены и маленького сына полководца, которые окажутся заложниками у галлов, произвело сильное впечатление на воинов. Их жалость стала переходить в раскаяние. Они стали упрашивать женщин остаться, обращаются с покаянными словами к Германику, умоляя его наказать виновных. Он им предлагает распорядиться по собственному усмотрению. Распоряжение это выглядит довольно своеобразно. «Совершенно преображенные, — утверждает Тацит, — они разбегаются в разные стороны и, связав вожаков мятежа, влекут их к легату первого легиона Гаю Цетронию, который над каждым из них в отдельности следующим образом творит суд и расправу. Собранные на сходку, стояли с мечами наголо легионы; подсудимого выводил на помост и показывал им трибун. Если раздавался общий крик, что он виновен, его сталкивали с помоста и приканчивали тут же на месте. Воины охотно предавались этим убийствам, как бы снимая с себя тем самым вину; да и Цезарь не препятствовал этому. Так как сам он ничего не приказывал, на одних и тех же ложились и вина за жестокость содеянного и ответственность за нее». (Там же. Кн. 1, 44)
Еще два легиона, ушедшие в зимний лагерь, продолжают волноваться. Германик собирает против них покорившихся ему солдат, но не выступает с ними, а лишь сообщает о своем намерении выступить письмом, адресованным находящемуся в том же лагере Щецине. Тот доверительно читает его наиболее благонадежным воинам. В результате здесь также происходит самосуд и расправа с зачинщиками мятежа.
Чтобы загладить впечатление от всех этих тягостных событий, Германик во главе вчера еще мятежных легионов совершает ничем не спровоцированный кровавый рейд за Рейн. Лунной ночью, напав неожиданно на селения хмельных после празднества германцев, римляне огнем и мечом опустошают местность на пятьдесят миль в окружности, не щадя ни возраста, ни пола. Эта резня возмутила другие германские племена. Вновь под водительством неукротимого Арминия собираются полчища германцев. Пока что нет прямых свидетельств того, что они собираются форсировать Рейн. Но воинственному Германику достаточно факта их объединения. Он уже планирует новое крупное вторжение на оставленные по приказу покойного императора германские земли.
Тиберий этому не сочувствует. И потому, что понимает правильность решения Августа — он, слава богу, достаточно повоевал и хорошо знает неукротимый нрав германцев. И потому еще, что не хочет роста популярности Германика в войске и народе. В 15-м году за военные операции прошлых лет сенат по инициативе принцепса присуждает Германику триумф. Тиберий приглашает своего приемного сына вернуться в Рим. Ссылаясь на военную обстановку, Германик в течение еще двух лет уклоняется от принятия этого приглашения. С переменным успехом он проводит еще две летние кампании против германцев. Пожалуй, единственным реальным результатом является захоронение костей легионеров Вара (через шесть лет после их гибели) в Тевтобургском лесу.
В эти же годы в Риме Тиберий начинает строить свои взаимоотношения с сенатом. Светоний утверждает, что поначалу он «повел себя как хороший гражданин и едва ли не проще, чем частный человек». Далее у Светония следует длинный ряд примеров, явно противоречащих расхожему, но отвечающему другому периоду жизни представлению о Тиберий, как о всех и вся ненавидящем деспоте. Вот некоторые из этих примеров: «...Запретил он присягать на верность его делам, запретил называть сентябрь месяц тиберием... Звание императора, прозвище отца отечества, дубовый венок над дверьми он отверг; даже имя Августа, хоть он и получил его по наследству, он употреблял только в письмах к царям и правителям. ... Угодливость была ему так противна, что он не подпускал к своим носилкам никого из сенаторов, ни для приветствия, ни по делам... Даже когда в разговоре или в пространной речи он слышал лесть, то немедленно обрывал говорящего, бранил и тут же поправлял. ... Но и непочтительность, и злословие, и оскорбительные о нем стишки он переносил терпеливо и стойко, с гордостью заявляя, что в свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык. Однажды сенат потребовал от него следствия о таких преступлениях и преступниках. Он ответил: «У нас слишком мало свободного времени, чтобы ввязываться в эти бесчисленные дела. Если вы откроете эту отдушину, вам уже не придется заниматься ничем другим...» Это было тем замечательней, что сам он, обращаясь к сенаторам и вместе, и порознь, в своей почтительности и вежливости переходил почти все принятые границы. ... Не было такого дела, малого или большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил сенату: о налогах и монополиях, о постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о размещении легионов и вспомогательных войск, даже о том, кому продлить военачальство или поручить срочный поход, даже о том, что и как отвечать царям на их послания. ... И остальные дела вел он всегда обычным порядком, через должностных лиц. Консулы пользовались таким почтением, что однажды посланцы из Африки жаловались им на самого Тиберия за то, что тот медлил разрешить дело, с которым они были присланы. И это неудивительно: ведь все видели, как он вставал перед консулами с места и уступал им дорогу». (Светоний. Тиберий, 26-32)
Я процитировал лишь малую часть списка достойных похвалы поступков и черт характера нового принцепса, которые отмечает Светоний. Притворство? Не думаю.
Всю жизнь Тиберий был солдат, а не царедворец. Быть может, он действительно поначалу надеялся управлять Римом, опираясь на любовь и уважение, а не на страх?
Похоже, что Тацит держится другого мнения. Он обращает внимание на одно имевшее весьма далеко идущие последствия решение Тиберия, относящееся к тому же начальному периоду его принципата. Подтвердив отклонение Тиберием присяги на верность всем его распоряжениям и титула отца отечества, Тацит, в отличие от Светония, утверждает: «Это, однако, не внушило доверия к его гражданским чувствам. Ибо он уже восстановил закон об оскорблении величия, который, неся в былое время то же название, преследовал совершенно другое: он был направлен против тех, кто причинял ущерб войску предательством, гражданскому единству — смутами и, наконец, величию римского народа — дурным управлением государством; осуждались дела, слова не влекли за собой наказания». (Тацит. Анналы. Кн. 1, 72)
Подчеркнем, что в этом законе, введенном Суллой в 80-м году до Р.Х., речь шла об оскорблении народа или государства, но не правителя. Однако, после сорокалетнего единоличного правления Августа появился соблазн олицетворить народ и государство в персоне принцепса. Это открывало необъятный простор для расширительного толкования закона об оскорблении величия. Как всегда в таких случаях, толкование опирается на прецеденты. Поэтому важно отметить специфические черты одного из первых примеров использования закона об оскорблении величия, о котором не случайно тут же рассказывает Тацит. Претора Вифиния Марцелла обвиняет в оскорблении величия его же квестор, некий Криспин. «Этот Криспин, — пишет Тацит, — первым вступил на жизненный путь, который впоследствии сделали обычным тяжелые времена и человеческое бесстыдство. Нищий, безвестный, неугомонный, пока при помощи лживых наветов, питавших жестокость принцепса, не втерся к нему в доверие, он стал опасен для самых выдающихся людей государства и, сделавшись могущественным у одного и ненавистным для всех, подал пример, последовав которому, многие, превратившись из бедняков в богачей и из презираемых во внушающих страх, приуготовили гибель другим, а под конец и самим себе. Что до Марцелла, то его он изобличал в поносных речах против Тиберия — неотвратимое обвинение, так как, выбрав из характера Тиберия самое мерзкое, обвинитель передавал это как слова обвиняемого. И так как все, о чем он говорил, было правдой, казалось правдой и то, что это было сказано обвиняемым». (Там же. Кн. 1, 74)
Но это была только первая ласточка. До расцвета доносительства и обильных «урожаев» закона об оскорблении величия, о которых, забегая вперед, здесь пишет Тацит, было еще далеко. Как он сам тут же замечает, «тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы». Тиберий справился со своим гневом и позволил снять с подсудимого претора обвинение в оскорблении величия. К тому же, что значит «восстановил» закон об оскорблении величия? Этот закон никто не отменял. Случилось так, что претор Помпей Марк однажды спросил, не следует ли возобновить дела об оскорблении величия. Тиберий ответил, что законы должны быть соблюдаемы неукоснительно. А что еще он мог ответить? Имел ли он в виду тогда ту практику, какая впоследствии связалась с законом об оскорблении величия? Трудно сказать... Но вернемся к фактам.
26 мая 17-го года Германик наконец отпраздновал в Риме торжественный триумф. Как обычно, везли добычу, картины, изображавшие сражения, вели пленных. Но, кроме того, вслед за колесницей триумфатора следовала еще одна, восторженно приветствуемая народом, колесница. В ней стояла Агриппина с пятерыми детьми: мальчикам было пять, девять и одиннадцать лет, девочки — еще совсем крошки. Римляне громкими кликами славили своего любимца. Тиберий встретил триумфатора (по крайней мере внешне) приветливо. Народу он от его имени роздал по 75 денариев. Сенату предложил избрать Германика консулом на 18-й год (вместе с собой). Однако в душе оседала горечь обиды. Когда пять лет назад он, Тиберий, спаситель Рима, праздновал триумф за покорение Паннонии и всей Германии, его приветствовали совсем не так бурно, как сейчас восхваляют Германика за пару ненужных и не очень удачных рейдов за Рейн. Всю жизнь он терпит несправедливость! Август был к нему несправедлив, а теперь вот — римляне...
Чрезмерная воинственность и популярность Германика опасны для государства. Ему не следует возвращаться к войску в Галлии. Но и в Риме ему лучше не оставаться. Есть повод отправить вчерашнего триумфатора с почетной миссией на Восток. В нескольких мелких зависимых от Рима царствах вспыхнули волнения в связи со смертью царей, Сирия и Иудея обратились с просьбой о снижении налогов, в Армении нет царя. Тиберий докладывает об этом сенату, утверждая, что со смутой на Востоке может справиться только мудрость Германика. Его назначают верховным правителем всех восточных провинций с чрезвычайными полномочиями. Вскоре он прибывает туда с Агриппиной, новорожденной Ливиллой и шестилетним Гаем. Четверо остальных детей остаются в Риме.
Между тем, Тиберий своей властью заменяет наместника Сирии на Гнея Пизона — старого сенатора знатного происхождения и неукротимого, необузданного нрава, бывшего приближенного Августа. Пизон и Тиберию-то едва подчиняется, а Германика считает намного ниже себя. Его не менее знатная и очень богатая жена Планцина дружила с Ливией и ненавидит Агриппину. Пизон не сомневается в том, что Тиберий направил его в Сирию для противостояния Германику. Некоторые предполагают, что он имеет какое-то тайное поручение от принцепса. События на Востоке развиваются с катастрофической быстротой.
По пути в Азию Германик посещает Афины, где его принимают радушно и с почестями. Следуя за ним, в Афины является и Пизон. В своей злобной речи он всячески поносит афинян, задевая косвенно и Германика. Затем спешит в Сирию. Подкупает воинов стоящих там легионов щедрыми раздачами, смещением строгих центурионов и трибунов, потворствует своеволию солдат в городах и селах провинции. При этом и сам Пизон, и Планцина открыто ругают Германика. Тому об этом доносят, но он, не обращая внимания, направляется в Армению улаживать дела с престолонаследованием. В какой-то момент пути Германика и Пизона пересекаются в зимнем лагере 10-го легиона. Встреча проходит под знаком явного недружелюбия, но благодаря самообладанию Германика до открытого столкновения не доходит. Затем Германик направляется в Египет, знакомится с его памятниками, совершает путешествие к верховьям Нила. Попутно открывает государственные хлебные склады, чтобы облегчить положение простого народа в этот неурожайный год.
Возвратившись в Азию, Германик узнает, что Пизон отменил все его распоряжения в Сирии. Они встречаются. Германик в гневе упрекает Пизона и требует, чтобы тот оставил страну. Пизон выражает покорность, но медлит, а в это время непонятная болезнь настигает Германика. Пизон задерживается в Азии, ожидая ее исхода. Германик убежден, что отравлен Пизоном или его женой. Предвидя близкую кончину, он обращается к друзьям с просьбой сообщить принцепсу и сенату о том, что его погубили Пизон и Планцина: «Покажите, — говорит он, — римскому народу мою жену, внучку божественного Августа, назовите ему моих шестерых детей. И сочувствие будет на стороне обвиняющих, и люди не поверят и не простят тем, кто станет лживо ссылаться на какие-то преступные поручения». (Там же. Кн. 2, 71)
Предсмертное обращение Германика, конечно же, реконструировано Тацитом. Но и здесь в последней фразе звучит намек на ходившие тогда слухи о том, что отравить Германика Пизону поручили Тиберий или Ливия. Оправиться от болезни Германику не удалось. Он умер в Антиохии, в конце 19-го года. Агриппина и друзья Германика не сомневались в том, что он был отравлен, — они хотели заручиться публичным свидетельством этого: «Перед сожжением, — рассказывает Тацит, — обнаженное тело Германика было выставлено на форуме антиохийцев, где его и предали огню. Проступили ли на нем признаки отравления ядом, осталось невыясненным, ибо всякий, смотря по тому, скорбел ли он о Германике, питая против Пизона предвзятое подозрение, или, напротив, был привержен Пизону, толковал об этом по-разному». (Там же. 73) Правда, Светоний категорически утверждает (Калигула, 1), что все тело Германика было покрыто синими пятнами, но добавляет, будто после сожжения среди костей его сердце было найдено невредимым (?!), что бросает тень на все утверждение.
Агриппина с прахом Германика отплыла в Италию. Пизон, узнав о смерти своего врага, направляется в Сирию. Должность наместника уже замещена другим, но Пизон рассчитывает на преданность поставленных им центурионов и подкупленных солдат. Расчет оказывается ошибочным. Новый наместник Сирии выводит навстречу наспех собранному Пизоном войску сильный отряд ветеранов п выигрывает сражение. Пизон вынужден отправиться в Рим. «А в Риме, — свидетельствует Тацит, — лишь только стали доходить вести о болезни Германика, как все доходящие издалека, до последней степени мрачные, воцарилась общая скорбь и гнев, а порой прорывались и громкие сетования. Для того, очевидно, и сослали его на край света, для того и дали Пизону провинцию... Весть о смерти Германика настолько усилила в толпе эти толки, что прежде указа властей, прежде сенатского постановления все погружается в траур, пустеют площади, запираются дома. Повсюду безмолвие, прерываемое стенаниями, нигде ничего показного; если кто и воздерживается от внешних проявлений скорби, то в душе горюет еще безутешнее. Случилось так, что купцы, выехавшие из Сирии, когда Германик был еще жив, привезли более благоприятные вести о его состоянии. Этим вестям сразу поверили, и они тотчас же распространились по всему городу; и всякий, сколь бы непроверенным ни было то, что он слышал, сообщает добрую новость каждому встречному, а те передают ее, приукрашивая от радости, в свою очередь, дальше... Тиберий не пресекал ложных слухов, предоставив им рассеяться с течением времени. И народ погрузился в еще большую скорбь, как если бы Германик был у него отнят вторично». (Там же. 82)
Пренебрегая опасностью плавания по бурному зимнему морю, Агриппина с прахом мужа в начале 20-го года прибывает в Брундизий. По распоряжению Тиберия, туда высланы в качестве почетного эскорта две когорты преторианцев. Магистратам областей, через которые проходит траурное шествие, предписано воздать умершему воинские почести. Прах Германика несли трибуны и центурионы, им предшествовали опущенные книзу фасции. Жители оставшихся в стороне городов выходили к дороге, по которой двигалась процессия, сжигали ценные ткани, благовония и все, что предусмотрено похоронным обрядом.
Друз младший, дети Германика, его брат Клавдий, оба консула, сенаторы и множество римлян вышли навстречу процессии за 100 километров от города, к Таррацине. К Риму горестная толпа подходила, заполнив бесконечной лентой всю ширину Аппиевой дороги. Тиберий и Ливия не показались в народе. Не было и матери Германика, Антонии. Тацит полагает, что Тиберий и Ливия не пустили ее на похороны, чтобы казалось, будто они скорбят одинаково с матерью усопшего. «В день, когда останки Германика были переносимы в гробницу Августа, то царило мертвенное безмолвие, то его нарушали рыдания: улицы города были забиты народом, на Марсовом поле пылали факелы. Там воины в боевом вооружении, магистраты без знаков отличия, народ, распределенный по трибам, горестно восклицали, что Римское государство погибло, что надеяться больше не на что, — так смело и открыто, что можно было подумать, будто они забыли о своих повелителях. Ничто, однако, так не задело Тиберия, как вспыхнувшая в толпе любовь к Агриппине: люди называли ее украшением родины, единственной, в ком струится кровь Августа, непревзойденным образцом древних нравов, и, обратившись к небу и богам, молили их сохранить в неприкосновенности ее отпрысков и о том, чтобы они пережили своих недоброжелателей». (Там же. Кн. 3, 4) Под последними, очевидно, следовало понимать Тиберия и Ливию.
Вскоре в Рим прибыл и Пизон. Ему было предъявлено обвинение в разложении войск в Сирии и неподчинении главнокомандующему. Что до отравления, то друзья Германика заявили, что готовы свидетельствовать о происшедшем и просят принцепса вынести о том свое суждение. Пизон не возражал, чтобы его дело разбирал лично Тиберий, так как боялся враждебности сенаторов и народа. Кроме того, как замечает Тацит, он «знал, что Тиберий располагает достаточной властью, чтобы пренебречь слухами, и к тому же связан причастностью к этому делу собственной матери». (Там же, 10). Но Тиберий передал расследование всей совокупности обвинений против Пизона сенату.
На открытии слушания он произнес сдержанную и хорошо продуманную речь. Сказав, что направил опытного Пизона в помощь Германику, но они не сошлись характерами, он просил сенат беспристрастным разбирательством, в частности, установить, только ли Пизон радовался кончине Германика или злодейски его умертвил... «Ибо, — говорит Тиберий у Тацита, — если он превышал как легат свои полномочия и не повиновался главнокомандующему, радовался его смерти и моему горю, я возненавижу его и отдалю от моего дома, но за личную враждебность не стану мстить властью принцепса. Однако, если вскроется преступление, состоящее в убийстве кого бы то ни было и подлежащее каре, доставьте и детям Германика, и нам, родителям, законное утешение. Подумайте и над тем, разлагал ли Пизон легионы, подстрекал ли их, заискивал ли перед воинами, домогаясь их преданности, пытался ли силой вернуть утраченную провинцию, или все это — ложь и раздуто его обвинителями, чрезмерное рвение коих я по справедливости осуждаю. Ибо к чему было обнажать тело покойного, делая его зрелищем толпы, к чему распускать, к тому же среди чужеземцев, слухи о том, что его погубили отравою, раз это не установлено и посейчас и должно быть расследовано?» (Там же, 12)
Опровергнуть обвинения в разложении войска, в неподчинении главнокомандующему и оскорбительных выпадах против него защитники Пизона не могли. Но отравление осталось недоказанным. Между тем, собравшийся перед сенатской курией народ кричал, что не выпустит из своих рук Пизона, если его оправдают. Заседание было отложено. Пизона под охраной преторианцев доставили домой. На следующий день... «Стойко вынеся возобновившиеся обвинения, угрозы сенаторов, всеобщую враждебность и озлобление, он ничем не был так устрашен, как видом Тиберия, который, не выказывая ни гнева, ни сострадания, упрямо замкнулся в себе, чтобы не дать обнаружиться ни малейшему проявлению чувства. Возвратившись домой, Пизон некоторое время что-то писал, как бы набрасывая, что он скажет в защитительной речи, и, запечатав, вручил написанное вольноотпущеннику. Затем он уделил обычное время трапезе и отдыху. Поздней ночью, после того, как жена вышла из его спальни, он велел запереть двери, и, когда забрезжил утренний свет, его нашли с пронзенным горлом, а на полу лежал меч». (Там же, 15)
Далее Тацит упоминает, что слышал от стариков, будто бы в руках у Пизона видели записку, обличавшую Тиберия. И что Сеян хитростью завладел ею, после чего Пизон был убит. История эта так и осталась до конца не проясненной. Создается впечатление, что Германика отравила жена Пизона, Планцина, по прямому указанию Ливии, а Тиберий узнал об этом позже. Но вынужден был прикрыть мать, опасаясь встречного разоблачения в соучастии в убийстве Агриппы Постума. Недаром Тиберий постарался на суде (уже после смерти Пизона) выгородить Планцину, причем, как пишет Тацит: «В защиту Планцины он говорил с чувством и сознанием постыдности своего выступления, и притом сославшись на просьбу матери...» (Там же, 17)
В результате две эти смерти, Агриппы и Германика, легли на совесть Тиберия. Что, несомненно, в значительной мере обусловило последующую эволюцию его характера, а также отношение к вдове и детям Германика.
Я приближаюсь к описанию второй половины правления Тиберия с ее обилием измен, заговоров, казней и все более глубоким погружением принцепса во мрак одиночества, мизантропии и мстительности. Светоний и особенно Тацит уделяют много места рассказам о жестоких событиях этого периода. Кое-что наиболее яркое и характерное намерен упомянуть и я. Но если говорить не о личной ненависти «мести, поле действия которых ограничивалось узким кругом сенаторов и «царедворцев», если вести речь об управлении государством, то следует признать, что в этой сфере деятельность императора Тиберия заслуживает уважения и даже похвалы. Такой вывод можно сделать на основании целого ряда фактов, разбросанных по различным описаниям жизни Тиберия. Я полагаю, что совместно эти факты прозвучат убедительнее. Они характеризуют Тиберия как рачительного, пожалуй, даже прижимистого хозяина, способного вместе с тем не жалеть денег, когда «хозяйство» этого требует. В качестве вступления к обещанному перечню фактов необходимо заметить следующее.
Экономическое положение Рима к концу правления Августа было далеко не блестящим. Эпоха внешней экспансии, контрибуций, захвата множества рабов закончилась. К счастью, Тиберий это хорошо понимал и успехи дипломатии ставил выше, чем перспективы военных авантюр. Нещадной эксплуатации провинций тоже был поставлен разумный предел. Однако собственное сельское хозяйство и ремесленное производство Рима малопродуктивны. Содержание двадцати пяти легионов, необходимых для защиты протяженных границ империи, стоит дорого. Римский плебс надо подкармливать. А грандиозное строительство и размах зрелищ для народа, снискавшие такую популярность Августу, опустошили не только императорскую, но и государственную казну. Необходимо ввести режим экономии и, одновременно, тщательный контроль за поступлением налогов и податей из провинций. Итак, без комментариев, обещанные факты.
С самого начала Тиберий отказался от дорогостоящих попыток снискать популярность у народа. За все время своего правления он построил один храм Августа и восстановил сгоревшую сцену в театре Помпея. Ни разу не устроил спортивных игр. На театральные представления и гладиаторские бои он сократил расходы, убавив жалованье актерам и сократив число гладиаторов... А чтобы и собственным примером побуждать народ к бережливости, он сам на званых обедах подавал к столу вчерашние и уже початые кушанья, например, половину кабана, уверяя, что на вкус половина кабана ничем не отличается от целого». (Светоний. Тиберий, 34) «...Более всего заботился он о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего. В Риме он устроил лагерь для преторианских когорт, которые до того не имели постоянных помещений и расписывались по постоям. Народные волнения он старался предупреждать до столкновения, а возникшие сурово усмирял... Хотя простой народ и страдал от высоких цен на зерно, но в этом не было вины принцепса, не жалевшего ни средств, ни усилий, чтобы преодолеть бесплодие почвы и бури на море. Заботился он и о том, чтобы во избежание волнений в провинциях их не обременяли новыми тяготами, и они безропотно несли старые, не будучи возмущаемы алчностью и жестокостью магистров. Телесных наказаний и конфискаций имущества не было». (Тацит. Анналы. Кн. 4, 6) «...он принимал наследство только в том случае, если считал, что заслужил его своею дружбой, и решительно от него отказывался, если оно было завещано человеком, ему неизвестным, питавшим вражду ко всем прочим...» (Там же, Кн. 2, 48) «...Нескольким сенаторам он помог в нужде, но, чтобы не помогать остальным, объявил, что окажет поддержку лишь тем, кто представит сенату уважительную причину своей бедности». (Светоний. Тиберий, 47)
В 17-м году сильнейшим землетрясением были разрушены двенадцать густонаселенных городов Азии, в их числе Сарды и Магнесия. Тиберий помог жителям этих мест деньгами и освободил на пять лет от уплаты всех податей в государственную и императорскую казну. В 19-м году из-за неурожая цены на хлеб поднялись особенно высоко. Тиберий установил твердую цену для продажи хлеба, объявив, что будет доплачивать разницу хлеботорговцам. В 27-м году в Риме случился большой пожар. Принцепс раздал пострадавшим деньги в соответствии с понесенным убытком. «В сенате ему принесли благодарность за это знатные граждане, и народ восхвалял его, ибо, невзирая на лица и безо всяких просьб со стороны приближенных, он помог своей щедростью даже неизвестным ему и разысканным по его повелению погорельцам». (Тацит. Анналы. Кн. 4, 64)
Неверно, будто бы, удалившись впоследствии на Капри, Тиберий вовсе забросил попечение о государстве и римском народе. В 34-м году случился в Риме еще один грандиозный пожар. И опять... «уплатив владельцам сгоревших усадеб и доходных домов их полную стоимость, Цезарь обратил это несчастье себе во славу. Эти щедроты обошлись в сто миллионов сестерциев и встретили в простом народе тем большее одобрение, что для себя принцепс строил очень умеренно...» (Там же. Кн. 6, 45)
В заключение этого небольшого экскурса в экономику стоит указать, что на день смерти Тиберия в казне находилось около 700 миллионов денариев (!) (по данным J-M. Engel L'Empire romain, Paris, 1986).
Года не прошло, как прах Германика успокоился в мавзолее Августа, а Тиберий уже предпринимает решительные шаги для закрепления власти в Риме за своими прямыми потомками. Сенат по указанию принцепса избирает Друза (совместно с Тиберием) консулом на 21-й год. Отец собирается уехать на год из Рима в Кампанию — якобы для лечения. Пусть сын осваивается в качестве единовластного правителя. Любви к нему Тиберий, быть может, не питает — да и способна ли его сумрачная, опустошенная душа на отеческую любовь? Но продолжение себя самого и всего рода Клавдиев он в сыне видит. А потому «благоволит» и надеется на него. Светоний, между прочим, роняет замечание: «К обоим сыновьям — и к родному Друзу, и к приемному Германику — он (Тиберий. — Л.О.) никогда не испытывал отеческой любви. Друз был противен ему своими пороками, так как жил легкомысленно и распутно». (Светоний. Тиберий, 52) Этому как будто противоречит следующее утверждение Тацита: «Тиберий благоволил к Друзу, так как тот был его кровным сыном. Холодность дяди усиливала любовь к Германику со стороны всех остальных... Впрочем, братья жили в примерном согласии и распри близких нисколько не отражались на их отношениях». (Тацит. Анналы. Кн. 2, 43)
На деле противоречия нет. Друз в юности действительно вел себя легкомысленно, водил компанию с актерами, в питье был неумерен, в гневе — необуздан. Сейчас ему тридцать три года, у него трое детей — он остепенился.
Пребывая в Риме в качестве консула, Друз не слишком утруждал себя заботами о государстве, впрочем, наказал нескольких особо рьяных клеветников. Однако в конце этого года произошло событие, на общем мрачном фоне не очень-то выдающееся, но как прецедент значительное. Некий всадник Клуторий Приск был обвинен доносчиком в том, что, будучи однажды награжден Тиберием за стихи, в которых оплакивалась смерть Германика, он во время недавней болезни Друза сочинил (вдруг да пригодятся!) поминальные стихи на его кончину. Сенат счел возможным применить закон об оскорблении величия. Приск был казнен. Тиберий, появившись в Риме, слегка попенял сенату за поспешную строгость, но одновременно похвалил тех, кто беспощадно карает даже за маловажное оскорбление принцепса. Тем самым была дана санкция на расширительное толкование закона.
В эту же пору происходит возвышение префекта претория Элия Сеяна. По его рекомендации Тиберий приказал выстроить постоянный лагерь для преторианских когорт у самой городской стены. Говоря современным языком, эти когорты превратились в мобильную ударную силу, всегда находящуюся под рукой у принцепса. Роль их командира, естественно, возросла. Тиберий явно благоволил к Сеяну. Отчасти и потому, что полагал полезным создать противовес влиянию Друза, если оно окажется чрезмерным. Сеян всячески старается завоевать расположение и личную преданность преторианцев. Он знает всех по именам, сам назначает центурионов и трибунов. Друза Сеян ненавидит за то, что однажды, вспылив во время спора, тот ударил его по лицу. Друз платит префекту такой же ненавистью. Глухая вражда зреет в обстановке лицемерия и угодничества сенаторов не только императору, но и обоим фаворитам.
Друз не скрывал своей ненависти к Сеяну и нередко жаловался, что при живом сыне Тиберий величает того помощником императора. «Многого ли не хватает, чтобы Сеян был назначен , соправителем?» Говоря так (эти слова приводит Тацит), Друз, надо полагать, не подозревал, насколько близко к истине было такое предположение. Вряд ли он догадывался о масштабе честолюбивых замыслов Сеяна. Этот провинциал, столь недавно выдвинувшийся, возмечтал стать римским императором. Ему только нужно было одного за другим убрать со своей дороги всех, кому престарелый Тиберий мог бы завещать власть в Риме: сначала Друза, потом трех сыновей Германика. Сеян планирует убийство наследника. Искусно разыграв увлечение женой Друза Ливиллой, он склоняет ее сначала к прелюбодеянию, а затем и к преступному умыслу против мужа. Их соучастником становится врач Ливии. Заговорщикам удается отравить Друза медленно действующим ядом так, что это не вызывает подозрений у окружающих (преступление откроется лишь восемь лет спустя).
Ожесточившись, Тиберий не захотел ничем выдать если не горе, то горечь от крушения своих надежд: «Во все время болезни сына, — свидетельствует Тацит, — Тиберий ежедневно является в курию, то ли нисколько за него не тревожась, то ли, чтобы выказать стойкость духа. Явился он туда и в день смерти Друза, когда тот еще не был погребен. Консулам, в знак печали севшим вместе с сенаторами (им полагалось сидеть на возвышении. — Л.О.), он напомнил об их достоинстве и предложил занять подобающее им место. Затем, не позволив себе ни единого проявления горя, он обратился к проливавшим слезы сенаторам с целой речью, чтобы поднять их дух: он понимает, что может вызвать упрек, представ, несмотря на столь свежее горе, перед глазами сената. Большинство людей, скорбя по умершим, едва выносит обращаемые к ним близкими слова утешения, едва может смотреть на дневной свет. Он не винит их по этой причине в малодушии, но для себя ищет облегчения более мужественного и намерен ради этого погрузиться в государственные дела. Далее он посетовал на преклонные лета Августы (вдовствующей императрицы. — Л.О.), на незрелый еще возраст внуков, на свои пожилые годы и велел привести сыновей Германика, единственную отраду в постигшем его несчастии. Вышедшие за ними консулы, ободрив юношей (Нерона и Друза Цезарей. — Л.О.) дружественными словами, ввели их в сенат и подвели к Цезарю. Взяв их за руки, он сказал: «Отцы-сенаторы, после того, как они лишились родителя, я поручил их попечению дяди и попросил его, чтобы, имея своих детей, он лелеял и этих не иначе, чем кровных отпрысков, возвысил и воспитал на радость себе и потомству; и теперь, когда смерть похитила Друза, я умоляю и заклинаю вас перед богами и родиной: примите под свое покровительство правнуков Августа, потомков славных предков, руководите ими, выполните свой и мой долг. Отныне они будут вам, Нерон и Друз, вместо родителей. Так предопределено вашим рождением: ваше благоденствие и ваши невзгоды неотделимы от благоденствия и невзгод Римского государства». (Там же. Кн. 4, 8)
Похороны Друза происходили с подобающей сыну императора пышностью, с длинной вереницей изображений предков, начиная от Энея, к которому восходит род Юлиев, царей Альбы Лонги и Ромула, и кончая всеми знаменитыми представителями рода Клавдиев. Тиберий с ростральной трибуны произносит похвальное слово умершему...
...Весь форум до самого храма Весты заполнен народом. Слева на ступенях курии теснятся сенаторы. Перед трибуной — всадники. Справа подле храма Сатурна выстроились когорты преторианцев. Колышется необъятное людское море. На лицах сенаторов и всадников скорбь. Там и здесь видны простертые к небу руки, раздаются стенания... Но глаза у всех сухие. Притворство?! Не горе, а лишь сожаление о ранней смерти Друза владеет толпой римлян. А рядом с сожалением — радость о том, что власть в Риме перейдет к сыновьям Германика. Эту радость едва скрывает и Агриппина. Она стоит среди родни, но Тиберий кожей чувствует ее торжество. Все они умеют считать: ему шестьдесят пять лет, старшему сыну Агриппины, Нерону Цезарю, уже семнадцать, а его родным внукам-близнецам еще только по четыре года... Боги опять посмеялись над ним. К чему была кровь Агриппы Постума и Германика? Вот расплата! Это все мать! Как она отвратительна в своем властолюбии!..
Гнев и обида тяжелой волной накатываются на сознание. Словно в густом тумане расплываются, теряют очертания лица, колонны базилик, контуры храмов... Тиберий говорит медленно, часто останавливаясь и пережидая, пока глашатай выкрикнет его слова. Мысли беспорядочно бродят — точно путники, заблудившиеся в липком тумане... Хорошо, что Випсания не дожила до этого дня... Вспоминается вся жизнь. Сплошная цепь тягот войны, обид и унижений в Риме... Скольким они ему обязаны! А теперь даже нет сочувствия к отцу, потерявшему сына... Потеря... Друз уже не встанет с этого ложа, никогда не примет из его рук бразды правления... Вчера в сенате он был искренен. Его волновало будущее государства. Порыв прошел. Теперь ему все безразлично: и судьба Рима, и власть... Нет! Не совсем. Из безразличия и обиды рождается ненависть. Он ненавидит этот город, этот тупой народ с его пристрастиями и жаждой зрелищ. Ненавидит своекорыстных, трусливых и лицемерных сенаторов, ненавидит Агриппину. Рано они возрадовались! Он еще принцепс и император!
Тиберий машинально поворачивает голову вправо — туда, где стоят преторианцы. Из тумана выступают красноватые, точно сочащиеся кровью, фигуры по углам храма Сатурна. Потом возникает лицо Сеяна. В его суровом выражении Тиберий читает ту же горечь, что испытывает сам. Верный Сеян! — думает он...
Теперь довериться он может только Сеяну. А тот плетет сеть своей интриги. Через Ливиллу он убеждает принцепса в существовании партии Агриппины, которая готовит против него заговор. Погубить сначала мать, а потом и ее детей, как соучастников злого умысла — таков план Сеяна.
В следующем, 24-м году состоится сенатский суд над еще одним из бывших соратников Германика, ныне изгнанником Титием Сереном. Доносчиком выступает его собственный сын. Он обвиняет отца в подготовке покушения на принцепса. Хотя обвинение и проваливается, сенат в своем усердии осуждает Серена на смертную казнь. Народ ропщет и грозит расправой доносчику. Тиберий вынужден помиловать осужденного. В сенате вносится предложение ограничить вознаграждение доносчиков... «Это предложение, — пишет Тацит, — было бы принято, если бы против него не выступил Цезарь, который решительно и вопреки обыкновению открыто стал на сторону обвинителей, говоря, что без них законы будут бессильны и государство окажется на краю пропасти. Пусть уж сенат скорее откажется от установленного правопорядка, чем устранит его опору. Так доносчиков — разряд людей, придуманный на общественную погибель и до того необузданный, что никогда не удавалось сдержать его в должных границах даже при помощи наказаний, поощряли обещанием наград». (Там же, 30)
В 25-м году состоялся еще один судебный процесс, который я хочу выделить из многих. Историк Кремуций Корд был обвинен по закону об оскорблении величия за то, что похвалил Брута и Кассия. Его обвинителями выступили два клиента Сеяна. Предвидя неминуемую гибель, Корд в присутствии грозно хмурившегося Тиберия произнес следующее: «Отцы сенаторы, мне ставят в вину только мои слова, до того очевидна моя невиновность в делах. Но и они не направлены против принцепса или матери принцепса, которых имеет в виду закон об оскорблении величия. Говорят, что я похвалил Брута и Кассия, но многие писали об их деяниях, и нет никого, кто бы, упоминая о них, не воздал им уважения... Или, погибнув семьдесят лет назад, они не сохраняют своей доли памяти в книгах историков, подобно тому, как их узнают по изображениям, которых не истребил одержавший над ними победу? Потомство воздает каждому по заслугам, и не будет недостатка в таких, которые, если на меня обрушится кара, помянут не только Кассия с Брутом, но и меня». (Там же, 35) «Выйдя затем из сената, — продолжает Тацит, — он отказался от пищи и так лишил себя жизни. Сенаторы обязали эдилов сжечь его сочинения, но они уцелели, так как списки были тайно сохранены и впоследствии обнародованы. Тем больше оснований посмеяться над недомыслием тех, которые, располагая властью в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у будущих поколений. Напротив, обаяние подвергшихся гонениям дарований лишь возрастает, и чужеземные цари или наши властители, применявшие столь же свирепые меры, не добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестия для себя и славы для них». (Там же) Это написано почти две тысячи лет назад. Говорят, что история ничему не учит правителей. А все ли правители знают историю? Но я привел этот пример не в поучение. Мне хочется, чтобы у читателя не сложилось впечатление, будто римская доблесть в эпоху жестоких императоров (которая началась с последних лет правления Тиберия) вовсе умерла. Высокие образцы этой доблести остались в истории тех мрачных лет не как победы полководцев и храбрость воинов, а как мужество тех, кто не пожелал покориться тирании. И таких случаев мы встретим еще много.
Между тем, Сеян, хотя дорога к высшей власти еще не расчищена, стремится породниться с семьей императора. Он пишет Тиберию, прося разрешения жениться на вдове Друза (своей любовнице). Тиберий отказывает, но намекает на перспективу еще более тесного родства — по-видимому, он имеет в виду женитьбу на Юлии, своей внучке, которая пока еще замужем за Нероном Цезарем.
В ожидании такой возможности Сеян уговаривает Тиберия покинуть Рим и поселиться где-нибудь в более приятном месте. Он рассчитывает на то, что будет держать в руках и доступ к императору, и всю его переписку. Его, Сеяна, влияние в Риме еще усилится, а потом престарелый принцепс и вовсе передаст ему распоряжение всеми делами.
Весной 26-го года Тиберий наконец отбыл из Рима в Кампанию под предлогом освящения некоторых храмов. В действительности же для того, чтобы больше никогда не возвращаться в ненавистный город. В его небольшой свите, кроме Сеяна, находилось всего несколько человек из высшей знати. Судьбе угодно было, чтобы Тиберий в эти дни получил бесспорное доказательство преданности своего клеврета. Трудно сказать, то ли Сеян сумел мгновенно оценить меру реальной опасности, то ли он действительно поставил свою жизнь на карту... Вот как описывает Тацит этот эпизод: «В поместье, которое называлось «Пещера»... Тиберий с приближенными пировали в естественном гроте. Вдруг у входа в него произошел обвал и камнями завалило несколько прислуживавших рабов. Всех объял безудержный страх, и участники пиршества разбежались. Сеян же, обратившись лицом к Цезарю и опираясь на колени и руки, прикрыл его собой от сыпавшихся камней и в таком положении был найден подоспевшими на помощь воинами. Это вознесло его еще выше, и сколь бы пагубные советы он ни давал, Тиберий, помня о проявленной им самоотверженности, выслушивал их с полным доверием». (Там же, 59)
А советы эти все более настраивали Тиберия против Агриппины и ее старшего сына. За Нероном, который вместе с женой присоединился к Тиберию в Кампании, Сеян установил слежку. Каждое его необдуманное высказывание (а Нерон был резок на словах, хотя не замышлял ничего дурного) доносилось императору. Даже о том, что он говорит во сне, Юлия сообщала своей матери Ливилле, а та — Сеяну. Между тем, Тиберий перебрался на остров Капри, где, очистив для себя двенадцать вилл, поселился окончательно. Никого из посторонних на остров не допускали. Сеян несколько месяцев в году находился там, а остальное время — в Риме. Его влияние все усиливалось. Сенаторы и всадники наперебой спешили выслужиться перед всемогущим фаворитом.
Показательно для этого усердия подлое дело, которое было состряпано в 28-м году для того, чтобы в угоду Сеяну погубить прославленного всадника Тития Сабина — единственного из клиентов Германика, кто не оставил Агриппину и детей своего бывшего покровителя, посещал их дом и сопровождал в общественных местах. Четверо сенаторов, бывших преторов, надеявшихся таким образом получить консульство, доступ к которому был открыт только через Сеяна, договорились устроить для Сабина западню. Один из них, по имени Лациар, восхваляя преданность Сабина и выражая сочувствие Агриппине, постепенно сумел втереться к нему в доверие. В их разговорах появляются и обоюдные жалобы на жестокость Сеяна, и упреки в адрес Тиберия. Построена «мышеловка». Ее описание я предоставлю Тациту: «И вот три сенатора прячутся между кровлей и потолком, в укрытии столь же позорном, сколь омерзительной была и подстроенная ими уловка, и каждый из них припадает ухом к отверстиям и щелям в досках. Между тем Лациар, встретив Сабина на улице, увлекает его к себе в дом и ведет во внутренние покои, как бы намереваясь сообщить ему свежие новости, и тут же нагромождает перед ним и давнишнее, и недавнее — а было этого вдосталь — и вызывающее опасения в будущем. Сабин делает то же, и еще пространнее, ибо чем горестнее рассказы, тем труднее, раз они уже прорвались, остановить их поток. После этого немедленно сочиняется обвинение, и в письме, отосланном Цезарю, доносчики сами подробно рассказали о том, как они подстроили этот подлый обман, и о своем позоре. Никогда, — продолжает Тацит, — Рим не бывал так подавлен тревогой и страхом: все затаились даже от близких, избегали встреч и боялись заговаривать» как с незнакомыми, так и знакомыми; даже на предметы неодушевленные и немые — на кровлю и стены — взирали они со страхом.
А Цезарь в послании, прочитанном в сенате в день январских календ, после обычных пожеланий по случаю нового года, обратился к делу Сабина, утверждая, что тот подкупил нескольких вольноотпущенников с целью учинить на него покушение, и недвусмысленно требуя предать его смерти. Тут же было вынесено соответствующее сенатское постановление, и, когда осужденного влекли на казнь, он кричал, насколько это было возможно — ибо его голова была прикрыта одеждой, а горло сдавлено, — что так освящается наступающий год, такие жертвы приносятся Сеяну. Куда бы он ни направлял взор, куда бы ни обращал слова, всюду бегут от него, всюду пусто: улицы и площади обезлюдели. Впрочем, некоторые возвращались и снова показывались на пути его следования, устрашившись и того, что они выказали испуг...
...Вслед за тем Цезарь в присланном им письме поблагодарил сенаторов за то, что они покарали государственного преступника, и добавил, что над ним нависла смертельная угроза из-за козней врагов, однако никого из них не назвал по имени. Тем не менее всем было ясно, что он имеет в виду Нерона и Агриппину». (Там же. 69, 70)
В конце года на Капри Тиберий выдал дочь Германика, Агриппину младшую, за Гнея Домиция Агенобарба, внука Марка Антония и Октавии (см. родословное древо). От этого брака в год смерти Тиберия должен родиться Нерон — будущий император.
В следующем году в возрасте восьмидесяти трех лет умерла Ливия Августа. Тиберий не пожелал прибыть в Рим, чтобы проститься с матерью. В письме сенату он сослался на занятость государственными делами и заодно, как бы из скромности, повелел урезать щедро определенные сенатом в память Августы почести.
Со смертью Ливии пала последняя слабая преграда самоуправству Тиберия и Сеяна (мать все же считалась соправительницей). Вскоре после похорон в сенат было доставлено письмо принцепса, полное резких упреков в адрес Агриппины старшей и Нерона Цезаря. Хотя Агриппине вменялись в вину лишь надменность и строптивость, а Нерону — развратное поведение, тон письма не оставлял сомнения в намерении Тиберия сослать обоих. Сенат некоторое время колебался. Курию окружил народ, явившийся с изображениями Агриппины и Нерона. В толпе кричали, что письмо Цезаря подложное. Однако Тиберий вскоре прекратил эти колебания, объявив в особом указе порицание народу и осуждение нерешительности сената. Он потребовал предоставить решение судьбы обвиняемых на его усмотрение. Сенат, разумеется, тут же с этим согласился. По распоряжению Тиберия Агриппина была сослана на остров Пандатерию, Нерон Цезарь — на остров Понтия (оба острова расположены в Тирренском море, далеко к западу от Неаполя). Для обоих ссылка была прелюдией к гибели. Согласно Светонию, Нерон покончил с собой в следующем же году, когда к нему, якобы по воле сената, явился палач. Агриппина уморила себя голодом двумя годами позже.
В том же 33-м году в подвалах Палатинского дворца, тоже от голода, но не добровольного, умер ее второй сын, Друз Цезарь.
Убийство Друза было совершено по распоряжению принцепса. Для его оправдания он приказал в сенате прочитать ежедневные записи всех поступков и слов узника — естественно, далеко не дружественных по отношению к императору. Из чего стало ясно, что Друз находился под неусыпным наблюдением. «Сенаторы, — пишет Тацит, — зашумели, делая вид, что охвачены негодованием, тогда как в действительности были потрясены страхом и изумлением, что некогда столь осторожный и так тщательно скрывавший свои преступления принцепс дошел до такой откровенности, что, как бы раздвинув стены, показал внука под плетью центуриона, осыпаемого пинками рабов и тщетно молящего хоть о какой-нибудь пище для поддержания жизни». (Там же. Кн. 6, 24)
Утрата 5-й книги Анналов лишает нас возможности составить подробное описание падения и казни Сеяна. Светоний утверждает, что префект претория замышлял осуществить насильственный переворот. По-видимому, устранив всех претендентов на власть, Сеян счел ненужным дальнейшее ожидание милостей от Тиберия. Принцепсу об этом донесли, очевидно, еще в 30-м году. Тиберий действовал предельно осторожно и хитро. Чтобы удалить Сеяна с Капри и таким образом ослабить контроль за своими связями с внешним миром, он провел избрание Сеяна вместе с собой консулом на 31-й год. Один из консулов обязан был постоянно находиться в Риме! Затем принцепсу удалось тайно связаться с преторианцами и пообещать им по тысяче денариев каждому, если они предадут Сеяна. Макрону, мерзавцу того же ранга, он поручил мобилизовать когорты городской стражи и произвести арест Сеяна после того, как о том будет решение сената. За это ему был обещан пост всемогущего префекта претория. Только после всего этого Тиберий прислал в сенат слезное письмо с жалобой на Сеяна, в котором умолял отцов-сенаторов защитить «одинокого старика» и, если ему надо присутствовать в сенате, прислать за ним вооруженную охрану По-видимому, соотношение сил в Риме быстро прояснилось. Преторианцы выдали своего шефа, Макрон его арестовал, а сенаторы немедленно приговорили к смерти.
Читатель может представить, какая последовала вакханалия казней не только тех, кто был причастен к заговору Сеяна, но хотя бы в свое время (на зависть другим!) сумел добиться его благосклонности. Тацит называет множество имен — вряд ли их стоит повторять. Первое время следствие по делу о заговоре вел сам Тиберий. К нему на Капри доставляли арестованных и там же казнили осужденных, сбрасывая их тела в море. Утомившись этим занятием и отвлеченный открытием тайны гибели сына, он отправляет Макрону распоряжение «...умертвить всех, кто содержался в темнице по обвинению в сообщничестве с Сеяном. Произошло страшное избиение, и на Гемониях (лестница, по которой влекли трупы в Тибр. — Л.О.) лежало несметное множество убитых обоего пола, всякого возраста, знатных и из простого народа, брошенных поодиночке или сваленных в груды. Ни близким, ни друзьям не дозволялось возле них останавливаться, оплакивать их, сколько-нибудь подолгу смотреть на них: сторожившие их со всех сторон воины внимательно наблюдали за всеми, так или иначе проявлявшими свою скорбь, неотступно следовали за разложившимися телами, пока их волочили к Тибру. Они уплывали вниз по течению, или их прибивало к берегу, и никто к ним не притрагивался и не предавал их сожжению». (Там же, 19)
Еще более отвратительной, чем эта картина бойни, представляется эпидемия всеобщего доносительства, охватившая, как это бывает в годы кризисов, чуть ли не все общество, но особенно правящую верхушку: «Наиболее пагубным из всех бедствий, какие принесли с собой те времена, — пишет Тацит, — было то, что даже виднейшие из сенаторов не гнушались заниматься сочинением подлых доносов, одни — явно, многие — тайно. И когда доходило до этого, не делалось никакого различия между посторонними и близкими, между друзьями и людьми незнакомыми, между тем, что случилось недавно, и тем, что стерлось в памяти за давностью лет. Все, что говорилось на форуме, в узком кругу на пиршестве, тотчас же подхватывалось и вменялось в вину, так как всякий спешил предвосхитить другого и обречь его на расправу: часть — чтобы спасти себя, большинство — как бы захваченные поветрием». (Там же, 7)
Впрочем, тем ярче на этом фоне поступки тех, кого всеобщая зараза не принудила отречься от чести и достоинства римлянина. Всадник Марк Теренций на суде не только не отрекся от былой дружбы с Сеяном (к заговору он не был причастен), но смело оправдывал ее благоволением самого Тиберия: «Не нам, — говорит он, — обсуждать, кого ты вознес над другими и по каким причинам ты это сделал: боги вручили тебе верховную власть, а наша слава — лишь в повиновении твоей воле... Козни против государства и умысел умертвить императора подлежат каре; но да будет нашим оправданием то, что дружбу с Сеяном и услуги ему мы прекратили, Цезарь, одновременно с тобой».
Мужество этой речи, — продолжает Тацит, — и сознание, что нашелся наконец человек, чтобы высказать то, что было у всех на уме, возымели такую силу, что его обвинителей, которым при этом припомнили их прежние низости, покарали изгнанием или смертью». (Там же, 8, 9)
В те же годы уморил себя голодом законовед Кокцей Нерва — неизменный приближенный и спутник принцепса, — хотя его положение нисколько не пошатнулось. Тиберий пытался его отговорить. «Уклонившись от объяснений, Нерва до конца упорно воздерживался от пищи. Знавшие его мысли передавали, что, чем ближе он приглядывался к бедствиям Римского государства, тем сильнее негодование и тревога толкали его к решению обрести для себя, пока он невредим и его не тронули, достойный конец». (Там же, 26).
Надо сказать, что многие в то страшное время торопились покончить жизнь самоубийством. И не только из-за страха самой казни, но и потому, что казненных запрещено было хоронить, а их имущество подлежало конфискации. Тогда как тела умертвивших себя дозволялось предавать погребению, а завещания их сохраняли свою силу
Преследования и казни нескольких последующих лет происходили с благословения Тиберия, но без его прямого участия. Дважды, в 33-м и 35-м годах, он намеревался приехать в столицу, но оба раза возвращался с дороги. Зловещим парадом в Риме командовал Макрон. Императора же преследовал новый открывшийся ему кошмар. Вдова Сеяна перед своим самоубийством написала письмо, в котором рассказала об отравлении Друза младшего. Ее свидетельство под пыткой подтвердили врач и рабы Ливиллы, которую затем ее мать, Антония младшая, в наказание уморила голодом. Одновременно выяснилось, что близнецы-внуки, которыми так гордился Тиберий, были прижиты Ливиллой от Сеяна. Сознание того, что он сам наделил властью и влиянием человека, прервавшего его род, жгло мозг Тиберия нестерпимо.
Разум его начал мутиться. Если верить Светонию, Тиберий сам предвидел возможность этого еще тогда, когда отказывался от титула отца отечества и присяги на верность своим делам: «Это можно заключить, — пишет Светоний, — и из его речи по поводу обоих предложений. Так, он говорит, что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего не изменит. Но все же, чтобы не подавать дурного примера, сенату лучше не связывать себя верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться». (Светоний. Тиберий, 67)
Осознав, что он как бы собственными руками погубил своего сына и наследника, престарелый император мог тронуться умом. Я имею в виду, в частности, и то, что Тацит называет любострастием, а Светоний — гнусным и постыдным пороком Тиберия. Впрочем, следует начать с того, что сами эти утверждения могут быть предметом определенного сомнения. Многолетнее затворничество всеми ненавидимого старика на недоступном острове давало пищу для самых необузданных фантазий и слухов. Насколько им можно верить? Вплоть до своего бегства на Капри Тиберий предстает перед нами скорее мрачным аскетом, чем ценителем плотских наслаждений. В четырех первых книгах Анналов Тацита, где подробно изложена почти вся биография Тиберия (полтораста страниц печатного текста в русском переводе), об амурных «подвигах» ни слова. В 6-й книге, где описаны 5 последних лет жизни престарелого императора (почти тридцать страниц!), интересующей нас проблеме посвящены лишь две фразы в 1-й главе — мимоходом, без конкретных фактов. Сообщив, что Тиберий в 33-м году почти доехал до Рима, Тацит заканчивает первую из двух фраз словами: «...он снова вернулся к скалам и уединенному острову на море, стыдясь своих злодеяний и любострастия, которым он проникся с такой необузданностью, что, подобно грязному восточному деспоту, осквернял грязным развратом свободнорожденных юношей.»
Светоний, напротив, расцвечивает свой рассказ о «гнездах потаенного разврата» на острове такими подробностями, какие вряд ли кому-нибудь из современников Тиберия могли быть известны и очень смахивают на народную фантазию. Например: «Спальни, расположенные тут и там, он украсил картинами и статуями самого непристойного свойства и разложил в них книги Элефантиды, чтобы всякий в своих трудах имел под рукой предписанный образец. Даже в лесах и рощах он повсюду устроил Венерины местечки, где в гротах между скал молодые люди обоего пола предо всеми изображали фавнов и нимф. За это его уже везде и открыто стали называть «козлищем»... (Светоний. Тиберий, 43)
Тем не менее, вполне возможно, что за всем этим стояло нечто реальное. Случаи извращенного интереса к сексуальной сфере в преклонном возрасте, как утверждают психиатры, не так уж редки. Однако с учетом особенностей биографии Тиберия можно высказать некоторые более «индивидуализированные» предположения.
Вопреки коварству судьбы, избравшей его самого орудием гибели собственного сына, в помутившемся сознании принцепса возникла решимость бросить ей вызов и в семьдесят четыре года родить нового ребенка. Он приказал свозить к нему на Капри самых привлекательных девушек в надежде, что их прелести смогут восстановить его угасшую мужскую силу. Потом для той же цели повелел с помощью денег и подарков или силой доставлять юношей, уповая на то, что желанный эффект вызовет наблюдение эротических сцен, для которых он сам придумывал все более изощренные позиции и приемы. Убедившись в бесплодности своих попыток, он, тем не менее, не оставил зловещей режиссуры. Адская смесь вожделения, стыда и смертельного страха лишала исполнителей его фантазий человеческого облика, и это ему доставляло подобие радости, ибо он возненавидел людей. Мне кажется, Тацит об этом догадывался, когда во второй фразе упомянутого выше абзаца написал, что «...возбуждали в нем похоть не только телесная красота, но в одних — целомудрие юности, в других — знатность рода.»
Ненависть стала почти единственным мотивом сумеречного существования принцепса. Она ему подсказала и дьявольское намерение приблизить к себе в эти годы младшего сына Германика, Гая Цезаря — будущего императора Калигулу. Он вызвал его из Рима на Капри и сделал двадцатилетнего юношу соучастником своих «забав» и преступлений. А также — и своим наследником по завещанию, которое составил за два года до смерти. Ученик не обманул ожиданий! Тиберий, надо полагать, испытывал злобную радость. Римский народ хотел иметь правителя из рода Германика. Он его получит... и будет плакать кровавыми слезами! Впрочем, первый плод такого воспитания достался самому Тиберию. Смертельный недуг уже владел им. В течение некоторого времени, не находя себе места, принцепс покинул остров и метался по виллам близлежащего побережья. На одной из них ему суждено было найти свой конец. Предусмотрительный Макрон, заранее заручившись сообщничеством Гая Цезаря, помог Тиберию оставить этот мир. Вот как описывает Тацит последние часы жизни второго римского императора:
«В семнадцатый день апрельских календ (16 марта 37-го года. — Л.О.) дыхание Цезаря пресеклось, и все решили, что жизнь его покинула. И уже перед большим стечением поздравляющих появился Гай Цезарь, чтобы взять в свои руки бразды правления, как вдруг сообщают, что Тиберий открыл глаза, к нему возвратился голос, и он просит принести ему пищи для восстановления оставивших его сил. Это повергает всех в ужас, и собравшиеся разбегаются, снова приняв скорбный вид и стараясь казаться неосведомленными о происшедшем, между тем как только что видевший себя властелином Гай Цезарь, погрузившись в молчание, ожидал для себя самого худшего. Но не утративший самообладания и решительности Макрон приказывает удушить старика, набросив на него ворох одежды, и удалиться за порог его спальни. Таков был конец Тиберия на семьдесят восьмом году жизни». (Тацит. Анналы. Кн.6, 50)
Светоний утверждает, что смерть его вызвала в народе ликование...
Интерлюдия вторая Овидий
Всего, что знал еще Евгений
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
(Пушкин. Евгений Онегин, 1, VIII)
Уважаемый читатель! Тебе, наверное, уже невмоготу следить за цепью кровавых злодеяний двух последних десятилетий правления императора Тиберия. Увы, я вынужден буду еще долго огорчать тебя. Но давай сделаем небольшой перерыв и рассмотрим предмет совсем иного толка.
Пушкин не случайно назвал римского поэта Публия Овидия Назона учителем страсти нежной. Овидий вошел в историю мировой литературы прежде всего как певец любви, хотя этой темой далеко не исчерпывается его поэтическое наследие. Такая слава воздает ему должное. Большая и, наверное, лучшая часть написанных им стихов посвящена любви, не платонической, парящей в небесах, а земной, чувственной и вместе с тем удивительно чистой и, я бы даже сказал, возвышенной. Тому были свои исторические причины. Поэт жил во времена Августа и Тиберия. Он был на двадцать лет моложе первого римского императора, а умер четырьмя годами позже него.
Когда в 27-м году до Р.Х. Октавиан, назвавшись Августом, окончательно закрепил свое положение владыки Рима, Овидию было шестнадцать лет. Вспомним, что одной из проблем, особенно тревоживших принцепса в первые годы его правления, была чрезвычайная свобода любовных связей, воцарившаяся в высших слоях римского общества, особенно среди молодежи. Сорокапятилетнему императору эта свобода представлялась настолько опасной, что в 18-м году по его настоянию был принят специальный закон, сурово карающий прелюбодеяния. Попытаемся, однако, понять и тех, кому в это время было только двадцать пять. Ратные подвиги и слава, манившие с малолетства юношей эпохи Республики, к концу гражданских войн утратили героический ореол. Войско давно уже стало корпорацией наемников-профессионалов, военное дело — ремеслом, а использование легионов во внутригосударственной борьбе за власть и сопутствующее этому мародерство лишили военное поприще последних следов привлекательности. По крайней мере, для молодежи из просвещенных слоев общества. Немногим лучше выглядели и различные виды гражданской деятельности, включая некогда столь популярную адвокатуру. Ведь речи на форуме и в суде теперь легко заглушались звоном мечей, а закон попирался волею полководцев.
Зато литература, особенно поэзия, нередко остро критическая, в форме эпиграмм и памфлетов, приобрела огромную популярность. Стихи пробовали писать едва ли не все образованные молодые люди. Авторитет старшего поколения, на которое, так или иначе, ложилась вина за грязь и кровь гражданских войн, был решительно подорван. Это сопровождалось бунтом аристократической молодежи против суровых семейных традиций и моральных запретов римской старины. Внебрачные любовные связи стали возможны и широко распространены. Кстати, такие связи нередко приобретали характер настоящих гражданских браков по любви, не менее долговечных, чем законные. Под влиянием поэтов романтического толка, а среди них первым был Овидий Назон, эти «греховные связи» приобретали возвышенный характер. Женщина в них выступала одновременно как объект восхищения, вожделения и поклонения.
Отец Овидия был римским всадником. Верный традициям рода, он усиленно, но без успеха, настаивал на политической карьере сына. Дойдя до ранга члена одной из судебных коллегий, Овидий оставил это поприще и целиком отдался поэзии и любви. Отец поспешил его женить один раз, потом второй — оба раза неудачно. Браки распадались, и Овидий оставался жить один в римском «полусвете». Очень рано проявился его выдающийся талант. В восемнадцать лет он уже был признанным поэтом. Его заметил и всячески поддерживал Мессала — ученый, оратор, один из первых людей в государстве.
Наиболее распространенным жанром любовной поэзии в то время были элегии — небольшие стихотворения, объединенные в циклы или книги. Нередко они посвящались возлюбленной поэта, скрытой под условным именем. У Овидия в этом качестве фигурирует Коринна. Был ли это собирательный образ или за именем скрывалось реальное лицо, осталось неизвестным. В 15-м году, в двадцать восемь лет, Овидий издает три книги «Любовных элегий», принесших ему громкую славу. Я намерен сейчас привести пять стихотворений из этих книг (в переводе С. Шервинского). Затем мы будем переходить от сборника к сборнику, довольствуясь (поневоле) минимумом иллюстраций. Некоторые из них будут представлены лишь фрагментами, разделенными многоточиями. Для ориентировки нумерация строк, (отвечающая полному тексту каждого стихотворения) будет указана слева. Итак, «Любовные элегии».
Книга 1-я, элегия 5-я
«Жарко было в тот день, а время уж близилось к полдню.
Поразморило меня, и на постель я прилег.
Ставня одна лишь закрыта была, другая — открыта
Так, что была полутень в комнате, словно в лесу. —
Мягкий, мерцающий свет, как в час перед самым закатом
5 Иль когда ночь отошла, но и не возник еще день.
Кстати такой полумрак для девушек скромного нрава,
В нем их опасливый стыд нужный находит приют.
Тут Коринна вошла в распоясанной легкой рубашке,
10 По белоснежным плечам пряди спадали волос.
В спальню входила такой, по преданию, Семирамида
Или Лайда, любовь знавшая многих мужей...
Легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала. —
Скромница из-за нее все же боролась со мной.
15 Только сражалась как те, кто своей не желает победы,
Вскоре, себе изменив, другу сдалась без труда.
И показалась она перед взором моим обнаженной...
Мне в безупречной красе тело явилось ее.
Что я за плечи ласкал! К каким рукам прикасался!
Как были груди полны — только б их страстно сжимать!
20 Как был гладок живот под ее совершенною грудью!
Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!
Стоит ли перечислять?.. Все было восторга достойно.
Тело нагое ее я к своему прижимал...
25 Прочее знает любой... Уснули усталые вместе...
О, проходили бы так чаще полудни мои!»
Книга 1-я, элегия 15-я
«Зависть! Зачем упрекаешь меня, что молодость трачу,
Что, сочиняя стихи, праздности я предаюсь?
Я, мол, не то что отцы, не хочу в свои лучшие годы
В войске служить, не ищу пыльных наград боевых...
Мне ли законов твердить многословье на неблагодарном
5 Форуме, стыд позабыв, речи свои продавать?
Эти невечны дела, а я себе славы желаю
Непреходящей, чтоб мир песни мои повторял.
...
Так меж тем как скала или зуб терпеливого плуга
Гибнут с течением лет, — смерти не знают стихи.
Пусть же уступят стихам и цари, и все их триумфы,
Пусть уступит им Таг[7] в золотоносных брегах!
35 Манит пусть низкое чернь! А мне Аполлон белокурый
Пусть наливает полней чашу кастальской струей,
Голову лишь бы венчать боящимся холода миртом,
Лишь бы почаще меня пылкий любовник читал!
Зависть жадна до живых. Умрем — и она присмиреет.
40 Каждый в меру заслуг будет по смерти почтен.
Так и сгорев на костре погребальном, навек я останусь
Жить — сохранна моя будет немалая часть».
Книга 2-я, элегия 10-я
«Члены изящны мои, однако нимало не слабы.
Пусть мой вес невелик, жилисто тело мое.
Крепость чреслам моим добавляет еще и желанье, —
В жизни своей никогда женщины я не подвел.
Часто в забавах любви всю ночь проводил, а наутро
Снова к труду был готов, телом все так же могуч.
Счастлив, кого сокрушат взаимные битвы Венеры!
30 Если б по воле богов мог я от них умереть!
Пусть бестрепетно грудь подставляет вражеским стрелам
Воин, — бессмертье себе он через смерть обретет.
Алчный пусть ищет богатств и пусть в кораблекрушенье
Влаги, изъезженной им, ртом своим лживым хлебнет!
35 Мне же да будет дано истощиться в волнениях страсти,
Пусть за любовным трудом смерть отпускную мне даст,
И со слезами пускай кто-нибудь на моем погребенье
Скажет: «Кончина твоя жизни достойна твоей!»
Книга 3-я, элегия 14-я
«Ты хороша, от тебя я не требую жизни невинной,
Жажду я в горе моем только не знать ничего.
К скромности я принуждать не хочу тебя строгим надзором;
Просьба моя об одном: скромной хотя бы кажись!
Та не порочна еще, кто свою отрицает порочность, —
5 Только признаньем вины женщин пятнается честь.
Что за безумие: днем раскрывать, что ночью таится,
Громко про все говорить, что совершалось в тиши?
Даже блудница и та, отдаваясь кому ни попало,
10 Двери замкнет на засов, чтобы никто не вошел.
Ты же зловредной молве разглашаешь свои похожденья, —
То есть проступки свои разоблачаешь сама!
Благоразумнее будь, подражай хотя бы стыдливым.
Честной не будешь, но я в честность поверю твою.
15 Пусть! Живи как жила, но свое отрицай поведенье,
Перед людьми не стыдись скромный вести разговор.
Там, где беспутства приют, наслажденьям вовсю предавайся,
Если попала туда, смело стыдливость гони.
Но лишь оттуда ушла — да исчезнет и след непотребства.
20 Пусть о пороках твоих знает одна лишь постель.
Там — ничего не стыдись, спускай, не стесняясь, сорочку,
И прижимайся бедром смело к мужскому бедру.
Там позволяй, чтоб язык проникал в твои алые губы,
Пусть там находит любовь тысячи сладких утех,
25 Пусть там речи любви и слова поощренья не молкнут,
Пусть там ложе дрожит от сладострастных забав.
Но лишь оделась, опять принимай добродетельный облик.
Внешней стыдливостью пусть опровергается срам...
Лги же и людям и мне; дозволь мне не знать, заблуждаться,
30 Дай мне доверчивым быть, дай наслаждаться глупцу...
О, для чего ты при мне получаешь и пишешь записки?
В спальне твоей почему смята и взрыта постель?
Что ты выходишь ко мне растрепанной, но не спросонья?
Метку от зуба зачем вижу на шее твоей?
35 Недостает изменять у меня на глазах откровенно...
Чести своей на щадишь — так пощади хоть мою.
Ты признаешься во всем — и лишаюсь я чувств, умираю,
Каждый раз у меня холод по жилам течет...
Да, я люблю, не могу не любить и меж тем ненавижу;
40 Да, иногда я хочу — смерти... но вместе с тобой!
Сыска не буду чинить, не буду настаивать, если
Скрытничать станешь со мной, — будто и нет ничего...
Даже, коль я захвачу случайно минуту измены,
Если воочию сам свой я увижу позор,
45 Буду потом отрицать, что сам воочию видел,
Разувереньям твоим в споре уступят глаза.
Трудно ль того победить, кто жаждет быть побежденным!
Только сказать не забудь: «Я невиновна» — и все.
Будет довольно тебе трех слов, чтоб выиграть дело:
Не оправдает закон, но оправдает судья».
Любовь в мироощущении Овидия занимает столь важное место, что еще до окончания хвалебного гимна ей в «Элегиях», чем обычно ограничиваются лирические поэты, он задумывает написать, я бы сказал, научную по тому времени историю любви. Это цикл из пятнадцати воображаемых посланий героинь античной мифологии к покинувшим их возлюбленным. Здесь, конечно же, фигурируют воспетые Вергилием Дидона и Эней. Затем хорошо известные по греческим мифам: Пенелопа и Одиссей, Федра и Ипполит, Ариадна и Тесей, Медея и Ясон и еще десять пар, менее знакомых современному читателю, но бывших на слуху у любого мало-мальски образованного римлянина той поры. Цикл был назван «Героиды» и увидел свет где-то в конце века. Процитирую два коротких фрагмента из послания Федры Ипполиту (в переводе С. Ошерова). Драма этой отвергнутой любви известна по трагедиям Еврипида и Расина, до сих пор занимающим почетное место в театральном репертуаре.
...
«Брачные узы я рву не по склонности к низким порокам;
Ведь безупречна моя слава, спроси хоть кого.
Тем тяжелее любовь, чем позже приходит, — и сердце,
Сердце горит, и в груди тайная рана болит.
20 Больно быкам молодым, в ярмо запряженным впервые,
Из табуна приведен, конь не выносит узды;
Так и любовная боль невтерпеж непривычному сердцу,
И невподъем для души этот невиданный груз.
25 Ловок в пороке лишь тот, кто пороку научится юным.
Горше любить, коль придет в поздние годы любовь.
Скажут: мачеха лечь в объятья пасынка хочет;
130 Пусть не смущают тебе душу пустые слова!
Благочестивый страх был хорош в Сатурновы веки,
Нынче он устарел, скоро умрет он совсем.
Благочестивым лишь то, что приятно нам, сделал Юпитер,
И при супруге-сестре[8] стало дозволено все.
...
Во 2-м году от Р.Х. появляется знаменитая «Наука любви» Овидия. В трех книгах собраны изложенные возвышенным, но слегка ироничным поэтическим языком практические советы, уловки, маленькие хитрости для влюбленных, домогающихся обладания предметом своей любви. Первые две книги предназначены для мужчин, третья — для женщин. Овидию уже сорок пять лет. Он давно не повеса. Примерно в это время он женится на вдове из хорошего рода, счастлив, любит дочь, держит радушно открытый дом в Риме. У него множество друзей, он, бесспорно, первый поэт Вечного Города. Но страстное любовное чувство по-прежнему является для него объектом почти религиозного поклонения. Естественно, что он берет на себя роль заботливого наставника молодых людей, только вступающих на стезю любви. Каждая из трех книг не сборник стихотворений, а один обширный трактат. Вот некоторые отрывки (в переводе М. Гаспарова):
Из книги 2-й (для мужчин)
«Но ни коричневый вепрь, застигнутый в яростном гневе,
Молниеносным клыком рвущий ретивых собак,
375 Ни над сосущими львятами мать их, безгривая львица,
Ни под неловкой пятой змейка, таящая яд, —
Так не бывают страшны, как страшна, услыхав об измене,
Женщина в гневе своем: сердцем и взглядом горя.
...
Но не подумай, что мой приговор: «Будь верен единой», —
Боже тебя сохрани! Это и в браке невмочь.
Нет; но резвяся, умей таить свои развлеченья.
390 Ежели грех за душой, — право, молва ни к чему.
И не дари подарков таких, чтобы стали приметой,
И постоянного дня не отводи для измен,
И, чтоб тебя не сумели застичь в знакомом приюте.
Разным подругам для встреч разное место назначь.
395 А сочиняя письмо, перечитывай каждую строчку:
Женщины видят в словах больше, чем сказано в них.
...
Сколько, однако, греха не скрывай, всего ты не скроешь;
Но и попавшись врасплох, все отрицай до конца.
410 Будь не более ласков и льстив, чем бываешь обычно:
Слишком униженный вид — тоже признак вины.
Но не жалей своих сил в постели — вот путь к примиренью!
Что у Венеры украл, то вороти ей сполна.
...
435 Женщины есть и такие, кому наша преданность в тягость:
В них угасает любовь, если соперницы нет.
Изнемогает порою душа, пресытившись счастьем,
Ибо не так-то легко меру в довольстве хранить.
Словно огонь, в горенье свои растративший силы,
Изнемогая, лежит, скрывшись под пеплом седым.
440 Но поднеси ему серы — и новым он пламенем вспыхнет,
И засияет опять ярко, как прежде сиял.
Так и душа замирает порой в нетревожимой лени:
Острым кресалом ударь, чтоб разгорелась любовь!
445 Пусть изведает страх, пусть теплая станет горячей.
Пусть побледнеет в лице, мнимой измены страшась!
...
Мне бы такую любовь, чтоб, ревнуя, меня не жалела,
Чтобы ногтями рвалась и к волосам, и к щекам,
Чтобы взглянула — и в плач, чтобы яростным взором сверкала,
Чтоб ни со мной не могла, ни без меня не могла!
455 Спросишь, а долго ли ей о тебе стенать и метаться?
Нет: подолгу томясь, слишком накопится гнев.
Ты ее пожалей, обвей ее белую шею.
Пусть она, плача, к твоей жаркой приникнет груди;
Слезы уйми поцелуем, уйми Венериной лаской —
460 Так, и только так, миром закончится брань.
Вволю побуйствовать дай, дай ненависть вылить воочью
И укроти ее пыл миром на ложе утех.
Там — согласия храм, там распря слагает оружье,
Там для блага людей в мир рождена доброта.
...
Я ненавижу, когда один лишь доволен в постели.
(Вот почему для меня мальчик-любовник не мил)
685 Я ненавижу, когда отдается мне женщина с виду,
А на уме у нее недопряденная шерсть;
Сласть не в сласть для меня, из чувства даримая долга, —
Ни от какой из девиц долга не надобно мне!
Любо мне слышать слова, звучащие радостью ласки,
690 Слышать, как стонет она: «Ах подожди, подожди!»
Любо смотреть в отдающийся взор, ловить как подруга,
Изнемогая, томясь, шепчет: «Не трогай меня!»
Этого им не дает природа в цветущие годы,
К этому нужно прийти, семь пятилетий прожив.
695 Пусть к молодому вину поспешает юнец торопливый —
Мне драгоценнее то, что из старинных амфор.
...
Но наконец-то вдвоем на желанном любовники ложе:
Муза, остановись перед порогом любви!
705 И без тебя у них потекут торопливые речи,
И для ласкающих рук дело найдется легко,
Легкие пальцы отыщут пути к потаенному месту,
Где сокровенный Амур точит стрелу за стрелой.
Но не спеши! Торопить не годится Венерину сладость:
Жди, чтоб она, не спеша, вышла на вкрадчивый зов.
Есть такие места, где приятны касания женам;
720 Ты, ощутив их, ласкай: стыд — не помеха в любви.
Сам поглядишь, как глаза осветятся трепетным блеском,
Словно в прозрачной воде зыблется солнечный свет.
Нежный послышится стон, сладострастный послышится ропот,
Милые жалобы жен, лепет любезных забав!
725 Но не спеши распускать паруса, чтоб отстала подруга,
И не отстань от нее сам, поспешая за ней:
Вместе коснитесь черты! Нет выше того наслажденья,
Что простирает без сил двух на едином одре!
Вот тебе путь, по которому плыть, если час безопасен,
730 Если тревожащий страх не побуждает: «Кончай!»
А пред угрозой такой — наляг, чтобы выгнулись весла,
И, отпустив удила, шпорой коня торопи.
Из книги 3-й (для женщин)
«Божий дар — красота; и если прикинуть без лести,
То ведь придется признать: дар этот есть не у всех.
105 Нужен уход красоте, без него красота погибает,
Даже если лицом схожа с Венерой самой.
Если красавицы давних времен за собой не следили,
Были причиной тому грубые вкусы мужей.
Ежели толстый хитон случалось надеть Андромахе,
110 Что из того? У нее муж был суровый боец.
Разве могла бы жена, разубравшись, предстать пред Аяксом,
Перед Аяксом, чей щит семь покрывали быков?
Век простоты миновал. В золотом обитаем мы Риме,
Сжавшем в мощной руке все изобилье земли.
115 На Капитолий взгляни; подумай чем был он, чем стал он:
Право, как будто над ним новый Юпитер царит!
Курия стала впервые достойной такого сената, —
А когда Татий царил, хижиной утлой была.
Фебу и нашим вождям засверкали дворцы Палатина
120 Там, где прежде поля пахотных ждали волов,
Пусть другие поют старину, я счастлив родиться
Ныне, и мне по душе время, в котором живу!
Не потому, что земля щедрей на ленивое злато,
Не потому, что моря пурпуром пышным дарят,
125 Не потому, что мраморы гор поддаются железу,
Не потому, что из волн крепкий возвысился мол, —
А потому, что народ обходительным стал и негрубым.
И потому, что ему ведом уход за собой.
Так не вдевайте же в уши себе драгоценные камни,
130 Те, что в зеленой воде черный находит индус;
Не расшивайте одежд золотыми тяжелыми швами —
Роскошь такая мужчин не привлечет, а спугнет.
Нет, в красоте милей простота. Следи за прической —
Здесь ведь решает одно прикосновенье руки!
135 И не забудь, что не все и не всех одинаково красит:
Выбери то, что к лицу, в зеркало глядя, проверь».
И далее еще почти на семьсот стихов практических советов, к которым я отсылаю заинтересованных читательниц, а сам ограничусь лишь четырьмя заключительными строчками, которые завершают и всю трилогию:
«Кончено время забав — пора сойти с колесницы,
810 На лебединых крылах долгий проделавшей путь.
Пусть же юноши вслед напишут и нежные жены
На приношеньях любви: «Был наставник Назон!»
На беду это «наставление» увидело свет в крайне неудачный момент. В том же 2-м году от Р.Х. император Август, желая продемонстрировать свою верность им же самим продиктованному закону о прелюбодеяниях, отправил в ссылку собственную дочь, Юлию старшую. Овидий оказался в затруднительном положении. Во все времена диктаторы требовали от подданных выражения лояльности и раскаяния в тех случаях, когда их поступки или высказывания противоречили высшей воле. Каяться поэт не стал, но чтобы как-то поправить дело, написал еще один поэтический трактат, названный «Лекарство от любви». В его начале Овидий объявляет:
«Слушайте, люди, меня, укротите опасные страсти,
И по прямому пути вашу пущу я ладью.
70 Был вашей книгой Назон, когда вы любить обучались, —
Ныне опять и опять будь вашей книгой Назон.
Я прихожу возвестить угнетенному сердцу свободу —
Вольноотпущенник, встань, волю приветствуй свою».
Далее следуют советы. Сначала общего характера: забыть празднолюбивую лень, которая есть «почва и корм для вожделенного зла», заняться делами и прочее. Затем на пятьсот строк идет целый набор жестоких рекомендаций мужчине, каким образом обратить свое увлечение и желание в отвращение к женщине, которая была их причиной. Некоторые из этих советов настолько натуралистичны, что я не рискую их здесь повторить (нуждающиеся да обратятся к первоисточнику!) Но кое-что более скромное покажу (в переводе М. Гаспарова):
Например:
«Очень бывает полезно застичь владычицу сердца
В ранний утренний час, до наведенья красы.
Что нас пленяет? Убор и наряд, позолота, каменья;
Женщина в зрелище их — самая малая часть.
345 Впору бывает спросить, а что ты, собственно, любишь?
Так нам отводит глаза видом богатства Амур.
Вот и приди, не сказавшись: застанешь ее безоружной,
Все некрасивое в ней разом всплывет напоказ.
Впрочем, этот совет надлежит применять с осмотреньем:
350 Часто краса без прикрас даже бывает милей.
Не пропусти и часов, когда она вся в притираньях:
Смело пред ней появись, стыд и стесненье забыв.
Сколько кувшинчиков тут, и горшочков, и пестрых вещичек,
Сколько тут жира с лица каплет на теплую грудь!
355 Запахом это добро подобно Финеевой[9] снеди:
Мне от такого подчас трудно сдержать тошноту.
Дальше я должен сказать, как в лучшую пору Венеры
Может быть обращен в бегство опасный Амур.
Многое стыд не велит говорить; но ты, мой читатель,
Тонким уловишь умом больше, чем скажут слова.
360...
Стыдно сказать, но скажу: выбирай такие объятья,
Чтобы сильнее всего женский коверкали вид.
Это нетрудная вещь — редко женщины истину видят,
А в самомненьи своем думают: все им к лицу.
410 Далее ставни раскрой навстречу свободному свету,
Ибо срамное в телах вдвое срамней на свету.
А уж потом, когда за чертой сладострастных исканий
В изнеможении тел, в пресыщении душ,
415 Кажется, будто вовек уж не сможешь ты женщины тронуть
И что к тебе самому не прикоснется никто. —
Зоркий взгляд обрати на все, что претит в ее теле,
И заприметив, уже не выпускай из ума».
(Всего — на восемьсот с лишним строк).
После такого вынужденного отступления Овидий вовсе оставляет любовную тему. Он обращается к преданьям римской старины и к связанной с ними религиозной традиции, которая была чрезвычайно богата праздниками. В году их насчитывалось не менее пятидесяти четырех. Они были посвящены не только богам, но и выдающимся событиям прошлого, и освящению особо почитаемых храмов, и началу определенных сельскохозяйственных работ, и многому другому. Овидий задумал написать в стихотворной форме «Фасты» — календарь всех римских праздников, где каждому была бы посвящена отдельная элегия. Фасты должны были состоять из двенадцати книг — по числу месяцев в году. Успел он написать только шесть. Вот, для примера, из 2-й книги (в переводе Ф. Петровского) элегия, посвященная Квириналиям — дню (17 февраля) смерти и чудесного вознесения Ромула на небо, где он стал новым богом под именем Квирин (отсюда римляне — квириты). Поэт, будто очевидец, дает живое, яркое описание легендарного события. (Точность пересказа легенды можно сопоставить с ее изложением по Титу Ливию в 1 главе 1-го тома):
«Место есть, что в старину называлось Козье Болото.
Как-то случилось, что там, Ромул, судил ты народ.
Спряталось солнце, и все облаками закрылося небо,
И полился проливной ливень тяжелый из туч.
495 Гром гремит, все бегут, небо, треснув, сверкает огнями;
И на отцовских конях взносится царь в небеса.
Скорбь наступила, отцов обвиняют облыжно в убийстве;
Так и решили бы все, кабы не случай один.
Прокул Юлий однажды из города шел Альбы Лонги.
500 Ярко светила луна, факел тут был ни к чему.
Вдруг неожиданно вся задрожала слева ограда;
Он отшатнулся и встал, волосы дыбом взвились.
Чудный, превыше людей, облаченный царской трабеей,
Ромул явился ему, став посредине пути,
505 И произнес: «Запрети предаваться скорби квиритам,
Да не сквернят моего плачем они божества.
Пусть благовонья несут, чтя нового бога Квирина,
Помня всегда о своем деле — веденьи войны».
Так повелел и от глаз сокрылся он в воздухе легком.
510 Прокул сзывает народ и объявляет приказ.
Богу возводится храм, его именем холм называют
И учреждаются тут праздника отчего дни».
(Каковы поэтические образы! Например, «факел тут был ни к чему»!)
А вот забавный эпизод из 5-ой книги «Фастов». Речь здесь идет о продувных бестиях — мелких торговцах, по большей части из вольноотпущенников:
«Возле Капенских ворот струятся Меркурия воды,
Силе божественной их, если угодно, поверь.
675 К ним приходят купцы, подоткнувши рубахи, и урной,
Чинно ее окурив, черпают воду себе.
Ветку лавровую здесь омочив, окропляют товары
Все, что должно перейти после продажи к другим;
Волосы также свои кропят они с этой же сетки,
680 Так возвышая в мольбе голос, привыкший к лганью:
«Смой вероломство мое былое и прежнее, смой ты
Лживые речи мои, что говорил я вчера!
Если я ложно божился тобой или всуе, надеясь,
Что не услышат меня, если Юпитера звал,
685 Или других богов иль богинь обманывал ловко, —
Быстрые ветры пускай ложь всю развеют мою!
Но широко да отворится дверь моим плутням сегодня
И не заботятся пусть боги о клятвах моих.
Ты только прибыль мне дай, меня порадуй прибытком
690 И покупателя дай мне хорошенько надуть!»
Громко смеется Меркурий, с небес услыхав эти просьбы,
Вспомнив, как сам он украл у Аполлона коров».
Примерно одновременно с Фастами Овидий начал работу над своей знаменитой поэмой «Метаморфозы» в пятнадцати книгах. Ее он успел в основном закончить. Содержание поэмы — пересказ в форме связного повествования более двухсот греческих мифов, в каждом из которых кто-либо из людей или небожителей превращается в растение (вспомним, к примеру, миф о Нарциссе), животное, реку или звезду. Вряд ли имеет смысл здесь цитировать эти пересказы. Тем более что поэма недавно переиздавалась на русском языке (в переводе С. Шервинского) большим тиражом.
В 8-м году от Р.Х., как мы помним, Август за развратное поведение сослал свою внучку, Юлию младшую. В том же году, как гром с ясного неба, такая же кара обрушилась на Овидия. Он сослан на берег далекого Понта (Черного моря) в маленький основанный греками городок Томы, расположенный примерно, там, где сейчас находится румынский город Констанца. Для римлянина это был край земли. Что явилось причиной столь сурового наказания? То ли старая вина, которую Август усматривал в сочинении «Науки любви», всплыла вновь в связи с изгнанием Юлии младшей? То ли Овидий совершил какой-то проступок или был нежелательным свидетелем проступка той же Юлии и не сообщил о нем? Ответа нет. В послании Августу из ссылки Овидий не раз намекает на свою невольную вину, «причинившую боль» Августу. Но что это было? Читатель может попытаться догадаться сам, внимательно прочитав отобранные мной несколько фрагментов.
Поэт очень тяжело переживал изгнание. Свое отчаяние он изливает в пяти книгах «Скорбных элегий» и четырех сборниках «Писем с Понта» (переводы С. Шервинского, Н. Вольпин, С. Ошерова и А. Парина). Первая книга элегий почти целиком написана во время долгого зимнего путешествия к месту назначения. Вот зарисовка в пути:
Книга 1-я, элегия 11-я
«Все до последней строки, что прочтешь ты в книжечке этой,
Было написано мной в трудных тревогах пути.
Видела Адрия[10] нас, когда средь открытого моря
Я в ледяном декабре дрог до костей и писал.
5 После, когда, покинув Коринф, двух морей средостенье,
Переменил я корабль, дальше в изгнанье спеша,
Верно, дивились на нас в Эгейских водах Киклады[11]:
«Кто там под свист и вой в бурю слагает стихи?»
Странно теперь и мне самому, как при этом смятенье
10 Духа и гневных вод гений мой все ж устоял!
Оцепененье ли чувств иль безумие этому имя,
Легче в привычных трудах делалось мне на душе.
...
Дней коротких лучи уловляя, игрушка пучины,
Я пишу, а волна хлещет мне прямо на лист.
40 Развоевалась зима и, напрасно грозя, негодует,
Что не страшится поэт, пишет и пишет стихи».
Возможно, климат на побережье Черного моря за два тысячелетия сильно изменился, или мысль о ссылке гиперболизировала мрачное впечатление, но в письме к жене («Письма с Понта», Кн. 1) Томы выглядят крайне неприютно:
«Здесь не бывает весны, венком цветочным увитой,
Здесь не увидишь в полях голые плечи жнецов,
Осень в этих местах не приносит кистей винограда, —
Холод безмерный всегда держится в этой земле.
15 Море оковано льдом, и в глубинах живущая рыба
Часто ходит в воде словно под крышей глухой.
Даже источники здесь дают соленую влагу, —
Сколько ни пей, от нее жажда сильнее томит.
Чахлых деревьев стволы возвышаются в поле открытом
20 Редко, и видом своим морю подобна земля.
Птиц голоса не слышны. Залетев из дальнего леса,
Разве, что в море одна пробует горло смочить.
Только печально полынь в степи топорщится голой, —
Горькая жатва ее этому месту под стать».
Книга 2-я Скорбных элегий целиком представляет собой упомянутое мной послание Августу, по существу дела — мольбу о помиловании. Вот обещанные фрагменты:
«О злополучный, не стань я жертвой недавних событий, —
Мне правосудье твое не угрожало ничем.
Случай меня погубил, и под первым натиском бури
В бездне морской потонул течи не знавший корабль.
100 Нет, не одною волной меня опрокинуло, — воды
Хлынули все на меня, ринулся весь океан.
О, для чего провинились глаза, увидевши нечто?
Как на себя я навлек, неосторожный, вину?
105 Раз невзначай увидал Актеон нагую Диану:
Дичью для собственных псов стал из-за этого он.
Значит, невольной вины не прощают всевышние людям,
Милости нет, коли бог даже случайно задет.
Ибо в горестный день, когда совершил я ошибку,
Рухнул пусть небольшой, но незапятнанный дом.
110...
Две погубили меня причины: стихи и оплошность,
Мне невозможно назвать эту вторую вину.
Я не таков, чтобы вновь бередить твои раны, о Цезарь!
Слишком довольно, что раз боль я тебе причинил.
210 Но остается упрек, что я непристойной поэмой
Как бы учителем стал прелюбодейной любви.
Значит, способен порой божественный ум обмануться
И со своей высоты малое не разглядеть.
...
На попеченье твоем и Рим, и законы, и нравы,
Коими жаждешь всех ты уподобить себе.
235 Отдых тебе не знаком, который даруешь народам,
Ибо ради него частые войны ведешь.
Буду ли я удивлен, что среди подобных занятий
Времени нет у тебя шалости наши читать?
Ах, когда бы ты мог на час оказаться свободным,
Знаю, в «Науке» моей ты не нашел бы вреда.
240 Книга моя, признаюсь, не отмечена строгостью важной
И недостойна тобой, принцепс, прочитанной быть.
Все же не стоит считать, что она, противно законам,
Римских женщин могла б низким вещам обучать.
Чтобы тебя убедить, кому предназначена книга,
245 В первой книге прочти эти четыре стиха:
«Прочь, от этих стихов, целомудренно-узкие ленты,
Прочь, расшитый подол, спущенный ниже колен!
О безопасной любви я пишу, о дозволенном блуде,
Нет за мною вины и преступления нет».
Еще два небольших фрагмента из «Скорбных элегий»:
Книга 5-я, элегия 12-я
«Здесь, где не водится книг, где никто меня слушать не станет,
Где не понять никому даже значения слов.
55 Всюду чуждая речь, звериные, дикие звуки,
Возгласы ужаса здесь слышны на каждом шагу.
Кажется, сам я уже вконец разучился латыни:
Знаю сарматский язык, с гетом[12] могу говорить.
Но не могу утаить: воздержанью суровому в ссылке
60 Не научилась еще тихая Муза моя.
Часто пишу я стихи, но их прочитавши, сжигаю.
Стынет кучкой золы плод упражнений моих.
Больше стихов не хочу, но пишу против собственной воли
65 И потому предаю все сочиненье огню.
Крошечной доле стихов, которые хитрость иль случай
Уберегли от огня, к вам удается дойти.
О, если б был поумней беззаботный учитель и прежде
Я догадался бы сжечь строчки «Науки» своей!»
Книга 3-я, элегия 3-я (написано жене во время болезни — чужою рукой)
«Если, однако, мой рок мне сужденные сроки исполнил
30 И подошел уже час ранней кончины моей, —
Ах, что стоило б вам над гибнущим сжалиться, боги,
Чтобы хотя б погребен был я в родимой земле.
...
Если б с телом у нас погибали также и души,
Если бы я весь, целиком, в пламени жадном исчез!
60 Но коль в пространство летит возвышенный, смерти не зная,
Дух наш и верно о том старец самосский учил,
Между сарматских теней появится римская, будет
Вечно скитаться средь них, варварским манам чужда.
65 Сделай, чтоб кости мои переправили в урне смиренной
В Рим, чтоб изгнанником мне и после смерти не быть.
Не запретят тебе: в Фивах сестра, потерявшая брата[13],
Похоронила его, царский нарушив запрет.
Пепел мой перемешай с листвой и толченым амомом
70 И за стеной городской тихо землею засыпь
Пусть на мрамор плиты взглянув мимолетно, прохожий
Крупные буквы прочтет кратких надгробных стихов:
«Я под сим камнем лежу, любовных утех воспеватель,
Публий Назон, поэт, сгубленный даром своим.
75 Ты, что мимо идешь, ты тоже любил, потрудись же,
Молви: Назона костям пухом да будет земля».
К надписи слов добавлять не надо: памятник создан, —
Книги надежней гробниц увековечат певца.
Мне повредили они, но верю: они и прославят
80 Имя его и дадут вечную жизнь их творцу.
Ты же дарами почти погребальными маны супруга,
Мне на могилу цветов, мокрых от слез, принеси, —
И, хоть огонь превратил мое тело бренное в пепел,
Благочестивый обряд скорбная примет вдова.
85 О, написать я хотел бы еще, но голос усталый
И пересохший язык мне не дают диктовать.
Кончил. Желаю тебе — не навеки ль прощаясь, — здоровья,
Коего сам я лишен. Будь же здорова, прости!»
Август умер, но ждать снисхождения от мрачного Тиберия не приходилось. Овидий надеялся на благородство Германика, который направлялся в восточные провинции. Но не дождался и умер в 18-м году после Р.Х. Не суждено было исполниться и последнему желанию поэта — чтобы его прах был захоронен у стен Рима. Овидия похоронили в Томах...
В Молдавии, в глуши степей
Вдали Италии своей.
Глава III Калигула и Клавдий
Калигула
Даже у тех читателей, кому после школы не случилось интересоваться Римской историей, наверное, задержалось в памяти имя императора Калигулы. Вспоминается его чудовищная жестокость и какая-то нелепая история с любимым конем, которого он то ли произвел в сенаторы, то ли назначил римским консулом. Светоний приводит длинный перечень преступлений и зверств Калигулы. Знакомство с ним вызывает чувство глубокого отвращения. Я не собираюсь воспроизводить этот перечень. Да и не так уж он интересен — мало ли примеров садизма правителей сохранила история? Интересно понять, каким образом такой выродок оказался во главе римского государства. Но об этом — позже. А пока, чтобы осуждение наше не было голословным, придется все же процитировать кое-что из Светония. Комментарии, я полагаю, будут излишни.
«Своего брата Тиберия (троюродного брата — внука императора Тиберия. См. родословное древо. — Л.О.) он неожиданно казнил, прислав к нему внезапно войскового трибуна, а тестя Силана заставил покончить с собой, перерезав бритвою горло. Обвинял он их в том, что один в непогоду не отплыл с ним в бурное море, словно надеясь, что в случае несчастья с зятем он сам завладеет Римом, а от другого пахло лекарством, как будто он опасался, что брат его отравит». (Светоний. Гай Калигула, 23)
«Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех...» (Там же, 27)
«...некоторых (сенаторов. — Л.О.), занимавших самые высокие должности, облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у его ложа в изголовье или в ногах, подпоясавшись полотном (на манер рабов. — Л.О.). Других он тайно казнил, но продолжал приглашать их, словно они были живы, и лишь через несколько дней лживо объявил, что они покончили с собой». (Там же, 26)
«Казнить человека он всегда требовал мелкими частыми ударами, повторяя свой знаменитый приказ: «Бей, чтобы он чувствовал, что умирает!» Когда по ошибке был казнен вместо нужного человека другой с тем же именем, он воскликнул: «И этот того стоил!». Он постоянно повторял известные слова трагедии:
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись!» (Там же, 30)
«Средь пышного пира он вдруг расхохотался; консулы, лежавшие рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется, и он ответил: «А тому, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки». (Там же 33)
«Целуя в шею жену или любовницу, он всякий раз говорил: «Такая хорошая шея, а прикажи я — и она слетит с плеч!» И не раз он грозился, что ужо дознается от своей милой Цезонии хотя бы под пыткой, почему он так ее любит». (Там же)
Наверное, хватит, хотя я привел лишь малую часть перечня Светония. Садизму такого рода часто сопутствует и неутолимая похотливость. Она принимает характер глумления над женщиной. Позволю себе привести еще одно свидетельство Светония:
«...ни одной именитой женщины он не оставлял в покое. Обычно он приглашал их с мужьями к обеду, и когда они проходили мимо его ложа, осматривал их пристально и не спеша, как работорговец, а если иная от стыда опускала глаза, он приподнимал ей лицо своею рукою. Потом он при первом желании выходил из обеденной комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась; а вернувшись, еще со следами наслаждений на лице, громко хвалил или бранил ее, перечисляя в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле и какова она была в постели». (Там же, 36)
Трижды за два года Калигула объявлял своими женами знатных женщин, которых отнимал у законных мужей. Двух из них он успел за это же время и прогнать, запретив им возвращаться в семью. Третью, Цезонию, не отличавшуюся ни красотой, ни молодостью, но сумевшую привязать его к себе исключительным сладострастием, то выводил в плаще, шлеме, со щитом и на коне к войскам, то показывал голой своим сотрапезникам. Он открыто сожительствовал со всеми тремя родными сестрами. Одну из них, умершую в 38-м году Друзиллу, Калигула приказал почитать как божество. В Риме ее культу служили двадцать жрецов и жриц. Двух других сестер, Ливиллу и Агриппину младшую, он иногда отдавал на потеху своим любимцам, а в конце концов сослал на острова.
Естественно, что тиранической натуре Калигулы была присуща ненависть ко всем прославленным мужам прошлого. Статуи их он повелел разбить. Себя же почитал равным самому Юпитеру. Палатинский дворец он продолжил до Форума, так что храм Кастора и Поллукса превратился в его прихожую. Воздвиг храм себе самому в качестве божества, где поставил свою статую, облаченную в собственные одежды.
«По ночам, когда сияла полная луна, он неустанно звал ее к себе в объятья и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером Капитолийским: иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито». (Там же, 22)
Чтобы облегчить себе повседневное общение с владыкой богов, Калигула приказал перекинуть мост с Палатинского холма на Капитолийский.
Прижизненное обожествление, сожительство с родными сестрами, намерение перенести столицу в Александрию, о чем упоминает Светоний, и отношение ко всем своим подданным как к рабам — все говорит о подражании владычеству египетских фараонов и царей. О них он, вероятно, был наслышан от своей бабки Антонии, у которой прожил два года перед переселением к Тиберию на Капри. Старуха, надо полагать, охотно вспоминала о раболепном поклонении, окружавшем ее отца и Клеопатру.
Читая длинный список извращений и бесчеловечных злодеяний Калигулы, трудно избавиться от впечатления, что неограниченная власть оказалась в руках опасного сумасшедшего. Тому можно найти подтверждение и у Светония:
«По ночам, — свидетельствует историк, — он не спал больше, чем три часа подряд, да и то неспокойно: странные видения тревожили его; однажды ему приснилось, что с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому, не в силах лежать без сна, он большую часть ночи проводил, то сидя на ложе, то блуждая по бесконечным переходам, вновь и вновь призывая желанный рассвет.
Есть основания думать, что из-за помрачения ума в нем и уживались самые противоположные пороки — непомерная самоуверенность и в то же время отчаянный страх. В самом деле: он, столь презиравший самих богов, при малейшем громе и молнии закрывал глаза и закутывал голову, а если гроза была посильней — вскакивал с постели и забирался под кровать». (Там же, 50)
Такое же впечатление оставляет и скульптурный портрет Калигулы, хранящийся в Копенгагене. Древний скульптор — быть может, непроизвольно, но очень убедительно — передал состояние умопомрачения, разлитое по всему лицу, особенно хорошо заметное в безумно расширенных глазах и тесно сжатых тонких губах болезненно искривленного рта. Есть и свидетельство очевидца. Великому римскому мыслителю Сенеке во времена правления Калигулы было уже за сорок. Вот как он описывает (естественно, позже) наружность молодого императора:
«Сам он своим видом вызывал смех — так безобразна была его бледность, знак безумия, так дико смотрели его глаза из-под морщинистого лба, так уродлива была его голова, облезлая, торчащая редкими волосами». (Сенека. О твердости мудреца, 18)
Впрочем, смех, я полагаю, хотя бы внутренний, мог себе позволить только философ. А остальным было явно не до смеха.
В качестве еще одного свидетельства психической ненормальности императора можно указать на его ярко выраженную склонность к фиглярству и шутовству (у Нерона эта склонность проявится еще сильнее). Вот что пишет Светоний:
«Одежда, обувь и остальной его обычный наряд был недостоин не только римлянина и не только гражданина, но и просто мужчины и даже человека. Часто он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом накидках, с рукавами и запястьями, иногда — в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии или котурны, то в солдатские сапоги, а то и женские туфли. Много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию, или трезубец, или жезл — знаки богов, или даже в облачении Венеры». (Светоний. Гай Калигула, 52)
И далее:
«...пением и пляской он так наслаждался, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому актеру и не вторить у всех на глазах движениям плясуна, одобряя их и поправляя». (Там же, 54)
Теперь о знаменитом коне:
«В цирке он был так привязан к партии «зеленых» (команды возниц состязались под разными цветами), что много раз и обедал в конюшнях, и ночевал... Своего коня Быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству. Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей; говорят, он даже собирался сделать его консулом». (Там же, 55)
Пиры Калигулы обставлялись с неслыханной до того времени роскошью и расточительством. За один год своего правления он ухитрился промотать огромную сумму в семьсот миллионов денариев, накопленных Тиберием.
Таков далеко не полный портрет третьего римского императора. Вот теперь уместно повторить самый интересный, поставленный в начале главы вопрос: как случилось, что столь отвратительный, психически ненормальный субъект оказался во главе великого государства, и почему римляне в течение почти четырех лет терпели его правление? Чтобы ответить, обратимся к краткой истории его воцарения. Оно отмечено небывалым ликованием едва ли не всего римского народа. Вот как описывает этот знаменательный момент наш историк:
«Так он достиг власти во исполнение лучших надежд римского народа или, лучше сказать, всего рода человеческого. Он был самым желанным правителем и для большинства провинций и войск, где многие помнили его еще младенцем, и всей римской толпы, которая любила Германика и жалела его почти погубленный род. Поэтому, когда он выступил из Мизена (где умер Тиберий. — Л.О.), то, несмотря на то, что он был в трауре и сопровождал тело Тиберия, народ по пути встречал его густыми ликующими толпами, с алтарями, с жертвами, с зажженными факелами, напутствуя его добрыми пожеланиями, называя и «светиком», и «голубчиком», и «куколкой», и «дитятком». А когда он вступил в Рим, ему тотчас была поручена высшая и полная власть по единогласному приговору сената и ворвавшейся в курию толпы, вопреки завещанию Тиберия, который назначил его сонаследником своего несовершеннолетнего внука». (Там же; 13, 14)
Перечитав внимательно этот фрагмент, мы сможем найти неявный ответ на наш вопрос. Начнем с утверждения о том, что «многие помнили его еще младенцем». Действительно, когда в 13-м году Германик отправился к войску, с ним поехала и Агриппина с годовалым Гаем. Как я уже упоминал, шесть последующих лет прошли в лагерях, среди воинов, которые, конечно же, в ребенке души не чаяли. Любимая всеми мальчишками игра в солдаты для маленького Гая была обставлена всеми атрибутами реальности. Ему даже сделали настоящее оружие, военную форму и прозвали любовно «сапожок», что по-латыни звучит как «калигула». Отсюда и его прозвище, вошедшее в Историю. Для огрубевших, лишенных семьи воинов он был как сын родной. В заботах о нем с удвоенной силой выражалась их преданность своему полководцу. Надо сказать, что Германика горячо любили не только воины, но и весь римский народ. Любили за красоту и храбрость, за беспримерную доброту, за доступность и уважительную простоту обращения с людьми, независимо от их положения и ранга.
О том, какое горе в Риме вызвало известие о смерти Германика, я уже писал. Было в этом поклонении еще кое-что, помимо личной симпатии. В римском народе жил миф будто отец Германика, Друз старший, намеревался восстановить Республику и вернуть гражданам все отнятые у них права. Этот миф после гибели Друза был перенесен на Германика, а после его ранней кончины и смерти двух старших сыновей, как бы по наследству, перешел к Гаю Калигуле. Таков смысл замечания Светония о том, что Гай был «самым желанным правителем» для воинов, провинций и римской толпы, которая любила Германика и жалела его почти погубленный род.
Миф, овладевший умами масс, становится реальной и неодолимой силой, на какое-то время определяющей ход истории поверившего в него народа. После смерти Германика о его младшем сыне римлянам было мало что известно и уж во всяком случае ничего хорошего. Его длительное пребывание на Капри подле ненавистного Тиберия должно бы, кажется, насторожить римлян. Но привлекательность мифа о возможном воцарении всемогущего и справедливого принцепса-республиканца, который сложился вокруг имени Германика, была столь велика, что народ не захотел от него отказаться. Все свои надежды он перенес на единственного сына Германика.
Если отцы-сенаторы и знали о жестокости и пагубных наклонностях Калигулы, если и питали опасения относительно его будущего правления, то перед ворвавшейся в курию восторженной толпой они их высказать не посмели. А не знать, пожалуй, не могли. Светоний сообщает, что двадцатилетний Калигула на Капри с жадным любопытством наблюдал за пытками и казнями, а по ночам в накладных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам кампанского побережья. За шесть лет сведения о таких его пристрастиях не могли не дойти до сената. Если же сенаторы надеялись, что новый принцепс вскоре разоблачит себя сам и народ к нему охладеет, то существенно ошиблись в сроках. Психически ненормальные люди нередко бывают очень хитры. Долгий опыт лицемерия на глазах у придирчивого Тиберия не пропал даром. Первые полгода своего правления Калигула вел себя на редкость смиренно и делал все возможное, чтобы закрепить любовь к себе римлян. По свидетельству Светония, он тотчас же по вступлении в должность принцепса, несмотря на бурную погоду, поплыл на острова, чтобы собственными руками собрать прах матери и брата. Прах этот он доставил в Рим и с большой пышностью водворил в мавзолей Августа. Помиловал всех осужденных и сосланных. Донос о покушении на его жизнь даже не принял, заявив, что он ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти и что для доносчиков слух его закрыт. Должностным лицам он разрешил свободно править суд, ни о чем его не запрашивая. Подарки по завещанию Тиберия (хотя оно и было сенатом объявлено недействительным), а также по завещанию Ливии, которое Тиберий утаил, он полностью оплатил. Италию освободил от полупроцентного налога на продажи. Многим пострадавшим от пожаров возместил убытки. Дважды он раздал по семьдесят пять денариев неимущим. Столько же устроил роскошных угощений для сенаторов и всадников, даже для их жен и детей. Гладиаторские бои, театральные представления и цирковые состязания молодой император давал много раз с большим размахом, подогревая восхищение и благодарность простого народа. При этом он велел разбрасывать разного рода подарки и раздавать корзинки с закусками для каждого зрителя. Завершил начатое Тиберием строительство храма Августа и реконструкцию театра Помпея. Сам приступил к строительству нового водопровода и амфитеатра. За все эти деяния сенат в числе прочих почестей посвятил Калигуле, как некогда Августу, золотой щит.
Завершая более полное, чем выше, перечисление «добрых дел» Калигулы и переходя к рассказу о его злодеяниях, Светоний предупреждает читателя: «До сих пор шла речь о правителе, далее придется говорить о чудовище». Действительно, перемена в поведении принцепса, особенно по отношению к сенату, была внезапной и разительной. Некоторые историки связывают ее с трехмесячной тяжелой болезнью, которую он перенес в то время. Возможно, что она обострила состояние его психики и ускорила неизбежную перемену. Но зачем вообще нужен был Калигуле этот первоначальный маскарад, эта лихорадочная деятельность, слишком театральная, чтобы быть искренней?
Мне кажется, Калигуле необходимо было выиграть время для создания надежной опоры своим жестоким замыслам. А они уже давно зрели в душе этого — по определению Светония — «чудовища». Опыт Тиберия научил его, что полагаться на преторианцев рискованно. Из рассказов Ливии Калигуле было известно, что Август, помимо преторианцев, держал под рукой отряд телохранителей, состоявший из наемников-варваров, чьей измены можно было не опасаться. Он решил пойти по этому пути. Когорты преторианцев Калигула не распустил, но обезглавил, отправив их префекта Маркона наместником в Египет, а затем принудив к самоубийству. Взамен набрал сильный отряд телохранителей-германцев, который мог держать в страхе и подчинении весь город. В случае необходимости германцы смогли бы подавить и мятеж преторианцев. Когда все было подготовлено, Калигула сбросил маску доброго и доброжелательного к сенату правителя. Но для римских граждан его истинное лицо открылось отнюдь не сразу. Пробежав сокращенный перечень издевательств и казней, которым я начал главу, читатель легко заметит, что жертвами свирепости принцепса были почти исключительно сенаторы и всадники. Римский плебс продолжал восхвалять щедрого правителя, подкупавшего толпу раздачами денег, подарками и пышными зрелищами. А в далекой Галлии или Сирии легионеры по-прежнему с восторгом клялись в верности сыну Германика, мальчонкой делившему с ними тяготы походов и быт военных лагерей. В случае нужды они без колебаний явились бы в Рим, чтобы защитить своего любимца. Вечный Город находился в полной власти ненасытного свирепого принцепса.
Так продолжалось весь 38-й год. Примерно к концу года кончились деньги, собранные в казну рачительным Тиберием. Между тем пристрастие Калигулы к расточительству все росло. Казалось бы, зачем деньги тому, кто может все забрать силой? Вспомним, что большинство предметов роскоши доставлялось в Рим иноземными купцами. А те яства, которые поступали от италийских земледельцев, садоводов, охотников или рыболовов, тут же исчезли бы с рынка, если бы за них перестали платить звонкой монетой. С января по сентябрь 39-го года, продолжая зловещую цепь казней аристократов, Калигула разворачивает широкую кампанию вымогательств и ограбления римских граждан. В первую очередь, конечно, пришлось раскошеливаться тем, кто побогаче. Одним из самых простых способов изъятия денег было принуждение к завещанию их принцепсу. Дети и другие родственники могли надеяться получить что-то только в качестве его сонаследников. Отказ от такого «добровольного» дара рассматривался как оскорбление принцепса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если завещатели слишком долго задерживались на этом свете, Калигула посылал им отравленные лакомства. Другой способ «легального» грабежа — своеобразные торги, которые устраивал император. На них он выставлял рабов, утварь, одежду и прочее убранство двора Августа и Тиберия. Ввиду исторической ценности этих предметов он назначал за них баснословную цену. Покупателей называл сам; отказаться от покупки было очень опасно.
Но всего этого оказалось недостаточно, и Калигула решил запустить руки в скромные кошельки рядовых граждан. Он учредил множество новых и небывалых налогов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, нужно было уплачивать пошлину. С любого судебного дела взыскивалась сороковая часть спорной суммы. Носильщики платили восьмую часть дневного заработка, проститутки — цену одного свидания. Чтобы лучше контролировать эту важную статью дохода, император распорядился устроить на Палатинском холме, неподалеку от своего дворца, огромный публичный дом. Список фискальных новаций Калигулы у Светония этим не исчерпывается. Не буду перечислять их все. Приведу лишь один эпизод, который выглядит как фантазия или как описание поведения душевнобольного:
«Когда же у него родилась дочь (от Цезонии. — Л.О.), то он, ссылаясь уже не только на императорские, а и на отцовские заботы, стал требовать приношений на ее воспитание и приданое. Объявив эдиктом, что на новый год он ждет подарков, он в календы января (1-го числа. — Л.О.) встал на пороге дворца и ловил монеты, которые проходящий толпами народ всякого звания сыпал ему из горстей и подолов. Наконец, обуянный страстью почувствовать эти деньги на ощупь, он рассыпал огромные кучи золотых монет по широкому полу и часто ходил по ним босыми ногами или подолгу катался по ним всем телом». (Там же, 42)
Даже если мы усомнимся в достоверности этого эпизода, то изложенного ранее вполне достаточно, чтобы понять неизбежность горького разочарования римского народа в своем «голубчике». Расплата за слепую приверженность мифу была, как обычно, тяжкой. После девяти месяцев беспардонного грабежа и вымогательства былая народная любовь сменилась вполне естественной ненавистью. Быть может, поэтому Калигула вдруг надумал восстановить непосредственную связь с войском.
Совершенно неожиданно и без всякого к тому повода он объявил военный поход в Германию. Без промедления были созваны отовсюду легионы и вспомогательные войска, строго проведен новый набор рекрутов, запасена масса продовольствия. В сентябре 39-го года двухсотпятидесятитысячная армия двинулась в поход... искать противника. Найти его не удалось. Пришлось довольствоваться несколькими подстроенными с помощью своих же вспомогательных войск инцидентами. Заключительный эпизод этой «войны» заставляет еще раз предположить безумие или крайнюю степень самодурства третьего римского императора.
«Наконец, — пишет Светоний, — словно собираясь закончить войну, он выстроил войско на морском берегу, расставил баллисты и другие машины и, между тем как никто не знал и не догадывался, что он думает делать, вдруг приказал всем собирать раковины в шлемы и складки одежды — это, говорил он, добыча Океана, которую он шлет Капитолию и Палатину (то есть, Юпитеру Капитолийскому и Аполлону Палатинскому. — Л.О.). В память победы он воздвиг высокую башню, чтобы она, как Фаросский маяк, по ночам огнем указывала путь кораблям». (Там же, 46)
Быть может, почувствовав перемену настроения римлян, сенат набрался смелости отказать Калигуле в триумфе, которого тот требовал в честь своей «победы». Дело ограничилось овацией. Рассвирепевший принцепс грозил сенаторам всеми возможными карами, однако дни его были уже сочтены. За время почти годичного отсутствия императора в Риме сенаторы сумели сговориться с офицерами преторианских когорт и составили заговор. 24-го января 41 года в возрасте двадцати девяти лет Гай Калигула был убит. Убийство совершилось при выходе императора из театра во время перерыва. В тесноте подземного перехода заговорщикам удалось задержать германцев. Двое трибунов претория напали на оставшегося без охраны Калигулу и зарубили его мечами. Часть сообщников успела после этого скрыться, отставших перебили подоспевшие германцы. Они оцепили театр, и публика в панике ожидала резни. Но когда выяснилось, что Калигула мертв, германцы удалились. Народ бросился вон из театра.
Так закончился печальный опыт пусть неформального, но бесспорно всенародного избрания фактически самодержавного правителя в древнем Риме.
Клавдий
Калигула был убит вскоре после полудня. Прошло добрых два или три часа, прежде чем Форум откликнулся на это событие изменением привычного ритма своей шумной жизни. Римляне уже привыкли к зловещим слухам, долетающим из Палатинского дворца, и потому не очень-то поверили словам первых прибежавших из театра людей. Тем более что одни из них утверждали, что император убит, а другие — что ранен и что германцы изрубили всех покушавшихся на него. Ближе к вечеру обстановка на площади стала меняться. Поспешно, кто в носилках, а кто пешком, на Капитолийский холм стали подниматься сенаторы. Многие не знали, зачем посланцы консулов вызвали их туда на срочное заседание. Другие знали, но не хотели будоражить толпу. Потом пришли три городские когорты. Солдаты отогнали народ от подножия холма и выстроились перед ним плотным прямоугольником — фронтом к площади. Торговцы стали поспешно запирать лавки. Их место заняла жадная до зрелищ толпа плебса. Она притиснулась вплотную к переднему ряду воинов. Теперь уже все поверили, что Калигула убит. Ни особого ликования, ни, тем более, огорчения по этому поводу заметно не было. Скорее тревога и недоумение — что же будет? Наследника молодой император не оставил. Там и здесь слышалось произносимое с сочувствием имя Германика, чей род теперь прервался. Кое-где вспыхивало полузабытое слово «республика». Стемнело рано. Позади темной массы солдат запылали факелы. На освещенных лицах людей, стоявших в первых рядах, все яснее читалось беспокойство. Оба префекта претория не явились на Форум! От темных дальних рядов, от идущего оттуда смутного гула голосов веяло тревогой.
Зато наверху, в храме Юпитера, до начала заседания царило радостно-тревожное оживление. Со смертью безумного правителя всех охватило чувство несказанного облегчения. Только теперь сенаторы по-настоящему ощутили, в каком страхе они жили последние три года. Вокруг ускользнувших от германцев заговорщиков образовался кружок поздравителей — все больше молодых сенаторов. Те, кто постарше, предпочитали держаться в стороне. Слово «республика» звучало здесь еще чаще, чем на площади. Многие с горячностью призывали вспомнить о былом величии сената, о заветах великих предков. Раздавались предложения консулам назначить на полгода республиканского диктатора. Та же решимость звучала и в первых выступлениях сенаторов. Однако понемногу на фоне общего лихорадочного возбуждения зазвучали и трезвые голоса. Как поведет себя армия? Легко было далеким предкам изгнать царей, когда каждый житель города был воином, а других вооруженных людей в Риме не было. Достаточно было древнему Бруту увлечь за собой сограждан, чтобы Республика восторжествовала. Сейчас легионы стоят в Галлии, Испании, Сирии, Африке. Они набраны по всей Италии и в колониях. Солдаты-наемники привыкли получать от императоров жалованье, награды и земли после отставки. Поддержат ли они Республику, о которой и знают-то понаслышке? Не вздумают ли явиться в Рим, чтобы отомстить за смерть Калигулы, который для них все еще «сапожок», сын Германика? А преторианцы? Ведь это гвардия императоров! Придется их распустить. Или отослать в провинции к войскам, лишив привилегий. Вряд ли они с этим смирятся...
Наверное, лучше бы сохранить императора, но послушного сенату. Божественный Август считался с мнением сенаторов, хотя сам был властителем великим и мудрым. Такое не повторяется часто. Лучше иметь принцепса, менее одаренного государственным умом, но не деспотичного, чьи замыслы и поступки направлялись бы общим попечением отцов-сенаторов... Кто-то назвал имя Клавдия. Сначала многие возмущенно зашумели. Послышались возгласы: «Хватит терпеть тиранию Юлиев и Клавдиев! Изберем нового принцепса, неужели этот придурковатый, не державший меча в руках старик будет римским императором?» Но им возразили: «Почему бы и нет?! Зато он сын Друза, родной брат Германика! Армия будет довольна. И уж, конечно, сенат сумеет взять его, беспомощного, под свою опеку». Решили послать за Клавдием. Тут кто-то сообщил, что видел, как преторианцы несли его в свой лагерь. Это известие всех озадачило и встревожило. Что задумали префекты претория? Зачем им Клавдий? Как заложник? Или, может быть, они сами собираются присягнуть ему как императору? Калигула со своими германцами совсем отстранил от дел дворца преторианцев. Быть может, они хотят вернуть себе то положение, какое занимали при Тиберий? Тогда сенат снова останется в стороне. Решено было послать парламентера в лагерь и пригласить Клавдия прибыть в сенат для переговоров. На ночь глядя никто не решался взять на себя эту миссию. Постановили разойтись до утра. Консулам поручили отыскать находящегося в Риме иудейского царя Агриппу, внука Ирода Великого, и послать к Клавдию. Нейтральный Агриппа показался наиболее подходящим человеком для такого посольства. Увидав, что сенаторы покидают Капитолий, разошелся до утра и народ с Форума. Когорты по приказу префекта города остались на площади коротать ночь у разожженных костров.
Чтобы понять, что происходило тем временем в лагере преторианцев, нам придется вернуться в театр и проследить за событиями, последовавшими сразу за убийством Калигулы. Когда заговорщики оттеснили группу сопровождавших его сенаторов, среди них оказался высокий, плотного сложения седой человек. Это и был дядя императора, младший брат Германика, Тиберий Клавдий Друз, вошедший потом в историю под именем императора Клавдия. Вместе с остальными он был вытолкнут в соседнюю комнату, а когда из прохода донеслись крики о том, что император убит, побежал, ковыляя, в прилегавшую галерею. Его лицо было искажено выражением смертельного страха. Видимо, не в силах бежать дальше, он спрятался за занавесью у дверей. Люди, спасавшиеся вместе с ним, исчезли за поворотом галереи. Через несколько мгновений в нее со стороны только что покинутой комнаты ворвались германцы. Клавдий узнал их по хриплым выкрикам команд на гортанном языке. Они стремительно прогромыхали мимо. Слава богам — его не заметили! Все стихло. Неясный шум доносился лишь из подземного перехода, где совершилось преступление.
Клавдий уверен, что солдаты гонятся за ним, хотя и не понимает, почему. Выйти из укрытия и попытаться бежать — слишком рискованно! Переход, наверное, заполнен германцами, а те, кто побежал за ним по галерее, в любое мгновение могут вернуться. Оставаться на месте не лучше. Рано или поздно, обшаривая театр, его найдут. Клавдия бьет нервная дрожь. Так прошло — ему показалось — очень много времени. Галерея по-прежнему пуста, стих шум и в подземном переходе. Он хочет выйти из убежища, но ноги не слушаются. Понимая, что вступиться за него все равно некому, Клавдий покоряется судьбе и решает ожидать своей участи здесь, в тишине уединенной галереи. Отгоняя леденящие душу мысли о неминуемой смерти, он перебирает воспоминания своей долгой жизни (в прошлом августе ему исполнилось пятьдесят лет).
Отца он не знал. Ему едва исполнился год, когда Друз старший умер в Германии. Детство прошло под присмотром матери, Антонии младшей, и бабки, Ливии. Он постоянно и подолгу болел. Так ослабел телом и умом, что считался неспособным ни на какие самостоятельные поступки. Уже достигнув совершеннолетия, оставался под присмотром дядьки-варвара, бывшего конюха, который его по любому поводу жестоко наказывал. Клавдий вдруг ясно вспомнил, как он и Германик присутствовали на гладиаторских играх, которые Август давал в память их отца. Ему было шестнадцать лет, он опять болел и был вынужден прикрыть уши и горло чепцом. На него показывали пальцем и если не смеялись открыто, то лишь потому, что рядом сидел старший брат — в ту пору уже любимец римского народа. Мать и бабка, хотя не ладили между собой, сходились в презрении к Клавдию. Мать называла его уродом среди людей, говорила, что природа начала его и не кончила. С братом они виделись редко.
Единственный человек во дворце, кто был к нему расположен, у кого он находил утешение, был престарелый историк Тит Ливий. Клавдий с детства пристрастился к чтению, выучил греческий. Особенно его привлекала история. Тит Ливий подолгу рассказывал своему маленькому другу эпизоды из далекого героического прошлого Рима, не вошедшие в его знаменитые книги, которые мальчик читал запоем. Он же побудил Клавдия собирать материалы по новейшей истории правления Августа. Сам великий историк начал ее писать, но не имел сил докончить. К счастью, Клавдий сумел выполнить свое обещание, данное в детстве Ливию.
Август относился к нему снисходительно. После смерти бабки Клавдий прочитал письма, в которых речь идет о нем. Он хорошо помнит их. В одном император писал: «...Если он человек, так сказать, полноценный и у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат? Если же мы чувствуем, что он поврежден и телом и душой, то и не следует давать повод для насмешек над ним и над нами тем людям, которые привыкли хихикать и потешаться над вещами такого рода. Нам придется вечно ломать себе голову, если мы будем думать о каждом шаге отдельно и не решим заранее, допускать его к должности или нет». (Светоний. Божественный Клавдий, 4)
Императора тогда беспокоило общество друзей Клавдия, греков-вольноотпущенников, с которыми он проводил время то в загородной резиденции принцепса, то на кампанской вилле. Помимо ученых разговоров, они предавались там излишествам в еде и питье, к которым Клавдий был расположен. Да еще играли в кости. Вообще репутация у него в те годы была неважная. Однако всадники выказывали ему уважение. Когда Клавдий входил в театр, они вставали и обнажали головы. Потом они избрали его главой посольства к консулам, прося дозволения на своих плечах внести тело покойного Августа в Рим. Сенат впоследствии даже постановил отстроить за государственный счет его дом, сгоревший во время пожара.
Тиберий же относился к нему с явным презрением. Впрочем, оставил в покое. Даже включил в число наследников, хотя только третьей очереди. Еще и полмиллиона денариев завещал в подарок. Калигула в первые полгода своего правления, когда прикидывался ягненком, вызвал Клавдия в Рим, приблизил и даже в течение двух месяцев разделял с ним консульство. Простой народ тогда встретил его дружелюбно. Несколько раз, когда он распоряжался на зрелищах, его приветствовали криками: «Да здравствует дядя императора!» и «Да здравствует брат Германика!»
Потом наступили горькие дни. Гай не отпускал его из дворца, но сделал мишенью издевательств и насмешек. Когда Клавдий задерживался к обеду, ему не оставляли места у стола. А когда, наевшись, задремывал — такое случалось частенько, — шуты императора бросали в него косточками фиников или маслин. А не то потихоньку надевали на руки сандалии, чтобы он, внезапно разбуженный, тер ими себе лицо. Он благоразумно подыгрывал, прикидывался дурачком и этим спас свою жизнь. Когда племянничек принялся выкачивать из народа деньги, то не забыл и Клавдия. По указанию императора сенат назначил его жрецом храма Калигулы — Юпитера, за что нужно было уплатить два миллиона денариев. Деньги пришлось занять в казне под залог. Вернуть долг он не смог, и все его имущество было назначено к распродаже.
И вот теперь он умрет вслед за Гаем. От чьих рук он погибнет? Заговорщиков ли, которые решили истребить всю семью? Взбунтовавшихся преторианцев? Или германцев, которые его самого считают заговорщиком? Надо бы пойти к ним и сказать, что он не виновен. То, что он прячется, изобличает его как соучастника. Но нет сил двинуться с места. Страх растет. Перед глазами уже не воспоминания, а картины грядущей гибели. Страшная фигура огромного германца с занесенным над головой мечом. Вот опять послышались шаги в галерее. Клавдий с ужасом замечает, что переменил позу — одна из сандалий высунулась из под занавеса. Убрать? Нет! Движение еще сильнее привлечет внимание. И все же он машинально убирает ногу... Шаги замирают рядом. Занавес отодвинут. Перед ним огромный, страшный германец. Силы оставляют Клавдия. Он медленно оседает на пол. Хочет крикнуть, что невиновен, что ничего не знал о заговоре. Но из судорожно скошенного рта вырываются нечленораздельные звуки — не то стон, не то мольба о пощаде. От страха или от резкого света все плывет перед глазами. Он не видит или не понимает, что это не германец, а солдат претория...
Случилось так, что этот солдат как-то раз в цирке, стоя в охранении, видел Клавдия близко и теперь узнал его. Не очень соображая, зачем, он подхватил дядю императора под мышки и поволок к выходу. Германцы уже ушли, зрители разбежались. Перед театром толпились солдаты его центурии, назначенные для наружной охраны. Срок наряда не кончился, но делать здесь было явно нечего. Узнав о том, кто оказался под их опекой, центурион счел это достаточным поводом для возвращения. На площади перед театром стояло несколько носилок, брошенных разбежавшимися в страхе рабами. По приказу центуриона знатного пленника загрузили в носилки побогаче. Сменяя друг друга в непривычной роли носильщиков, солдаты беглым шагом направились в лагерь. Немного придя в себя и поняв, что вокруг преторианцы, Клавдий высунулся было, чтобы спросить, куда его несут. Но трусивший рядом с носилками центурион грубо втолкнул его обратно.
Лагерь преторианцев встревоженно гудел. Весть о смерти притеснявшего их императора уже долетела и сюда. Солдаты, некоторые при оружии, толпились на,плацу перед домиком префекта. Его появления в лагере ожидали с минуты на минуту. Не успел он явиться, выслушать сбивчивый рассказ очевидцев и пригласить к себе трибунов на совещание, как новый взрыв криков на плацу заставил его выйти к солдатам. Перед входом в домик стояли богато украшенные носилки. Человека, который в них сидел, префект узнал сразу.
Неожиданное появление в лагере дяди убитого императора его обескуражило. Он знал о заговоре, знал, что двое трибунов согласились быть его исполнителями. Было условлено, что сам префект останется в стороне. Что ни говори, а его соучастие в деле означало бы прямое нарушение присяги и священной клятвы в верности императору. Ему было известно, что кое-кто из сенаторов предлагал убить и Клавдия. Но большинство заговорщиков решило, что слабоумный брат Германика не опасен, и отклонило это предложение. И вот Клавдий в лагере. Первая мысль была отослать его в сенат. Но затем явилась другая. На единственном тайном совещании, где он участвовал, вопрос о судьбе претория решен не был. Сторонники Республики нехотя признавали, что гвардия должна быть распущена. Поборники избрания нового императора заявляли, что она сохранится. Первые предлагали ему командование любым войском по выбору. Но одно дело — стоять во главе претория здесь, в Риме, особенно если удастся возродить его былое могущество, а другое — в мирное время прозябать в далекой провинции. И вот случай отдает в его руки человека, который по праву рождения может стать императором. Он не военный, немного не в своем уме? Тем лучше. Тем большую роль при нем будут играть префекты претория. И армия будет довольна — ведь брат Германика! Но надо трезво взвесить силы. Дело будет решаться в Риме, в самые ближайшие дни. Здесь у него только две когорты. Остальным нужно время, чтобы подойти. А у сената — три городские когорты и семь тысяч ночной стражи. Конечно, это не настоящие воины, но все же... Начинать кровопролитие в городе — страшно. На чьей стороне будет народ? Что, если он возьмется за оружие, чтобы возродить Республику? Нет, надо потянуть время, послать за остальными семью когортами преторианцев. Префект приказывает отвести Клавдия в караульное помещение близ главных ворот лагеря и поставить у дверей стражу. Солдаты пусть пока вернутся в казармы. Когда трибуны обсудят ситуацию, он их созовет снова.
До самой темноты длилось совещание у префекта. Разведчики, посланные на Форум, донесли, что народ и сенат склоняются к провозглашению Республики. Что консулы, согласно древнему обычаю, собираются назначить диктатора. К ночи решено было вновь собрать солдат. В конце концов все зависело от их готовности сражаться за нового императора. А тот тем временем метался на твердом солдатском ложе в караулке, переходя от отчаяния к смутной надежде на спасение. Стемнело. Никто не позаботился принести светильник. Потом убогое помещение озарилось отблеском факелов, пылавших на плацу. Оттуда доносился неясный шум солдатской сходки. Клавдий был уверен, что решается вопрос о его казни. Даже почти уверен, что решится он роковым образом. Разве он вступался за них, когда Калигула помыкал преторианцами? Если бы только ему позволили объяснить, что он ничего не мог для них сделать, что сам подвергался издевательствам...
Уже глубокой ночью послышались приближающиеся шаги, потом приветствие часового, и в караулку вошел префект.
— Солдаты готовы провозгласить тебя императором, — сказал он. — Но ты должен будешь уплатить по пятнадцать тысяч сестерциев каждому воину.
— У меня нет денег, — прошептал Клавдий.
— Ты их возьмешь в казне.
Мелькнула глупая мысль, что он не наследник. Потом — что казна, наверное, пуста. Но не было сил произнести это вслух и тем обречь себя на немедленную погибель. Он пошел с префектом на плац. Ему помогли подняться на трибунал. Ноги слушались плохо. Внизу в неверном свете факелов, уходя к темным краям плаца, словно волны ночного моря, колыхались султаны на шлемах легионеров.
— Император согласен! — крикнул префект. — Да здравствует император Клавдий!
— Да здравствует император Клавдий! — в две тысячи голосов отозвалась площадь. Потом были зачитаны слова присяги. Клавдий их едва понимал. Голова была как в тумане. В мозгу билось только одно слово: «Спасен, спасен!» Потом почти бессонная, полная страха и надежды ночь в домике префекта.
Утром в лагере появился иудейский царь Агриппа. Ликторы консула его не застали дома. Проведший не один год при дворе римских императоров, Агриппа быстро сориентировался, на чьей стороне будет победа...
В те же утренние часы в юлиевой курии вновь собрались сенаторы, солдаты городских когорт поставили оцепление, а Форум заполнился народом. Настроение толпы переменилось. Слух о том, что преторианцы провозгласили Клавдия императором, уже разлетелся по городу. Сенаторы же вновь принялись спорить о Республике или избрании нового принцепса. Народ, опасаясь восстановления владычества аристократов, стал волноваться. Послышались выкрики с требованием признать провозглашенного преторианцами императора. Неожиданно на Форуме появился Агриппа с посланием от Клавдия к сенату...
Обмен письмами того дня «запротоколировал» в своей «Иудейской войне» Иосиф Флавий. Он был почти современником событий — родился в 37-м году. Будучи впоследствии приближен императором Веспасианом, историк, несомненно, имел доступ к архивам. Поэтому его свидетельство заслуживает доверия.
«Против своей воли, — писал Клавдий в первом письме сенату, — он был войском возведен на престол и теперь он, с одной стороны, считает несправедливым пренебречь рвением солдат, с другой стороны, он еще не считает свое счастье обеспеченным, так как уже одно призвание к верховной власти приносит с собою опасности. А потому он, если ему суждено будет стать во главе государства, намерен держать скипетр мягкой рукой, как добрый правитель, а не как тиран. Он будет довольствоваться честью титула и предоставит народу право участия во всех государственных делах, ибо если мягкость и кротость не была бы даже свойственна его натуре, то уже одна смерть Гая будет вечно носиться перед его глазами и напоминать всегда об умеренности». (Иосиф Флавий. Иудейская война, II, 11)
Ответ сенаторов у Флавия лаконичен и звучит решительно:
«В надежде на войско и благонадежных граждан, они добровольно не подчинятся рабству». (Там же)
Далее я позволю себе привести небольшой фрагмент из того же источника, где не только фигурирует второе письмо Клавдия, но описан и последовавший затем перелом ситуации:
«Когда Агриппа донес Клавдию об этом ответе, он послал его вторично со следующим заявлением:
«Он ни в каком случае не оставит тех, которые присягнули ему в верности, а потому он, против воли, готов на борьбу с теми, с которыми ему меньше всего хотелось бы бороться. Но нужно все-таки выбрать место для сражения вне города: было бы грехом из-за их гибельного решения запятнать кровью граждан святыни родного города». Агриппа и это заявление доложил сенату.
Тогда один из солдат, стоявших до сих пор на стороне сената, обнажил свой меч и произнес:
«Товарищи! Зачем нам убивать своих же братьев и губить близких нам людей, стоящих за Клавдия, когда мы имеем такого государя, про которого нельзя сказать ничего худого, и несем столь священные обязанности по отношению к тем, против которых нас вооружают?» С этими словами он быстро прошел через собрание и увлек за собой к выходу всех остальных солдат. Патриции, видя себя оставленными солдатами, пришли в страх. Когда же не осталось больше никакого спасения, они бросились вслед за ними к Клавдию... Он дружелюбно принял сенат к себе в стан и немного погодя отправился вместе с ним для принесения богу благодарственной жертвы за полученное владычество». (Там же)
Уважаемый читатель! Я подозреваю, что описанные события оставили у тебя впечатление, что новый римский император не отличался мужеством и личным достоинством, подобающими римлянину. Не слишком его украшают и упомянутые вскользь слабости, в числе которых чревоугодие, от которого он, кстати сказать, не мог избавиться до конца своих дней. Впрочем, эта слабость у Клавдия выгодно сочеталась с широким гостеприимством. Светоний утверждает, что «пиры он устраивал богатые и частые, в самых просторных палатах, так что нередко за столами возлежало по шестьсот человек».
Древние, а подчас и новые историки нередко пишут о Клавдии полупрезрительно, намекая на его умственную неполноценность. Список слабостей нового императора мне предстоит еще пополнить, но этот намек я решительно отвергаю. В обоснование приведу краткий перечень его деяний, составленный по свидетельствам тех же древних историков, Светония и Тацита.
Начало нового правления было отмечено действиями, достаточно, как ныне говорят, взвешенными. Все постановления Калигулы Клавдий отменил, но считать день его гибели праздничным не разрешил. Непосредственных убийц императора и их подручных для острастки казнил, но всех остальных участников заговора простил. Память матери и бабки, несмотря на все обиды, почтил самым торжественным образом. К сенату относился уважительно, испрашивая его одобрения на все более или менее важные решения. При этом, по свидетельству Светония:
«Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил (хотя я, следуя общепринятому, буду продолжать его так называть), непомерные почести отверг, помолвку дочери и рождение внука отпраздновал обрядами без шума, в семейном кругу... При должностных лицах он сидел на судах простым советником; на зрелищах, им устроенных, он вместе со всей толпой вставал и приветствовал их криками и рукоплесканиями. Когда однажды народные трибуны подошли к нему в суде, он попросил прощения, что из-за тесноты вынужден выслушать их, не усадив.
Всем этим, — продолжает Светоний, — он в недолгий срок снискал себе великую любовь и привязанность. Когда во время его поездки в Остию распространился слух, будто он попал в засаду и был убит, народ был в ужасе и осыпал страшными проклятиями и воинов, словно изменников, и сенаторов, словно отцеубийц, пока, наконец, магистраты не вывели на трибуну сперва одного вестника, потом другого, а потом и многих, которые подтвердили, что Клавдий жив, невредим и уже подъезжает к Риму». (Светоний. Божественный Клавдий, 12)
Когда же Клавдий сам председательствовал в суде, то, как пишет Светоний:
«Суд он правил и в консульство, и вне консульства с величайшим усердием... Не всегда он следовал букве законов и часто по впечатлению от дела умерял их суровость или снисходительность милосердием и справедливостью». (Там же, 15)
Видимо, для приобретения военных заслуг в 43-м году была осуществлена нелепая экспедиция в далекую Британию. После Юлия Цезаря на относительную независимость острова никто всерьез не посягал. Без всякого повода четыре римских легиона с массой вспомогательных войск вдруг высадились на южном побережье Британии. Существенного сопротивления они не встретили. Сам Клавдий прибыл позже и находился при войске всего шестнадцать дней. Развивать наступление на север было бессмысленно. Для оккупации огромного острова, населенного воинственными и вольнолюбивыми племенами, потребовалось бы слишком много сил. Император возвратился в Рим и отпраздновал пышный триумф по поводу победы над британцами. Можно догадаться, что триумф этот вызвал скорее насмешки, чем восхищение. Больше Клавдий за все время своего правления командовать войсками не пытался (какое командование на шестом десятке?). Зато его полководцы в дальнейшем действовали весьма успешно в Германии, на Дунае, в Крыму, в Армении, в Африке и против парфян в Азии. Так что император, согласно древнему обычаю, в связи с увеличением территории империи смог раздвинуть и границы Города. Впрочем, несмотря на одержанные в Германии победы, он (подобно Августу) благоразумно повелел отвести войска за Рейн.
Заметный след в римской истории оставила мирная деятельность Клавдия. Он починил все пришедшие в негодность акведуки и подвел к Риму новый водопровод. Выстроил морской порт близ устья Тибра в Остии. Была расширена сеть дорог, налажено бесперебойное снабжение Рима хлебом даже в неурожайные годы. Торговцам он обеспечил твердую прибыль, повелев компенсировать убыток от кораблекрушений за счет казны. За постройку новых торговых кораблей установил разного рода льготы. После безумств и злоупотреблений Калигулы Клавдию удалось за десять лет восстановить нормальное функционирование налоговой и вообще всей финансовой системы государства. Римская казна вновь наполнилась. При этом он часто раздавал деньги неимущим, а зрелища для народа, цирковые игры и гладиаторские бои устраивал, по словам Светония, «большие и многочисленные... много раз и во многих местах». Заботу императора о согражданах тот же историк иллюстрирует следующим рассказом:
«Когда в Эмилиевом предместье случился затяжной пожар, он двое суток подряд ночевал в дирибитории (здание для подсчета голосов на выборах. — Л.О.). Так как не хватало ни солдат, ни рабов, он через старост созывал для тушения народ со всех улиц и, поставив перед собой мешки, полные денег, тут же награждал за помощь каждого по заслугам» (там же, 18).
В качестве цензора Клавдий осуществил необходимую к тому времени очередную чистку сената. Но сделал это, я бы сказал, весьма интеллигентно. Вот как описывает Тацит это мероприятие:
«Озабоченный удалением из сената покрывших себя бесчестием, он применил недавно придуманный и мягкий по сравнению с былою суровостью способ, обратившись к ним с увещанием поразмыслить над своими делами и добровольно заявить о своем намерении выйти из сенаторского сословия. Дозволение на это будет дано без труда, и он одновременно назовет как исключенных из сената, так и тех, кто сам себя осудил, дабы сопоставление приговора цензоров с раскаянием ушедших по своей воле послужило к умалению их бесславия. По этому поводу консул Випстан предложил поднести Клавдию титул отца сената: ибо титул отца отечества стал обыденным и заслуги нового рода должны быть отмечены ранее неведомым наименованием. Но сам Клавдий остановил консула, сочтя, что тот слишком далеко зашел в лести». (Тацит. Анналы, 11, 25)
Тогда же он перевел в сословие патрициев многих старейших сенаторов из плебейских родов — тех, чьи отцы или они сами прославились выдающимися достоинствами и деяниями.
За всей этой многообразной, направляемой принцепсом деятельностью скрывалось одно важное обстоятельство, о котором я до сих пор сознательно не упоминал. Клавдий пошел значительно дальше, чем сам великий Август, по пути создания независимой от сената администрации. Если вольноотпущенники Августа занимали влиятельные, но скромные посты писцов и секретарей императора, то новый принцепс возвел своих доверенных вольноотпущенников, можно сказать, в ранг полномочных и могущественных министров. Бесспорная заслуга императора состояла в том, что он отобрал этих людей не только по признаку личной преданности, но в первую очередь, исходя из их квалификации и деловых качеств. Это было, в своей совокупности, полномочное и деятельное правительство Империи, разумно использовавшее огромную власть, врученную императором. Светоний называет шесть имен вольноотпущенников, в том числе советника по ученым делам Полибия, советника по финансам Палланта и советника по делам прошений Нарцисса. Последнего Клавдий ценил больше других. О том, сколь высоко были по воле императора вознесены эти бывшие рабы, говорят такие примеры: Полибия на прогулках нередко сопровождали оба консула. Палланту сенат даровал преторские знаки отличия.
Хотя некоторые из вольноотпущенников Клавдия у себя на родине принадлежали к очень знатным родам, высокомерие римских аристократов было уязвлено. Они едва сдерживали возмущение. Аналогичное чувство проскальзывает и у обычно невозмутимого Тацита, когда он роняет замечание, что «Клавдий уравнял с собой и с законом даже вольноотпущенников» (Анналы, 12, 60). Обида аристократов питалась и некоторыми другими решениями Клавдия. Так, в 47-м году он заставил сенат согласиться на введение в его состав знатных галлов из давно союзного Риму племени эдуев. Еще он слишком легко раздавал консульские и триумфальные знаки отличия (во времена Империи торжественный триумф в Риме праздновали только сами императоры, даже если они лично не принимали участия в военных действиях. Полководцев награждали знаками отличия, которые полагались триумфатору. Практиковалось и награждение консульскими знаками отличия без избрания консулом.). Полководцу Корбулону, например, Клавдий послал триумфальные награды за то, что он провел канал между Рейном и рекой Мозой, а другому полководцу — за постройку серебряного рудника. Наконец, римские нобили имели достаточные основания поставить в вину принцепсу вмешательство в государственные дела его жен. Об этом — позже, а пока считаю необходимым отвести от императора Клавдия упрек некоторых историков в чрезвычайной жестокости. Думаю, что его оклеветали современники — те самые обиженные аристократы.
Присмотримся внимательно к этим упрекам. Светоний приводит — надо полагать, со слов одного из таких современников Клавдия — довольно внушительную цифру будто бы казненных им аристократов: тридцать пять сенаторов и более трехсот всадников. Но анонимно. Называет он всего четыре имени родственников принцепса, убитых или изведенных с его согласия, — по наговору, если не по прямому распоряжению Мессалины, жены императора, которая вплоть до своей погибели держала в страхе весь дворец. Абзац, в котором Светоний живописует кровожадность Клавдия, я, во избежание упрека в пристрастии, выпишу полностью:
«Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах и казни отцеубийц заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю (розгами до смерти. — Л.О.), преступники уже были привязаны к столбам, но не нашлось палача. Тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно ретиариев: ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и другого маленькие ножички. Звериными травлями и полуденными побоищами (когда знатная публика уходила завтракать, на потеху оставшимся устраивали кровавый бой гладиаторов без щитов и доспехов) увлекался он до того, что являлся на зрелища ранним утром и оставался сидеть, даже когда все расходились завтракать. Кроме заранее назначенных бойцов, он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам — например, рабочих, служителей и тому подобных, если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться даже одного своего раба-именователя, как тот был, в тоге». (Светоний. Божественный Клавдий, 34)
Согласен — на современного читателя это производит тяжкое впечатление. Но ведь большая часть приведенных здесь примеров говорит лишь о пристрастии к кровавым зрелищам, чем грешило подавляющее большинство римлян той поры. А два последних случая кажутся мало правдоподобными. Ну какой интерес смотреть на арене «сражение» гладиатора со служителями цирка или рабом, спеленутым тогой (и почему раб в тоге?)...
Тацит называет целых десять имен казненных, все они связаны с заговором Мессалины и Силия (об этом ниже), который в случае успеха повлек бы за собой гибель Клавдия. Два упомянутых Тацитом случая самоубийства придворных (Валерия Азиатика и Луция Силана) следует отнести на счет интриг последней жены Клавдия, Агриппины. Складывается впечатление, что Клавдий был, конечно, жесток, но явно уступал в этом и Калигуле, и старому Тиберию, и молодому Октавиану-Августу.
Зато его отличала уже известная нам трусость. И непременно связанная с ней подозрительность (а также жестокость — со страху!). Всюду, куда он выходил, его сопровождала внушительная охрана. Собираясь навестить больного, он приказывал заранее обыскать его спальню и обшарить постель. Посетителей, которые являлись с приветствиями, тщательно обыскивали. Трусостью объясняется и его безграничная вера доносчикам.
«Не было доноса, — утверждает Светоний, — не было доносчика столь ничтожного, чтобы он по малейшему подозрению не бросился защищаться или мстить». (Там же, 37)
Вот как, например, описывает тот же историк конец Аппия Силана, посмевшего до того отвергнуть домогательства жены Клавдия:
«Уничтожить его сговорились Мессалина и Нарцисс, поделив роли: один на рассвете ворвался в притворном смятении в спальню к хозяину, уверяя будто видел во сне, как Аппий на него напал. Другая с деланным изумлением стала рассказывать, будто и ей вот уже несколько ночей снится тот же сон. А когда затем, по уговору, доложили, что к императору ломится Аппий, которому накануне было велено (очевидно, доносителями. — Л.О.) явиться в этот самый час, то это показалось таким явным подтверждением сна, что его тотчас приказано было схватить и казнить». (Там же)
Известно, что Клавдий был вспыльчив и в припадке гнева безрассуден. Но главной слабостью императора было исключительное женолюбие. Оно пагубным образом проявлялось, в частности, зависимостью его поступков от мнений, требований или капризов очередной жены. А жен было несколько, и о них придется рассказать подробнее. Слово «женолюбие» я употребил в буквальном смысле — любви к женам, а не в смысле «сексуальной озабоченности» (для простого удовлетворения плотских вожделений, в конце концов, существовали рабыни). Клавдию важно было иметь жену из высшего римского круга.
В юности Клавдий был помолвлен сначала с правнучкой самого Августа, потом с девушкой из славного древнего рода диктатора Камилла. Одна помолвка расстроилась по причинам политического характера. Вторая невеста умерла. В первый раз он женился на дочери триумфатора, второй раз — на дочери бывшего консула (не буду загромождать рассказ лишними именами). С первой женой он развелся из-за ее наглого развратного поведения, со второй — из-за непрестанных мелких ссор. Третья жена, Мессалина, была правнучкой Октавии — сестры Августа. Как видим, все жены из самых знатных аристократических семей. Все три женитьбы (на Мессалине — в 39-м году) относятся к периоду жизни Клавдия, когда в окружении принцепсов над ним смеялись и никому в голову не приходило, что это — будущий император. Мне кажется, что в своих женитьбах Клавдий искал опору для преодоления комплекса неполноценности. Такое предположение становится еще более обоснованным, если обратить внимание на внешность Клавдия. При первом знакомстве с Клавдием я использовал кое-какие штрихи из описания Светония. Сейчас я процитирую подробности.
«...когда он ходил, ему изменяли слабые колени, а когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое: смех его был неприятен, гнев — отвратителен: на губах у него выступала пена, из носа текло, язык заплетался, голова тряслась непрестанно...» (Светоний. Божественный Клавдий, 30)
Известно также, что Клавдий заикался. Главной привлекательной чертой римлянина, мужественностью, он, как мы помним, не отличался. Что же до образованности, простоты, заботливости и даже чувства юмора, то эти качества в древнем Риме котировались невысоко. Потому-то так горячо искал Клавдий самоутверждения в престижном браке. Потому так угождал своим женам, так готов был служить каждому их капризу, прислушиваться к каждому наговору.
Впрочем, ему, наверное, было свойственно и женолюбие в смысле чисто сексуальном. Светоний роняет в адрес Клавдия замечание, что «к женщинам страсть он питал безмерную». Эту его слабость подтверждает и то, что Клавдий прожил девять лет в браке с Мессалиной. Судя по всему, она была женщиной страстной и весьма несдержанной в своих любовных связях. Клавдий изо всех сил старался не замечать распутства своей жены. Видимо, она умела прогнать его обиду с помощью извечного оружия женщин, которым, надо полагать, владела в совершенстве. В 41-м году брак новоизбранного принцепса еще выглядит прочно. Мессалина недавно родила сына, которого потом назовут Британик (в честь пресловутого похода Клавдия в Британию). В следующем году в семье императора появится дочь Октавия.
Драма в семье Клавдия начинается в 47-м году. Тацит (Анналы II, 12-35) описал ее так живо, что имя Мессалины стало нарицательным для бесстыдной, дерзкой, развращенной женщины. Вкратце эта действительно необыкновенная история такова. Мессалина воспылала страстью к некоему Гаю Сильвию — знатному и красивейшему из молодых людей Рима, — развела его с женой и сделала своим любовником. Она открыто посещала его дом, наделяла деньгами, дарила рабов и утварь из дворца. Об этом знали все, но донести Клавдию боялись. Однако в следующем году произошло нечто не только невообразимое, но и грозившее тяжкими последствиями всему окружению принцепса. Воспользовавшись отсутствием Клавдия, уехавшего по делам в Остию, Мессалина при живом муже-императоре решила сыграть свадьбу со своим любовником. Надо полагать, что она собиралась передать ему и верховную власть в государстве (Сильвий как раз был избран консулом). Тацит не может скрыть изумления перед такой дерзостью:
«Я знаю, — пишет он, — покажется сказкой, что в городе, все знающем и ничего не таящем, нашелся среди смертных столь дерзкий и беззаботный, притом консул на следующий срок, который встретился в заранее условленный день с женой принцепса, созвав свидетелей для подписания их брачного договора, что она слушала слова совершавших обряд бракосочетания, надевала на себя свадебное покрывало, приносила жертвы перед алтарем богов, что они возлежали среди пирующих, что тут были поцелуи, объятия, наконец, что ночь была проведена ими в супружеской вольности. Но ничто мною не выдумано, чтобы поразить воображение, и я передам только то, что слышали старики и что они записали». (Тацит. Анналы, II, 27)
Все придворные спасовали, и только Нарцисс отправился в Остию и рассказал о случившемся императору. Они возвращаются в Рим, направляясь, разумеется, в лагерь преторианцев. Мессалина пытается перехватить Клавдия по дороге, но Нарциссу удается ей помешать. По пути в лагерь, чтобы побороть нерешительность принцепса, Нарцисс завозит его в дом Сильвия и показывает дворцовую утварь, подаренную Мессалиной... Преторианцы возмущены и требуют наказания виновных. Приводят Сильвия и казнят. Та же участь постигает десятерых участников преступления. Развязка близится, но окончательно не предопределена. Вот как описывает Тацит завершение драмы:
«Между тем Мессалина, удалившись в сады Лукулла, не оставляла попыток спасти свою жизнь и сочиняла слезные мольбы, питая некоторую надежду и порою впадая в бешенство — столько в ней было надменности даже в грозных для нее обстоятельствах. И не поспеши Нарцисс разделаться с нею, она обратила бы гибель на голову своего обвинителя. Ибо, воротившись к себе и придя от обильной трапезы в благодушное настроение, Клавдий, разгоряченный вином, велит передать несчастной (как утверждают, он употребил именно это слово), чтобы она явилась на следующий день представить свои оправдания. Услышав это и поняв, что гнев принцепса остывает, что в нем пробуждается прежняя страсть и что в случае промедления следует опасаться наступающей ночи и воспоминаний о брачном ложе, Нарцисс торопливо покидает пиршественный покой и отдает приказание находившимся во дворце центурионам и трибуну немедля умертвить Мессалину: таково повеление императора. В качестве распорядителя и свидетеля ее умерщвления к ним приставляется вольноотпущенник Эвод. Отправившись тотчас в сады Лукулла, он застает Мессалину распростертою на земле и рядом с ней ее мать Лепиду, которая, не ладя с дочерью, пока та была в силе, прониклась к ней состраданием, когда она оказалась на краю гибели, и теперь уговаривала ее не дожидаться прибытия палача: жизнь ее окончена, и ей ничего иного не остается, как избрать для себя благопристойную смерть. Но в душе, извращенной любострастием, не осталось ничего благородного. Не было конца слезам и бесплодным жалобам, как вдруг вновь прибывшие распахнули ворота, и пред нею предстали безмолвный трибун и осыпавший ее площадными ругательствами вольноотпущенник.
Лишь тогда впервые осознала она неотвратимость своего конца и схватила кинжал. Прикладывая его дрожащей рукой то к горлу, то к груди, она не решалась себя поразить, и трибун пронзил ее ударом меча. Тело ее было отдано матери. Пировавшему Клавдию сообщили о ее смерти, умолчав о том, была ли она добровольной или насильственной. И он, не спросив об этом, потребовал чашу с вином и ни в чем не отклонился от застольных обычаев». (Там же. 11; 37, 38)
Проявленное Клавдием безразличие к известию о смерти Мессалины отмечает и Светоний. Я думаю, что эту сдержанность вполне можно отнести на счет скрытности и лицемерия принцепса. Ведь он должен был испытывать весьма противоречивые чувства. Однако Светоний приписывает такую реакцию его забывчивости и безумности, уточняя эти характеристики греческими терминами, которые можно перевести, как рассеянность и незрячесть. По этому поводу он дальше высказывает соображения о некоторой умственной неполноценности Клавдия. Я уже имел случай оспорить такое предположение. Сейчас придется рассмотреть аргументы историка:
«В словах и поступках, — пишет Светоний, — обнаруживал он часто такую необдуманность, что казалось, он не знает и не понимает, кто он, с кем, где и когда говорит. Однажды, когда речь шла о мясниках и виноторговцах, он воскликнул в сенате: «Ну разве можно жить без говядины, я вас спрашиваю?» — стал расписывать, сколько добра в старое время бывало в тех харчевнях, откуда он сам когда-то брал вино. Поддержав одного кандидата в квесторы, он объяснил это, между прочим, тем, что когда он лежал больной и просил пить, отец этого человека поднес ему холодной воды. Об одной свидетельнице, вызванной в сенат, он заявил: «Это отпущенница моей матери, из горничных, но меня она всегда почитала как хозяина, говорю об этом потому, что в моем доме и посейчас иные не признают меня за хозяина». (Светоний. Божественный Клавдий, 40)
Приведенные Светонием реплики можно счесть неуместными, но ничего нелепого в них нет. Они даже вызывают уважение проявленным в них чувством благодарности. Создается впечатление, что Светоний идет на поводу у обиженных аристократов, современников Клавдия, которые за глаза попрекали императора не только жестокостью, но и глупостью. Кстати, у Тацита этого второго упрека нет вовсе, а ведь он жил раньше Светония и, пожалуй, мог слушать рассказы стариков — очевидцев правления Клавдия. Да и сам Светоний несколько неожиданно заканчивает свой перечень словами:
«А ведь он не лишен был ни учености, ни красноречия, и всегда с усердием занимался благородными искусствами». (Там же)
Клавдий продолжал писать и в годы своего правления. Закончил Римскую историю в сорока трех книгах (мы бы их назвали главами), написал «весьма ученое», по отзыву того же Светония, сочинение «В защиту Цицерона против писаний Азиния Галла». Я думаю, что интеллигентность Цицерона импонировала Клавдию. Еще он написал двадцать книг по истории этрусков и восемь — по истории Карфагена (то и другое — по-гречески). Все это как-то не вяжется с обликом чуть ли не дебильного правителя. Хотя и здесь Светоний добавляет «ложку дегтя», утверждая, что восемь книг о своей жизни Клавдий написал «не столько безвкусно, сколько бестолково».
Сразу же после смерти Мессалины началась борьба между приближенными вольноотпущенниками, каждый из которых предлагал новую невесту для императора. Учитывая склонность Клавдия поддаваться женскому влиянию, выбор между претендентками становился делом государственной важности. Быть может, предполагая некоторую неуверенность в себе пятидесятивосьмилетнего вдовца, Нарцисс сделал ставку на разведенную вторую жену Клавдия, Петину, о которой по данному поводу вспомнил и сам принцепс. А всемогущий министр финансов Паллант неожиданно предложил в качестве невесты родную племянницу императора, Агриппину младшую.
Старшей дочери Германика в ту пору было тридцать три года. Она успела дважды побывать замужем и овдоветь (злые языки утверждали, что своего второго мужа она отравила). От первого брака у нее был одиннадцатилетний сын, чье полное имя (по родному отцу) было Луций Домиций Агенобарб. Потом, после усыновления в род Клавдиев, он получит распространенное в этом роду прозвище Нерон, под которым и войдет в историю как пятый римский император. Его и Агриппину младшую читатель легко отыщет в левом нижнем углу таблицы родового древа семьи Августа.
Существенным аргументом Палланта в пользу своей протеже было то, что в таком браке Клавдий укреплял свое положение, породнившись с родом Юлиев. Агриппина младшая была правнучкой Августа. К тому же и дочерью Германика, миф о котором все еще жил в римском народе. Впрочем, и сама невеста не теряла времени даром. Снедаемая честолюбием, она не жалела для бедного дяди поцелуев и прочих нежностей, нередко выходивших за рамки чисто родственной привязанности. Совмещение прямого женского соблазна с интересами укрепления государства дало ожидаемый эффект: выбор был сделан в пользу Агриппины. Клавдий уже сожительствует с ней, но брак не оформляется: женитьба на племяннице — дело в Риме неслыханное. Такой союз считается кровосмесительным. Проблема была решена с помощью послушного сената. Приближенный принцепса Вителлий обращается к сенаторам с пылкой речью, в которой превозносит знатность, безупречность нрава и способность к деторождению Агриппины, а также скромность и сдержанность Клавдия. Указывает на великую пользу для государства, которую обещает этот брак.
Согласие было дано и даже, по настоянию Клавдия, оформлено в виде постановления сената, где браки между дядями и племянницами разрешались раз и навсегда. Немедленные последствия новой женитьбы Клавдия Тацит описывает в следующих сильных выражениях:
«Этот брак принцепса явился причиною решительных перемен в государстве: всем стала заправлять женщина, которая вершила делами Римской державы, отнюдь не побуждаемая разнузданным своеволием, как Мессалина. Она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке. На людях она выказывала суровость и еще чаще — высокомерие. В домашней жизни не допускала ни малейших отступлений от строгого семейного уклада, если это не способствовало укреплению ее власти. Непомерную жадность к золоту она объясняла желанием скопить средства для нужд государства». (Там же, 12, 7)
Заметим, что «правление» Агриппины опиралось на квалифицированную поддержку. Бывший ходатай за ее интересы и «первый министр» Клавдия, Паллант, стал вскоре любовником новобрачной.
Еще во время подготовки брака с Клавдием, учитывая преклонный возраст императора, Агриппина стала заботиться о более отдаленном будущем. С этой целью она задумала женить своего сына на дочери Клавдия. Хотя Октавии в ту пору едва исполнилось шесть лет, она уже была обручена со знатным юношей Луцием Силаном. С помощью своего приспешника Вителлия заботливая мать возводит на Силана клеветническое обвинение в кровосмесительной связи с родной сестрой. Обработанный совместными усилиями Агриппины и Вителлия, Клавдий объявляет несчастному жениху, что его брак с Октавией не состоится. Затем следует ничем не мотивированное исключение из сенаторского сословия. Хорошо понимая, что его ожидает дальше, Силан в день свадьбы Агриппины и Клавдия кончает жизнь самоубийством. Быть может, для того, чтобы сгладить впечатление от этой смерти, Агриппина добивается возвращения из ссылки и даже избрания претором знаменитого писателя и философа Аннея Сенеки. Ему уже пятьдесят пять лет. Семь лет назад, благодаря интригам Мессалины, он был сослан Клавдием на Корсику. Теперь Сенеке поручают воспитание маленького Домиция (будущего императора Нерона). Не теряя времени, Агриппина организует обручение своего сына с Октавией. Ее влияние и могущество растут с головокружительной быстротой. Отлично понимая, что власть должна опираться на силу, она добивается от Клавдия и сената замены двух прежних префектов претория на своего ставленника, Афрания Бурра. Это выдающийся военачальник, пользующийся доброй славой, но ему, как замечает Тацит, «было известно, кому он обязан своим назначением. Вместе с тем, — продолжает историк, — Агриппина стремилась придать себе как можно больше величия: она поднялась на Капитолий в двуколке, и эта почесть, издавна воздававшаяся только жрецам и святыням, также усиливала почитание женщины, которая — единственный доныне пример — была дочерью императора (в смысле главнокомандующего — Германика), сестрою, супругою и матерью принцепсов (соответственно Калигулы, Клавдия и Нерона. — Л.О.)». (Там же, 12, 42)
В другом случае, уже в 52-м году, описывая пленение знаменитого вождя британцев Каратака, его благородную речь перед императором и строем преторианцев в Риме, а затем прощение, которое он и его родные получают от Клавдия, Тацит не забывает упомянуть такую немаловажную подробность этой сцены:
«После того, как с них сняли оковы, они те же хвалы и выражения благодарности, с какими перед тем обратились к принцепсу воздали и Агриппине, которую увидели невдалеке на другой трибуне. Пребывание женщины перед строем римского войска было, конечно, новшеством и не отвечало обычаям древних, но сама Агриппина не упускала возможности показать, что она правит вместе с супругом, разделяя с ним добытую ее предками власть». (Там же, 12, 37)
Вместе с ростом влияния Агриппины происходило и возвышение ее сына в ущерб положению родного сына Клавдия, Британика. В 50-м году император усыновил пасынка, разрешив ему, как я уже упоминал, называться Нероном. В четырнадцать лет Нерона на два года ранее срока облачили в мужскую тогу. Раболепствующий сенат тут же постановил, что через пять лет он получит звание консула, а пока будет носить почетный титул главы римской молодежи. На устроенном по этому поводу цирковом представлении Нерон появился в одеянии триумфатора, а Британик, в детской тоге — претексте. Вскоре из преторианских когорт и дворца под тем или иным предлогом были удалены те военные трибуны, центурионы и вольноотпущенники, которых Агриппина подозревала в симпатиях к Британику. В 53-м году шестнадцатилетний Нерон сочетался браком с одиннадцатилетней дочерью Клавдия Октавией. Британику в это время едва исполнилось двенадцать лет. Вопрос о будущем преемнике престарелого принцепса был практически решен...
Глухая, безлунная осенняя ночь тяжко навалилась на Палатинский холм. Глухо и пустынно в комнатах дворца. Чадят светильники, вырывая у темноты ненадежные, скудно освещенные островки. По тусклой облицовке стен мечется, подпрыгивает огромная, уродливая тень. То становится меньше, расплывается, тускнеет и раздваивается, то вдруг чернеет, обозначается резко, растет, вздымается до самого потолка. От одного островка света к другому, третьему и обратно без остановки ковыляет император. Его гонит тревога. Сомнения, тревога, а если признаться честно — страх. С тех пор как Нарцисс рассказал ему о неверности Агриппины (будто он сам не догадывался?), его не отпускает страх. Раз это известно всем, они пойдут дальше. Если приказать арестовать ее и Палланта? Послушаются ли преторианцы? Ту ночь в караулке их лагеря он помнит так, как будто это было вчера. Нет-нет! Бурр примет сторону Агриппины. Зачем он только женился, зачем усыновил Нерона? После его смерти они погубят Британика. И завещание не поможет. Признают недействительным, как у Тиберия... Вдруг вспомнилось, как выносил Британика к солдатам и к народу в цирке. Совсем еще крошечного. Поднимал над собой, молил богов о его будущем. Под рукоплескания толпы... На днях он не сдержался: обнял мальчика и пожелал ему скорее вырасти, чтобы принять у отца отчет в делах. Напрасно, ах, напрасно! Ей, конечно, донесли. А вчера и того хуже: захмелев, сказал что-то о том, что все его жены беспутны, но не остаются безнаказанными. Какой злой гений подсказал ему эти слова? Не следует пить вино... Но такая вдруг наваливается тоска. Надо держаться! Не поддаваться тоске! И быть очень осторожным. Пока не подрастет Британик. Чтобы перед всем народом и сенатом объявить его наследником... А примет ли народ? Ведь Нерон — внук Германика... Нелепая черная тень мечется и мечется по тусклым стенам полутемного дворца...
В третий день до октябрьских календ (29 сентября) 54-го года император Клавдий умер от яда. Тацит не сомневается в том, что его отравила Агриппина и даже сообщает многие подробности, рассказанные, как он утверждает «писателями того времени». По его версии, яд был подмешан к любимому грибному блюду. Действие его показалось недостаточно надежным. Тогда находившийся в сговоре с Агриппиной врач как бы затем, чтобы вызвать рвоту, ввел в горло принцепса перо, смазанное быстродействующим ядом. Светоний менее категоричен. Он пишет, что умер Клавдий от яда, как признают все, «но кто и где его дал, о том говорят по-разному». По одной версии, это произошло за трапезой жрецов на Капитолии, по другой — за домашним обедом. В этой второй версии Светоний тоже называет отравительницей Агриппину.
«Смерть его, — заключает Светоний, — скрывали, пока не обеспечили все для его преемника. Приносили обеты о его здоровье, словно он был болен, приводили во дворец комедиантов, словно он желал развлечься... Погребенный с пышностью, подобающей правителю, он был сопричтен к богам. Впоследствии Нерон отказал ему в этих почестях и отменил их, но затем Веспасиан восстановил их вновь». (Светоний. Божественный Клавдий, 45)
Завещание Клавдия оглашено не было.
Глава IV Нерон
Большинство наших современников имеют весьма категорическое суждение об императоре Нероне. Деспот, кровавый тиран, массовые казни, патологическая жестокость и прочее в том же роде. Наверняка вспомнят и о грандиозном пожаре, уничтожившем более половины Рима. Город был подожжен по приказу императора только для того, чтобы он мог полюбоваться потрясающим зрелищем. Все это так — и не совсем так. По поводу пожара многое осталось неясным — мы это еще обсудим. Что же касается казней, то все они, если не считать «разборок» в кругу императорской семьи, относятся лишь к двум последним годам четырнадцатилетнего правления Нерона, после раскрытия широкого заговора с целью его убийства. Десять предшествовавших лет, хотя и не заслуживают особой похвалы, никак не могут быть названы годами тирании. Припомним еще, что после смерти императора объявились один за другим целых три лже-Нерона. И у них было немало приверженцев. Приходится признать, что многие современники Нерона были о нем куда лучшего мнения, чем мы. По-видимому, этот император был фигурой более сложной, чем представляют многие. А, значит, имеет смысл попытаться проследить эволюцию его личности.
Луций Домиций Агенобарб, получивший позднее прозвище Нерон (для простоты будем так его и называть впредь), родился в декабре 37-го года. Наследственность у него была явно не блестящая. С его матерью, Агриппиной младшей, мы уже хорошо знакомы. Отца Нерона, Гнея Домиция Агенобарба, Светоний называет человеком, «гнуснейшим во всякую пору его жизни», и подкрепляет это весьма убедительными примерами. Малопочтенный родитель умер, когда будущему императору было три месяца от роду Отдадим должное отцовской прозорливости: по свидетельству того же Светония, в ответ на поздравления с рождением сына отец воскликнул, что «от него и Агриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества».
Нерон появился на свет как раз тогда, когда произошел резкий перелом в правлении Калигулы — от его первого, благостного периода к деспотии. Она, в частности, как мы помним, была отмечена сожительством императора со всеми тремя родными сестрами. Для двух из них, в том числе Агриппины, эта близость закончилась ссылкой. Малыш остался на попечении сестры отца, Домиции Лепиды, женщины взбалмошной и развращенной. Но племянника она любила и баловала. Когда ему едва исполнилось три года, Калигула был убит. Вслед за этим вернулась и Агриппина. Она забрала сына и принялась воспитывать его в строгости. Между двумя женщинами завязалась борьба за влияние на ребенка. Его симпатии, надо полагать, были скорее на стороне ласковой тетки, чем суровой и требовательной матери. Тем более, что мать вскоре второй раз вышла замуж.
Ситуация осложнялась еще и враждебным отношением к Агриппине и ее сыну первой жены Клавдия, Мессалины. Казалось бы, мать родного сына императора не должна была сомневаться, что тот со временем унаследует верховную власть в Риме. Но Мессалина отдавала себе отчет в том, что Клавдий стар, Британик на четыре года моложе Нерона, а симпатии римлян все еще принадлежат дочери и внуку Германика. Если император в скором времени умрет, бразды правления могут оказаться в руках Нерона и его энергичной матери. Взаимная неприязнь двух женщин подогревалась еще и высокомерием Агриппины — правнучки божественного Августа. Недружелюбные отношения с ранних детских лет сложились и между сыновьями. Их питали обида и зависть, которые Нерон почерпнул у матери. Добавим к этому, что Мессалина находилась в близких родственных отношениях с Домицией Лепидой. Ясно, что детские годы Нерона протекали в сложной обстановке, учившей его хитрить и лицемерить.
Маленький Нерон не интересовался военным делом и не мечтал о подвигах на поле брани. Его обучали музыке, живописи и другим благородным наукам. Одно время он увлекался чеканкой, приобщился и к поэзии. Но главным его увлечением стали конные состязания. Сегодня его можно было бы назвать настоящим «фанатом» этого спорта.
«К скачкам его страсть, — пишет Светоний, — была безмерна с малых лет. Говорить о них он не уставал, хотя ему это и запрещали. Однажды, когда он с товарищами оплакивал смерть «зеленого» возницы (состязавшиеся делились на партии, различавшиеся цветом одеяний), которого кони сбросили и проволокли по арене, учитель сделал ему замечание, но он притворился, что речь шла о Гекторе (герое Троянской войны. — Л.О.). Уже став императором, он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости»... (Светоний. Нерон, 22)
Мечта о славе воплощалась для него в триумфе возницы. Он воображал себя осаживающим перед трибунами квадригу взмыленных коней под восторженные крики зрителей. Эту неприличную для отпрыска знатной фамилии мечту (возницами выступали вольноотпущенники или рабы) он таил от всех и особенно от суровой матери. Одиноким волчонком скрывался мальчик в задних покоях дворца Клавдия. Избегал встреч с придворными — они его приветствовали небрежно, а перед Британиком заискивали. Самолюбие внука Германика страдало.
Вдруг в его судьбе произошла крутая перемена. Двор Клавдия был потрясен сначала скандальной свадьбой Мессалины, потом ее убийством и казнью соучастников преступления. Вряд ли Агриппина позаботилась скрыть от десятилетнего сына свою радость по поводу случившегося. Как он воспринял эти первые на его сознательной памяти расправы во дворце? Под влиянием матери — скорее всего, как нечто вполне естественное и справедливое. Затем последовало замужество Агриппины. Старый император, дедушка Клавдий, стал отцом Нерона, а сам он — женихом противной девчонки Октавии, своей сводной сестры. Утешало лишь возвышение над Британиком. Если Клавдия не было в цирке, возницы, совершавшие круг почета, приветствовали Нерона — старшего сына императора.
Сенаторы и придворные теперь почтительны с Нероном. Британика он удостаивает снисходительным покровительством. Однако в семье каждый шаг юноши по-прежнему контролирует деспотичная мать. Она вызволила из ссылки и приставила к нему в качестве воспитателя Сенеку. На сенатора, знаменитого писателя и философа возложены обязанности, которые обычно поручались педагогу — ученому рабу. Юному Нерону приказано повиноваться почтенному мужу беспрекословно. Сам он со страхом, а придворные с недоумением ожидают, к чему приведет это странное новшество. Можно предполагать, что Агриппина приблизила к себе Сенеку не столько ради воспитания сына, сколько для усиления собственной позиции во дворце. Ну, а как отнесся к такому назначению сам философ?
Система взглядов и особенно нравственная позиция Аннея Сенеки оказали сильное влияние не только на его современников, но и на мыслящих людей всех последующих поколений. По смыслу основных положений мировоззрения Сенеки его считают представителем учения стоиков. В чистом виде стоическая философия адресована мудрецу, который путем разумного совершенствования своей природы стремится к добродетели, в самой себе заключающей смысл и счастье жизни человека. Критерием добродетели является соответствие разумному и справедливому началу («логосу»), разлитому во всем сущем. В отличие от этой, сугубо индивидуалистической, концепции, стоицизм Сенеки активен. Он предполагает участие философа в общественной и государственной деятельности, направленное на приближение повседневной жизни сограждан к нравственному идеалу. На этом пути неизбежны продиктованные реальной действительностью компромиссы. Но за ними всегда должно стоять сознание нравственной нормы, которое мы вправе назвать совестью. Это сознание указывает путь к разумному служению обществу и, вместе с тем, к сохранению внутренней свободы. Понятие совести как идущей от разума, но пережитой чувством нравственной нормы характерно для стоицизма Сенеки. Естественно, что наибольший эффект общественного служения философа может быть достигнут в случае внушения этой нормы всевластному правителю. Сенека разделял взгляд древних стоиков, согласно которому монархия при справедливом и милосердном царе может быть залогом благоденствия государства. Поэтому он так серьезно и ревностно отнесся к своей миссии.
Наверное, поначалу Сенеке стоило немало усилий пробиться через оболочку недоверчивой замкнутости своего питомца. Но у воспитателя хватило терпения и настойчивости. Постепенно честолюбие юноши стало откликаться на перспективу всеобщей любви к милостивому и мудрому правителю. Незаметно для себя он подчинился влиянию могучего ума и яркой личности философа. В какой-то мере уроки учеником были усвоены. Несколько первых, относительно счастливых для Рима лет правления Нерона служат прямым тому доказательством. Однако глубинная, наследственная его природа являла собой малоблагоприятную почву для полного принятия идеалов нравственного совершенства, которого добивался учитель. В конечном счете это тоже было насилие, от которого Нерону в свое время предстояло освободиться, так же как от деспотизма матери. Об этом речь впереди...
В 53-м году, как уже упоминалось, Нерона женят на ненавистной Октавии. Годом позже Агриппина отравит престарелого императора. Будут ли соучастниками этого преступления шестнадцатилетний Нерон и его воспитатель? Наверное, нет. Но как им не знать или хотя бы не догадываться о том, кто был его организатором? Не берусь вообразить, как проходило обсуждение случившегося учителем и учеником. Для Сенеки оно, наверное, было тяжким испытанием. Из него, я полагаю, он вынес твердую решимость оградить своего питомца (а значит, и Римское государство) от пагубного влияния и властных устремлений матери-убийцы. Для Нерона же отравление отчима, вопреки усилиям Сенеки, послужило практическим уроком вседозволенности, который он запомнил.
Можно не сомневаться в том, что после смерти Клавдия Сенека и префект претория Бурр заключили тайный союз против Агриппины, хотя и были оба обязаны ей своим возвышением. С этим союзом они связывали надежду на процветание отечества под властью юного принцепса, которого надеялись совместными усилиями направить на верный путь. Вот как описывает Тацит момент воцарения Нерона:
«Как бы убитая горем и ищущая утешения Агриппина сразу же после кончины Клавдия припала к Британику и заключила его в объятия. Называя его точным подобием отца, она всевозможными ухищрениями не выпускала его из покоя, в котором они находились...
И вот в полдень, в третий день до октябрьских ид, внезапно широко распахиваются двери дворца, и к когорте, по заведенному в войске порядку охранявшей его, выходит сопровождаемый Бурром Нерон. Встреченного, по указанию префекта, приветственными криками, его поднимают на носилках. Говорят, что некоторые воины заколебались: озираясь по сторонам, они спрашивали, где же Британик. Но так как никто не призвал их к возмущению, им только и оставалось покориться. Принесенный в преторианский лагерь, Нерон, произнеся подобавшую обстоятельствам речь и пообещав воинам столь же щедрые, как его отец, денежные подарки, провозглашается императором. За решением войска последовали указы сената. Никаких волнений не было и в провинциях». (Тацит. Анналы, 12, 69)
Первое появление Нерона в сенате оставило самое благоприятное впечатление. Он сказал, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом управлять государством. Он не приносит с собой ни ненависти, ни обид, ни жажды отмщения. Не намерен становиться единоличным судьей во всех делах, не потерпит никакой интриги и продажности. Его дом будет решительно отделен от государства. Пусть сенат выполняет свои издревле установленные обязанности. Пусть Италия и провинции обращаются по своим делам к консулам, а те советуются с сенатом. И действительно, сенат в ближайшие за тем годы принял целый ряд самостоятельных решений. Во всем этом явно просматривается руководство Сенеки.
Молодой принцепс назначил ежегодное пособие сенаторам из знатных, но обедневших родов. Народу раздал по сто денариев. Сто миллионов из своих личных средств внес в казначейство. Отменил ряд обременительных податей. Позднее специальным распоряжением ограничил произвол откупщиков в провинциях. Награды доносчикам сократил вчетверо. Объявил, что править будет по начертаниям Августа и не пропустит ни одного случая показать свою щедрость и милость. Когда высшие магистраты, согласно обычаю, присягали на верность всем распоряжениям принцепса, Нерон освободил от этой присяги консула — своего коллегу. «За что сенаторы превознесли его восхвалениями, дабы юная душа, поощренная славой столь малых дел, влеклась к свершению больших». (Тацит)
Однако все пружины повседневной власти, как и при жизни Клавдия, еще оставались в руках Агриппины и Палланта. Жестокая мать императора воспользовалась этим в первую очередь для сведения личных счетов. Домицию Лепиду своими наговорами она подвела под смертный приговор еще при жизни Клавдия. Теперь же настала очередь Нарцисса, которому Агриппина не могла простить противодействия своему замужеству. Еще недавно столь могущественный министр Клавдия был заключен в темницу, где его лишениями и жестоким обращением довели до смерти. Всем своим поведением Агриппина давала понять, что она не просто мать принцепса, а его соправительница. Как-то раз, когда Нерон принимал армянских послов, она явилась в приемный покой дворца и вознамерилась подняться на возвышение, где находился принцепс, чтобы сесть рядом с ним. Все оцепенели, и только Сенека спас Нерона от бесчестия, подсказав ему спуститься, вниз навстречу Агриппине, и выказать ей знаки сыновней почтительности.
Естественно, что такого рода поползновения усугубляли давно копившуюся острую неприязнь сына к матери. Кризис, как полагается, наступил благодаря вмешательству другой женщины. Нерон воспылал страстью к вольноотпущеннице по имени Акте. Это была его первая интимная связь. Встречи с Акте происходили поначалу скрытно. Однако «искушенная в таинствах любовного соблазна гетера сумела так прочно привязать к себе восемнадцатилетнего правителя, что он начал все более выходить из-под опеки матери. Агриппина узнает об увлечении Нерона и с ревнивым неистовством набрасывается на сына, говоря, что его привязанность оспаривает у нее вчерашняя рабыня. Она всячески поносит предмет его страсти и требует изгнания соблазнительницы. Эффект, разумеется, обратный. Нерон открыто порывает с матерью и первым делом отстраняет Палланта от заведования финансами. Наверное, здесь инициатива принадлежала Сенеке. Хотя не следует недооценивать желание молодого человека показать себя мужчиной в глазах его первой возлюбленной. И еще радостное чувство освобождения от многолетней, ненавистной опеки.
Агриппина вне себя от ярости грозит Нерону тем, что вместе с Британиком (ему уже исполняется четырнадцать лет) отправится в лагерь преторианцев. Как вдова Клавдия, она призовет их поставить во главе государства кровного сына покойного императора. «Пусть солдаты, — кричит она, — выслушают, с одной стороны, ее, дочь Германика, а с другой — калеку Бурра и изгнанника Сенеку, которые тщатся увечною рукой и риторским языком управлять римским государством». Угроза, по-видимому, вполне реальная или, во всяком случае, представляется таковой Нерону. Детская неприязнь к сводному брату перерастает в смесь страха и ненависти. Возникает мысль об убийстве. Только год прошел после смерти Клавдия. Картина его отравления еще стоит перед глазами.
Следуя примеру собственной матери, Нерон приказывает трибуну преторианской когорты, у которого под замком содержится знаменитая отравительница Локуста, доставить ему быстродействующий яд. Зловещая сцена отравления Британика живо описана Тацитом:
«Дети принцепсов, в соответствии с давним обычаем, обедали вместе во своими сверстниками из знатных семейств, сидя за отдельным и менее обильным столом на виду у родителей. Обедал за таким столом и Британик, но так как его кушанья и напитки отведывал выделенный для этого раб, то, чтобы не был нарушен установленный порядок или смерть их обоих не разоблачила злодейского умысла, была придумана следующая уловка. Еще безвредное, но недостаточно остуженное и уже отведанное рабом питье передается Британику. Отвергнутое им как чрезмерно горячее, оно разбавляется холодной водой с разведенным в ней ядом, который мгновенно проник во все его члены, так что у него разом пресеклись голос и дыхание. Сидевших вокруг него охватывает страх, и те, кто ни о чем не догадывался, в смятении разбегаются, тогда как более проницательные замирают, словно пригвожденные каждый на своем месте, и вперяют взоры в Нерона. А он, не изменив положения тела, все так же полулежа и с таким видом, как если бы ни о чем не был осведомлен, говорит, что это дело обычное, так как Британик с раннего детства подвержен падучей, и что понемногу к нему возвратится зрение и он придет в чувство. Но в чертах Агриппины мелькнул такой испуг и такое душевное потрясение, несмотря на ее старание справиться с ними, что было очевидно, что для нее, как и для сестры Британика Октавии, случившееся было полной неожиданностью, Ведь Агриппина отчетливо понимала, что лишается последней опоры и что это братоубийство — прообраз ожидающей ее участи. Октавия также, невзирая на свои юные годы, научилась таить про себя и скорбь, и любовь, и все свои чувства. Итак, после недолгого молчания возобновилось застольное оживление». (Там же, 13, 16)
Тело Британика было в ту же ночь, почти без почестей, предано погребальному огню. В своем указе Нерон объяснял причины такой поспешности установлением предков скрывать от глаз людских похороны безвременно умерших. Там же он заявлял, что, потеряв в лице брата помощника и оставшись единственным отпрыском державного рода Клавдиев, может надеяться только на поддержку сената и народа. Одновременно с этим принцепс щедро одарил виднейших из своих приближенных, как бы приглашая их к соучастию. В какой мере это преступление сумели оправдать Сенека и Бурр, мы не знаем. Во всяком случае они не отказались от своей задачи направления деятельности властителя. Быть может, надеясь на его молодость и понимая, что никто, кроме них, не сможет помешать развитию жестоких инстинктов Нерона.
Агриппина вполне осознала грозящую ей опасность, но отнюдь не отказалась от своих претензий на власть. Она устраивает тайные совещания со своими друзьями, лихорадочно добывает деньги, уважительно принимает у себя трибунов и центурионов претория. Всячески обхаживает уцелевших представителей старой знати, превознося их доблести и подыскивая среди них будущего главу заговора.
Активность Агриппины не остается незамеченной. Нерон предпринимает энергичные ответные меры. Он велит удалить охранявшие ее караулы и личных телохранителей-германцев. Затем выдворяет из императорского дворца и поселяет в доме ее бабки, Антонии. Он изредка навещает мать — всегда в сопровождении центурионов. Наскоро поцеловав, тотчас удаляется. Число сторонников Агриппины быстро уменьшается.
Успокоившись относительно возможности ее заговора, Нерон пускается в разгул — безудержный и бесшабашный. Он точно берет реванш за свое подневольное детство. Переодетый в рабскую одежду, в сопровождении так же преображенных и хмельных придворных, император в сумерки отправляется слоняться по улицам, притонам и публичным домам. Буйная компания затевает драки, расхищает выставленные на продажу товары, вламывается в дома.
Впрочем, однажды Нерона порядком помяли в драке. С тех пор в арьергарде развлекающейся компании следовал отряд воинов или гладиаторов при оружии. Бурр и Сенека смотрели снисходительно на эти бесчинства, усматривая в них, пожалуй, самый невинный выход жажды реванша, вызревшей за годы подавления личности в душе молодого принцепса.
Еще одним руслом, куда, в соответствии с давним пристрастием, устремляется освобожденная энергия правителя, становится устройство конных состязаний, юношеских игр и театральных представлений. Он это делает с невиданным размахом и самыми неожиданными нововведениями. К примеру, на скачках в цирке впервые в истории этих состязаний участвовали колесницы, запряженные четверкой верблюдов. В традиционных юношеских играх обычай разрешал выступать непрофессионалам. Нерон побуждал к участию в них не только молодых людей из знатных семей, но и почтенных сенаторов, подготавливая почву для собственного появления на арене.
Гладиаторские бои привлекали императора куда меньше. Нередким среди римлян той поры пристрастием к кровавым зрелищам Нерон явно не грешил. Вопреки распространенному представлению, он не был кровожадным в прямом смысле этого слова. Светоний упоминает, что в своем присутствии он не разрешал добивать потерпевших поражение гладиаторов, даже из числа преступников. Быть может, боялся крови? В последние годы своего правления Нерон будет казнить множество людей, но мы не найдем ни одного свидетельства о его присутствии на месте казни. Всегда он посылает либо убийц, либо повеление о «добровольной» смерти.
Между тем на восточных границах империи начали разворачиваться важные события. Давно и вяло протекавшая война с парфянами за владычество над Арменией вдруг разгорелась с неожиданной силой. Парфянский царь Вологаз преисполнился решимости посадить на армянский трон своего брата Тиридата и начал теснить римлян. Нерон отправил в Сирию отличившегося в германских войнах выдающегося полководца Домиция Корбулона. Новый главнокомандующий крутыми мерами добился восстановления боевой мощи тамошнего римского войска. Исследуя психологию и деяния трех последних императоров, мне пришлось слишком долго удерживать читателя в гуще интриг и злодеяний императорского двора в Риме. В качестве воинов мы сталкивались только с развращенными и своекорыстными преторианцами. Могло создаться впечатление, что доблесть, слаженность действий и знаменитая выносливость римских легионеров навсегда ушли в прошлое. Это не так! Нужна была только мощная рука, чтобы вновь поставить этих сильных и мужественных людей в строй грозных римских когорт.
Действия Корбулона по прибытии к войску очень похожи на поступки великих полководцев Республики, к примеру, Эмилия Павла или Сципиона Эмилиана. Для иллюстрации жизнестойкости традиции мужества рядовых римских воинов я позволю себе процитировать небольшой фрагмент из Тацита:
«Корбулон держал все войско в зимних палатках, хотя зима была столь суровою, что земля покрылась ледяной коркою и, чтобы поставить палатки, требовалось разбивать смерзшуюся почву. Многие отморозили себе руки и ноги, некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть... Сам Корбулон в легкой одежде, с непокрытой головой, постоянно был на глазах у воинов, и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровость зимы и тяготы службы и дезертировали, ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было принято в других армиях, первых проступков, но всякий, покинувший ряды войска, немедленно платился за это головою. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной...». (Там же, 13, 35)
Нет нужды подробно описывать военные действия, в которых Нерон участия не принимал. Корбулон сумел разгромить войско Тиридата. Столицу Армении Артаксату римляне разрушили до основания, но ее жителей пощадили. За эти успехи... войско провозгласило Нерона императором, а сенат назначил ему многие почести...
Тем временем, ситуация в Риме определяется, как написали бы современные обозреватели, новым витком противостояния между принцепсом и его матерью. И вновь оно связано с появлением женщины. Только на сей раз это не гетера-вольноотпущенница, а знатная патрицианка Сабина Поппея. Тацит набрасывает ее портрет:
«У этой женщины было все, кроме честной души. Мать ее, почитавшаяся первой красавицей своего времени, передала ей вместе со знатностью и красоту. Она располагала средствами, соответствовавшими достоинству ее рода. Речь ее была любезной и обходительной, и вообще она не была обойдена природной одаренностью. Под личиной скромности она предавалась разврату. В общественных местах показывалась редко и всегда с полуприкрытым лицом — то ли чтобы не насыщать взоров, то ли, быть может, потому, что это к ней шло. Никогда не щадила она своего доброго имени, одинаково не считаясь ни со своими мужьями, ни со своими любовниками. Никогда не подчинялась ни своему, ни чужому чувству, но где предвиделась выгода, туда и несла свое любострастие». (Там же, 13, 45)
До того как представиться Нерону, она была замужем за Сальвием Отоном, блестящим и очень испорченным молодым человеком, близким другом и собутыльником императора, непременным участником всех его буйных увеселений. Тацит утверждает, что Отон во время совместных пирушек так превозносил красоту и прочие прелести своей жены, что Нерон потребовал представить ее ко двору. Пустив в ход все свои чары, притворившись, что покорена красотой Нерона и не в силах противостоять нахлынувшей на нее страсти, Поппея быстро сумела влюбить в себя императора.
Кстати, о красоте. Поговорим о внешности Нерона. Светоний пишет, что лицо его было скорее красивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея толстая. Рассматривая скульптурный портрет императора в капитолийском музее Рима, мы бы вряд ли назвали его красивым. Нерон прожил всего тридцать лет. Тем не менее, низкий лоб его уже прорезан двумя глубокими горизонтальными морщинами. Крупный нос кажется слишком тяжелым, пухлые губы к нему чересчур приближены, Зато подбородок занимает добрую треть лица, нижняя его часть четкой полусферой заметно выдается вперед. От висков к шее лицо обрамляет жидковатая бородка. Она, как и слегка курчавые, закрывающие затылок волосы на голове, рыжеватого цвета. Атлетическим сложением Нерон, видимо, не блистал, Светоний утверждает, что роста он был среднего, тело — в пятнах и с дурным запахом, живот выпиравший, а ноги очень тонкие.
Рассказ Светония о новом романе императора отличается от того, что сообщает Тацит. По версии Светония, Нерон сам отнял Поппею у ее первого мужа Руфа Криспина, а затем, чтобы прикрыть эту любовную связь, выдал замуж за своего дружка Отона. Так или иначе, но похоже, что в течение некоторого времени красавица делила ложе с обоими молодыми людьми. Понемногу желание постоянно обладать ею захватило Нерона совершенно. Капризная, переменчивая, то бесстыдно, безудержно страстная, то презрительно холодная, неприступная, эта женщина неодолимо притягивала его к себе. При этом Поппея столь искусно дозировала свои ласки, то и дело ссылаясь на свое положение замужней женщины, что Нерон загорелся желанием жениться на ней. Для этого надлежало избавиться от Отона и развестись с Октавией. Первая задача решалась просто. Отону сперва было отказано в общении с недавним другом, а затем он получил назначение наместником в испанскую провинцию Лузитанию (нынешняя Португалия) и покинул Рим, оставив в нем жену. Избавиться от Октавии было труднее, главным образом из-за того, что ее теперь усиленно опекала Агриппина. В падчерице-императрице она теперь видела свою единственную опору во дворце. Когда появилась Поппея и страстное увлечение Нерона стало очевидным, Агриппина поняла, что эта опора вот-вот рухнет. Если верить Тациту (из осторожности он даже указывает источник информации), Агриппина пыталась спасти положение последним в ее арсенале отвратительным способом:
«Клувий передает, — пишет Тацит, — что, подстрекаемая неистовой жаждой во что бы то ни стало удержать за собой могущество, Агриппина дошла до того, что в разгар дня, и чаще всего в те часы, когда Нерон был разгорячен вином и обильною трапезой, представала перед ним разряженною и готовой к кровосмесительной связи: ее страстные поцелуи и предвещавшие преступное сожительство ласки стали подмечать приближенные, и Сенека решил побороть эти женские обольщения с помощью другой женщины. Для этого он воспользовался вольноотпущенницей Акте, которую подослал к Нерону, с тем, чтобы та, притворившись обеспокоенной угрожающей ей опасностью и нависшим над Нероном позором, сказала ему о том, что в народе распространяются слухи о совершившемся кровосмешении, что им похваляется Агриппина и что войска не потерпят над собой власти запятнанного нечестием принцепса». (Там же, 14, 2)
Тацит добавляет, что «сообщение Клувия подтверждается и другими авторами, да и молва говорит то же самое».
Поппея тоже перешла в наступление. Понимая, что при жизни Агриппины ей не добиться развода Нерона с Октавией, она то упреками и слезами, то насмешками над его зависимостью подогревала ненависть сына к матери. «Коль скоро, — говорила Поппея, — Агриппина не разрешает ему жениться на той, кого он любит, то, не в силах долее терпеть бесчестие и быть свидетельницей унижения императора, она просит отпустить ее в Испанию к мужу». Опираясь на уже накопленный «опыт» разрешения семейных проблем императорской фамилии, Нерон решает умертвить мать. Ему более не нужны советы Сенеки и Бурра. Наконец-то он освободится от ее происков и постоянного надзора, насладится местью за все, что вытерпел от нее. В то же время он понимает, что отравление или иной явный способ убийства дочери Германика может вызвать серьезное недовольство народа и войска. Поэтому разрабатывается сложный план организации рокового несчастного случая. Увеселительные морские прогулки вдоль курортных берегов в окрестностях Неаполя и Байи были очень популярны. Ненавидевший Агриппину бывший воспитатель Нерона в ранние детские годы, а ныне префект флота вольноотпущенник Аникет взялся построить корабль, который можно будет в нужный момент быстро утопить. Благодаря специальному механизму верный человек сможет внезапно раскрыть его днище. А для того чтобы Агриппина не смогла вплавь достигнуть берега, кровля ее каюты, покрытая толстым слоем свинца, должна была тут же обрушиться. Тацит подробно описывает то, что произошло в конце марта 59-го года. По случаю очередного праздника Нерон находился в Байях.
«Сюда, — пишет Тацит, — он и заманивает мать, повторяя, что следует терпеливо сносить гнев родителей и подавлять в себе раздражение, и рассчитывая, что слух о его готовности к примирению дойдет до Агриппины, которая поверит ему с легкостью, свойственной женщинам, когда дело идет о желанном для них. Итак, встретив ее на берегу (ибо она прибывала из Анция), он взял ее за руку, обнял и повел в Бавлы. Так называется вилла у самого моря в том месте, где оно образует изгиб между Мизенским мысом и Байским озером. Здесь вместе с другими стоял отличавшийся нарядным убранством корабль, чем принцепс также как бы воздавал почести матери... Затем Нерон пригласил ее к ужину, надеясь, что ночь поможет ему приписать ее гибель случайности... он принял ее с особой предупредительностью и поместил за столом выше себя. Непрерывно поддерживая беседу то с юношеской непринужденностью, то с сосредоточенным видом, как если бы сообщал ей нечто исключительно важное, он затянул пиршество. Провожая ее, отбывающую к себе, он долго, не отрываясь смотрит ей в глаза и горячо прижимает ее к груди, то ли, чтобы сохранить до конца притворство, или, быть может, потому, что прощание с обреченной им на смерть матерью тронуло его душу, сколь бы зверской она ни была.
Но боги, словно для того, чтобы злодеяние стало явным, послали ясную звездную ночь с безмятежно спокойным морем. Корабль не успел далеко отойти. Вместе с Агриппиной на нем находились только двое из ее приближенных — Креперий Галл, стоявший невдалеке от кормила, и Ацеррония, присевшая в ногах у нее на ложе и с радостным возбуждением говорившая о раскаянии ее сына и о том, что она вновь обрела былое влияние, как вдруг по данному знаку обрушивается отягченная свинцом кровля каюты, которую они занимали. Креперий был ею задавлен и тут же испустил дух, а Агриппину с Ацерронией защитили высокие стенки ложа, случайно оказавшиеся достаточно прочными, чтобы выдержать тяжесть рухнувшей кровли. Не последовало и распадения корабля, так как при возникшем на нем всеобщем смятении очень многие не посвященные в тайный замысел помешали тем, кому было поручено привести его в исполнение. Тогда гребцам отдается приказ накренить корабль на один бок... так что обе женщины не были сброшены в море внезапным толчком, а соскользнули в него. Но Ацерронию, по неразумию кричавшую, что она Агриппина, и призывавшую помочь матери принцепса, забивают насмерть баграми, веслами и другими попавшими под руку корабельными принадлежностями, тогда как Агриппина, сохранявшая молчание и по этой причине неузнанная (впрочем, и она получила рану в плечо), сначала вплавь, потом на одной из встречных рыбачьих лодок добралась до Лукринского озера и была доставлена на свою виллу.
Там, поразмыслив над тем, с какой целью она была приглашена лицемерным письмом, почему ей воздавались такие почести, каким образом у самого берега не гонимый ветром и не наскочивший на скалы корабль стал разрушаться сверху, словно наземное сооружение, а также приняв во внимание убийство Ацерронии и взирая на свою рану, она решила, что единственное средство уберечься от нового покушения — это сделать вид, что она ничего не подозревает. И она направляет к сыну вольноотпущенника Агерина с поручением передать ему, что по милости богов она спаслась от почти неминуемой гибели и что она просит его, сколь бы он ни был встревожен опасностью, которую пережила его мать, отложить свое посещение: в настоящем она нуждается только в отдыхе». (Там же, 14, 4-6)
Между тем Нерон, не ложась спать, ожидает вестей об исполнении замысла. Еще до прибытия Агерина ему доносят, что легко раненная Агриппина спаслась. Нет сомнения в том, что она поняла, кто виновник происшедшего. Трусливого по натуре императора охватывает страх. Ясно, что теперь грозная мать должна решиться на самые крайние меры. Что она предпримет? Вооружив своих рабов или подкупив солдат, она может с минуты на минуту явиться сюда на виллу, чтобы отплатить ему той же монетой. Или завтра обратиться с воззванием к сенату и народу, умоляя вступиться за дочь Германика. Убийство матери, по римским законам, является тягчайшим преступлением. Сумеют ли преторианцы защитить его от ярости толпы? И захотят ли? Как отнесется к случившемуся Бурр? Ни он, ни Сенека не были посвящены в замысел Нерона. Они спокойно спят в дальнем покое. Император посылает за ними. Встревоженные ночным вызовом наставники принцепса являются и потрясенно выслушивают сбивчивый рассказ своего питомца. Попробуем представить себя на их месте:
...Теплая южная ночь. Безмятежный покой вокруг. И, точно в кошмарном сне, непрестанно вышагивающий из угла в угол император. Его искаженное страхом лицо, бессвязные оправдания, истерические всхлипы, мольбы о спасении вперемежку с угрозами и проклятьями. Вот он подбегает к одному окну, другому, всматривается в темноту, тревожно окликает стражу. Потом возвращается и, вдруг лишившись сил, безвольно опускается на низкое кресло. Голова его подергивается, руки свисают вдоль обмякшего тела. Обитая пурпуром спинка кресла в полумраке покоя чернеет, как запекшаяся кровь. На ее фоне белым пятном — лицо Нерона.
Бурр и Сенека молчат. Первое их чувство — отвращение. Потом — горечь от сознания бесплодности всех усилий побороть подлую натуру молодого принцепса. С великим трудом они примирились с отравлением Британика, и вот теперь, четыре года спустя, — новое, еще более гнусное преступление... Потом наваливается тяжкое сознание ответственности за дальнейшую судьбу государства. Зыбкое подобие мира, которое им удавалось поддерживать между Нероном и его столь же преступной матерью, рухнуло. Этим двоим больше не ужиться на земле. Если отступиться сейчас от Нерона — он обречен. Погибнут и они, но не это важно. Они довольно пожили и сумеют умереть достойно. Что будет с Римом? Какими потоками крови заплатят его граждане за годы унижения властной и мстительной правительницы? И каково будет ее правление? С тоской вспоминает Сенека свои мечты о воспитании мудрого и милостивого принцепса... Тягостное молчание длится. Его нарушает только равнодушный шелест волн. Нерон зябко вздрагивает и смотрит расширенными от страха глазами то на одного, то на другого безмолвного участника зловещего совета. Он понимает, что его судьба сейчас в их руках. Через окно доносятся приглушенные елова команды и мерные шаги солдат — сменяется караул преторианцев. Молчание длится. Наконец Сенека хриплым, не своим голосом спрашивает Бурра: «Ты можешь приказать воинам умертвить Агриппину?» Тот отвечает, что преторианцы присягали в верности всему дому Цезарей и, помня Германика, не осмелятся поднять руку на его дочь. Потом, помолчав минуту, добавляет: «Пусть Аникет с верными ему людьми докончит начатое дело». Нерон вскакивает с кресла. Он понимает, что получил свободу действий. Дрожа, как в лихорадке, требует немедленно прислать к нему Аникета. Ему докладывают, что прибыл посланец от Агриппины. Нерон приказывает рабам подбросить прибывшему под ноги меч и тут же заключить его в оковы. В голове императора мгновенно возник план объявить, что мать послала к нему убийцу и, будучи уличена в этом, покончила с собой. Сенека и Бурр с содроганием, но молча наблюдают за действиями Нерона.
...Багровая луна поднялась над горизонтом, когда отряд военных моряков во главе со своим префектом быстрым маршем направился к вилле Агриппины. На римском флоте служили только вольноотпущенники. Слова «дочь Германика» для них пустой звук.
«Аникет, — заканчивает свой рассказ Тацит, — расставив вокруг виллы вооруженную стражу, взламывает ворота и, расталкивая встречных рабов, подходит к дверям занимаемого Агриппиною покоя; возле него стояло несколько человек, остальных прогнал страх перед ворвавшимися. Покой был слабо освещен — Агриппину, при которой находилась только одна рабыня, все больше и больше охватывала тревога: никто не приходит от сына, не возвращается и Агерин: будь дело благополучно, все шло бы иначе. А теперь — пустынность и тишина, внезапные шумы — предвестия самого худшего. Когда и рабыня направилась к выходу, Агриппина, промолвив: «И ты меня покидаешь», — оглядывается и, увидев Аникета с сопровождавшими его триерархом Геркулеем и флотским центурионом Обаритом, говорит ему, что если он пришел проведать ее, то пусть передаст, что она поправилась. Если совершить злодеяние, то она не верит, что такова воля сына: он не отдавал приказа об умерщвлении матери. Убийцы обступают тем временем ее ложе. Первым ударил ее палкой по голове триерарх. И, когда центурион стал обнажать меч, чтобы ее умертвить, она, подставив ему живот, воскликнула: «Поражай чрево!», — тот прикончил ее, нанеся множество ран». (Там же, 14, 8)
Тело Агриппины сожгли той же ночью с выполнением убогих погребальных обрядов. Ненависть Нерона не успокоилась и после ее кончины. Он не разрешил насыпать могильный холм и оградить место погребения матери...
Остаток ночи император провел в новом приступе страха. Однако утром с поздравлением по поводу избавления от смертельной опасности к нему явились посланные Бурром трибуны и центурионы преторианцев. Их примеру немедленно последовали сопровождавшие императора придворные. Затем и ближние города побережья стали изъявлять свою радость жертвоприношениями в храмах и присылкой представителей. Нерон, изображая глубокую скорбь и как бы тяготясь видом злополучных мест, удалился в Неаполь.
Не решаясь сразу вернуться в Рим, он из Неаполя отправляет послание сенату. В нем излагается версия покушения и самоубийства Агриппины. Затем следует длинный перечень ее прежних проступков. Она-де хотела стать соправительницей, привести преторианские когорты к присяге на верность повелениям женщины и подвергнуть тому же позору сенат и народ. Она возражала против денежного подарка воинам и раздачи денег нуждающимся, строила козни именитым мужам и так далее. На ее совести преступления, творившиеся во времена Клавдия. Смерть ее послужит ко благу и спокойствию римского народа.
Разумеется, никто не поверил, что Агриппина послала одиночного убийцу, чтобы он с оружием пробился через охрану императора. Тем не менее, открыто соревнуясь в раболепии, римская знать принимает решение о свершении благодарственных молебствий во всех храмах за счастливое спасение принцепса, об установлении его изваяния в сенатской курии и даже о том, чтобы день рождения Агриппины был официально включен в число несчастливых дней года. Только один престарелый и заслуженный сенатор Тразея Пет, обычно хранивший молчание, когда вносились льстивые предложения такого рода, на этот раз перед голосованием демонстративно покинул курию.
Убедившись в своей безопасности, Нерон возвращается в Рим. Его встречают вышедшие навстречу сенаторы в праздничных одеяниях. На пути следования императора сооружены трибуны, с которых, как во время триумфального шествия, его приветствует народ.
«Преисполнившись вследствие этого высокомерия, — пишет Тацит, — гордый одержанною победой и всеобщей рабской угодливостью, он торжественно поднялся на Капитолий, возблагодарил богов и вслед за тем безудержно предался всем заложенным в нем страстям, которые до этой поры если не подавляло, то до известной степени сдерживало уважение к матери, каково бы оно ни было». (Там же, 14, 13)
Теперь Нерон может осуществить свою давнишнюю мечту — выступить возницей на конных состязаниях. Сенека и Бурр, чтобы дать выход опасному приливу энергии принцепса, решают поддержать его намерения, но по возможности ограничить их размах. Вне стен города сооружают специальное ристалище, где император сможет править квадригой в присутствии небольшого числа избранных зрителей. Однако вскоре он сам стал созывать туда простой народ Рима. Жадный до развлечений плебс радовался тому, что принцепсу присущи те же наклонности, что и ему самому.
Между тем жажда постыдной, по понятиям добропорядочных граждан, славы влечет Нерона на театральную сцену. Римская комедия той поры, в отличие от древнегреческих образцов, обилием грубых шуток и скабрезностей походила на балаган, порой непристойный. Актерами были рабы и вольноотпущенники. Тацит живо описывает атмосферу разнузданности, которая воцарилась в Риме в результате нового увлечения императора:
«Все еще не решаясь бесчестить себя на подмостках общедоступного театра, Нерон учредил игры, получившие название Ювеналий, и очень многие изъявили желание стать их участниками. Ни знатность, ни возраст, ни прежние высокие должности не препятствовали им подвизаться в ремесле греческого или римского лицедея, вплоть до постыдных для мужчины телодвижений и таких же песен. Упражнялись в непристойностях и женщины из почтенных семейств... Наконец, с помощью учителей пения подготовившись к выступлению и тщательно настроив кифару, последним выходит на сцену Нерон. Тут же присутствовала когорта воинов с центурионами и трибунами и сокрушенный, но выражавший одобрение Бурр. Тогда же впервые были набраны прозванные августианцами римские всадники, все молодые и статные (все императоры носили почетное наименование Август, точнее было бы называть этих клакеров неронианцами. — Л.О.). Одних влекла прирожденная наглость, других — надежда возвыситься. Дни и ночи разражались они рукоплесканиями, возглашая, что Нерон красотою и голосом подобен богам, и величая его их именами. И были эти августианцы окружены славою и почетом, словно свершили доблестные деяния». (Там же, 14, 15)
Множилось число и других новых зрелищ. На учрежденных Нероном «Великих играх» в комедиях выступали мужчины и женщины из высших сословий. В военных плясках по спартанскому обычаю соревновались юноши неримского происхождения. После представления каждому из них император вручал грамоту на римское гражданство. Была сделана попытка воспроизвести в театре легендарный полет Икара. Ее исполнитель упал близ ложа императора, забрызгав его кровью.
В 60-м году, следуя своему пристрастию к греческим образцам, император учредил состязания, названные Нерониями. Подобно олимпийским играм, они должны были происходить раз в пять лет и состоять из трех отделений — музыкального, поэтического и конного. Судей для них принцепс отбирал по жребию из числа бывших консулов. В красноречии и латинских стихах соревновались самые достойные граждане, облаченные, согласно распоряжению Нерона, в греческие одежды. Сам он, по требованию зрителей, был награжден венком за игру на лире. Его торжество по этому поводу было неподдельным. Надо признать, что Нерон был воистину наделен душой артиста. Впрочем, судя по всему, если не самим искусством, то необычностью и смелостью своего поведения император снискал искренние симпатии плебса, молодежи и немалой части аристократов.
После убийства Агриппины многие при дворе ожидали, что Нерон немедленно разведется с Октавией и женится на Поппее. Но этого не произошло. То ли Нерону не хотелось обнаруживать прямую связь между этими двумя событиями, то ли его удерживали Сенека и Бурр. Но еще добрых два года Поппее пришлось довольствоваться положением общепризнанной и могущественной любовницы императора, но не супруги. Никаких особенных злодеяний в эти годы совершено не было. Наоборот, историки отмечают терпимость и снисходительность императора. Скорее всего, их следует приписать стремлению хоть как-то оправдаться в глазах Сенеки, которого Нерон продолжал по десятилетней привычке не только почитать, но и побаиваться.
Так, например, в начале 62-го года в сенат поступил донос на претора Антисия, который сочинил стихи в поношение принцепсу и читал их в многолюдном собрании на пиру. По этому поводу впервые при Нероне сенат восстановил в силе полузабытый закон об оскорблении величия. Только что избранный консул предложил отрешить обвиняемого от должности и предать смерти. Это предложение поспешили поддержать все сенаторы, кроме уже знакомого нам Тразеи Пета. Он в своем выступлении сначала сурово осудил Антисия и воздал великий почет Нерону, а затем заявил, что при столь выдающемся принцепсе сенаторам не следует воскрешать чрезмерно жестокие обыкновения прошлых лет. Вполне достаточно будет осудить преступника на изгнание с конфискацией имущества. Свободомыслие Тразеи сломило раболепие большинства сенаторов и они проголосовали за его предложение. Нерона на заседании не было. Исход дела наглядно демонстрирует хрупкое равновесие на краю пропасти, к которой приблизилось государство. Императору еще удается подавить в себе порыв мстительной ярости, а сенату — сохранить остатки достоинства. С этой точки зрения, имеет смысл привести здесь конец рассказа Тацита об этом инциденте:
«...консулы, не решившись окончательно оформить сенатское постановление, ограничились сообщением его Цезарю, указав, что оно принято подавляющим большинством. Колеблясь между сдержанностью и гневом, тот некоторое время помедлил с ответом и наконец написал, что Антисий, не претерпев от него никакой обиды и безо всякого повода с его стороны, нанес ему наитягчайшие оскорбления. От сената потребовали воздать за них должной мерой, и было бы справедливо, если бы он определил ему наказание сообразно значительности проступка. Впрочем, он, намеревавшийся воспрепятствовать суровости приговора, никоим образом не воспрещает умеренности. Пусть сенаторы решают, как им будет угодно. Больше того, им не возбраняется и полностью оправдать подсудимого. По оглашении этого и подобного этому, невзирая на явно выраженное Нероном неудовольствие, ни консулы не внесли изменений в составленный ими по этому делу доклад, ни Тразея не отказался от своего предложения, как не отступились от него и все давшие ему свое одобрение — большинство — черпая уверенность в своей многочисленности, а Тразея — в силу всегдашней твердости духа и чтобы не уронить себя в общем мнении». (Там же, 14, 49)
Читатель уже достаточно хорошо знаком с повадками Нерона. Можно было бы не упоминать, что наряду с сочинением стихов и музицированием редкий день во дворце обходился без разнузданного пиршества императора в компании его «друзей». Я все же упоминаю об этом, чтобы назвать самого отчаянного, самого развратного, а потому и самого близкого «дружка» Нерона. Его звали Софоний Тигеллин. Этот, по свидетельству Тацита, человек темного происхождения будет играть немалую роль в дальнейшей истории.
В том же 62-м году умер Бурр. Префектом претория Нерон назначает Тигеллина. Чтобы завуалировать неприглядную причину такого выбора, он восстанавливает прежний порядок назначения двух префектов претория и выбирает вторым префектом Фения Руфа, завоевавшем любовь римлян своим бескорыстием.
Смерть Бурра катастрофически сказалась на положении и влиянии Сенеки. Советы императору старого философа-гуманиста имели совсем другой вес, когда их поддерживал единомышленник, в чьих руках находилась грозная сила преторианских когорт. Свора прихлебателей немедленно выпустила серию доносов и наговоров в адрес его бывшего воспитателя. Замечу, что еще в 58-м году Сенеку пытался атаковать известный доносчик Суиллий. Припомнив для начала почти двадцатилетней давности обвинение философа в тайной любовной связи с дочерью Германика Юлией Ливиллой (за что он и был сослан Клавдием), Суиллий затем вопрошал:
«Благодаря какой мудрости, каким наставлениям философов Сенека за какие-нибудь четыре года близости к Цезарю нажил триста миллионов сестерциев? В Риме он, словно ищейка, выслеживает завещания и бездетных граждан. Италию и провинции обирает непомерною ставкою роста...» (Там же, 13, 42)
Тогда обвинения Суиллия Нероном были отвергнуты, а сам доносчик, ввиду множества оклеветанных им людей, сослан на острова. Теперь доносчики нового поколения, наушничая императору, продолжили и приукрасили обвинения Сенеки...
«...говоря, что он продолжает наращивать свое огромное, превышающее всякую меру для частного лица состояние, что домогается расположения граждан, что красотою и роскошью своих садов и поместий превосходит самого принцепса. Упрекали они Сенеку также и в том, что славу красноречивого оратора он присваивает только себе одному и стал чаще писать стихи, после того как к их сочинению пристрастился Нерон. Открыто осуждая развлечения принцепса, он умаляет его умение править лошадьми на ристалище и насмехается над переливами его голоса всякий раз, когда тот поет». (Там же, 14, 52)
Я специально выписал полностью те два фрагмента из Анналов Тацита, где историк пересказывает обвинения доносчиков в адрес Сенеки. Эти обвинения тяготеют над философом до сих пор, позволяя некоторым современным авторам упрекать его если не в лицемерии, то в явном несоответствии его жизни учению стоиков. В следующей интерлюдии читателю будет представлена нравственная позиция Сенеки, изложенная им в письмах к другу. Чтобы уверенно ответить, насколько это изложение заслуживает доверия, необходимо проанализировать цитированные выше обвинения.
Начнем с того, что, говоря о богатстве Сенеки, никто из обвинителей не упрекает философа в том, что он живет в роскоши. Ни слова о богатых домах и виллах, статуях, картинах, драгоценной утвари и посуде, изысканных пиршествах или иных обычных для римских богачей излишествах. Забегая вперед, приведу начало одного из упомянутых писем к другу:
«Сенека приветствует Луциллия!
Утомленный дорогой, не столь долгой, сколько трудной, я прибыл к себе в Альбанскую усадьбу глубокой ночью. Здесь ничего не готово — я один готов. Приходится вытянуть усталое тело на ложе. Медлительность поваров и пекарей меня не сердит, ибо я говорю самому себе: что легко принимаешь, то и не тяжело. Не стоит негодовать ни на что, если ты сам не преувеличил повода своим негодованием. Мой пекарь не испек хлеба — но хлеб есть у смотрителя усадьбы, у домоправителя, у издольщика. Ты скажешь, что хлеб у них плох. Подожди — и станет хорош. Голод превратит его в самый тонкий пшеничный». (Сенека. Нравственные письма к Луциллию, 123)
Как-то не похоже на прибытие вельможного богача в свои владения! Однако само богатство воспитателя Сенеки не вымышленное. Сейчас он это сам подтвердит. Но давайте сначала подумаем о характере и происхождении его богатства. Отец Сенеки — всадник из испанского города Кордовы, римлянин старого закала — происходил из зажиточной, но не богатой семьи. Карьеры он не сделал и вряд ли мог оставить большое наследство трем своим сыновьям. В юности Сенека долго и тяжело болел. Для излечения на много лет уезжал в Египет. Первые успехи уже немолодого писателя при Калигуле принесли ему славу, но не богатство. Безумный император приревновал к его ораторскому таланту и распорядился убить Сенеку. Спасло вмешательство какой-то из наложниц Калигулы, сказавшей, что слабый здоровьем оратор и так скоро умрет. Клавдий, как мы знаем, отправил его в ссылку. Таким образом, есть все основания полагать, что возвращенный из нее в 49-м году пятидесятитрехлетний философ был едва ли не нищим. Место воспитателя при Нероне под надзором известной своей жадностью Агриппины давало средства к существованию, но не более. Суиллий прав: обогащение Сенеки началось с воцарения его питомца. Вспомним, что значительную долю огромного состояния Августа составляли его многочисленные поместья в Италии. Они были конфискованы или куплены Октавианом еще во время проскрипций. В большинстве из них он ни разу не побывал, но дело повсюду было налажено. Императорские рабы трудились под присмотром надежных управляющих. Деньги от продажи продукции отсылались в императорскую казну. Часть этих денег управляющие ссужали под установленные законом проценты. Эта операция заслуживает нашего осуждения не больше, чем деятельность любого современного банка.
Все эти имения по наследству переходили от одного императора к другому и, наконец, оказались в полной собственности семнадцатилетнего принцепса, еще недавно старательно выполнявшего учебные задания своего наставника. Легко представить, что, преподнося в дар учителю новое доходное имение (нередко — после очередной «шалости») и выслушивая неизбежные слова благодарности, самолюбивый юнец испытывал удовольствие от сознания своего превосходства. А престарелый учитель не мог высокомерным отказом оскорбить и оттолкнуть державного ученика. Ведь он мечтал воспитать достойного правителя. Так сложилось и существовало это богатство — как бы отдельно от владеющего им богача. Что же до бездоказательного утверждения Суиллия относительно погони за завещаниями и непомерной ставки ссудного процента, то это чистой воды поклеп.
Сенека, конечно, узнал о многочисленных доносах на него Нерону (доносчики и не скрывались). Заметил, что принцепс все упорнее избегает близости с ним и оценил неизбежные последствия смерти Бурра. В горькую минуту признался себе, что его воспитательная миссия потерпела крах. Он решил удалиться от дел и сбросить с плеч груз ненужного богатства. Добившись согласия Нерона выслушать его, философ обратился к императору со следующей речью — как ее реконструирует Тацит: «Уже четырнадцатый год, Цезарь, как мне были доверены возлагавшиеся на тебя надежды, и восьмой — как ты держишь в руках верховную власть. За эти годы ты осыпал меня столькими почестями и такими богатствами, что моему счастью не хватает лишь одного — меры... Но ты, сверх того, доставил мне столь беспредельное влияние и столь несметные деньги, что я постоянно сам себя спрашиваю: я ли, из всаднического сословия и родом из провинции, числюсь средь первых людей римского государства? Я ли, безвестный пришелец, возблистал среди знати, которая по праву гордится предками, из поколения в поколение занимавшими высшие должности? Где же мой дух, довольствующийся немногим? Не он ли выращивает такие сады, и шествует в этих пригородных поместьях, и владеет такими просторами полей, и получает столько доходов с денег, отданных в рост? И единственное оправдание, которое я для себя нахожу, это то, что мне не подобало отвергать даруемое тобой...
И подобно тому, как обессилев в бою или в походе, я стал бы просить о поддержке, так и теперь, достигнув на жизненном пути старости и утратив способность справляться даже с легкими заботами, я не могу более нести бремя своего богатства и взываю к тебе о помощи. Повели своим прокураторам распорядиться моим имуществом, включить его в твое достояние. Я не ввергну себя в бедность, но, отдав то, что стесняет меня своим блеском, я уделю моей душе время, поглощаемое заботой о садах и поместьях». (Тацит. Анналы, 14; 53, 54)
Нерон возражает против отставки Сенеки, говорит, что верный наставник ему необходим, чтобы исправлять неизбежные по легкомыслию молодости отклонения от правильного пути.
«И если ты, — заканчивает он, — отдашь мне свое достояние, если покинешь принцепса, то у всех на устах будет не столько твоя умеренность и самоустранение от государственной деятельности, сколько моя жадность и устрашившая тебя жестокость. А если и станут превозносить твое бескорыстие, то мудрому мужу все-таки не подобает искать славы в том, что наносит бесчестье другу...»
И он обнимает Сенеку. О, какая радость освобождения, какое сладкое отмщение за поучения детских лет были в этих словах и объятии! Пусть хоть на старости лет его учитель услышит, как звучит жесткое «не разрешаю» под общим покровом благонравных рассуждений.
Учитель прекрасно понимает ученика. Тацит заканчивает описание этой встречи словами:
«...И Сенека, в заключение их беседы, как это неизменно происходит при встречах с властителями, изъявляет ему благодарность, но вместе с тем немедленно порывает со сложившимся во времена его былого могущества образом жизни: перестает принимать приходящих с приветствиями, избегает появляться в общественных местах... и редко показывается в городе, ссылаясь на то, что его удерживают дома нездоровье или философские занятия». (Там же, 14, 56)
Падение Сенеки состоялось. Первым последствием этого была женитьба Нерона на Поппее. Он развелся с Октавией, объявив, что она бесплодна, изгнал ее из дворца, потом сослал. Через две недели состоялась свадьба. Народ был недоволен. Когда разнесся слух, что император раскаялся и намерен вернуть изгнанницу, ликующая толпа горожан поднялась на Капитолий, вознесла богам благодарственные молитвы и низвергла статую Поппеи. Затем на Форуме установили украшенное цветами изображение Октавии, и толпа отправилась ко дворцу, чтобы воздать хвалу принцепсу. Ее встретил отряд воинов и разогнал плетями. Поппея испугалась и поняла, что, пока жива Октавия, ее положение не будет вполне надежным. Она подкупает кого-то из слуг бывшей императрицы, чтобы тот заявил, будто Октавия сожительствовала со своим рабом-флейтистом. Но ее рабыни отказались подтвердить этот навет даже под пытками. Тогда Нерон вызывает убийцу своей матери Аникета и требует, чтобы тот публично признался в преступной связи с императрицей. За это ему обещано щедрое вознаграждение и безопасное существование вне Италии, а в случае несогласия — смерть. Аникет соглашается. Нерон в своем указе заявляет, что, как он дознался, Октавия, злоумышляя против него, соблазнила префекта флота. Ее сначала заточают на острове, а затем по приказу императора казнят. Тацит утверждает, что для свидетельства об исполнении приказа в Рим новой императрице была доставлена голова Октавии. Четырнадцатую главу Анналов, где описано это злодеяние, историк с отвращением завершает так:
«Упоминать ли нам, что по этому случаю сенат определил дары храмам? Да будет предуведомлен всякий, кому придется читать — у нас ли, у других писателей, — о делах того времени, что сколько бы раз принцепс ни осуждал на ссылку или на смерть, неизменно воздавалась благодарность богам, и то, что некогда было знамением счастливых событий, стало тогда показателем общественных бедствий». (Там же, 14, 64)
Однако все это были, так сказать, «разборки в кругу семьи». Тигеллин решает связать с собой Нерона преступлениями, выходящими за этот круг, — убийствами знатных римлян, не имеющих отношения ко двору. Он убеждает трусливого императора, что два сосланных им видных сановника — Плавт и Сулла — находятся слишком близко от расположения войск — Плавт в Азии, а Сулла в Галлии. Оба могут возмутить легионы и потому должны быть устранены. Нерон дает свое согласие, и к обоим ни в чем не повинным знатным римлянам направляются преторианцы-убийцы.
Между тем в Азии военное счастье изменяет римлянам. Парфянский царь стал угрожать Сирии, и Корбулону пришлось заняться ее обороной. Он просит императора прислать другого полководца для удержания позиций в Армении. Нерон отправляет Цезенния Пета. Тот терпит серьезное поражение. Парфяне отвоевывают Армению, однако они опасаются Корбулона. Его легионы стоят на берегу Евфрата. В результате переговоров достигнут компромисс. Парфянское войско уйдет из Армении, которая вновь обретет независимость. Царствовать в ней будет Тиридат, но коронован на царство он будет в Риме. Нерон сам возложит на его голову диадему. Таким образом, римляне смогут сохранить лицо и даже выдать случившееся за победу.
А в Риме артистическое тщеславие Нерона уже не довольствуется пением во дворце или на Ювеналиях, которые разыгрываются в его садах. Он страстно желает выступить на сцене огромного театра Помпея. Там его великолепный голос прозвучит со всей силой! Чтобы завистники не сплетничали, будто римский народ и судьи аплодируют ему только как императору, он начнет с того, что покорит родину высокого искусства — Грецию. Добыв там повсюду почитаемые священные венки, овеянный славой, он выйдет на большую сцену общедоступного театра. И римляне, забыв в эти минуты, что перед ними их властитель, охваченные одним лишь чистым восхищением, восславят величайшего артиста!
Свои «гастроли» Нерон начинает весной 64-го года с театра в Неаполе. Ведь и сам этот город наполовину греческий, и в него съедутся по такому случаю греческие колонисты с юга Италии. Выступления императора в неаполитанском театре длились несколько дней. Зрители не скупились на аплодисменты необычному певцу, почтившему их город. Приезжие александрийцы продемонстрировали новую манеру аплодировать ритмично — все в такт. Нерону это понравилось. Он велит набрать пять тысяч дюжих молодцов из простонародья, разбить их на отряды во главе со всадниками и разучить с ними такие рукоплескания. Окрыленный успехом, император откладывает свои гастроли в Греции и возвращается в Рим. Ему не терпится увидеть у своих ног восторженную столицу империи. Светоний красочно описывает дебют Нерона на большой сцене:
«...хотя все кричали, что хотят услышать его божественный голос, он сперва ответил, что желающих он постарается удовлетворить в своих садах. Но когда к просьбам толпы присоединились солдаты, стоявшие в это время на страже, то он с готовностью заявил, что выступит хоть сейчас. И тут же он приказал занести свое имя в список кифаредов-состязателей, бросил в урну свой жребий вместе с другими, дождался своей очереди и вышел: кифару его несли начальники преторианцев, затем шли войсковые трибуны, а рядом с ним ближайшие друзья. Встав на сцене и произнеся вступительные слова, он через Клувия Руфа, бывшего консула, объявил, что петь он будет «Ниобу» и пел ее почти до десятого часа (пяти часов вечера. — Л.О.)...»
За этим выступлением последовал ряд других:
«Когда он пел, — продолжает Светоний, — никому не дозволялось выходить из театра даже по необходимости. Поэтому, говорят, некоторые женщины рожали в театре, а многие, не в силах более его слушать и хвалить, перебирались через стены, так как ворота были закрыты, или притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках. Как робел и трепетал он, выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить. Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку, порой осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался даже подкупать. К судьям он перед выступлением обращался с величайшим почтением, уверяя, что он сделал все, что нужно, однако всякий исход есть дело случая, и они, люди премудрые и ученые, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили его мужаться, и он отступал успокоенный, но все-таки в тревоге: молчание и сдержанность некоторых из них казались ему недовольством и недоброжелательством, и он заявлял, что эти люди ему подозрительны... Победителем он объявлял себя сам, поэтому всякий раз он участвовал и в состязании глашатаев. А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, все их статуи и изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками в отхожие места». (Светоний. Нерон, 21-24)
В честь своих побед Нерон устраивает пиршества, располагая всем городом, словно своим дворцом. Об одном из таких пиров, для примера, рассказывает Тацит:
«На пруду Агриппы (неподалеку от его бань на Марсовом поле. — Л.О.) по повелению Тигеллина был сооружен плот, на котором и происходил пир и который все время двигался, влекомый другими судами. Эти суда были богато отделаны золотом и слоновой костью, и гребли на них распутные юноши, рассаженные по возрасту и сообразно изощренности в разврате. Птиц и диких зверей Тигеллин распорядился доставить из дальних стран, а морских рыб — от самого Океана. На берегах пруда были расположены лупанары (дома свиданий), заполненные знатными женщинами, а напротив виднелись нагие гетеры. Началось с непристойных телодвижений и плясок, а с наступлением сумерек роща возле пруда и окрестные дома огласились пением и засияли огнями. Сам Нерон предавался разгулу, не различая дозволенного и недозволенного. Казалось, что не остается такой гнусности, в которой он мог выказать себя еще развращеннее. Но спустя несколько дней он вступил в замужество, обставив его торжественными свадебными обрядами, с одним из толпы этих грязных распутников (звали его Пифагором). На императоре было огненно-красное брачное покрывало, присутствовали присланные женихом распорядители; тут же можно было увидеть приданое, брачное ложе, свадебные факелы, наконец, все, что прикрывает ночная тьма и в любовных утехах с женщиной». (Тацит. Анналы, 15, 37)
Светоний называет «мужа» императора Дорифором. По его словам, отдаваясь, Нерон вопил, как насилуемая девушка.
Не стоит продолжать описывать распутство и разгул императора...
В середине жаркого июля 64-го года в Риме случился знаменитый пожар. Беспорядочная, тесная застройка города с его узкими улочками и высокими многоквартирными домами, в которых не только перекрытия, но и верхние этажи были деревянными, являла собой как бы нарочно сложенный гигантский сухой костер. Хотя еще Августом была создана служба городских пожарных, ее «технические» возможности никак не соответствовали масштабам опасности.
Загорелись ночью лавки, скучившиеся вокруг Большого цирка. Его многочисленные деревянные трибуны взметнули ввысь чудовищный факел. Сильный юго-западный ветер тут же перебросил огонь на прилегающие к цирку густонаселенные районы Палатина и Целия, погнал его дальше в сторону Эсквилина. Пламя двигалось с такой быстротой, что люди не только не могли объединить усилия для борьбы с ним, но едва успевали убегать от погибели. Трудно вообразить, какой кошмар являли собой озаренные зловещими сполохами огня, заполненные обезумевшей от ужаса толпой улицы города. Очень многие погибли в огне или под обломками зданий...
«Шесть дней и семь ночей, — сообщает Светоний, — свирепствовало бедствие, а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах». (Там же, 38)
Нет сомнения, что были и поджоги. Хотя бы потому, что, кроме главного фронта огня, возникло еще несколько очагов пожара в отдаленных от него концах города. Кто были эти поджигатели — исполнители чьего-то преступного приказа или просто мародеры, — осталось невыясненным. Светоний категорически утверждает, что Нерон «поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать» (Там же). Тацит же отдает дань сомнению. Он пишет:
«И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить свое жилище, вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром. А были и такие, которые открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо в самом деле послушные чужой воле». (Тацит. Анналы, 15, 38)
Оба историка упоминают, что Нерон с возвышенного места любовался грандиозным буйством огненной стихии и пел о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с легендарным пожаром столицы Приама. Признаюсь, облитая кровавым заревом фигура императора, простершего руки к морю огня внизу, его срывающийся, хриплый голос, декламирующий стихи под аккомпанемент гула пламени, производят на меня впечатление фантасмагорическое. А нестерпимый жар, идущий от гигантского костра, представляется дыханием самого ада.
Согласованного свидетельства двух авторов об «импровизации» Нерона достаточно для суждения о его безумном тщеславии, но не о том, что Рим был подожжен по его приказу. Есть версия, что император решил сжечь беспорядочно застроенный еще четыре века назад город ради его полной реконструкции. Есть аргументы и против этого тяжкого обвинения. Пожар начался в непосредственной близости от дворца Нерона, ставшего одной из первых жертв огня. Одним из первых запылал и дом Тигеллина. Наконец, город загорелся в ту ночь, когда в нем не было императора. Он находился в Анции, в полусотне километров от Рима и прибыл на пожар, видимо, лишь через пару дней после его начала.
Из четырнадцати районов Рима только четыре остались нетронутыми. Три выгорели до основания, а в остальных сохранились лишь остатки обгоревших строений.
Последующая застройка Рима, действительно, велась упорядоченно, точно отмеренными кварталами с широкими улицами между ними. Строить надлежало из туфа. Высота зданий ограничивалась. Были установлены денежные награды за завершение строительства особняков и доходных домов в установленные императором сроки. Домовладельцам вменено в обязанность иметь наготове средства тушения пожаров. «Все эти меры, — пишет Тацит, — принятые для общей пользы, послужили вместе с тем и к украшению города». (Там же, 43)
С небывалым размахом был отстроен новый дворец Нерона. Еще до пожара дворцовые постройки распространились с Палатинского холма до самого Эсквилина. Теперь на этой обширной территории раскинулся архитектурно-парковый комплекс, названный Золотым дворцом. Вот как описывает его Светоний:
«О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в сто двадцать футов (36 метров. — Л.О.). Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной. Внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами. В обеденных палатах потолки были штучные (набранные из пластин слоновой кости. — Л.О.), с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглая и днем и ночью вращалась (быть может, только ее потолок. — Л.О.) вслед небосводу. В банях текли соленые и серные воды». (Светоний. Нерон, 31)
Чтобы пресечь обвинения в свой адрес по поводу поджога Рима, Нерон заявил, что в этом злодеянии повинны христиане. Хотя Тацит ему явно не верит, нам небезынтересно ознакомиться с суждением римского историка, жившего на рубеже I и II веков нашей эры, о первых христианах.
«Нерон, — пишет Тацит, — чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберий прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащим к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или, обреченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады...
...И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона». (Тацит. Анналы, 15, 44)
Разумеется, в рамках этой книги было бы неуместно оспаривать суждение Тацита о христианах. Я решил представить его читателю лишь потому, что такое предубеждение было распространенным в Риме времен Нерона.
Строительство Золотого дворца и безудержное мотовство императора истощили государственную казну.
Для пополнения средств на эти траты Италия, провинции и союзные народы были обложены немыслимыми поборами. Из римских храмов вывезли все золото, пожертвованное в триумфах и по обетам полководцами и народом за многие годы. В Азии и Греции из святилищ изымались не только дары граждан, но и статуи богов. Желая снять с себя всякую ответственность за творимые святотатства, Сенека просит у Нерона дозволения уединиться в отдаленном поместье, но получает отказ.
В следующем году возник заговор с намерением убить императора. Неясно, кто был его инициатором, но главою, по общему желанию, был признан Гай Пизон, сенатор из древнего рода Кальпурниев, пользовавшийся популярностью не только среди аристократов, но и у простонародья. В сговоре участвовали многие сенаторы, всадники и, что особенно важно, несколько военных трибунов и центурионов во главе с одним из двух префектов претория, Фением Руфом. Руф снискал себе добрую славу образом жизни и заботой о солдатах. Нерон не был к нему расположен, как ввиду самих этих достоинств, так и вследствие происков второго префекта Тигеллина.
Тацит подробно рассказывает, как медлили, колебались и откладывали день покушения заговорщики. Промедление оказалось роковым. Вольноотпущенник по имени Милих догадался о намерениях своего патрона сенатора Сцевина (тот ему поручил наточить кинжал и отпустил на волю любимых рабов) и донес Нерону. Тацит не сомневается, что доносчик следовал корыстным побуждениям, но добавляет любопытную ремарку. Из нее ясно, что историк недолюбливал женщин, а также и то, что оправдательная логика доносительства появилась на свет не вчера:
«К тому же, — пишет он, — Милих прислушался к чисто женскому и по этой причине злокозненному рассуждению жены, постаравшейся вселить в него страх: многие вольноотпущенники и рабы видели то же, что видел он. Молчание одного ничему не поможет, между тем награду получит тот, кто опередит доносом всех остальных». (Тацит. Анналы, 15, 24)
Сцевин был схвачен и доставлен во дворец. Поначалу он все отрицал и с такой убежденностью называл подлым злодеем своего обвинителя, что Нерон уже готов был посчитать донос ложным (такое случалось часто). Но вмешалась жена Милиха, напомнив мужу, что накануне Сцевин о чем-то долго совещался наедине со всадником Антонием Наталом, а оба они близки к Пизону. Дальнейшее разыгрывалось точно по сценарию современных спецслужб, отнесенному на два тысячелетия назад:
«Итак, — рассказывает Тацит, — вызывают Натала, и их порознь допрашивают о том, каков был предмет их беседы, и так как ответы их не совпали, возникли подозрения и обоих заковали в цепи. Они не вынесли вида показанных им орудий пыток и угроз ими. Первым заговорил Натал, более осведомленный во всем, что касалось заговора и заговорщиков, и к тому же более искушенный в обвинениях и наветах: сначала он указал на Пизона, а вслед за тем на Аннея Сенеку, или потому, что был посредником в переговорах между ними и Пизоном, или, быть может, стремясь угодить Нерону, который, питая ненависть к Сенеке, изыскивал способы его погубить. Узнав о сделанном Наталом признании, Сцевин с таким же малодушием или сочтя, что все уже открыто и дальнейшее запирательство бесполезно, выдал всех остальных». (Там же, 15, 56)
Затем разматывается до боли знакомая цепочка арестов, пыток, обещаний безнаказанности, признаний, наговоров и казней. По мере того как вырисовывается масштаб заговора, нарастает и размах поисков истинных, а чаще мнимых злоумышленников. Расследование подстегивает отчаянный страх, все сильнее овладевающий императором, хотя он и окружил себя усиленной стражей.
Когда еще только начался допрос Милиха, Сцевия и Натала, заговорщики побуждали Пизона обратиться к народу и воинам, призвать их к восстанию против тирании Нерона и Тигеллина: «Тщетно надеяться, — убеждали они его, — на молчание и на верность такого множества заговорщиков, каждый из которых наделен духом и телом: для пытки и подкупа нет ничего недоступного. Вот-вот придут и закуют его самого в оковы, и он будет предан бесславной смерти. Сколь почетнее для него погибнуть, отдав себя общему делу, подняв клич в защиту свободы. Пусть лучше ему откажут в поддержке воины и его покинет народ, но его смерть, если придется расстаться с жизнью, будет оправдана перед душами предков и перед потомством». (Там же, 15, 59)
Не вняв этим увещеваниям, Пизон уединился дома, а когда за ним пришел отряд солдат, вскрыл себе вены. Он оставил завещание, наполненное постыдной лестью Нерону, что было им сделано из любви к жене, ради ее спасения.
Сенеку назвал один лишь Натал, да и то сообщил только, что был послан к больному философу, чтобы спросить, почему тот не допускает к себе Пизона. Как раз в это время Сенека возвратился из Кампании в свое пригородное поместье. Нерон отправил к нему трибуна преторианской когорты с поручением узнать, подтверждает ли он слова Натала. Трибун явился, когда Сенека обедал в обществе жены Паулины и двух друзей. На вопрос императора философ отвечал, что Пизон действительно присылал к нему Натала выразить сожаление, что Сенека не принимает его, а он в свое извинение сослался на нездоровье и на то, что ему необходим покой. Трибун доложил это Нерону. Император спросил, не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью. Трибун отвечал, что никаких признаков страха, ничего мрачного он не заметил ни в его словах, ни в выражении лица. Как видно, Нерон надеялся получить хоть какое-то свидетельство участия философа в заговоре. Казнить его без всяких на то оснований он все еще не решался. Однако на беду доклад трибуна происходил в присутствии Поппеи и Тигеллина. Мне кажется, что я вижу презрительную гримасу на лице красавицы и слышу ее слова: «Ты все еще боишься своего учителя, бедный Нерон». Вижу искру злорадного любопытства в глазах Тигеллина. Ее замечает и император. Резко обернувшись к трибуну, он приказывает немедленно возвратиться к Сенеке и возвестить ему смерть. Трибун не решается сам произнести слова приговора и посылает центуриона. Вот как описывает Тацит последние минуты жизни философа:
«Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание, но так как центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что, раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его достояния, а именно образ жизни, которого он держался, и если они будут помнит о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписания мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях?..
Высказав это и подобное этому как бы для всех, он обнимает жену и, немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим неколебимостью, просит и умоляет ее не предаваться вечной скорби, но в созерцании его прожитой добродетельно жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о муже. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти... На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемый к тому же любовью, ибо страшился оставить ту, к которой питал редкостную привязанность, беззащитною перед обидами, ответил: «Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть. Не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равною твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия». После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках». (Там же, 15; 62, 63)
Конец Сенеки был трудным. Смерть медлила приходом, и он попросил дать ему заранее припасенный яд цикуты — тот самый, который за пять веков до него выпил Сократ. Но тщетно — уже похолодевшее тело оказалось невосприимчивым к действию яда. Тогда он распорядился, чтобы его перенесли в жаркую баню, и там испустил дух. Тело его сожгли без торжественных погребальных обрядов. Так он распорядился в своем завещании, составленном еще в те дни, когда был всемогущ.
Рушатся последние преграды перед природной жестокостью Нерона. Он входит во вкус злодеяний, не устает наслаждаться всеобщим страхом и раболепием. Казни следуют непрерывной чередой. Преторианцы за верность и усердие получают щедрую награду, по пятьсот денариев каждому солдату. Император созывает сенат и докладывает о своих расправах как о свершенных на войне подвигах. Тигеллина он награждает триумфальными отличиями, на форуме и в Палатинском дворце устанавливают его изваяния.
Хотя Нерон по-прежнему любит Поппею, смертоносный поток увлекает и ее. Однажды император поздно возвращается со скачек. Беременная жена встречает его упреками. В припадке внезапной ярости Нерон наносит ей смертельный удар ногой в живот...
Наверное, пора оборвать зловещий список деяний изувера, волею судеб оказавшегося владыкой Римского государства, и подумать вот о чем. На протяжении двух первых томов этой истории я не раз высказывал мысль, что своими успехами и величием Рим был обязан в первую очередь доблести, мужеству и чувству собственного достоинства его граждан. Читатель вправе спросить: куда же делись эти превосходные качества? Почему римляне терпели тиранию старика Тиберия, потом Калигулы, преступные интриги жен Клавдия и безмерную жестокость Нерона? Попытаюсь ответить.
Вспомним, что все эти властители, наряду со своими гнусными деяниями, не забывали заигрывать с народом и войском. Многочисленные и пышные зрелища, забота о снабжении города продовольствием, раздачи денег и хлеба, строительство общественных зданий и храмов, даже ссылки на божественное происхождение и особенно подарки и денежные награды воинам — все служило увеличению популярности и укреплению власти жестоких императоров.
Казни и гонения касались главным образом тонкого слоя римской аристократии. Конечно, в эпоху Республики именно из этого строя выходили герои — государственные деятели и полководцы, которым мы отдавали дань восхищения. Во времена Империи многие потомки славных родов запятнали свою честь раболепием и даже доносительством. И все же! Пусть большинство римских сенаторов и всадников утратило былое достоинство предков, все же немало оставалось и таких, которые сохранили в своей душе высокую древнюю традицию. (О том, как она сохранялась в провинциях и муниципиях, разговор будет позже). Из сочинений и свидетельств древних авторов мы узнаем об этих людях как о жертвах тирании, отвергнувших ее мужеством своей смерти. Таких примеров оказывается не меньше, чем рассказов о доблести героев предшествующих эпох. Я уже описал конец жизни Сенеки. Приведу еще несколько примеров того, как лучшие представители римской элиты в годы деспотии сумели не посрамить традицию личного достоинства римлян.
Читатель, надеюсь, не забыл имени Тразеи Пета. Он покинул сенат, когда обсуждалось послание Нерона в связи с убийством Агриппины, отстоял жизнь Антисия, когда тот за поношение императора был уже почти приговорен к смерти. Свою оппозицию Нерону Тразея продолжал открыто выражать и дальше. Он уклоняется от принятия ежегодной присяги на верность всем указам принцепса. Не является в сенат, когда там по инициативе Нерона обсуждаются божественные почести убитой Поппее и не присутствует на ее пышных похоронах. Его демонстрации-протесты убеждают современников в возможности сопротивления тирании. Об этом свидетельствуют слова одного из доносчиков, адресованные императору:
«Один он не печется о твоей безопасности, один — не признает твоих дарований... это проявления одного и того же духа строптивости. Он презирает религиозные обряды, подрывает законы. Ежедневные ведомости римского народа с особым вниманием читаются в провинциях и в войсках, потому что все хотят знать, что еще натворил Тразея». (Тацит. Анналы, 16, 22)
Не решившись самолично распорядиться об убийстве столь популярного противника, Нерон созывает послушный ему сенат. Заседание происходит в окружении воинов. Посоветовавшись с друзьями, Тразея Пет решает не участвовать в этом спектакле. С философским спокойствием он ожидает неминуемой смерти у себя дома, в окружении друзей. Для свидетельства о последних часах жизни сенатора-бунтаря предоставим слово римскому историк\г:
«Между тем к Тразее, который оставался у себя в садах, уже под вечер был послан консульский квестор. Тразея в тот день созвал к себе многих знатных мужчин и женщин (заметьте: не побоялись прийти. — Л.О.) и главное внимание уделял учителю кинической философии Деметрию, с которым, как можно было предполагать по выражению лиц и доносившимся до слуха словам, когда они начинали говорить громче, обсуждал вопрос о природе души и о раздельном существовании духовного и телесного, пока не прибыл один из его ближайших друзей Домиций Цецилиан, сообщивший о принятом сенатом решении. Узнав о нем, все разразились слезами и сетованиями, и Тразея стал убеждать их покинуть его возможно скорее, дабы не навлечь на себя опасности подвергнуться участи осужденного. Он обратился с увещеванием и к Аррии, высказавшей желание умереть вместе с мужем, последовав в этом примеру своей матери Аррии (ее муж, Цецина Пет, и их любимый сын — оба были смертельно больны. Она сумела скрыть от отца смерть сына. Потом пронзила себя кинжалом, успела вынуть его из раны и передать мужу со словами: «Пет, не больно».). Тразея уговаривал жену не расставаться с жизнью и не лишать единственной опоры их общую дочь.
Затем он направился к портику, где, скорее обрадованного вестью, что его зять Гельвидий только изгоняется за пределы Италии, чем погруженного в скорбь, его и находит квестор. Получив от него сенатское предписание, Тразея уводит в спальный покой Гельвидия и Деметрия. Там он протягивает обе руки, чтобы ему надрезали вены, и, когда из них хлынула кровь, окропив ею пол и подозвав к себе квестора, говорит: «Мы совершаем возлияние Юпитеру Освободителю. Смотри и запомни, юноша. Да сохранят тебя от этого боги, но ты родился в такую пору, когда полезно закалять дух примерами стойкости». (Там же, 16; 34, 35)
Были и еще о подобные примеры. Участник заговора Пизона трибун преторианской когорты Субрий Флав на вопрос Нерона, как он дошел до забвения присяги и долга, отвечал:
«Я возненавидел тебя. Не было воина, превосходившего меня в преданности тебе, пока ты был достоин любви. Но я проникся ненавистью к тебе после того, как ты стал убийцей матери и жены, колесничим, лицедеем и поджигателем». (Там же, 15, 67)
Бывший консул Луций Ветер и его дочь Поллита были ненавистны Нерону как живой укор, так как мужем Поллиты был безвинно убитый им еще до заговора Рубиллий Плавт. Ветер узнал о том, что готовится сенатское расследование, где против него как равного с доносом выставляют его вольноотпущенника, и что беспощадный приговор уже подготовлен. Он отверг советы доброжелателей отказать большую часть своего состояния Нерону, чтобы остальное досталось внукам. Раздав рабам все наличные деньги, он велит им взять себе все, что только можно вынести из дома, оставив в нем только три ложа, чтобы было на чем умереть. После этого отец и дочь, а вместе с ними и мать Плавта, оставшись одни, вскрывают себе вены...
Гай Петроний, знаменитый автор «Сатирикона», принадлежал к кругу наиболее доверенных приближенных Нерона. Это был дельный администратор, хорошо проявивший себя на посту наместника в Вифинии и консула. Вместе с тем в окружении Нерона он почитался законодателем изящного вкуса, откуда и пошло его прозвище «арбитр». Сам император считал достойной своего величия только ту роскошь, которую одобрял Петроний. Это вызывало ревнивую зависть Тигеллина. От подкупленного им раба Петрония поступает донос о дружбе хозяина с казненным заговорщиком Сцевином. Перед жестокостью Нерона отступали все прочие его пристрастия. Поняв, что обречен, Петроний не стал продлевать часы страха и надежды. Еще не получив приказа умереть, он вскрыл себе вены. Но не торопился оборвать жизнь, а наслаждался ее последними часами. То перевязывая руки, то снимая повязки, он беседовал с друзьями, избегая важных предметов и всего, что служило бы к прославлению непоколебимости его духа. Они пели шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Иных своих рабов Петроний щедро одарил, других наказал. Затем пообедал и погрузился в сон; тогда его и настигла смерть. В своем завещании он, в отличие от многих осужденных, не льстил Нерону но описал безобразные оргии принцепса, назвав поименно участвовавших в них распутников и распутниц. Отметил и все новшества, вносимые ими в разные виды блуда. Приложив свою печать, он отослал один экземпляр завещания Нерону, а перстень с печатью сломал, чтобы не допустить подделки.
Этим я ограничу перечень примеров достойной смерти жертв Нерона, хотя у Тацита он вдвое длиннее. Пересказанного достаточно для утверждения, что, несмотря на жестокий террор (и малодушие многих), среди тех, кто составлял элиту римского общества, оказалось достаточное число людей, сумевших пронести через годы испытаний традицию доблести и личного достоинства древних римлян.
Между тем, хотя Нерону еще не исполнилось и тридцати лет, его преступное правление стремительно приближалось к своему неизбежному концу. Последнее торжественное явление императора народу состоялось в 66-м году по случаю прибытия в Рим для коронации армянского царя Тиридата.
Затем Нерон отправился на гастроли в Грецию. По возвращении летом 68-го года его ждали дурные вести. Еще в Неаполе он узнал, что под руководством наместника Юния Виндекса восстала вся Галлия, включая находившиеся там войска. К этому известию он отнесся беспечно. Однако в Риме он получил сообщение, что восстало и испанское войско во главе с командующим Гальбой. Этими событиями началась новая эпоха в Римской истории, ее стали вершить регулярные войска, находившиеся в провинциях. Весть об испанском восстании потрясла Нерона. Светоний пишет, что он рухнул и долго лежал как мертвый, не говоря ни слова. А когда опомнился, то, разодрав платье и колотя себя по голове, громко вскричал, что все кончено. Потом развил лихорадочную активность: сместил обоих консулов и занял их место. Объявил воинский набор, всем сословиям приказал пожертвовать часть своего состояния, а съемщикам комнат и домов немедленно внести годовую плату за жилье. Этим он возбудил всеобщую ненависть и негодование. Многие открыто отказывались от всяких приношений, предлагая императору лучше взыскать с доносчиков выданные им награды. Никто годный к военной службе на сборные пункты не явился.
Затем взбунтовались войска в Азии и Африке. Устрашенные перспективой прибытия в Рим восставших легионов, покинули императора и преторианцы во главе с дорогим другом Тигеллином. Светоний утверждает, что Нерон собирался было выйти в черном платье к народу, чтобы с ростральной трибуны в слезах молить его о прощении. А если прощения не получится, то выпросить хотя бы наместничество над Египтом. Историк ссылается на то, что готовую речь об этом нашли в ларце императора. И добавляет, что его, видимо, удержал страх быть растерзанным раньше, чем он достигнет форума.
Проснувшись ночью, Нерон обнаружил, что покинут и телохранителями и слугами. Никто из «друзей» не откликнулся на его отчаянный призыв о помощи. Только вольноотпущенник Фаон предложил императору укрыться в своей усадьбе. Нерон, как был, босой, в одной тунике, накинув темный плащ и закутав голову, поскакал туда в сопровождении Фаона и еще одного или двух спутников. По прибытии на виллу они умоляли принцепса скорее уйти от грозящего ему позора. Вот как описывает Светоний последние минуты жизни пятого римского императора — последнего представителя династии Юлиев и Клавдиев:
«Он велел снять с него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом (для обелиска, обмывания тела и погребального костра. — Л.О.). При каждом приказании он всхлипывал и все время повторял: «Какой великий артист погибает!» Пока он медлил, Фаону скороход принес письмо. Выхватив письмо, он прочитал, что сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь. Ему сказали, что преступника раздевают донага, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собой, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил... Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил:
«Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает (из Илиады. — Л.О.) — и с помощью своего советника по прошениям Эпафродита вонзил себе в горло меч. Он еще дышал, когда ворвался центурион и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь. Он только и мог ответить: «Поздно!» и «Вот она, верность!» — и с этими словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились, на них ужасно было смотреть». (Там же, 49)
Две кормилицы и бывшая наложница Акте потом собрали и похоронили прах Нерона в усыпальнице рода Домициев, к которому принадлежал его отец. Он умер 7 июня 68-го года. Ликование охватило весь город. Впрочем, нашлись и такие люди — скорее всего, из простонародья, — которые еще долго украшали урну с прахом жестокого императора цветами.
Интерлюдия третья Сенека «Нравственные письма к Луцилию»
В длинной череде выдающихся деятелей Римской истории Анней Сенека по праву занимает свое место рядом со знаменитыми государственными деятелями, полководцами и императорами. Биографическую канву его жизни мы проследили в предыдущей главе. Там же было отмечено, что философия (своеобразный стоицизм) Сенеки побуждала его к активному участию в политической жизни Рима. Положение советника императора в течение первых восьми лет правления Нерона открывало для этого широкие возможности. Мы не знаем, какие конкретно решения принцепса или законодательные акты сената в этот сравнительно благоприятный период времени были приняты по совету Сенеки. Но его литературное наследство, представляя нам систему взглядов и, в частности, нравственную позицию философа, позволяет судить о том, как рождались эти советы и в каком направлении Сенека пытался влиять на Нерона. Здесь не место (да я бы и не взялся) анализировать философскую позицию Сенеки. Некоторые, на мой взгляд, наиболее важные, аспекты его этики были ранее отмечены в связи с конкретными обстоятельствами и отношением к поступкам императора. Для более подробного знакомства читателю следует обратиться к специальной литературе, например, послесловию С. А. Ошерова к его переводам «Нравственных писем Луцилию» (Наука. М., 1977).
Помимо этого завершающего труда, Сенека оставил восемь трактатов. Я расскажу о них лишь вкратце, поскольку «Письма» вобрали в себя этические размышления, содержащиеся в этих трактатах. «Утешение к Гельвии» (матери философа) и «О краткости жизни» написаны в изгнании. В силу этого мысли Сенеки далеки от государственной деятельности.
Позиция автора меняется, когда по воле обстоятельств перед ним открывается возможность влияния на Нерона — сначала отрока из семьи принцепса, а затем властителя Рима. В трактате «О милосердии» Сенека рисует образ мудрого и милосердного правителя, противопоставляя его тирану а в трактате «О блаженной жизни» впервые вводит понятие осознанной разумом и пережитой чувством нравственной нормы, соответствующей нашему понятию совести. Оба трактата написаны в пору действенного влияния Сенеки на императора. После смерти Бурра и добровольного отхода от политической деятельности он пишет трактат «О спокойствии души». Деяние, направленное на благо государства, по-прежнему представляется ему истинным поприщем добродетели. Но в раскрытии понятия «деяние» отражается та реальная ситуация, в которой оказался философ. «Вот что, я полагаю, — пишет он, — должна делать добродетель и тот, кто ей привержен: если фортуна возьмет верх и пресечет возможность действовать, пусть он не тотчас бежит, повернувшись тылом и бросив оружие, в поисках укрытия, как будто есть место, куда не доберется погоня фортуны, — нет, пусть он берет на себя меньше обязанностей и с выбором отыщет нечто такое, чем может быть полезен государству. Нельзя нести военную службу? Пусть добивается общественных должностей. Приходится остаться частным лицом — пусть станет оратором. Принудили к молчанию — пусть безмолвным присутствием помогает гражданам. Опасно даже выйти на форум — пусть по домам, на зрелищах, на пирах будет добрым товарищем, верным другом, воздержанным сотрапезником. Лишившись обязанностей гражданина, пусть выполняет обязанности человека!»
Оказавшись уже в глубокой изоляции от общественной жизни, Сенека пишет трактат «О досуге», где отстаивает право мудреца на досуг, необходимый для созерцания всего сущего и выработки законов существования не одного государства, а всего рода человеческого. Он пишет: «Два государства объемлем мы душою: одно поистине общее, вмещающее богов и людей, где мы не глядим на тот или на этот угол, но ходом солнца измеряем пределы нашей гражданской общины, и другое, к которому мы приписаны рождением... Этому большому государству мы можем служить и на досуге — впрочем, не знаю, не лучше ли на досуге».
Это служение во время вынужденного досуга (а он уже связан с угрожающей жизни опалой) выражается в написании еще двух больших трактатов: естественно-научного — «Изыскания о природе» и на этическую тему — «О благодеяниях». В акте добровольного благодеяния Сенека теперь видит единственную надежную основу взаимоотношений между людьми. Для человека всякое благодеяние есть добродетельный поступок, награда за который — в нем самом. Даже если за благодеяние не платят благодарностью.
«Он неблагодарен? — вопрошает философ. — Но мне он этим не нанес обиды. Ведь это я, давая, получил пользу от благодеяния. И по такой причине я буду делать не только неленивее, но усерднее. Что потерял я на нем, то возмещу на других. Но и его я снова облагодетельствую, как хороший земледелец, который заботой и обработкой побеждает бесплодие почвы... Давать и терять — не это свойственно великой душе. Терять и давать — вот что ей свойственно».
Благодарность за благодеяние является нравственным долгом человека перед самим собой. Пусть мудрецу неважно, найдет ли он ее, но она благодетельна для самого благодарящего. Благодеяние и благодарность образуют самую прекрасную связь между людьми.
«Нравственные письма к Луцилию» — книга итогов, написанная в конце жизни, Ее адресат Луцилий — лицо реальное. Из бедняков он выбился во всадники, был прокуратором Сицилии, писал стихи, увлекался философией. В свободной форме писем к другу-ученику придерживаясь разговорной интонации, Сенека не поучает, а как бы размышляет по поводу различных конкретных жизненных происшествий. Но в ходе этих размышлений представляет итог всех своих поисков и раздумий нравственного характера. Книга содержит 124 пространных письма, занимающих 323 страницы убористого текста. Бесполезно ее пересказывать. Только для того, чтобы дать читателю некоторое представление о книге и, быть может, побудить его обратиться к оригиналу (в русском переводе), я отобрал двадцать пять небольших фрагментов из писем. Представлены, разумеется, далеко не все темы, затронутые в книге, а лишь те, какие мне казались наиболее важными. Фрагменты тематически объединены в пять групп, именованных условно.
О бедности и богатстве
Из письма № 2:
«...Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает на сотню, если он зарится на чужое и считает не приобретенное, а то, что надобно еще приобрести».
Из письма № 4:
«...узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано в чужих садах): «Бедность, сообразная закону природы, — большое богатство». Знаешь ли ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет нужды пытать счастья в море или идти вслед за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров».
Из письма № 123. (Это то самое письмо, начало которого я уже цитировал. Там Сенека рассказывает, как приехал в свою усадьбу, а для него даже хлеба не нашлось...):
«...Ведь только не имея некоторых вещей, мы узнаем, что многие из них нам и не нужны. Мы пользовались ими не по необходимости, а потому, что они у нас были.
А как много вещей мы приобретаем потому только, что другие их приобретают, что они есть у большинства. Одна из причин наших бед — та, что мы живем по чужому примеру и что не разум держит нас в порядке, а привычка сбивает с пути. Чему мы и не захотели бы подражать, если бы так делали немногие, за тем идем следом, стоит всем за это приняться...»
О мудрости и добродетели
Из письма № 8:
«...то, к чему я тебя склоняю — скрыться и запереть двери — я сам сделал, чтобы многим принести пользу. Ни одного дня я не теряю в праздности, даже часть ночи отдаю занятиям. Я не иду спать, освободившись: нет, сон одолевает меня, а я сижу, уставившись в свою работу усталыми от бодрствования, слипающимися глазами. Я удалился не только от людей, но и от дел, прежде всего — моих собственных, и занялся делами потомков. Для них я записываю то, что может помочь им. Как составляют целительные лекарства, так я заношу на листы спасительные наставления, в целительности которых я убедился на собственных ранах: хотя мои язвы не закрылись совсем, но расползаться вширь перестали. Я указываю другим тот правильный путь, который сам нашел так поздно, устав от блужданий. Я кричу «Избегайте всего, что любит толпа, что подбросил вам случай!..
Угождайте же телу лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости, и такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Держите тело в строгости, чтобы оно не перестало повиноваться душе: пусть пища лишь утоляет голод, питье — жажду, пусть одежда защищает тело от голода, а жилище — от всего ему грозящего. А возведено ли жилище из дерна или из пестрого заморского камня, разницы нет: знайте, под соломенной крышей человеку не хуже, чем под золотой. Презирайте все, что ненужный труд создает ради украшения или напоказ. Помните: ничто, кроме души, недостойно восхищения, а для великой души все меньше нее».
Из письма № 25:
«...Самое благотворное — жить словно под взглядом неразлучного с тобой человека добра, но с меня довольно и того, если ты, что бы ни делал, будешь делать так, будто на тебя смотрят. Одиночество для нас — самый злой советчик. Когда ты преуспеешь настолько, что будешь стесняться самого себя, тогда можешь отпустить провожатого, а до тех пор пусть за тобой надзирает некто чтимый, будь то Катон, либо Сципион, либо Лелий, — любой, в чьем присутствии даже совсем погибшие люди обуздывали свои пороки, — и так, покуда сам не станешь тем человеком, на глазах у которого не отважишься грешить».
Из письма № 124:
«...Вопрос таков: чувством или разумом постигается благо? ... Кто ставит выше всего наслаждение, тот считает благо чувственным; мы же, приписывающие благо душе, — умопостигаемым. Если бы о благе судили чувства, мы бы не отвергали никаких наслаждений: ведь все они заманчивы, все приятны — и, наоборот, не шли бы добровольно на страдание, потому что всякое страдание мучительно для чувств... Ведь ясно, что лишь разум властен выносить приговор о жизни, добродетели, о честности, а, значит, и о благе и зле...
Ты — разумное существо! Что есть твое благо? Совершенный разум! Призови его к самой высокой цели, чтобы он дорос до нее, насколько может. Считай себя блаженным тогда, когда сам станешь источником всех своих радостей, когда среди всего, что люди похищают, стерегут, чего жаждут, ты не найдешь не только что бы предпочесть, но и чего бы захотеть». Из письма № 50:
«...Однако, Луцилий, нельзя отчаиваться в нас по той причине, что мы в плену у зла и оно давно уже нами владеет. Никому благомыслие не досталось сразу же — у всех дух был раньше захвачен злом. Учиться добродетели — это значит отучаться от пороков. И тем смелее мы должны браться за исправление самих себя, что однажды преподанное нам благо переходит в наше вечное владение. Добродетели нельзя разучиться. Противоборствующие ей пороки сидят в чужой почве, потому их можно изничтожить и искоренить; прочно лишь то, что на своем месте. Добродетель сообразна с природою, пороки ей враждебны и ненавистны. Но хотя воспринятые добродетели ни за что нас не покинут и сберечь их легко, начало пути к ним трудно, так как первое пробуждение немощного и больного разума — это испуг перед неизведанным. Нужно принудить его взяться за дело, а потом лекарство не будет горьким: оно доставляет удовольствие, покуда лечит».
Из письма № 98:
«Сенека приветствует Луцилия!
Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья! Если он радуется пришедшему извне, то выбирает хрупкую опору пришлая радость уйдет. Только рожденное из самого себя надежно и прочно, оно растет и остается с нами до конца, а прочее, чем восхищается толпа — это благо на день. — Так что же, невозможно ни пользоваться им, ни наслаждаться? — Можно, кто спорит? — но так, чтобы оно зависело от нас, а не мы от него. Все причастное фортуне плодоносно и приятно, если владеющий им владеет и собой, не попав под власть своего достояния. Поэтому, Луцилий, ошибаются полагающие, будто фортуна может послать нам хоть что-нибудь хорошее или дурное: от нее — только поводы ко благу или ко злу, начала тех вещей, которым мы сами даем хороший или дурной исход. Ведь душа сильнее фортуны: это она ведет все туда или сюда, она делает свою жизнь блаженной или несчастной. Душа дурная все оборачивает к худшему, даже то, что приходит под видом наилучшего. Душа прямая и чуждая порчи исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает с трудом переносимые тяготы; все приятное она встречает скромно и с благодарностью, все неприятное — мужественно и со стойкостью.
...Всегда в смятении душа, что тревожится за будущее, и до всех несчастий несчастен тот, кто заботится, чтобы все, чем он наслаждается, до конца осталось при нем. Ни на час он не будет спокоен и в ожидании будущего потеряет нынешнее, чем мог бы наслаждаться... Гибнуть и терять одинаково неизбежно, и, поняв это, мы найдем утешение и спокойно будем терять теряемое неизбежно.
Но в чем же нам найти помощь против этих потерь? В том, чтобы хранить утраченное в памяти, не допускать, чтобы с ним канул и тот плод, который оно нам принесло. Чем мы владеем, то можно отнять; чем мы владели, того не отнимешь».
Из письма № 59:
«...Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен; он живет наравне с богами. А теперь погляди на себя. Если ты не бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если днем и ночью состояние твоего духа, бодрого и довольного собой, одинаково и неизменно, значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты стремишься отовсюду получать всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища радости среди сплошных тревог К чему ты стремишься, словно к источникам веселья и наслаждения, в том — причина страданий. Я повторяю, радость — цель для всех, но где отыскать великую и непреходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в пирушках и роскоши, другой — в честолюбии, в толпящихся вокруг клиентах, третий — в любовницах, тот — в свободных науках, тщеславно выставляемых напоказ, в словесности, ничего не исцеляющей. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем: как рукоплескания и крики восхищенной толпы, которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог. Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца — как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости: ведь мудрец без радости не бывает. А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей. Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный. — «Что же, — спросишь ты, — разве глупые и злые не радуются?» — Не больше, чем львы, дорвавшиеся до добычи».
О душе
Из письма № 65:
«Я не так мал и не ради такой малости рожден, чтобы быть только рабом своему телу — на него я гляжу не иначе, как на цепь, сковавшую мою свободу. Его подставляю я судьбе, чтобы не шла дальше, и не позволяю ее ударам, пройдя через него, ранить и меня. Если что во мне и может потерпеть ущерб, так только тело. Но в этом открытом для опасностей жилище обитает свободный дух. Эта плоть никогда не принудит меня страшиться, не принудит к притворству, недостойному человека добра, или ко лжи во славу этого ничтожного тела. Я расторгну союз с ним, как только заблагорассудится. Мы и сейчас, покуда связаны друг с другом, союзники не на равных правах: все их забрала себе душа. Презрение к собственному телу наверняка дает свободу. Возвращаясь к нашему предмету, я повторяю, что свободе этой немало способствует и наблюдение природы, о котором мы беседовали. Ведь все состоит из материи и бога. Бог упорядочивает смешение, и все следует за ним, правителем и вожатым. Могущественнее и выше то, что действует, то есть бог, нежели материя, лишь претерпевающая действие бога. То же место, что в этом мире бог, занимает в человеке душа; что в мире материя, то в нас — тело. Так пусть худшее рабски служит лучшему; будем же храбры против всего случайного, не побоимся ни обид, ни ран, ни оков, ни нужды».
Из письма № 102:
«...согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь, ибо душа человека — вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей ставили иначе, нежели богам, пределы... она не принимает отпущенного ей короткого срока: «Мне принадлежат, — говорит она, — все годы, ни один век не заперт для великого ума, и все времена доступны мысли. Когда придет последний час и разделит божественное и человеческое, перемешанное сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, а сама вернусь к богам. Я и теперь не чужда им, хоть и держит меня тяжкая земная темница». Этот медлительный смертный век — только пролог к лучшей и долгой жизни. Как девять месяцев прячет нас материнская утроба, приготовляя, однако, жить не в ней, а в другом месте, куда мы выходим, по видимости, способные уже и дышать и существовать без прежней оболочки, так за весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Нас ждет новое появление на свет и новый порядок вещей. А без такого промежутка нам не выдержать неба. Так не страшись, прозревая впереди этот решительный час: он последний не для души, а для тела. Сколько ни есть вокруг вещей, ты должен видеть в них поклажу на постоялом дворе, где ты задержался мимоходом... Сбрось груз! Что ты медлишь, как будто уже однажды не покинул прятавшего тебя тела? Ты мешкаешь, упираешься — но и тогда тебя вытолкнуло величайшее усилие матери. Ты стонешь, плачешь; плакать — дело новорожденного, но тогда тебя можно было простить: ты появился неразумным и ничего не ведающим, тебя, едва покинувшего мягкое тепло материнской утробы, овеял вольный воздух, а потом испугало грубое прикосновение жестких рук, и ты, нежный, ничего не понимающий, оторопел перед неведомым. Теперь для тебя уже не внове отделяться от того, частью чего ты был; так равнодушно расставайся с ненужными уже членами и сбрасывай это давно обжитое тело. Его рассекут, закопают, уничтожат. А ты, что печалишься? Это дело обычное! Ведь оболочка новорожденных чаще всего гибнет. Зачем ты любишь, как свое, то, что тебя одевает? Придет день, который сдернет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой, зловонной утробы...
Чем покажется тебе божественный свет, когда ты увидишь его в его области? Мысль о нем не допускает, чтобы в душе угнездились грязь, и низость, и жестокость. Она твердит, что боги — свидетели всех наших дел, приказывают искать их одобрения, готовиться к будущей встрече с ними, видеть перед собою вечность. А тот, кто постиг ее разумом, не устрашится никакого войска, не испугается трубы, не побоится ничьих угроз. Да и откуда страх у того, кто надеется умереть?»
О старости и смерти
Из письма № 12:
«...Вот чем обязан я своей загородной: куда бы ни оглянулся — все показывало мне, как я стар. Что же, встретим старость с распростертыми объятиями: ведь она полна наслаждений, если знать как ею пользоваться. Плоды для нас вкуснее всего, когда они на исходе... Всякое наслаждение свой самый отрадный миг приберегает под конец. И возраст самый приятный тот, что идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Да и тот, что стоит у последней черты, не лишен, по-моему, своих наслаждений — либо же все наслаждения заменяет отсутствием нужды в них. Как сладко утопить все свои вожделения и отбросить их! Ты возразишь мне: «Тягостно видеть смерть перед глазами». Но, во-первых, она должна быть перед глазами и у старика, и у юноши — ведь вызывают нас не по возрастному списку. Во-вторых, нет стариков столь дряхлых, чтобы им зазорно было надеяться на лишний день. Каждый день — это ступень жизни... Потому каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни... А если бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал «прожита жизнь», тот каждое утро просыпается с прибылью».
Из письма № 61:
«...это письмо я пишу тебе с таким настроением, будто смерть в любой миг может оторвать меня от писания. Я готов уйти и потому радуюсь жизни, что не слишком беспокоюсь, долго ли еще проживу. Пока не пришла старость, я заботился о том, чтобы хорошо жить, в старости — чтобы хорошо умереть; а хорошо умереть — значит умереть с охотой. Старайся ничего не делать против воли!.. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, что требуют обстоятельства; и прежде всего будем без печали думать о своей кончине. Нужно подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни... Довольно ли мы прожили, определяют не дни, не годы, а наши души. Я прожил сколько нужно, милый мой Луцилий, и жду смерти сытый. Будь здоров».
Из письма № 26:
«...Размышляй о смерти!» — Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто научился смерти, тот разучился быть рабом. Он выше всякой власти и уж наверное вне всякой власти. Что ему тюрьма, и стража, и затворы? Выход ему всегда открыт! Есть лишь одна цепь, которая держит нас на привязи, — любовь к жизни. Не нужно стремиться от этого чувства избавиться, но убавить его силу нужно: тогда, если обстоятельства потребуют, нас ничего не удержит и не помешает нашей готовности немедля сделать то, что когда-нибудь все равно придется сделать. Будь здоров».
Из письма № 58:
«...Я не покину старости, если она мне сохранит меня в целости — сохранит лучшую мою часть; а если она поколеблет мой ум, если будет отнимать его по частям... я выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть строения. Я не стану бежать в смерть от болезни, лишь бы она была излечима и не затрагивала души; я не наложу на себя руки от боли, ведь умереть так — значит сдаться. Но если я буду знать, что придется терпеть ее постоянно, я уйду, не из-за самой боли, а из-за того, что она будет мешать всему, ради чего мы живем».
Философ и толпа
Из письма № 5:
«...Будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор толпе, иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, кого хотели исправить. Из страха, что придется подражать нам во всем, они не пожелают подражать нам ни в чем — только этого мы и добьемся. Первое, что обещает дать философия, — это умение жить среди людей, благожелательность и общительность; но несходство с людьми не позволит нам сдержать это обещание. Позаботимся же, чтобы то, чем мы хотим вызвать восхищение, не вызывало смеха и неприязни. Ведь у нас нет другой цели, как только жить в согласии с природой. Но противно природе изнурять свое тело, ненавидеть легкодоступную опрятность, предпочитая ей нечистоплотность, избирать пищу только дешевую, но грубую и отвратительную. Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного — но только безумие избегает недорогого и общеупотребительного. Философия требует умеренности — не пытки, а умеренность не должна быть непременно неопрятной. Вот мера, которая мне по душе: пусть в нашей жизни сочетаются добрые нравы с нравами большинства, пусть люди удивляются ей, но признают. — «Как же так? Неужто мы будем поступать как все прочие, и между ними и нами не будет никакого различия?» — Будет, и очень большое. Пусть тот, кто приглядится к нам ближе, знает, насколько отличаемся мы от толпы. Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам».
Из письма № 7:
«...Дальше от народа пусть держится тот, в ком душа еще не окрепла и не стала стойкой в добре: такой легко переходит на сторону большинства. Даже Сократ, Катон и Лелий отступили бы от своих добродетелей посреди несхожей с ними толпы, а уж из нас, как ни совершенствуем мы свою природу, ни один не устоит перед натиском со всех сторон подступающих пороков... Что же, по-твоему, будет с нашими нравами, если на них ополчится целый народ? Непременно ты или станешь ему подражать, или его возненавидишь. Между тем и того, и другого надо избегать: нельзя уподобляться злым, оттого что их много, нельзя ненавидеть многих, оттого что им не уподобляешься. Уходи в себя, насколько можешь; проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. И то, и другое совершается взаимно, люди учатся, обучая. Значит, незачем тебе ради честолюбивого желания выставлять напоказ свой дар, выходить на середину толпы и читать ей вслух либо рассуждать перед нею: по-моему, это стоило бы делать, будь твой товар ей по душе, а так никто тебя не поймет».
Из письма № 29:
«...Ты спросишь: «К чему мне беречь слова? Ведь они ничего не стоят! Мне не дано знать, помогут ли мои уговоры тому или этому, но я знаю, уговаривая многих, кому-нибудь да помогу. Нужно всякому протягивать руку, и не может быть, чтобы из многих попыток ни одна не принесла успеха». — Нет, Луцилий, я не думаю, чтобы великому человеку следовало так поступать: влияние его будет подорвано и потеряет силу среди тех, кого могло бы исправить, не будь оно прежде изношено. Стрелок из лука должен не изредка попадать, но изредка давать промах...
Как может быть дорог народу тот, кому дорога добродетель? Благосклонность народа иначе как постыдными уловками не приобретешь. Толпе нужно уподобиться: не признав своим, она тебя не полюбит. Дело не в том, каким ты кажешься прочим, а в том, каким сам себе кажешься. Только низким путем можно снискать любовь низких. Что же дает тебе хваленая философия, высочайшая из всех наук? А вот что: ты предпочтешь нравиться самому себе, а не народу... А если я увижу, что благосклонные голоса толпы превозносят тебя, если при твоем появлении поднимаются крики и рукоплескания, какими награждают мимов, если тебя по всему городу будут расхваливать женщины и мальчишки — как же мне не пожалеть тебя? Ведь я знаю, каким путем попадают во всеобщие любимцы. Будь здоров...»
Глава V Смутное время. Веспасиан
Смутным мы вправе назвать отрезок времени между смертью Нерона и приходом к власти императора Веспасиана. За каких-то полтора года сменилось три императора (все трое умерли насильственной смертью), произошло несколько мятежей и междоусобных сражений. Этих недолговечных императоров, персонажей по-своему небезынтересных, мы увидим точно на фотографии — без движения. Для какой-либо их эволюции не было времени. Равно как и для государственной деятельности, если не считать таковой борьбу за власть. Зато на авансцене нашей истории будет находиться новый «персонаж», который в эти злополучные восемнадцать месяцев станет играть главную роль. Потом он на время отойдет в тень, чтобы примерно через столетие (за рамками этой книги) завладеть уже всей сценой. Легко догадаться, что я имею в виду римское войско. Но не как послушный инструмент в руках честолюбивого полководца, а как самостоятельную, неуправляемую и сокрушительную силу. Мы постараемся приглядеться к ней повнимательнее.
Гальба и Отон
В апреле 68-го года этот «персонаж», как мы помним, заявил о себе восстанием галльских легионов под руководством наместника Галлии Юния Виндекса. Он разослал приглашение присоединиться к мятежу другим наместникам провинций, а управителю Испании, знатному и заслуженному полководцу Сервию Гальбе, предложил стать во главе всего дела. Гальбе в эту пору было семьдесят три года. Службу он начал еще при Тиберии. В тридцать шесть лет был уже консулом. Затем прославился в сражениях с германцами. При Клавдии успешно управлял Африкой, где, по словам Светония, навел порядок с усердной строгостью и справедливостью даже в мелочах. Уже почтенному шестидесятичетырехлетнему сенатору Нерон поручил наместничество в Испании.
Римлянин старого закала, сурового, спартанского образа жизни, требовательный, а иногда и жестокий в отношениях с подчиненными, Гальба вместе с тем легко попадал под влияние своих приближенных. Тацит в таких словах набрасывает его не слишком лестную характеристику:
«Семья его принадлежала к древней знати и славилась своими богатствами. Его самого нельзя было назвать ни дурным, ни хорошим. Он скорее был лишен пороков, чем обладал достоинствами. Безразличен к славе не был, но и не гонялся за ней. Чужих денег не искал, со своими был бережлив, на государственные скуп. Если среди его друзей или вольноотпущенников случались люди хорошие, он был к ним снисходителен и не перечил ни в чем, но зато и дурным людям прощал все самым недопустимым образом. Тем не менее, все принимали его слабость и нерешительность за мудрость — отчасти благодаря знатности его происхождения, отчасти же из страха, который в те времена владел каждым». (Тацит, История, 1, 49)
Получив послание Виндекса, Гальба собрал совет своих приближенных. Один из его фаворитов, командир когорты личной охраны наместника Тит Виний, человек подлый и своекорыстный, которого Тацит называет отвратительнейшим из смертных, заявил:
«Какие еще тут совещания, Гальба! Ведь размышляя, сохранить ли нам верность Нерону, мы уже ему неверны! А если Нерон нам отныне враг, нельзя упускать дружбу Виндекса». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба, IV)
Затем Гальба созвал сходку воинов и граждан. Слухи о восстании Виндекса и его предложении уже взбудоражили истерзанную прокураторами Нерона провинцию. Собравшаяся громадная толпа людей, жаждавших переворота, провозгласила Гальбу императором. Он это звание не принял, но заявил о своем отказе подчиняться Нерону и готовности послужить отечеству в качестве полководца римского сената и народа.
Напомню, что Нерон был не очень-то напуган восстанием Виндекса. Он знал, что наместник Верхней Германии Вергиний Руф, стоявший во главе лучших римских легионов, останется верен присяге. Действительно, получив приказ императора, Вергиний выступил против галльских мятежников и в жестоком сражении разбил их. Виндекс потерял 20 тысяч убитыми, после чего покончил с собой. Но дух непокорности успел заразить солдат Вергиния. Они потребовали, чтобы их полководец принял титул императора и повел войско на Рим. Вергиний Руф отказался, заявив, что и сам не примет верховного владычества и не позволит вручить его никому иному помимо воли и выбора сената.
Положение Гальбы стало весьма опасным. В смятении он написал Вергинию, предлагая объединиться и, как пишет Плутарх, совместными усилиями сберечь римлянам их державу и свободу. Вергиний это предложение отклонил, объявив, что передает свои легионы в распоряжение сената и римского народа.
Однако дни Нерона были уже сочтены. Второй префект претория Нимфидий Сабин, человек низкого происхождения, решил воспользоваться сложившейся ситуацией. Щедрыми подарками он расположил к себе солдат, отстранил от командования своего коллегу Тигеллина и уговорил преторианцев провозгласить императором Гальбу. От его имени он пообещал (без всяких на то полномочий) по семь с половиной тысяч денариев каждому солдату — то есть вдвое больше того, что им в свое время уплатил Клавдий. Одновременно с признанием Гальбы преторианцы требовали от него назначить Нимфидия единственным префектом претория и начальником императорского двора. За спиной старика принцепса Нимфидий рассчитывал проложить себе дорогу к высшей власти в Риме. Для этой же цели он пустил слух, будто он — побочный сын императора Калигулы.
Нерон покончил с собой, и сенаторы поспешили заручиться благосклонностью того, в чьи руки, очевидно, должна была перейти реальная власть в Риме. По свидетельству Плутарха:
«Росту славы и могущества Нимфидия способствовал и сенат, который дал ему звание «благодетеля», собирался ежедневно у дверей его дома и предоставил право предлагать и утверждать всякое сенатское решение, и это завело его еще дальше по пути дерзости и своеволия, так что очень скоро он сделался не только ненавистен,! но и страшен даже для тех, кто перед ним пресмыкался». (Там же, VIII)
Вслед за солдатами претория Гальбу провозгласил императором и сенат. Таким образом, императорская власть на этот раз была даже не куплена у преторианцев, а получена под долговое обязательство, к тому же фальшивое. С вестью о провозглашении императором за одну неделю примчался из Рима в Испанию приближенный к наместнику вольноотпущенник Икел.
Спустя некоторое время во главе испанского легиона Гальба отправился походом в Рим. Послания от преторианцев он не получал и потому спокойно назначил префектом претория другого своего приближенного — Корнелия Лакона. Вергиний Руф, узнав о решении сената, с трудом уговорил войско подчиниться присланному Гальбой на его место новому командующему Гедеонию Флакку. Сдав ему дела, он выехал навстречу императору и присоединился к его свите. Назначенного еще Нероном наместника Нижней Германии Фонтея Капитона то ли в порыве угодничества, то ли по негласному распоряжению Гальбы убили его собственные легаты.
Вообще путь Гальбы до Рима был, по выражению Тацита, долог и кровав. Также и Светоний пишет, что «в пути ему предшествовала молва о его свирепости и скупости». По указанию Гальбы был убит отказавшийся ему присягнуть наместник Африки Макр (впрочем, и сам погрязший в убийствах и грабежах). Неподалеку от Рима кортеж императора встретила толпа бывших матросов, которых Нерон свел в отдельный легион и объявил солдатами. Они требовали от Гальбы подтверждения своего повышенного статуса. Им было велено прийти в другое время, но они не подчинились и продолжали кричать, а некоторые даже обнажили мечи. Против смутьянов была брошена конница, а затем усмиренный легион был подвергнут децимации — казни каждого десятого солдата. Хотя, согласно древнему закону, в случае бунта это наказание было предусмотрено и еще столетие назад применялось, такое начало правления выглядело зловеще. Как замечает Плутарх:
«И если до тех пор были люди, которые относились к императору с пренебрежением, видели в нем бессильного старикашку, то теперь он всем внушал страх и трепет». (Там же, XV)
О том, что Гальба назначил другого префекта претория, Нимфидий через своих лазутчиков узнал задолго до прибытия императора в Рим. Все его планы рушились. Тогда он решил упредить Гальбу и подбить преторианцев провозгласить императором его, Нимфидия. Но этому воспротивились военные трибуны. Один из них собрал сходку солдат и стал упрекать их за То, что они собираются снова сменить правителя без всякого толка и смысла. Сперва, говорил он, у нас были на то основания — злодейства Нерона. Но теперь, готовясь предать Гальбу, можем ли мы и его обвинить в убийстве матери и супруги, скажем ли снова, что краснеем от стыда за своего императора, выступающего на театре?
«Воины, — свидетельствует Плутарх, — единодушно присоединились к мнению трибуна, а затем пошли к остальным солдатам и уговаривали всех хранить верность императору. Большая часть лагеря приняла их сторону, загремели крики, и Нимфидий то ли, как утверждают некоторые, вообразив, будто солдаты уже зовут его, то ли спеша расположить в свою пользу тех, кто еще роптал или был в нерешительности, двинулся вперед, при ярком свете факелов... Увидев ворота запертыми, а на стенах множество вооруженных людей, он испугался, но все-таки подошел ближе и спросил, что случилось и кто приказал взять оружие. Все дружно, в один голос, отвечали, что признают императором только Гальбу, и Нимфидий, изъявляя одобрение, присоединился к общим крикам и велел сделать то же самое своим спутникам. Тем не менее, когда привратники пропустили его с немногими провожатыми внутрь, в него тут же полетело копье. Копье вонзилось в щит, которым успел загородить начальника Септимий, но тут другие воины бросились на Нимфидия с обнаженными мечами, он пустился бежать, его настигли в солдатском домишке и убили. Труп вытащили на открытое место, вокруг поставили ограду и на другой день пускали всех желающих полюбоваться на это зрелище». (Там же, XIX)
Прибыв в Рим, Гальба твердой рукой закрепил свою власть. Он казнил главных приспешников Нимфидия. Расправы избежал только ненавистный всем Тигеллин. Он успел подкупить всемогущего фаворита императора Тита Виния. Между тем, как свидетельствует Плутарх:
«...не было для римского народа зрелища более желанного, чем Тигеллин, которого ведут на казнь, и во всех театрах, на всех ристалищах не смолкали крики, требующие отдать его в руки палачей, пока император особым указом не выразил римлянам своего неудовольствия, объявив, что Тигеллин смертельно болен и стоит на пороге могилы, и советуя не ожесточать государя и не обращать его власть в тиранию. После этого в насмешку над народом и его досадою Тигеллин принес благодарственную жертву богам и устроил великолепный пир, а Виний прямо из-за стола императора отправился к нему во главе шумной ватаги друзей». (Там же, XVII)
А тут еще Гальба объявил розыск для возвращения в казну всех подарков, пожалованных Нероном (на сумму около пятисот миллионов денариев), разрешив оставить владельцам лишь десятую часть стоимости подаренного. Этот розыск затронул множество людей, в чьи руки после продажи успели перейти подарки. В то же время своим клевретам император позволял за взятку делать что угодно: облагать налогом или освобождать от него, казнить или миловать. Так что все они неслыханно обогащались. Светоний пишет, что...
«Полную власть над ним имели три человека — они жили вместе с ним на Палатине, никогда его не покидали и народ называл их его дядьками. Это были Тит Виний, его испанский легат, безудержно алчный, Корнелий Лакон, из судебного заседателя ставший начальником преторианцев, нестерпимо тупой и спесивый, вольноотпущенник Икел, только что награжденный золотым кольцом (то есть возведенный в ранг всадника. — Л.О.)... Этим-то негодяям, с их различными пороками, он доверял и позволял помыкать собою...» (Светоний. Гальба, 14)
И далее продолжает:
«Всем этим он вызвал почти поголовное недовольство во всех сословиях. Но едва ли не более всех ненавидели его солдаты. Дело в том, что начальники обещали им небывалые подарки, если они присягнут ему заочно, а он не только не выполнял их обещаний, но даже гордился не раз, что привык набирать, не покупать солдат. И этим он восстановил против себя все войска по всем провинциям. Среди преторианцев он к тому же возбудил страх и негодование тем, что многих увольнял в отставку по подозрению в соучастии с Нимфидием». (Там же, 16)
Стоит отметить, что в городе в это время, кроме преторианцев, находилось множество солдат регулярных легионов, которые Нерон успел вызвать, намереваясь отправиться в Галлию для подавления восстания Виндекса. Солдаты глухо роптали, но еще не отваживались на открытые выступления и надеялись получить хотя бы часть обещанных наград.
В этот-то момент и послышались первые далекие раскаты грозы, которой предстояло бушевать над всей Италией. Германские легионы Вергиния Руфа были особенно возмущены тем, что за тяжелую победу над Виндексом не получили никаких наград (ведь Гальба был союзником Виндекса). Своего нового командующего Флакка — немощного и несведущего в военных делах подагрика — они не признавали. 1 января нового года, согласно обычаю, легионы должны были присягать на верность императору. Флакк собрал воинов, но вместо присяги они сбросили на землю изображение Гальбы и, заявив, что будут верны сенату и народу, разошлись. В Рим к преторианцам отправили послов с вестью, что Гальба им не по нраву — пусть выберут правителя, который бы устраивал все войска.
Когда сведения об этом дошли до Гальбы, он решил, не медля долее, назначить себе преемника, который бы пока делил с ним верховную власть, а затем принял ее на себя целиком. Ввиду преклонного возраста императора вопрос о преемнике стоял с самого начала его правления. Виний, Лакон и Икел непрестанно ссорились между собой из-за кандидатуры в наследники верховной власти. Ввиду низкого происхождения ни один из троих не мог рассчитывать на то, что верный древним традициям Гальба назначит преемником его, и потому проталкивал своего кандидата.
Тит Виний предлагал Отона, который обещал жениться на его дочери. Того, самого Отона — гуляку, развратника и участника всех буйных похождений Нерона, у которого друг-император отнял жену, а самого услал наместником в испанскую провинцию Лузитанию. Ввиду той роли, которую ему предстоит сыграть в ближайшее время, нам следует присмотреться к нему внимательнее. А для этого вернуться немного назад. Похоже, что Отону не повезло во взаимоотношениях с Историей. Дурная слава, вполне заслуженная им в молодые годы, всеми тремя историками, на чьи свидетельства я опираюсь, была перенесена в описываемое сейчас время. Между тем с момента высылки Отона из Рима прошло десять лет. Те же историки в один голос утверждают, что «Отон управлял провинцией хорошо» (Тацит), «с редким благоразумием и умеренностью» (Светоний), «правителем был мягким и с подчиненными народами жил в согласии» (Плутарх). Никаких намеков на притеснения или вымогательства, столь обычные для римских наместников! С обликом мота и кутилы это не очень вяжется. Быть может, его отрезвила горечь разлуки с женой, которую он очень любил? Или годы взяли свое? Кстати, сама история с Поппеей, как уже упоминалось, названными историками излагается по-разному. Отметим еще, что, отобрав жену у Отона, Нерон не расправился с ним, что было бы вполне нормально для того периода его правления, а ограничился высылкой соперника. Плутарх свидетельствует, что своим спасением Отон был обязан заступничеству Сенеки. Это обстоятельство также говорит в пользу Отона.
Уточнив предшествующие этапы биографии Отона, обратимся к его действиям в окружении Гальбы. Они были с самого начала направлены к тому, чтобы занять место будущего преемника императора. Отон понимал, что в силу знатности рода он среди испанских приближенных Гальбы будет вне конкуренции. Надо лишь завоевать расположение императора и не восстановить против себя его наиболее влиятельных фаворитов. Выступив только что против необоснованного представления о «разнузданности» Отона, я отнюдь не предполагаю в нем отсутствия честолюбия. И, быть может, самого дерзкого. Но посмотрим, как он начинает свой путь к вожделенной цели. Вот свидетельство Плутарха:
«Когда Гальба восстал, он первым из наместников присоединился к нему, привез все золотые и серебряные чаши и столы, какие у него были, чтобы новый государь перечеканил их в монету, и подарил ему рабов, обученных прислуживать высокому властителю. И во всем остальном Отон хранил верность Гальбе и на деле доказал, что никому не уступит в опытности и умении управлять. Много дней подряд, на протяжении всего пути он ехал с императором в одной повозке. В том же совместном путешествии он сумел снискать привязанность Виния — любезным обхождением и подарками, а главное, тем, что в любых обстоятельствах первенство неизменно уступал ему. Таким образом, с помощью самого Виния он прочно занимал второе место после него, обладая в то же время одним важным преимуществом: он ни у кого не вызывал зависти или злобы, потому что помогал безвозмездно каждому, кто просил о помощи, и со всеми был приветлив и благожелателен. Больше всего внимания он проявлял к солдатам и многим доставил начальнические должности, то обращаясь с просьбами к самому императору, то к Винию или к отпущенникам Икелу и Азиатику, которые пользовались при дворе огромной силой. Всякий раз, как Отон принимал у себя Гальбу, он подкупал караульную когорту, выдавая солдатам по золотому...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба, XX)
В этом фрагменте я бы хотел обратить внимание читателя на то, что, отправляясь к Гальбе, Отон привез с собой всю свою драгоценную утварь. Значит, наличных денег у него было мало. Это согласуется с утверждением Тацита, что Лузитанией он правил с безупречной честностью и умеренностью. Однако тот же Тацит замечает:
«Во время похода, на марше и на стоянках он обращался к старейшим воинам по имени и, вспоминая время, когда они вместе состояли в свите Нерона, называл их своими товарищами. В одних он узнавал старых знакомых, других расспрашивал об их делах, оказывая им покровительство и помощь деньгами...»
И далее:
«Его изобретательность в деле подкупа была неистощима: когда один из преторианцев, по имени Кокцей Прокул, затеял с хозяином соседнего с его владениями земельного участка тяжбу из-за межи, Отон на свои деньги скупил всю землю этого соседа и подарил ее солдату». (Тацит, История, 1; 23, 24)
Такой прямой, хотя и не слишком благородный, способ завоевания популярности однажды в Римской империи уже блестяще оправдал себя. Читатель, конечно, догадался, что я имею в виду Юлия Цезаря. Отону удалось достигнуть такого же результата. Тацит свидетельствует, что «солдаты в большинстве любили его», а Светоний замечает, что «вскоре трудно было найти человека, который бы не думал и не говорил, что только Отон достоин стать наследником Империи». Кстати, предложенную аналогию можно продолжить. Помните, Цезарь, рассчитывая на быстрое продвижение в консулы, сорил не своими, а взятыми в долг деньгами. То же самое должен был делать и Отон. Ведь мы только что выяснили, что свободных денег у него не было. Поэтому, когда Плутарх упоминает, что у Отона к моменту прибытия в Рим было на пятьдесят миллионов долгов и приписывает это тому, что он был распутник и мот, историк, как мне кажется, торопится с выводом. Долги эти были обусловлены совсем другой причиной. Да и вряд ли Отон позволил бы себе столь неосторожное поведение на виду у Гальбы, чья аскетическая строгость была ему хорошо известна.
Итак, Отон твердо рассчитывал, что Гальба объявит его наследником. И вот, побуждаемый волнением в германском войске, император называет имя своего преемника. Легко вообразить, каковы были разочарование, обида, а ввиду огромного долга, и отчаяние Отона, когда это оказалось имя тридцатилетнего потомка Красса и Помпея — Луция Пизона, только что возвращенного из ссылки. Впрочем, для престарелого императора этот выбор был вполне логичен:
«Пизон, — пишет Тацит, — был благородного происхождения и по отцу, и по матери. По внешности, манере держаться, взглядам это был человек старого склада. Он был суров — если судить о нем справедливо, или угрюм — как уверяли недоброжелатели. Гальбе нравилась именно эта сторона его характера, внушавшая опасения людям, мятежно настроенным». (Там же, 1, 14)
Свое решение Гальба обосновал в пространной речи, которую он произнес в узком собрании своих приближенных, представляя им Пизона. Я приведу из нее два фрагмента (в реконструкции Тацита). Хочу обратить внимание читателя на четко заявленный отказ от семейного принципа наследования императорской власти:
«Если бы огромное тело государства, — говорит Гальба, — могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна уже вынуждены идти по другому пути: единственно, что я, старик, могу дать римскому народу — это достойного преемника, и единственное, что можешь сделать для него ты, человек молодой, — это стать хорошим принцепсом. При Тиберии, при Гае и при Клавдии мы представляли собой как бы наследственное достояние одной семьи. Теперь, когда правление Юлиев и Клавдиев кончилось, глава государства будет усыновлять наиболее достойного. Разум не играет никакой роли в том, что человек родился сыном принцепса, но если государь сам избирает себе преемника, он должен действовать разумно, должен обнаружить и независимость суждения, и готовность прислушиваться к мнению других. Пусть стоит перед твоими глазами судьба Нерона, который так гордился происхождением из семьи, давшей Риму длинный ряд Цезарей. Его низвергли не Виндекс со своей безоружной провинцией и не я с моим единственным легионом, а собственная чудовищная жестокость и собственная страсть к наслаждениям...»
И далее:
«...Дурные люди будут всегда сожалеть о Нероне; нам с тобой надо позаботиться о том, чтобы о нем не стали жалеть и хорошие. Сейчас не время давать тебе дальнейшие наставления. Если, остановив свой выбор на тебе, я поступил правильно — осуществилось все, на что я надеялся... У нас ведь не так, как у народов, которыми управляют цари: там властвует одна семья и все другие — ее рабы. Тебе же предстоит править людьми, неспособными выносить ни настоящее рабство, ни настоящую свободу». (Там же, 1, 16)
Посовещавшись, где впервые публично объявить о выборе преемника, решили оказать уважение солдатам. В холодный дождливый день 10 января на многолюдной солдатской сходке в лагере преторианцев Гальба кратко и властно объявил, что усыновляет Пизона, который вместе с ним прибыл в лагерь. Преторианцы сумрачно молчали, ожидая, последует ли за этим объявление о наградах. Ведь другие императоры их раздавали даже в мирное время, а они должны поддержать Гальбу сейчас, когда войска в провинциях отказываются ему присягать. Ожидание было напрасным. Тацит по этому поводу меланхолически замечает:
«Прояви скупой старик хоть малейшую щедрость, он, без сомнения, мог бы привлечь солдат на свою сторону. Ему повредила излишняя суровость и несгибаемая, в духе предков, твердость характера, ценить которые мы уже не умеем». (Там же, 1, 18)
«Обращение Гальбы к сенату, — продолжает Тацит, — было столь же простым и кратким, как и выступление его перед солдатами, речь Пизона — искусной и любезной. Сенаторы выразили ему свою благосклонность, многие искренне, недоброжелатели многоречиво, а равнодушное большинство — с угодливой покорностью, преследуя при этом лишь свои личные цели и нимало не заботясь об интересах государства». (Там же, 1, 19)
Преторианцы были обозлены до крайности, однако еще не дерзали выйти из повиновения. Недовольство перекинулось и на легионы, находившиеся в Риме. Не хватало только руководителя, хотя бы номинального, для того, чтобы вспыхнул бунт. Ситуация неумолимо подталкивала Отона к тому, чтобы взять на себя эту роль. Он решает действовать. Тацит так описывает начало мятежа:
«...Отон назначил одного из своих вольноотпущенников — Ономаста — руководить осуществлением злодейского замысла. Узнав, что тессерарий Барбий Прокул и опцион (должности старших солдат. — Л.О.) Ветурий (оба служившие в телохранителях) по разным поводам вслух возмущались Гальбой и даже угрожали ему, Отон через Ономаста вызвал их к себе, засыпал подарками и обещаниями и дал денег, чтобы они могли других также переманить на свою сторону. И вот два солдата задумали передать Римскую империю из одних рук в другие и действительно добились своего! О заговоре знали немногие, остальные колебались, и заговорщики разными способами воздействовали на них: старшим солдатам намекали, что Гальба их подозревает, так как они пользовались в свое время благосклонностью Нимфидия; в рядовых вызывали ярость напоминанием о ранее обещанных и безвозвратно упущенных деньгах; некоторым, помнившим Нерона, говорили, что хорошо бы вернуться к легкой и праздной жизни, которую при нем вели солдаты; и всех пугали возможностью перевода из претория в легионы». (Там же, 1, 25)
Почва для открытого мятежа была настолько подготовлена, что он произошел очень скоро — через четыре дня после усыновления Пизона. Читатель, несомненно, заметил, что в особо драматические моменты римской истории я предпочитаю, не поддаваясь соблазну авторской фантазии, передать рассказ кого-либо из древних историков, если удается найти достаточно яркий и краткий. Для драматических событий 15 января 69-го года имеются два одинаково подробных и динамичных описания: Плутарха и Тацита. Первое заметно короче, и потому я выбираю его, а в одном месте дополню информацией, заимствованной у Тацита:
«Ранним утром того дня Гальба приносил на Палатине жертву в присутствии друзей, и едва жрец Умбриций взял внутренности жертвенного животного и оглядел их, он тут же и притом без всяких околичностей объявил, что видит знамения великого смятения и опасности, коварно грозящей жизни императора, — бог словно бы сам отдавал Отона, который стоял позади и внимательно прислушивался к каждому слову жреца, в руки Гальбы. Отон испугался и от страха побелел, как мертвец, но в этот миг рядом появился отпущенник Ономаст и сказал, что пришли строители и ждут его дома. Это был условный знак, по которому Отону надлежало немедля идти к солдатам. Итак, он объясняет, что купил старый дом и хочет показать продавцам места, внушающие ему тревогу, а затем через так называемый Дом Тиберия спускается на форум к Золотому столбу, у которого заканчиваются все дороги Италии.
Число тех, что встретили его там и приветствовали, называя императором, не превышало, как передают, двадцати трех. Отон оробел, хотя вообще, при всей своей телесной изнеженности, духом слаб не был, но отличался решительностью и пред опасностями не отступал. Однако собравшиеся не дали ему ускользнуть. Обнажив мечи, они обступили его носилки и приказали двигаться дальше, и Отон, крича, что погиб, стал торопить и погонять носильщиков. Несколько прохожих слышали его крики, но были скорее изумлены, чем встревожены, видя малочисленность участников этой отчаянной затеи. Впрочем, пока его несли через форум, к ним присоединилось еще столько же, и подходили все новые, группами по три-четыре человека, и, наконец, все вместе повернули назад, в лагерь, громко именуя Отона Цезарем и простирая обнаженные мечи к небу. Начальником караула в тот день был трибун Марциал. Говорят, что он ничего не знал о заговоре, но так испугался, что впустил Отона в лагерь, а там уже никто сопротивления ему не оказал, ибо те, кто не принимал участия в деле, были по одному, по двое окружены заговорщиками (которые умышленно держались все вместе) и, сперва повинуясь угрозам, а потом и убеждениям, последовали примеру товарищей. О случившемся немедленно сообщили Гальбе на Палатин. Жрец еще не ушел, и внутренности закланного животного по-прежнему были у него в руках, так что даже самые упорные маловеры были поражены и дивились исполнению божественного знамения. Пестрая толпа хлынула с форума ко дворцу, и Виний, Лакон и несколько отпущенников с обнаженными мечами стали подле Гальбы, а Пизон вступил в переговоры со стражею, охранявшей дворец. В так называемом Випсаниевом портике был размещен иллирийский легион; чтобы заранее заручиться поддержкою этих солдат, к ним послали Мария Цельса, человека верного и честного.
Гальба хотел выйти к народу, Виний его не пускал, а Цельс и Лакон, напротив, побуждали, горячо нападая на Виния, как вдруг разнесся слух, что Отон убит в лагере. А немного спустя появился Юлий Аттик, служивший в императорской охране и пользовавшийся некоторой известностью. Потрясая мечом, он кричал, что убил врага Цезаря. Оттолкнув стоящих впереди, он показал Гальбе окровавленный меч. Взглянув на Аттика, Гальба спросил: «Кто отдал тебе такой приказ?» — «Верность и присяга, которую я приносил», — был ответ, а так как народ рукоплескал Аттику и повсюду гремели крики, что он поступил правильно, Гальба сел в носилки и покинул дворец, чтобы принести жертву Юпитеру и показаться гражданам». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба, XXIV—XXVI)
Плутарх до самого конца ведет свой рассказ с позиции наблюдателя, находящегося на форуме. Нам же в этом месте стоит обратиться к Тациту и посмотреть, что же тем временем происходило в лагере преторианцев.
«Между тем преторианцы, остававшиеся в лагере, — пишет он, — перестали колебаться. Неистовый пыл овладел ими, им показалось мало того, что они пронесли Отона на плечах через весь город и защищали его своими телами. Они подняли его на возвышение, на котором среди боевых значков еще недавно стояла золоченая статуя Гальбы, и окружили вымпелами своих отрядов. Ни трибунов, ни центурионов не подпускали к этому месту: солдаты говорили, что командиров надо опасаться в первую голову. Над лагерем стоял гул, и в нем сливались голоса, шум и крики, которыми солдаты подбадривали друг друга. Когда так шумит толпа, состоящая из граждан и черни, ее крики не выражают ничего, кроме слабости и раболепия. Здесь было иное: едва завидев кого-нибудь из подходивших солдат, преторианцы хватали их за руки, обнимали, ставили в свои ряды, заставляли повторять слова присяги, расхваливали их императору или императора им. Отон простирал к толпе руки, склонялся перед ней в почтительном поклоне, посылал воздушные поцелуи и, стремясь стать владыкой, вел себя как раб. Когда присягу принес легион морской пехоты в полном составе, он счел, что располагает достаточными силами, и решил воодушевить сразу всю массу солдат, вместо того, чтобы и дальше обращаться к каждому поодиночке. Поднявшись на лагерный вал, он начал так...» (Тацит. История, 1, 36)
Основные положения речи Отона, как ее реконструировал Тацит, сводились к следующему. Гальба намерен уничтожить меня и покарать вас. Свою жестокость он уже проявил неоправданной децимацией легиона морской пехоты... Награбленного его фаворитами с лихвой хватило бы, чтобы выплатить все обещанные вам деньги... Сенат и народ недовольны правителем... Воины охраны императора готовы перейти на нашу сторону. Медлить нельзя — мы должны победить!
«...Окончив речь, — продолжает Тацит, — Отон велит открыть арсенал. В мгновение ока, не соблюдая порядка и строя, солдаты разбирают оружие. Все смешалось: преторианец хватает вооружение легионера, легионер — преторианца, мелькают щиты и шлемы солдат из вспомогательных войск, не слышно приказов ни центурионов, ни трибунов. Каждый сам себе командир, каждый сам себя подгоняет...» (Там же, 1, 38)
Теперь вернемся на форум и вместе с Плутархом проследим за дальнейшим развитием событий:
«...форум встретил императора молвою, что войско подчинилось Отону. Как всегда бывает в гуще толпы, одни советовали ему повернуть назад, другие — продолжать путь, одни кричали, чтобы он не падал духом, другие — чтобы не доверял никому и носилки, всякий раз круто наклонявшиеся, бросало то туда, то сюда, словно по бурным волнам, а между тем сперва появились всадники, а затем и пехотинцы, наступавшие через Павлову базилику. Громко, в один голос, они приказывали всем частным лицам очистить площадь. Народ пустился бежать, но не рассеялся, а заполнил портики и возвышенности вокруг форума, будто боясь пропустить какое-то зрелище. Атилий Вергилион (знаменосец когорты охраны. — Л.О.) швырнул оземь изображение Гальбы, и тут же солдаты, открывая военные действия, забросали копьями императорские носилки, а, убедившись, что ни одно из копий Гальбу не задело, ринулись на него с мечами... носилки опрокинулись, и Гальба, в панцире, вывалился на землю; тут и набежали на него убийцы. А он, подставляя горло, промолвил только: «Разите, если так лучше для римского народа». Он получил много ран в бедра и руки, а смертельный удар, судя по большинству сообщений, ему нанес некий Камурий из пятнадцатого легиона...» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Гальба, XXVI, XXVII)
Тогда же был убит и Тит Виний. Не думаю, что убийство Гальбы совершилось по прямому указанию Отона. Он бы предпочел заставить старика изменить свое решение или просто отдать власть. Скорее это была самовольная расправа солдат с ненавистным правителем. Чего нельзя сказать по поводу смерти Пизона. Плутарх и Тацит одинаково свидетельствуют, что приказ найти его и убить отдал Отон. Ведь Пизон был утвержден сенатом в качестве преемника Гальбы.
Марий Цельс, которого не было на форуме, сам явился в лагерь преторианцев. Солдаты накинулись на него с обвинением, что он уговаривал их защищать императора. Толпа требовала смерти Мария, но Отон, ценя мужество и военный опыт Цельса, казнить его не хотел. Под предлогом необходимости кое-что выпытать он приказал заковать обвиняемого и взять под стражу.
«Немедленно, — сообщает далее Плутарх, — был созван сенат. И словно то были иные люди или же боги над ними стали иными, но, собравшись, они принесли Отону клятву на верность — такую же точно, какую лишь недавно приносил он сам и не сдержал. Они дали ему имена Цезаря и Августа, меж тем как обезглавленные трупы в консульских одеяниях еще валялись на форуме». (Там же, XXVIII)
Отон и Вителлий
На следующее утро Отон поднялся на Капитолий и принес благодарственную жертву. Потом новый император весьма дружелюбно и благожелательно выступил в сенате. Всем, кто был изгнан Нероном и возвращен Гальбой, он обещал вернуть конфискованное имущество. Никого не стал преследовать и казнить. Кроме Тигеллина. Уступая единодушному требованию народа, ему он послал приказ умереть. Когда отряд солдат доставил этот приказ в имение близ Кампании, где находился бывший префект претория, тот сначала пытался подкупом склонить командира отряда позволить ему бежать морем, а когда это не удалось, перерезал себе горло бритвой.
Таким образом, правление Отона начиналось вполне безмятежно. Но так продолжалось недолго. То, что еще недавно глухо погромыхивало далеко на севере, черной тучей поднималось на краю горизонта. Не получив ответа от преторианцев, мятежные верхнегерманские легионы решили провозгласить своего императора. Наместник Верхней Германии Флакк был явно непригоден для этой роли. После убийства Капитона должность правителя Нижней Германии некоторое время оставалась вакантной. В декабре 68-го года Гальба назначил на нее пятидесятитрехлетнего сенатора Авла Вителлия. Светоний утверждает, что это назначение было продиктовано не признанием заслуг и даже не милостью императора, а презрением. По его словам, Гальба заявил, что меньше всего следует бояться тех, кто помышляет только о еде, и что, может быть, богатства провинции насытят бездонную глотку Вителлия.
Древность рода Вителлиев была довольно сомнительной. Но дед Авла Вителлия принадлежал к сословию всадников и был управляющим имений Августа, а отец — трижды консулом и наместником в Сирии. Детство и отрочество Авла прошло на Капри среди любимцев Тиберия. У трех следующих принцепсов он тоже был в милости. У Калигулы — за любовь к скачкам, у Клавдия — за пристрастие к азартным играм, а у Нерона — в качестве распорядителя состязаний кифаредов с участием императора. Он побывал и консулом, и правителем Африки, но богатства не нажил — наверное, из-за своего чревоугодия.
Знатность рода и былые заслуги делают Вителлия подходящим кандидатом в императоры. Командир одного из легионов верхнегерманского войска Авл Цецина берет инициативу в свои руки. Это молодой, красивый и честолюбивый офицер, ловкими речами и простотой обращения сумевший завоевать расположение солдат. За растрату казенных денег Гальба приказал отдать его под суд. Посеяв смуту, он рассчитывает уйти от наказания. Ему удается, как уже упоминалось, подбить солдат двух легионов к отказу от присяги Гальбе. В Агриппинову колонию (нынешний Кельн) к Вителлию посылают знаменосца, чтобы уведомить о своем отказе. Это еще не прямое предложение верховной власти, но Вителлий поставлен перед нелегким выбором. Либо он должен поддержать их инициативу и тем самым стать во главе мятежа, либо выступить на его усмирение, зная, что и его войска ненадежны. Вителлий колеблется. Через гонцов запрашивает мнение легатов подначальных ему легионов. На следующий день Фабий Валент, самый решительный из них, чей зимний лагерь расположен неподалеку, в сопровождении конного отряда вступает в город и приветствует Вителлия как императора. Его примеру, точно соревнуясь друг с другом, спешат последовать и остальные. Все верхнегерманские легионы, позабыв о своей присяге верности сенату и народу, в течение недели переходят под командование Вителлия. Воцаряется атмосфера всеобщего энтузиазма. Впервые в Римской истории провинциальная армия берет в свои руки собственную судьбу, а с ней и судьбу Рима. Тацит свидетельствует:
«Не только знатные люди в колонии и офицеры в лагерях, которые и так были богаты, а в случае победы рассчитывали разбогатеть еще больше, но даже простые солдаты целыми манипулами и поодиночке вносили свои сбережения, а если денег не было, отдавали нагрудные бляхи, изукрашенные портупеи, серебряные застежки — то ли в порыве восторга, то ли по расчету». (Тацит. История, 1, 57)
Вскоре были сформированы две передовые армии для вторжения в Италию. 40-тысячное войско из Нижней Германии под командованием Валента должно было спуститься в Прованс и через Коттианские Альпы перейти в верховья Пада (нынешняя По). А войско Цецины, численностью в 30 тысяч человек, получило приказ из Верхней Германии кратчайшим путем пройти в Италию через перевал Большой Сенбернар. Тацит отмечает любопытную особенность момента, предшествовавшего выступлению войск:
«Император и армия самым удивительным образом отличались друг от друга. Солдаты настаивают, требуют начать войну немедленно, пока галльские провинции еще трепещут от страха, а испанские медлят. Нас не остановит ни зима, ни привычка к мирной жизни, достойная только трусов, кричат они. Надо вторгнуться в Италию, занять Рим. Во время гражданских смут самое безопасное — идти вперед, и действовать важнее, чем рассуждать. Вителлий же, как будто оцепенев, не двигался с места. Предвкушая положение принцепса, он проводил время в праздности, роскоши и пирах, средь бела дня появлялся на людях, объевшись и пьяный. Солдаты, охваченные воодушевлением и энергией, действовали за него, и поэтому могло показаться, будто в армии есть настоящий командующий, который людям мужественным внушает надежду на успех, а совсем слабым — страх... Войска стояли в полной боевой готовности и требовали приказа о выступлении». (Там же, 1, 62)
Наконец оба войска выступают. Вителлий остается в колонии для формирования второго эшелона вторжения. Путь Валента и Цецины через Галлию и нынешнюю Швейцарию одинаково отмечен грабежами и притеснением местных жителей. Об убийстве Гальбы они узнают по дороге, но продолжают движение, не желая признавать императором Отона. Начинается полномасштабная гражданская война, когда друг другу противостоят не ополченцы и партизаны, а профессиональные армии.
Тем временем оба новоиспеченных императора обмениваются посланиями. Сначала любезными, предлагая один другому свою милость, деньги и спокойную жизнь в любом месте за отказ от власти. Потом — все более резкими. Убедившись в бесплодности дальнейших переговоров, Отон начинает готовиться к отпору. В отличие от Вителлия, он сам организует войско, назначает командиров и намеревается выступить вместе с ними.
«Чтобы прослыть великодушным к человеку, пользующемуся доброй славой, но ненавидимому окружением императора, Отон приказывает привести на Капитолий Мария Цельса — кандидата в консулы, которого он в свое время заключил в тюрьму и спас таким образом от ярости солдат. Цельс не только подтвердил, что оставался верным Гальбе, но и дал понять Отону какую пользу могут принести ему самому люди, умеющие хранить верность принцепсу. Отон не стал вести себя как государь, прощающий преступника. Он призвал богов в свидетели того, что они с Цельсом примиряются как равный с равным, тут же ввел его в число своих самых близких друзей и вскоре отправил на войну вместе с другими полководцами». (Там же, 1, 71)
Подготовка занимает два месяца. Незадолго до ее окончания происходит эпизод, хорошо иллюстрирующий степень самоуправства солдат и характер их взаимоотношений с императором и сенатом. Эпизод этот подробно описан у Тацита, короче — у Плутарха. Воспользуюсь вторым описанием.
Отон приказывает привести из Остии в Рим когорту гражданского ополчения. Вооружение для нее должен взять из арсенала трибун преторианцев Криспин. Ему было удобно сделать это ночью. Но, когда он начал грузить оружие на повозки...
«...самые дерзкие из солдат, — пишет Плутарх, — разом подняли крик, что Криспин, дескать, явился к ним с недобрыми намерениями, что сенат замышляет переворот и что оружие везут не в Рим к Цезарю, но против Цезаря. Крики эти многих подняли на ноги и ожесточили настолько, что одни напали на повозки, другие убили двух центурионов, пытавшихся оказать сопротивление, и самого Криспина, а потом все снарядились в путь и, призывая друг друга помочь Цезарю, тронулись в столицу. У Отона в тот вечер обедали восемьдесят сенаторов. Узнав об этом, солдаты решили, что им представляется счастливый случай перебить всех врагов императора разом, и помчались ко дворцу. В городе поднялся отчаянный переполох — все были уверены, что сейчас начнется грабеж, — люди во дворце лихорадочно заметались, забегали, а сам Отон оказался в тяжелейшем затруднении: страшась за своих гостей, он сам был им страшен, он видел их взоры, прикованные к нему в безмолвном ужасе, тем большем, что некоторые пришли с женами. Послав начальников охраны переговорить с солдатами и успокоить их, император в то же время выпустил приглашенных через другие двери. И едва успели они скрыться, как наемники вломились в залу и потребовали ответа, куда подевались враги императора. Отон встал во весь рост на своем ложе и лишь ценою долгих уговоров, просьб и даже слез удалось ему заставить солдат уйти. На другой день, назначив каждому в награду по тысяче двести пятьдесят драхм, он отправился в лагерь и сперва хвалил всех вместе за преданность и верность, но потом сказал, что иные — немногие — со злым умыслом мутят войско, выставляя в ложном свете доброту императора и преданность ему воинов, просил разделить его негодование и помочь наказать смутьянов. Речь его была встречена дружным одобрением, все кричали, чтобы он поступал так, как находит нужным, и Отон, схвативши всего двоих, чья смерть ни у кого не могла вызвать жалости, возвратился к себе». (Плутарх Сравнительные жизнеописания. Отон, П)
Как это нередко бывает в начале войны, город был полон тревожных слухов. Говорили, что в Рим проникли солдаты Вителлия, чтобы выведать настроения горожан...
В середине марта Отон выступает в поход. Префектом Рима он назначил Флавия Сабина — брата будущего императора Веспасиана, который в это время вел войну в Иудее. Позаботился он и о безопасности матери и жены Вителлия, находившихся в Риме. В составе сформированного войска на войну отправлялись и преторианцы. Сам император боевого опыта не имел, но во главе легионов он поставил заслуженно прославленных командиров: уже знакомого нам Мария Цельса, Анния Галла и Светония Паулина. Однако от опыта и квалификации этих полководцев немногое зависело. Им пришлось командовать солдатами распущенными и наглыми, не желавшими признавать никого, кроме императора, который от них получил свою власть. Впрочем, и неприятельское войско отнюдь не отличалось дисциплиной. Легионеры Валента и Цецины уже успели войти во вкус самоуправства. Правда, у них был опыт походов и сражений, в то время как военная служба многих солдат Отона, особенно преторианцев, проходила в городах — на празднествах и в театрах.
Военные действия развернулись в среднем течении Пада. Войско Цецины первым вступило в соприкосновение с противником. Не желая делить успех с подходившим Валептом, Цецина поспешил атаковать и дважды потерпел поражение. Сначала при попытке взять штурмом крепость Плацентию, затем — близ города Кремоны. Однако уничтожить войско Цецины не удалось, и его остатки соединились со свежими силами Валента. В лагере победителей состоялся военный совет, на котором присутствовал и Отон. Некоторые из участников совета предлагали дать решительное сражение немедля, пока войско воодушевлено недавней победой. Более опытные полководцы указывали на то, что у вителлианцев сейчас преимущество боевого опыта и численное превосходство. Они рекомендовал дождаться подхода легионов придунайской армии, заявившей о поддержке Отона. Император остался глух к этим советам и поддержал тех, кто рекомендовал сражение. Быть может, он не верил в долговременную стойкость своих непривычных к ратному делу воинов. Или ему самому не хватило выдержки и захотелось решить дело как можно скорее.
Не желая связывать своих командующих, Отон удалился в небольшой городок Бриксилл, находившийся примерно в тридцати километрах от места предстоящей битвы, чтобы там ожидать ее результата. Недоумение историков вызывает тот факт, что в качестве охраны он увел с собой наиболее боеспособную часть войска. Не исключено, что Отон предвидел результат сражения и хотел сохранить жизнь этим солдатам. А может быть, и не желал победы, понимая, что она означала бы лишь начало долгой и тяжелой войны, поскольку основные силы Вителлия еще только готовились к походу на Италию.
Решающая битва началась с замешательства. Внезапно по рядам Отонова войска побежал слух, что полководцы Вителлия готовы перейти на их сторону. Боевое настроение солдат сменилось ликованием. Они стали приветствовать противника и не сразу разглядели, что тот наступает отнюдь не с дружественными намерениями. Тогда возникло подозрение в измене. Сумятицу увеличил оказавшийся среди боевых порядков обоз. Пересеченная местность не позволяла выстроить сплошную линию обороны. Младшие командиры отонианцев робели, воины им не доверяли. Все же сражение разгорелось и некоторое время протекало с переменным успехом, особенно на тех участках, где на стороне Отона дрались легионы регулярной армии. Самым постыдным образом проявили себя преторианцы. Они бежали, даже не посмев вступить в рукопашный бой с противником. Наконец центр обороны отонианцев был прорван, и они обратились в бегство по всему фронту. К счастью, наступившая ночь позволила остаткам разбитого войска собраться в лагере. Валент и Цецина отложили его штурм на завтра, надеясь, что противник сдастся без боя. Так и случилось. Подсчитав свои силы и выяснив настроение солдат, Цельс и Галл решили вступить в переговоры с неприятелем о достойных условиях капитуляции. Соглашение было легко достигнуто. Впрочем, это вряд ли следует называть капитуляцией. Когда войско вителлианцев подступило к лагерю, одни из солдат Отона приветствовали его со стены, другие, распахнув ворота, выбежали наружу и смешались с недавними врагами. Всюду звучали изъявления радости. Затем побежденные охотно присягнули в верности Вителлию.
Когда весть о поражении достигла ставки императора, никто из находившихся там солдат не пал духом и не переметнулся к победителям. Они горячо убеждали Отона продолжать борьбу, заявляя о своей готовности сражаться до последнего дыхания. Тем более что гонцы принесли известие о приближении дунайских легионов. Однако Отон уже принял решение. Светоний в его биографии рассказывает:
«Отец мой, Светоний Лет, был на этой войне трибуном всаднического звания в тринадцатом легионе. Впоследствии он часто говорил, что Отон даже частным человеком всегда ненавидел междоусобные распри, и когда однажды на пиру кто-то упомянул о гибели Кассия и Брута, он содрогнулся. Он и против Гальбы не выступил бы. если бы не надеялся достигнуть цели без войны. А тут его научил презрению к смерти пример рядового солдата, который принес весть о поражении — ему никто не верил, его обзывали то лжецом, то трусом, бежавшим из сражения, и тогда он бросился на меч у самых ног Отона. А тот, по словам отца, при виде этого воскликнул, что не желает больше подвергать опасности таких мужей и таких солдат». (Светоний. Отон, 10)
Отон обратился к солдатам с речью, которую пересказывают Плутарх и Тацит. Обе реконструкции, хотя и различаются по тексту, очень точно совпадают по смыслу и потому заслуживают доверия. Вот как передает эту знаменитую речь Плутарх:
«Друзья мои, товарищи по оружию, — начал Отон, — нынешний день я полагаю еще более счастливым, чем тот, когда вы впервые назвали меня императором, — такую любовь вижу я сегодня в ваших глазах, такое высокое слышу о себе мнение. Не лишайте же меня еще большего блага — права честно умереть за моих сограждан, столь замечательных и многочисленных. Если я в самом деле был достоин верховной власти над римлянами, мой долг не пощадить жизни ради отечества. Я знаю, что победа противника и не надежна, и не полна. Поступают вести, что наше войско из Мезии всего в нескольких днях пути отсюда и уже спускается к Адриатическому морю. С нами Азия, Сирия, Египет и легионы, ведущие войну против евреев, в наших пределах не только сенат, но и супруги и дети наших врагов. Но ведь не от Ганнибала, не от Пирра и не от кимвров защищаем мы Италию, нет! Римляне, мы воюем против римлян и — победители или побежденные, безразлично — причиняем вред и горе отечеству, ибо выигрыш победителя есть тяжкий проигрыш Рима. Поверьте мне, когда я снова и снова повторяю, что, победив, принесу римлянам столько же пользы, сколько отдав себя в жертву во имя мира и согласия, во имя того, чтобы Италии не довелось пережить такой же страшный день еще раз». (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Отон, XV)
Затем историк рассказывает о последних часах жизни Отона:
«Вот что он сказал и, решительно отклонив все возражения, все попытки его утешить, велел уезжать друзьям, а также сенаторам, которые были подле него. Тем, кого рядом не случилось, он отдал такое же распоряжение письменно, а чтобы обеспечить им безопасность и подобающие почести на пути домой, снабдил их особыми письмами к городским властям. Потом позвал к себе племянника, Кокцея, еще совсем юного, и просил его не отчаиваться и не бояться Вителлия, ибо сам он оберегал мать, детей и супругу своего врага с такою заботой, словно то была его собственная семья. «Знаешь ли, почему я не исполнил своего желания усыновить тебя, — продолжил Отон, — но все откладывал усыновление? Я хотел, чтобы в случае победы ты правил вместе с императором, а в случае неудачи не погиб бы с ним вместе. Одно, мой мальчик, завещаю я тебе напоследок — не забывать до конца, что дядя твой был Цезарем, но и не слишком часто об этом вспоминать». Только он отпустил племянника, как у дверей послышались крики и шум: это солдаты грозились убить отъезжающих сенаторов, если они не останутся с Отоном и бросят его одного. Испугавшись за них, Отон снова вышел к дверям, теперь уже не с кротким лицом просителя, но суровый и гневный. Мрачно взглянув на главных зачинщиков беспорядка, он привел их в трепет и заставил беспрекословно удалиться.
Был уже вечер. Император захотел пить, утолил жажду водою и принялся осматривать два своих меча, подолгу проверяя остроту каждого, потом один отложил, а другой взял подмышку и кликнул рабов. Ласково с ними беседуя, он раздал им деньги — одному побольше, другому поменьше, отнюдь не так, словно расточал чужое, но стараясь наградить каждого по заслугам. Отославши их, он весь остаток ночи провел в постели, и слуги слышали, что он спит глубоким сном. На рассвете он позвал отпущенника, который, по его поручению, принял на себя заботу о сенаторах, и велел узнать, как обстоят дела. Услышав, что каждый при отъезде получил все, в чем имел нужду, Отон молвил: «Ну, теперь ступай да побудь на глазах у солдат, если не хочешь, чтобы они убили тебя, как собаку, решивши, будто ты помог мне умереть».
Как только вольноотпущенник вышел, Отон поставил меч острием вверх, держа оружие обеими руками, и упал на него. Боль была настолько коротка, что он вскрикнул всего раз, и крик этот известил о случившемся тех, кто был за дверями спальни. Рабы подняли жалобный вопль, и тут же весь лагерь и весь город, наполнился рыданиями. Воины, с громкими стонами сбежавшись к дому, отчаянно сокрушались и корили себя за то, что не уберегли императора и не помешали ему умереть ради них. Враги уже были совсем близко, и все-таки никто из города не ушел, но, украсив тело и сложив костер, они в полном вооружении провожали своего императора, и те, кому удалось подставить плечи под погребальное ложе, почитали это честью для себя, а остальные припадали к трупу, целуя рану, или же ловили мертвые руки Отона, или же склонялись ниц в отдалении. А несколько человек, поднеся факелы к костру, покончили с собой, хотя, сколько было известно, никаких особых милостей от умершего не получали, а, с другой стороны, и особого гнева победителя не страшились». (Там же, XV-XVII)
Отон умер 16 апреля 69-го года, Прах его был предан земле на месте гибели.
«Я был в Брикскилле, — заканчивает свой рассказ Плутарх, — и своими глазами видел этот скромный могильный камень с надписью, которая в переводе (Плутарх писал по-гречески. — Л.О.) звучит так «Памяти Марка Отона». (Там же, XVIII)
В Риме никаких волнений не случилось. Всегда готовая приветствовать победителя, толпа в театре встретила известие о смене властителя аплодисментами. Сенат присвоил ему титулы императора, Цезаря и Августа. Было постановлено отправить легатов к германскому войску, чтобы от имени сената выразить ему хвалу и благодарность. Вскоре это войско хлынуло в Среднюю Италию. Есть все основания сомневаться, что ее жители разделяли благодарность сенаторов. Вот как описывает явление победителей Тацит:
«Между тем Италия терпела беды и страдания еще худшие, чем во время войны. Рассыпавшиеся по колониям и муниципиям вителлианцы крали, грабили, насиловали. Жадные и продажные, они любыми правдами и неправдами старались захватить побольше и не щадили ни имущества людей, ни достояния богов. Находились и такие, что переодевались солдатами, дабы расправиться со своими врагами. Легионеры, хорошо знавшие местность, выбирали самые цветущие усадьбы и самых зажиточных хозяев, нападали на них и грабили, а если встречали сопротивление, то и убивали. Командиры понимали, что находятся во власти солдат, и не решались запрещать им что бы то ни было. Цецина был занят только своими честолюбивыми планами, Валент же так запятнал себя хищениями и вымогательством, что ему ничего не оставалось, как покрывать преступления других». (Тацит. История, 2, 56)
Тем временем Вителлий, собрав крупные силы для длительной войны, выступил в поход на Италию. Через несколько дней пути он получил известие о смерти Отона. Армии он приказал продолжать движение пешком, а сам поплыл по реке Арар (ныне Сона) к Лугдуну (Лион). По прибытии в Рим Вителлий, вопреки опасениям сенаторов, расправ не учинял, если не считать сотни негодяев, подавших в свое время Отону прошения о награде за то, что именно они будто бы убили Гальбу. Вителлий приказал всех их разыскать и казнить. От наиболее ненадежных элементов своего войска он постарался избавиться. Галльские и германские вспомогательные войска отправил обратно. Побежденные легионы разъединил и разослал по разным провинциям. Преторианцев уволил в почетную отставку, выдав по пять тысяч денариев каждому, и набрал новых. Личность и восьмимесячное правление нового императора не представляют интереса. Правил он по прихоти своих любимцев: негодных актеров, возничих на скачках и отпущенника Азиатика. Был склонен к жестокости, даже садизму, что в тот век не было такой уж редкостью. Консулами были назначены Цецина и Валент. О конце Вителлия я расскажу в связи с воцарением Веспасиана. Но была одна особенность, о которой нельзя не упомянуть, ибо она доставила императору Вителлию бессмертную, хотя и своеобразную «славу» — он был фантастический обжора! Вот как описывает эту его страсть Светоний:
«Пиры он устраивал по три раза в день, а то и по четыре — за утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином. И на все его хватало, так как всякий раз он принимал рвотное. В один день он напрашивался на угощение в разное время к разным друзьям, и каждому такое угощение обходилось не меньше, чем в четыреста тысяч. Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его прибытия братом: говорят, на нем было подано отборных рыб две тысячи и птиц семь тысяч. Но сам он затмил и этот пир, учредив такой величины блюдо, что сам называл его «щитом Минервы-градодержицы». Здесь были смешаны печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского пролива. Не зная в чревоугодии меры, не знал он в нем ни поры, ни приличия — даже при жертвоприношениях, даже в дороге не мог он удерживаться: тут же у алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса и лепешек, а по придорожным харчевням не брезговал и тамошней продымленной снедью, будь то хотя бы вчерашние объедки». (Светоний. Вителлий, 13)
Внешность Вителлия вполне соответствовала его страсти: «...был он огромного росту, с красным от постоянного пьянства лицом, с толстым брюхом, со слабым бедром, которым он когда-то ушибся о колесницу, прислуживая на скачках Гаю». (Там же, 17)
Однако мы уделили слишком много внимания этому малодостойному субъекту. Обратимся к личности, действительно своеобразной и интересной — будущему императору Веспасиану. Для знакомства с ним нам придется ненадолго возвратиться к временам правления Нерона.
Во время его последнего артистического турне по Греции в свите императора находился пожилой сенатор, выделявшийся на общем блестящем фоне своим явно простонародным обличьем. Для него это путешествие едва не окончилось плохо. Однажды, когда император пел в театре, а ценители высокого искусства, затаив дыхание, ему восторженно внимали, в рядах слушателей послышался храп. Почтенный сенатор спал. К счастью, дело ограничилось изгнанием из свиты и запрещением впредь попадаться на глаза императору. Сенатора звали Тит Флавий Веспасиан. Неспособность воспринимать божественное исполнение, равно как и грубое, словно натужное, выражение лица и коренастая крестьянская фигура выдавали его низкое происхождение. И действительно, он родился (17 ноября 9-го года) и вырос в деревне близ города Реате, примерно в семидесяти километрах от Рима.
Род Флавиев, хотя и принадлежал к всадническому сословию, был незнатен, изображений предков не имел. Дед будущего императора был солдатом, отец — сборщиком пошлины. Впрочем, мать, Веспасия Полла, происходила из именитого провинциального рода, гнездившегося неподалеку от Реате. Рано овдовев, она осталась с двумя сыновьями: старшим — Флавием Сабином и младшим — Флавием Веспасианом. Сабин сделал быструю карьеру в Риме. Веспасиан соблазнам столицы предпочитал заботы и утехи сельского хозяина. Только настояния матери заставили его вступить на государственную службу. Продвижение по ее ступеням было медленным и ничем не примечательным. Войсковой трибун, затем квестор, эдил, претор. При императоре Клавдии, благодаря покровительству его фаворита Нарцисса, получил командование легионом. Сначала в Германии, потом в Британии. Не раз отличался в сражениях, был отмечен триумфальными наградами, а в 51-м году в течение двух месяцев исполнял обязанности консула (при Клавдии и Нероне консулы сменялись несколько раз в году). Когда Агриппина женила на себе Клавдия и начала преследовать друзей Нарцисса, Веспасиан благоразумно возвратился в деревню. После ее смерти, как проконсул, по жребию получил в управление Африку. Не разбогател и даже вынужден был по возвращении заложить брату свою часть наследственного имения. Занялся торговлей мулами, за что впоследствии недоброжелатели называли его ослятником.
Лишенный амбиций и сословных предрассудков, по-крестьянски смекалистый, а порой и хитрый, Веспасиан сумел ужиться с Калигулой, добиться благосклонности Клавдия, избегнуть гнева Агриппины и оказаться при дворе Нерона, ни разу себя не скомпрометировав. Сейчас, в 67-м году, у него за плечами большой жизненный опыт, репутация умелого военачальника, добрая слава в войсках. Но годы уже не те, и надеяться на серьезное новое дело трудно. А тут еще эдакая неприятность — заснул во время пения. Неужто и храпел? Слава богам, император, говорят, был доволен выступлением и потому милостив. А то ведь можно было схлопотать и обвинение в оскорблении величия...
Веспасиан возвращается в свое имение, к верной Цениде. Хотя он до сих пор не прочь иной раз побаловаться с девчонкой, но по-настоящему ценит в женщине ум и надежность. С Ценидой связан вот уже добрых тридцать лет. Она стала его подругой еще при жизни Антонии, матери Клавдия. Ценида была ее вольноотпущенницей и письмоводительницей. Потом Веспасиан женился на Флавии Домицилле. Ее отец был писцом в казначействе. Домицилла родила ему двух сыновей: Тита и Домициана. После смерти жены Веспасиан вновь сошелся с Ценидой, хотя она была уже немолода, и с тех пор живет с ней как с женой. Они отлично понимают друг друга.
Единственное, что он может поставить ей в упрек, — глупая уверенность, будто ему суждено великое будущее. Точь-в-точь как у покойной матери. Какое уж там будущее в шестьдесят лет! Смешно! Это по настоянию Цениды он потащился за императором в Грецию. Ну, теперь она успокоится, и они мирно займутся хозяйством. Он еще крепок и проживет добрый десяток лет. Провести эти годы среди родных сабинских полей и рощ — лучшего он и не желает. Быть может, Тит достигнет большего? Хороший мальчик! Ему двадцать пять лет, но уже проявил себя настоящим воином. Веспасиан брал его с собой военным трибуном в Германию и Британию, видел в деле. В мирных отношениях с людьми Тит, может быть, слишком мягок и покладист, но в бою отважен и неутомим. Веспасиан крепко любит старшего сына и тот, похоже, платит ему взаимностью. Домициан от него дальше. Младшего привлекает столичная жизнь. Он водит дружбу с поэтами и актерами. Впрочем, это, наверное, пройдет — ведь Домициану нет еще и шестнадцати.
Человек предполагает, а боги располагают! Едва успел Веспасиан вернуться к себе в деревню, как туда прискакал императорский гонец с повелением явиться к правителю, дабы получить высокое назначение — главнокомандующим на войну с Иудеей. Этому предшествовали следующие события. Нерон замыслил грандиозный поход на Восток. Император вознамерился не только сокрушить парфян, но пройти дальше, до самого Инда — повторить великий путь Александра Македонского. Властелин западного мира решил покорить мир восточный и объединить под своей державой все известные в ту пору страны и народы.
Уже легионы из Европы начали перемещаться в Азию, уже накапливались огромные запасы продовольствия и снаряжения, уже создавались в прибрежных городах Аравии опорные базы для флота. И тут вспыхнуло восстание в Иудее. Оставить у себя в тылу эту занозу римляне не могли. Первые попытки обуздать фанатичных повстанцев окончились неудачей. В следующей за этой главой интерлюдии я подробнее напишу об Иудейской войне. Она того заслуживает: и потому, что иудеи сорвали планы римского похода на восток, и потому, что со стороны римлян войной руководили два будущих императора — Веспасиан и Тит. А также и потому, что мы располагаем рассказом об этой войне ее непосредственного участника Иосифа Флавия. Пока же ограничимся замечанием, что к началу 67-го года стало ясно: великий восточный поход придется отложить и бросить серьезные силы на подавление восстания. Решено было направить в Иудею три легиона регулярной армии, такое же количество вспомогательных войск и необходимое множество осадных машин. Встал вопрос: кому поручить главное командование этой грозной силой? Римляне знали, что иудейские фанатики будут сопротивляться до последнего солдата и одновременно развернут партизанскую войну по всей провинции. Надо было найти полководца опытного, усердного и упорного. Вместе с тем не слишком прославленного и знатного, чтобы у него после победы не могло возникнуть опасных амбиций. Вот тогда-то выбор и пал на Веспасиана. Для поддержки продовольствием и снаряжением, а также для наблюдения за действиями главнокомандующего наместником в соседнюю Сирию был послан также немолодой, но знатный сенатор Лициний Муциан.
Веспасиан отправился в Иудею, взяв с собой в качестве легата сына Тита. Войска он принял в Антиохии. Первым делом навел в них порядок и установил строжайшую дисциплину. Вторжение в Иудею началось ранней весной. Римляне пришли с севера. Их путь лежал через область Галилею, в которой находилось много хорошо организованных партизанских отрядов иудеев. В ожесточенных боях с ними Веспасиан закалял и сплачивал свое войско. Сам делил с солдатами все тяготы и опасности похода. В этом он следовал примеру великих полководцев древности — Сципиона, Помпея или Юлия Цезаря. Вот как пишет об этом Тацит:
«Веспасиан обычно сам шел во главе войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагами, а если надо, разил их могучею рукой, ел что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата...» (Тацит. История, 2, 5)
А вот один из боевых эпизодов в описании Иосифа Флавия. При штурме Гамалы римляне терпят неудачу, пытаясь подняться к вершине горы, на которой расположен город. Кроме стрел, копий и камней на них обрушиваются и стоящие на крутом склоне дома...
«Не думая о личной безопасности, — пишет Флавий о Веспасиане, — сам того не замечая, он потеснился чуть ли не до самой возвышенной части города, где среди величайшей опасности очутился один лишь с очень немногими, при нем не было даже сына его, Тита... Считая обратное возвращение ни безопасным, ни достойным для себя, он, собрав все свое мужество и вспомнив о пережитых им от самой молодости опасностях, точно охваченный божественным вдохновением, приказал сопровождавшим его сомкнуться телом и оружием в одну массу. Таким образом он оборонялся против устремившихся сверху масс неприятеля и, не страшась ни численности его, ни его стрел, держался до тех пор, пока враг, усмотрев в его мужестве нечто сверхъестественное, умерил нападение. Как только натиск сделался слабее, он шаг за шагом сам отступал, не показывая, однако, тыла, и так вышел за стену города. Множество римлян пало в этой битве...» (Иосиф Флавий. Иудейская война, IV, 1)
Заслуживает нашего внимания и то, как обращается Веспасиан к своим воинам после этого поражения:
«Веспасиан, — свидетельствует тот же Флавий, — был очень удручен понесенными армией потерями: такое несчастье ее еще никогда не постигало. Последняя же в особенности сгорала от стыда при воспоминании о том, что оставила полководца одного в опасности. Веспасиан поэтому старался утешить ее, но ни единым словом не упомянул о своей собственной особе, не проронил даже ни малейшего упрека и только сказал: «Общие несчастия нужно перенести стойко и не забывать, что по природе войны никакая победа не дается без кровопролития... То, что совершилось на наших глазах, — продолжал он, — произошло не вследствие нашей слабости и не вследствие храбрости иудеев, а только позиция была выгодна для них и убийственна для нас. В этом отношении единственно в чем вас можно упрекнуть, так это в том, что вы увлеклись безумным порывом... Самого верного утешения пусть все-таки каждый ищет в своей собственной руке — тогда вы отомстите за павших и накажете их убийц. Что касается меня, то я останусь тем же, каким был прежде: в каждом бою с недругом я вам буду предшествовать и оставлять поле сражения последним».
Такими словами он воодушевил свое войско». (Там же, IV; 5, 6)
Личной отвагой на поле боя и отеческой заботой о войске Веспасиан заслужил исключительное уважение, любовь и преданность своих солдат.
Несмотря на отдельные неудачи римлян, ликвидация партизанских отрядов в Галилее заняла немного времени — слишком неравны были силы! Путь римского войска лежал на юг, к Иерусалиму — одной из самых мощных крепостей того времени. Под ее стенами должно было произойти решительное столкновение с повстанцами. Веспасиан понимал, что осада Иерусалима будет долгой, и потому спешил подойти к нему в самом начале лета. Все города Галилеи были уже захвачены, многие разрушены. Оставалась последняя, небольшая, но сильная и хорошо оснащенная крепость Иотопата. Руководил обороной талантливый военачальник Иосиф бен Маттафия. В крепости собрались все уцелевшие защитники Галилеи. Они оборонялись отчаянно. По-видимому, и здесь Веспасиан непосредственно руководил атакующими. Известно, что он был ранен в ногу камнем, пущенным со стены. И все же взять штурмом Иотопату не удалось. Из-за голода и жажды она в конце концов капитулировала, но ее защитникам удалось продержаться в течение семи недель. Поход римлян на Иерусалим в этом году был сорван. Войска отошли на зимние квартиры.
Время вынужденного перерыва было заполнено основательной военной подготовкой. Подтягивались продовольственные резервы, отлаживалось согласованное действие штурмовых отрядов. Армия Веспасиана сплачивалась в единый, могучий и послушный организм. С приближением весны среди солдат и офицеров нарастало радостное ожидание начала кампании, обещавшей славу и богатые трофеи из сокровищницы иерусалимского храма. Главнокомандующий придирчиво следил за подготовкой своего войска, но от участия в обсуждении плодов предстоящей победы уклонялся. Эту сдержанность вполне можно было приписать трезвости ума, военному опыту и ответственности полководца. Но была и другая причина, заявившая о себе с наступлением теплых дней.
Все было готово, войско со дня на день ожидало приказа о выступлении. Но Веспасиан отмалчивался и с пристрастием допрашивал перебежчиков, приносивших вести из Иерусалима. Эти вести заслуживали внимания. Вожди партии яростно антиримски настроенных «зелотов», или, как они сами себя называли, «мстителей Израиля», расправившись с более умеренными партиями, начали жестокую борьбу между собой. Главари вооруженных отрядов Шимон, Иоаханан и Элеазар добивались, каждый, верховной военной власти. Хотя все трое и все, кем они командовали, одинаково ненавидели римлян и готовы были сражаться до последнего вздоха, они развязали в стенах Иерусалима настоящую гражданскую войну. В городе воцарились безумие и насилие.
Наместник Сирии Муциан тоже был в курсе раздора в иудейской столице. Он считал, что это обстоятельство благоприятствует атаке на город, и всячески побуждал Веспасиана не откладывать ее. Но главнокомандующий был иного мнения. В конце концов ему пришлось ответить на настойчивые вопросы своих офицеров по поводу задержки начала похода. Иосиф Флавий, который в те дни находился рядом с Веспасианом, так передает его слова:
«Если вы сейчас нагрянете на город, — сказал он, — то этим самым вы вызовете примирение в среде врагов и обратите против нас их еще не надломленную силу. Если же вы еще подождете, то число врагов уменьшится, так как их будет пожирать внутренняя война. Лучший полководец, чем я, — это Бог, который без напряжения сил с нашей стороны хочет отдать иудеев в руки римлян и подарить нашему войску победу, не связанную с опасностью... Если же кто скажет, что блеск победы без борьбы чересчур бледен, то пусть знает, что достигнуть цели в тишине полезнее, чем испытать изменчивое счастье оружия. Ибо столько же славы, сколько боевые подвиги, приносят самообладание и обдуманность...» (Там же, IV, 6)
Той же весной 68-го года появилась еще одна весьма веская причина для отсрочки выступления войска. От наместника Виндекса пришло известие о восстании галльских легионов, потом из Испании — о том, что Гальба намерен поддержать мятеж. Стало очевидно — империя втягивается в гражданскую войну. Перспективы были неясны, но не вызывало сомнения, что в смутное время целесообразно иметь под рукой свободную армию. Осада Иерусалима могла подождать тем более, что планы великого похода на Восток явно откладывались. Эту точку зрения вынужден был одобрить и Муциан. Было решено, что в случае необходимости его четыре сирийских легиона и три — Веспасиана объединят свои силы. А пока следует сохранять нейтралитет, воздержаться от продолжения войны в Иудее и следить за дальнейшим развитием событий.
В середине июня пришло известие о смерти Нерона и провозглашении императором Гальбы. Веспасиан и Муциан привели свои войска к присяге новому императору. В конце января следующего года Восток узнал о новой смене власти в Риме. Иудейское, сирийское и египетское войска присягнули Отону. Затем Цезарея (в русском переводе этот город иногда именуют Кесария, подобно тому как вместо Цезарь говорят Кесарь), где находился штаб Веспасиана, узнала о мятеже германских легионов и провозглашении императором Вителлия. Солдаты и офицеры Веспасиана перестали говорить о походе на Иерусалим и с тревогой обсуждали слухи, приходящие из Италии. Чем кончится противоборство двух новоявленных императоров? Что последует за победой одного или другого? В конце апреля стало известно о смерти Отона. По настоянию Веспасиана восточные армии присягнули Вителлию. Муциан и командующий двумя египетскими легионами Тиберий Александр уступили этому настоянию неохотно. Недовольны были и легионеры Веспасиана. «Почему, — говорили они между собой, — германское войско должно ставить своего императора, к тому же ничем, кроме угодничества, при дворе не отличившегося? Мы можем провозгласить императором полководца, который на наших глазах доказал свою доблесть. Когда огромная германская армия войдет в Рим, что с нею будет делать Вителлий? В Италии ее держать незачем, возвратиться обратно она не пожелает. Значит, он ее пошлет сюда, на теплый Восток, а нас перебросит на север, в дикие германские леса».
Веспасиан делал вид, что не знает о недовольстве войска, а непререкаемый авторитет полководца и любовь солдат исключали возможность малейшего неповиновения. Но его союзник Муциан не считал нужным молчать. Он явился из Антиохии в Цезарею. Уклониться от серьезного разговора было невозможно. Тацит приписывает сирийскому наместнику следующие слова, обращенные к главнокомандующему:
«Я призываю тебя, Веспасиан, взять императорскую власть, которую сами боги отдают тебе в руки. Государству это принесет спасение, тебе — великую славу... бездействовать далее, наблюдать, как государство идет к поруганию и гибели, — трусость и позор. Бесчестным трусом сочтут тебя, если ты предпочтешь ценой унижений и покорности обеспечить себе безопасность... Если у вителлианских солдат и были энергия и боевой пыл, то они, по примеру своего принцепса, растратили их по трактирам и пирушкам. У тебя же в Иудее, Сирии и Египте стоят девять нетронутых легионов, не утомленных походами, не развращенных смутами. Солдаты здесь закалены, привыкли смирять врагов-иноземцев, боевой мощи исполнены эскадры кораблей, конные отряды и пешие когорты, целиком преданы нам местные цари, и ты превосходишь всех соперников опытом полководца... Ты триумфом прославил свое родовое имя, у тебя двое сыновей, один из которых уже может управлять государством и еще юношей стяжал себе славу, сражаясь в германской армии. Если бы я был императором, я сам бы выбрал его в наследники. Поэтому я поступаю разумно, с самого начала уступая тебе императорскую власть... Лучше всего, если ты сохранишь в своих руках верховное командование и не станешь подвергать себя риску, а все превратности военного счастья пусть выпадут на мою долю». (Тацит. История, 2; 76, 77)
Веспасиан не возражает, но и не соглашается. Он выжидает. Долгими летними вечерами отрешенно расхаживает по маленькой комнатке своего скромного дома на берегу моря в Цезарее. Походит к окну, долго смотрит, как у горизонта, подобно путникам, спешащим издалека, возникают едва заметные валы. Приближаются, растут, несут на себе свитки белой пены. Точно бесчисленные послания... Оттуда, с далекого Запада, где томится исстрадавшаяся в междоусобных войнах Италия... Трудные мысли медленно ворочаются в голове, основательно, по-крестьянски взвешивает он все шансы за и против. Ему хорошо известна мощь германской армии.
«Мои легионы, — думает он, — не имеют опыта гражданской войны, а солдаты Вителлия одушевлены только что одержанной победой. Когда дело дойдет до рукопашной, не дрогнут ли мои легионеры перед необходимостью разить сограждан, таких же римских воинов, как они?.. Вителлий — законный император. Его избрание утвердил сенат. А я выступаю в качестве мятежника... Но Муциан прав: правление Вителлия ведет к погибели государства. Совладать с произволом своих солдат он не сможет... И, конечно же, момент исключительно благоприятный. Вителлий не настолько глуп, чтобы оставить в моих руках восточное войско. А ведь, опираясь на верность и слаженность этого войска, я мог бы покончить с анархией в Риме... Лет на пять-шесть еще сил хватит. А потом можно передать империю Титу. Мальчик отлично командует войсками. Если его подержать рядом, то научится и управлять государством... Но торопиться не надо. Пусть легионы Вителлия разлагаются... Но и не опоздать! Допускать официальное смещение с поста главнокомандующего не следует. Это будет уж слишком рискованно...»
Веспасиан подробно выспрашивает всех прибывающих из Рима. Узнав о том, что войска в Сирии и Иудее присягнули, вителлианцы предаются неслыханному разгулу и грабежам. Между тем в восточных армиях напряжение достигает предела. Первым не выдерживает наместник Египта Тиберий. 1 июля в Александрии он приводит свои два легиона к присяге императору Веспасиану. Спустя десять дней, когда эта новость достигает Цезареи, их примеру следует иудейское войско. Происходит это спонтанно:
«Еще никто не знал, — свидетельствует Тацит, — где и когда начнется сходка, еще не решили — в таких случаях это всегда самое трудное, — кто заговорит первым, люди то надеялись, то пугались, то пытались все рассчитать, то полагались на случай, а уже несколько солдат, собравшихся у шатра Веспасиана, чтобы, как обычно, воздать ему почести, подобающие легату, неожиданно приветствовали его как императора. Немедленно сбежались остальные и тут же присвоили ему титулы Цезаря, Августа и все прочие звания, полагающиеся принцепсу. Страх исчез, солдаты уверовали в свою счастливую судьбу. Сам Веспасиан в этих новых и необычных обстоятельствах оставался таким же, как прежде — без малейшей важности, без всякой спеси. Едва прошло первое волнение, густым туманом застилающее глаза каждому, кто попадает на вершину могущества, он обратился к войску с несколькими словами, по-солдатски простыми и суровыми. В ответ со всех сторон раздались громкие крики ликования и преданности. Радостный подъем охватил также легионы, стоявшие в Сирии, и Муциан, с нетерпением ожидавший начала событий, тотчас привел их к присяге Веспасиану». (Там же, 2, 80)
Если верить свидетельству Иосифа Флавия, даже на этой сходке Веспасиан отказывался принять титул императора...
«Но чем больше он отказывался, тем настойчивее сделались военачальники; солдаты окружили его с обнаженными мечами и угрожали ему смертью, если он не захочет с честью жить. После того, как он представил им все основания, по которым отклоняет от себя власть, он, видя, что не может их разубедить, в конце концов уступил своим избирателям». (Иосиф Флавий. Иудейская война. IV, 10)
В течение нескольких дней Веспасиану присягнула вся Азия, все соседние провинции и зависимые от Рима царства. На Востоке распространена была вера в то, что должен явиться мессия — освободитель — и что придет он из Иудеи. Эту веру связали с Веспасианом — ведь он находился в Иудее. В Берите (Бейрут) было созвано совещание, куда прибыли представители всех восточных провинций и царств, Муциан с большой свитой и Веспасиан. Участвовал в совещании и номинальный правитель Галилеи, царь Агриппа, предложивший Веспасиану поддержку своего войска. Союз против Вителлия был заключен. Главнокомандующий, точно пробудившись, развивает кипучую деятельность. По свидетельству Тацита:
«Подготовку к войне Веспасиан начал с того, что набрал рекрутов и призвал в армию ветеранов. Наиболее зажиточным городам поручили создать у себя мастерские по производству оружия, в Антиохии начали чеканить золотую и серебряную монету. Эти меры спешно проводились на местах особыми доверенными лицами. Веспасиан показывался всюду, всех подбадривал, хвалил людей честных и деятельных, растерянных и слабых наставлял собственным примером, лишь изредка прибегая к наказаниям, стремился умалить не достоинства своих друзей, а их недостатки... Что до денежного подарка солдатам, то Муциан на первой же сходке предупредил, что он будет весьма умеренным, и Веспасиан обещал за участие в гражданской войне не больше, чем другие платили за службу в мирное время. Он был непримиримым противником бессмысленной щедрости по отношению к солдатам, и поэтому армия у него всегда была лучше, чем у других. К парфянам и в Армению были посланы легаты, и были приняты меры к тому, чтобы после ухода легионов на гражданскую войну границы не остались незащищенными». (Тацит. История, 2, 82)
Тем временем к восстанию подключились новые и значительные силы. Стоявшее в Мезии (нынешняя Сербия) придунайское войско не желало признавать Вителлия. В состав этого войска входил недавно переброшенный туда из Сирии (еще Нероном) 3-й легион. Его солдаты были наслышаны о справедливости и доблести Веспасиана. Они первыми последовали примеру восточной армии, а затем убедили и два других легиона присягнуть Веспасиану. Вскоре к ним присоединились и два верхнедунайских легиона из Паннонии (нынешняя Хорватия), которые, как мы помним, двигались на помощь Отону и уже подошли к северо-восточной границе Италии. Самым решительным поборником перехода к Веспасиану был легат одного из этих легионов Антоний Прим, которого Тацит, однако, характеризует следующим не слишком лестным образом «...лихой рубака, бойкий на язык, мастер сеять смуту, ловкий зачинщик раздоров и мятежей, грабитель и расточитель, в мирное время нестерпимый, но на войне небесполезный». (История, 2, 86)
Когда оказавшиеся под его начальством военные силы таким образом определились, Веспасиан принял следующий стратегический план. Вторжением в Италию будет руководить Муциан. Придунайские легионы образуют первый эшелон, за ним последует сирийское войско. Армия Веспасиана под командованием Тита пока останется в качестве резерва в Иудее, а сам он отправится в Александрию к Тиберию. План этот заслуживает комментария. Разумеется, надежное подчинение Египта имело свой резон. Отсюда в Рим шли основные поставки зерна. Веспасиан накладывал на них руку и таким образом мог влиять на обороноспособность Италии и настроения ее народа. И все же он оставался в немыслимом удалении от театра военных действий. Присягнувшие ему войска, за исключением иудейского резерва, оказывались в распоряжении полководца, который в силу древности и знатности своего рода имел больше оснований претендовать на владычество в Риме, чем Веспасиан. Что, если, одержав победу, эти войска вздумают провозгласить императором Муциана или кого-нибудь еще из своих командиров? Мы знаем, что этого не случилось. Не было даже попытки, хотя Веспасиан прибыл в Рим лишь спустя почти полгода после победы его войск и смерти Вителлия. По-видимому, он был уверен,что измена невозможна. На чем основывалась эта уверенность? Я думаю, что на глубоком понимании психологии солдат римских армий, которые в ту пору безраздельно держали в своих руках судьбу империи и ее правителей. Да, конечно, предоставленные самим себе, они легко превращались в разнузданную толпу грабителей и насильников. Но они же в трудную минуту становились отважными и упорными воинами. Из корыстных соображений они могли провозгласить властителем Рима старика Гальбу, никогда не бывавшего в бою Отона или ничтожество, вроде Вителлия (хотя в этих случаях традиция верности императору заставляла многих воинов жертвовать ради них жизнью). Они могли верой и правдой служить сугубо штатским принцепсам вроде Калигулы, Клавдия и Нерона. Но корпоративный дух римского войска был неистребимо силен. В сердцах легионеров неизменно жила мечта об императоре — полководце, воине и отце своих солдат. Жили предания о Цезаре, Помпее, Германике. Солдаты не могли изменить Веспасиану, о котором знали, что он именно такой человек, какого они хотят иметь своим императором. А если бы у кого-нибудь из них возникла мысль об измене, он должен был сразу вспомнить о закаленных в боях и беспредельно преданных Веспасиану иудейских легионах. Но вернемся в русло описываемых событий.
Муциан во главе сирийских легионов начинает посуху двигаться к Италии. Ему предстоит долгий путь. Командиры паннонских легионов совещаются о плане своих действий: укрепиться ли в Альпах и ждать подхода легионов из Мезии, а потом и Муциана или самим начать вторжение в Италию. Большинство высказывается за ожидание. Только Антоний Прим яростно отстаивает идею немедленного наступления. Он говорит о разложении войска, пришедшего с Вителлием. Предупреждает, что после получения известия о восстании тот вызовет свежие, не утратившие боеспособность легионы из Германии и Британии. Они прибудут раньше, чем сирийцы Муциана.
«Я не просто убеждаю вас в преимуществах этого плана, — говорит Антоний, — я готов сам и осуществить его, если только никто мне не помешает. Ваш час еще не пробил, оставайтесь с легионами, мне довольно одних легковооруженных когорт. Скоро вы услышите, что путь в Италию открыт, и Вителлию нанесен решительный удар. И тогда вы радостно двинетесь вслед за мной по пути, проложенному победителем». (Там же, 3, 2)
«Глаза Антония горели, — продолжает Тацит, — он говорил резким громким голосом, стараясь, чтобы его услышало возможно больше народу: в помещение, где шел совет, понемногу собрались и центурионы, и кое-кто из солдат. Доводы Антония сыпались в таком изобилии, что заколебались даже люди осторожные и предусмотрительные. Толпа признавала теперь только одного вождя, только одного человека превозносила до небес и презирала всех прочих за слабость и нерешительность». (Там же, 3, 3)
Немедленное выступление Антония Прима во главе большого отряда добровольцев было решено. А в это время Вителлий в Риме, распустив прежний преторий, набирает новый — шестнадцать когорт вместо обычных девяти. Берет кого попало. Римский гарнизон, в который вливается двадцать тысяч человек, становится ненадежным и неуправляемым. Во главе претория император ставит двух префектов. Один — ставленник Цецины, другой — Валента. Давняя вражда фаворитов разгорается. Вителлий поддерживает то одного, то другого. Легионы, расквартированные в муниципиях, не готовятся к боям, забывают лагерную жизнь, их силы тают. Сам принцепс предается наслаждениям и о будущем старается не думать. Тацит утверждает, что за несколько месяцев он ухитряется проесть пятьдесят миллионов денариев.
. Но вот приходят первые известия о мятеже восточных и дунайских легионов. Потом сообщение о том, что отряд Антония Прима уже в Италии. Как тот и предполагал, Вителлий вызывает легионы из Германии и Британии. Но мятежники забрасывают их подметными письмами, и легионы не спешат на вызов императора, выжидают. Навстречу Антонию под командой Цецины выходит отряд пришедших с Вителлием германцев. Вслед за ним выступают отдельные подразделения еще десятка легионов. Солдаты в плохой форме: изнурены непривычной жарой, идут медленно, несомкнутым строем. Они направляются в долину Пада, все к той же печально знаменитой Кремоне. То ли поддавшись обиде и слепой ревности к Валенту то ли сориентировавшись в общей ситуации, Цецина, по свидетельству Тацита, «принялся разными хитростями восстанавливать центурионов и солдат против Вителлия, которому они были фанатически преданы». (История, 2, 101)
В это время со стороны противника вслед за отрядом Антония Прима в полном составе выступают еще два паннонских легиона. Сам же Антоний, не дожидаясь их подхода, двигается дальше вперед. У Цецины заведомо больше людей, и он мог бы разгромить Антония, но занят тем, что уговаривает своих воинов присягнуть Веспасиану Кого-то ему удалось убедить, но большинство возмутилось. Цецину заковали, выбрали командующих и собрались идти на соединение с другими частями вителлианцев. Антоний Прим, воспользовавшись сумятицей, рискнул начать сражение. Оно шло с переменным успехом, потом с обеих сторон подошли основные силы. Ожесточенная битва длилась всю ночь. Теперь под командой Антония сражались паннонские и мезийские легионы. Со стороны вителлианцев было не меньше солдат, но не было единого полководца. В конце концов им пришлось отступить к Кремоне. Возможность взять штурмом ее хорошо оснащенную крепость казалась весьма сомнительной. Но Антоний обещал солдатам отдать город на разграбление. Это заметно прибавило им рвения и упорства. Последнее и решило дело. В какой-то момент защитники Кремоны дрогнули. Крепость пала. В течение четырех дней в городе не стихала вакханалия грабежа, после чего он был сожжен дотла.
Через несколько дней после выступления Цецины Вителлию удалось выпроводить к театру военных действий и Валента. Он поехал без войска, со свитой своих наложниц, и вовсе не торопился. Узнав в пути об измене Цецины, запросил подкреплений. Ему прислали три когорты преторианцев и британскую конницу Тем временем пришло известие о разгроме под Кремоной. Валент бросил присланный ему отряд и скрытно отплыл в Галлию. Он рассчитывал поднять остававшиеся там римские армии и германские племена на новую большую войну Бурей его корабли отнесло к островам близ Массалии, где он был арестован моряками прокуратора Нарбонской Галлии Паулина — давнего друга Веспасиана.
Между тем в Риме Вителлий, будто предчувствуя свой близкий конец, еще роскошнее пирует и развлекается. Он даже не помышляет о том, чтобы готовить войско к предстоящим сражениям, обратиться к солдатам с речью или хотя бы показаться народу. Только получив известие об измене Цецины и его аресте, император выступил на многолюдном собрании граждан, воздав хвалу солдатам за проявленную ими верность. В сенате он произнес пышную речь, после которой сенаторы осыпали его выражениями самой льстивой преданности.
После Кремоны Антоний Прим повел себя в Северной Италии, как в завоеванной стране. Его легионеры грабят мирное население деревень и городов. Антоний разрешил им самим выбрать центурионов вместо убитых. Выбрали самых смутьянов. Теперь уже не солдаты подчиняются командирам, а командиры зависят от произвола солдат. Приближается зима. Легионы Муциана подходят к границам Италии, но Антоний не желает делить плоды своей победы с главнокомандующим. Хотя его войско не обеспечено продовольствием и снаряжением для зимней кампании, он приказывает разведать проходы в Апеннинах, намереваясь безотлагательно двинуться на Рим. Муциан обеспокоен молниеносными успехами Антония и опасается, что тот оттеснит его от победы. Переписка между ними приобретает резкий характер. Оба посылают свои жалобы в Александрию.
Когда в Рим пришло известие о поражении при Кремоне, Вителлий сначала постарался его замолчать:
«...в городе было приказано не разговаривать на эту тему, и потому только ее повсюду и обсуждали. Если б подобные разговоры не запрещались, люди вели бы речь о действительно произошедших событиях, теперь же, когда говорили тайно, по городу расползались слухи один ужаснее другого. Полководцы флавианской партии (сторонники Веспасиана. Он ведь из рода Флавиев. — Л.О.) всячески содействовали распространению этих слухов. Захваченных в плен разведчиков Вителлия водили по всему лагерю флавианцев, давали им воочию убедиться в силе победоносной армии, после чего отпускали на волю. Всех их Вителлий тайно допрашивал, а потом казнил». (Там же, 3, 54)
Наконец император, точно очнувшись, начинает действовать. Он приказывает обоим префектам претория во главе четырнадцати когорт преторианцев и всей наличной конницы встать заставою в Апеннинах. Разумнее было бы перевести эти свежие силы на другую сторону хребта и обрушиться на ослабевшего от голода и холода противника. Но Вителлий, ничего не смысливший в военном деле, не слушает разумных советов. Преторианцы продолжают топтаться на месте, а войско Антония начинает переходить через Апеннины. Вителлианцы в большинстве своем сражаться не хотели и серьезного сопротивления не оказали. Чтобы лишить надежды на подкрепление из Германии, им показали на пике голову убитого Валента. Многие стали переходить на сторону противника. Этому никто уже и не мешал. Оба префекта бросили лагерь на произвол судьбы и возвратились в Рим. Преторианцы капитулировали. Весть об этом достигла столицы 18 декабря. Светоний утверждает, что Вителлий, в обмен на отречение от власти, выторговал себе у префекта города Флавия Сабина жизнь и двадцать пять миллионов денариев. Тацит (менее определенно) тоже упоминает о переговорах между ними. Так или иначе, но Вителлий решает сложить с себя титул и полномочия римского императора. Тацит очень выразительно описывает этот невеселый спектакль:
«Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими родными, клиентами и рабами, спустился он с Палатина. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Странно звучали льстивые приветствия, которыми его встретил народ. Солдаты хранили мрачное молчание.
Не было ни одного, даже самого бесчувственного человека, которого не потрясла бы эта картина: римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал свою резиденцию и шел по улицам города, сквозь заполнившую их толпу, шел, дабы сложить с себя верховную власть. Никто не слышал ни о чем подобном. Диктатор Цезарь пал жертвой внезапного нападения, Гая (Калигулу. — Л.О.) унес тайный заговор, только ночь да безвестная деревня видели бегство Нерона, Пизон и Гальба погибли как бойцы на поле битвы. Один лишь Вителлий уходил от власти среди своих же солдат, среди народа, который он сам же еще так недавно созывал здесь на сходку, уходил, не стыдясь присутствия женщин. В нескольких кратких, приличествующих обстоятельствам словах он объявил, что отказывается от власти в интересах мира и государства, просит сохранить память о нем и брате и сжалиться над его женой и невинными детьми». (Там же, 3; 67, 68)
Однако толпившийся на форуме плебс, растроганный этим зрелищем, стал громко кричать, чтобы он отказался от своего намерения, заверял его в своей защите и, в конце концов, заставил вернуться во дворец. Оказалось, что и оставшиеся еще в городе германские когорты сохраняют верность принцепсу и грозят уничтожить всякого, кто выступит против него.
Их жертвой становится Флавий Сабин (старший брат Веспасиана). Поспешив поверить в отречение Вителлия, он отдал соответствующие распоряжения по городу. Поэтому солдаты в первую очередь напали на него. Флавий со своими приближенными и частью солдат городской стражи укрылся на южной вершине Капитолийского холма за стеной храма Юпитера. Легионеры окружили вершину, но охраняли ее так небрежно, что ночью Сабин сумел провести к себе детей и восемнадцатилетнего племянника Домициана (будущего императора). К войску Антония он послал гонца. Наутро началась атака храма. Ввиду крутизны склонов холма штурмовать стены было трудно. Солдаты подожгли храмовые ворота и прилегающие к стене жилые строения. Пламя перекинулось на портики, окружавшие храм, потом на деревянные конструкции, поддерживавшие кровлю. Так сгорел храм Юпитера Сильнейшего и Величайшего — главная святыня Рима. Во время пожара солдаты, укрывшиеся за оградой, растерялись, заметались по храмовой площади, бросая оружие. Флавий Сабин впал в оцепенение. Осаждавшие ворвались на Капитолий, схватили безоружного старика, заковали и повезли к Вителлию. Не добившись от императора приказа о казни Флавия и соответствующей награды, они сами отрубили ему голову.
Войско Антония Прима, не торопясь, двигалось к Риму. Известие об осаде Капитолия заставило их поспешить. Все же они подошли к городу слишком поздно: храм уже догорал, а Сабин был убит. Вителлий выслал навстречу весталок с просьбой отложить штурм и начать переговоры. Антоний ответил, что после убийства Флавия Сабина переговоров не будет. Рим был атакован в тот же день. Взявшуюся было за оружие чернь разогнали сразу. Но сражение с германскими легионерами на улицах города было долгим и упорным.
Постепенно, благодаря численному преимуществу, войско Антония одерживает верх. Остатки защитников города укрываются в лагере преторианцев и довольно долго удерживают его. Наконец все они были перебиты и сопротивление прекратилось.
«Когда город был взят, — заканчивает описание этого дня Тацит, — Вителлий вышел через задние комнаты дворца, сел в носилки и приказал отнести себя на Авентин, в дом жены. Он рассчитывал незамеченным переждать здесь день, а затем пробраться в Таррацину к брату и его когортам. Вителлий отличался редким непостоянством мыслей. К тому же, когда человек испуган, ему всегда самым ненадежным представляется именно то положение, в котором он сейчас находится. Вителлий поколебался и вернулся на Палатин. Дворец стоял пустой и безлюдный. Даже самые ничтожные рабы разбежались или спрятались, едва завидев приближающегося принцепса. Вителлий открывал одну дверь за другой и отшатывался в ужасе: покои были пусты. Устав скитаться по дворцу, он было спрятался в постыдное место, но трибун когорты Юлий Плацид вытащил его оттуда. Со скрученными за спиной руками, в разодранной одежде его повели по городу Зрелище было отвратительное, многие выкрикивали ругательства и оскорбления, не плакал никто: когда смерть так позорна, состраданию нет места...
Подталкиваемый со всех сторон остриями мечей и копий, Вителлий вынужден был высоко поднимать голову. Удары и плевки попадали ему прямо в лицо, он видел, как валятся с пьедесталов его статуи, видел ростральные трибуны, узнал место, где был убит Гальба. Наконец, его поволокли к Гемониям (лестница близ тюрьмы на восточном склоне Капитолия. На ее ступени для обозрения выбрасывали трупы казненных, чтобы потом, крюками их стащить в Тибр), куда еще так недавно бросили тело Флавия Сабина. Глумившемуся над ним трибуну он сказал:
«Ведь я был твоим императором», — то были единственные достойные слова, которые пришлось от него услышать. Произнеся их, он тут же упал, покрытый бесчисленными ранами, и чернь надругалась над мертвым так же подло, как она пресмыкалась перед живым». (Там же, 3, 85)
В императорском дворце хозяйничал Антоний Прим. В городе — его солдаты. С оружием в руках они обшаривали все закоулки, врывались в дома, будто бы разыскивая укрывшихся вителлианцев. Сопротивлявшихся убивали, все, что им приглянется, — забирали.
«Казалось, — свидетельствует Тацит, — будто город захвачен врагами. Отовсюду неслись стоны и жалобы. Люди с сожалением вспоминали о наглых проделках солдат Отона и Вителлия, вызывавших у них в свое время такую ненависть. Полководцы флавианской партии сумели разжечь гражданскую войну, но оказались не в силах справиться с победившими солдатами. Во время смут и беспорядков чем хуже человек, тем легче ему взять верх». (Там же, 4, 1)
Сенат присваивает Веспасиану все почести и звания, полагающиеся принцепсу. Кроме того, его вместе с Титом заочно назначают консулом. Из Александрии в адрес сенаторов приходит письмо, написанное еще до окончания войны, — спокойное и дружелюбное. Оно посвящено государственным вопросам, требующим безотлагательного решения. Пришло послание и от Муциана — высокомерное и оскорбительное для государства и принцепса. Он, в частности, заявлял, что держит в руках императорскую власть и добровольно уступает ее Веспасиану. Сенаторы Муциана втайне ненавидели и боялись, но вслух превозносили. Присудили ему триумфальные знаки отличия. Консульские отличия получил Антоний Прим. Взаимная неприязнь Муциана и Антония была общеизвестна. Опасались столкновения между ними и их войсками. Но этого не произошло. Когда Муциан во главе сирийских легионов явился в Рим и пожелал сосредоточить в своих руках всю власть, Антоний уступил — в активе соперника был авторитет Веспасиана. Ведь главнокомандующим в свое время тот назначил Муциана. Легионы Антония были выведены из города, а сам он отправился искать справедливости в Александрию.
Внезапно в Риме распространился слух, что Африка отложилась и поставок хлеба больше не будет. Слух был ложным: причиной задержки с поступлением зерна были сильные холода, мешавшие мореплавателям. Впрочем, не исключено, что Веспасиан имел причастие к этой задержке, как бы напоминая о своей власти из далекого Египта.
Весной 70-го года транспорты с зерном отплывают из Александрии. Одновременно на быстроходном судне вместе со своей свитой отправляется в Италию и император. Сына нет с ним. Титу поручено закончить войну в Иудее. Иосиф Флавий так описывает встречу Веспасиана в Риме:
«...расположение к нему, — отмечает он с самого начала, — было свободно от всякого принуждения. Сенат, помня потрясения, проистекавшие от частой смены последних властителей, считал за счастье иметь императором человека почтенного возраста, окруженного ореолом военных подвигов, в котором можно было быть уверенным, что он будет пользоваться властью только для блага своих подданных. Народ, истерзанный междоусобными войнами, с нетерпением ждал его прибытия: он надеялся, что теперь наверное избавится от постигших его до сих пор бед, и был уверен, что при нем воцарятся благодать и личная безопасность. Войско в особенности взирало на него с высоким доверием, ибо оно лучше всех могло оценить значение так счастливо оконченных им войн... Высшие сановники города, видя восторженное настроение всех классов населения, не могли в ожидании Веспасиана оставаться на месте, а поспешили ему навстречу далеко за пределы Рима. Но и другим гражданам всякая отсрочка этой встречи была невыносима... И устремились они в дорогу такими огромными массами, что в городе ощущалось тогда в первый раз приятное чувство малолюдия, ибо оставшихся было меньше, чем выехавших. Когда же наконец было оповещено приближение императора, а предшествовавшая ему толпа прославляла его ласковое обращение со всеми встречавшими его, тогда все остальное население вышло встречать его с женами и детьми, и на всем пути, по которому он проезжал, они, вдохновленные его добродушным видом и кротким взором, издавали радостные клики, называя его благодетелем, спасителем и единственным, достойным править Римом». (Иосиф Флавий. Иудейская война, VII, 4)
Так начиналось девятилетнее правление императора Веспасиана. Какими важными событиями или действиями правителя были отмечены эти годы? Мы этого, к сожалению, почти не знаем. Плутарх о Веспасиане не писал, а заключительные главы «Истории» Тацита, посвященные господству династии Флавиев, утрачены. Биографии, составленные Светонием, очень кратки и представляют собой не столько описание хода римской истории или государственной деятельности Веспасиана и его сыновей, сколько совокупность эпизодов, выявляющих индивидуальные черты характера этих императоров.
Поневоле мы вступаем в область догадок и предположений. Постараемся, чтобы они были хотя бы не беспочвенными. Попробуем представить наиболее трудные и неотложные задачи, вставшие перед новым правителем. Потом поищем среди известных нам фактов и в рассказах Светония указаний, пусть косвенных, на то, каким образом Веспасиан мог эти задачи решать.
Первая и, как мне кажется, наиболее срочная задача была связана с восстановлением воинской дисциплины в легионах и с их возвращением в провинции. У Светония мы находим по этому поводу следующее краткое замечание:
«Войска дошли до совершенной распущенности и наглости: одни — возгордившись победой, другие — озлобленные бесчестьем. Даже провинции, вольные города и некоторые царства враждовали между собой. Поэтому многих солдат Вителлия он уволил и наказал, но победителям тоже ничего не спускал сверх положенного, и даже законные награды выплатил им не сразу. Он не упускал ни одного случая навести порядок». (Светоний. Божественный Веспасиан, 8)
Наказание солдат, смена командиров, передислокация в менее благодатные места — все это происходило принудительно и предполагало готовность к безропотному подчинению повелениям императора. Такая готовность, надо полагать, была обусловлена не только вековой традицией, но и личным авторитетом Веспасиана. Однако после двух лет распущенности и произвола этого, наверное, было недостаточно. Опыт всех армий показывает, что для поддержания воинской дисциплины, особенно в периоды некоторой нестабильности, необходим фактор устрашения. В распоряжении императора должна была находиться сила, способная наказать и усмирить, к примеру, бунтовавший легион. Такую силу как раз и представляли собой закаленные в боях и заведомо преданные Веспасиану иудейские легионы. Их следовало как можно скорей освободить от выполнения других задач. Но сначала все-таки докончить покорение Иудеи. Хотя бредовая идея великого похода к берегам Инда и отпала, престиж военного могущества Рима на Востоке (а значит, и поступление в казну налогов) зависел от полного усмирения фанатичных повстанцев этой крошечной провинции.
Поэтому в самом начале весны 70-го года по приказанию отца Тит возобновил военные действия в Иудее. Еще за месяц до прибытия Веспасиана в Рим он во главе четырех легионов выступает из Цезареи в направлении Иерусалима. Осада иудейской столицы была трудной (об этом в следующей интерлюдии) и длилась четыре месяца. Она закончилась полным разрушением города и знаменитого храма. Военные силы повстанцев были уничтожены практически полностью. Потери в иудейских легионах были невелики. Теперь они были свободны и в случае необходимости могли выполнять, как ныне говорят, «особые» задания императора.
Вторая неотложная задача — навести порядок в самой столице и в системе управления государством. Веспасиан взвалил на свои плечи весь груз власти и ответственности в Риме. Казалось бы, что это замечание излишне, коль скоро сенат уже присвоил ему пожизненные звания принцепса, императора и полномочия народного трибуна. Однако еще со времен Августа некоторые республиканские институты в Риме сохранялись. В частности, должности двух консулов. Да, их уже не выбирал народ, а по представлению принцепса назначал сенат. Да, их сменяли по нескольку раз в году. И все же. Принцепс, народный трибун, император (в одном лице) диктовал свою волю сенату, навязывал ему новые законы и кандидатов на выборные должности, командовал всеми войсками. Но непосредственно управление многочисленной администрацией столицы и всей ее повседневной жизнь осуществляли консулы. За девять лет своего правления Веспасиан был консулом восемь раз. И каждый раз его коллегой был Тит.
Эффективное управление гражданской жизнью подразумевает еще и наличие мобильной вооруженной силы, которую можно в любую минуту призвать на помощь. С самого начала существования Империи такой силой в Риме являлись преторианцы. За годы предшествовавшей анархии увеличилась численность, но упала дисциплина воинов претория. Веспасиан сократил количество преторианских когорт до прежних девяти, обновил их личный состав и единственным префектом претория назначил Тита. Это была смелая новация: до сих пор преторием командовали всадники, теперь — консул и сын императора. Я уже упоминал вскользь, что в отношениях с людьми Тит был мягок и покладист. Эти его качества вполне проявятся, когда он сам станет императором. Тем большее удивление вызывает следующее замечание Светония, сделанное им как раз в связи с назначением Тита префектом претория:
«Однако в этой должности повел он себя не в меру сурово и круто. Против лиц, ему подозрительных, он подсылал в лагеря и театры своих людей, которые словно от имени всех требовали их наказания, и тотчас с ними расправлялся. Среди них был консуляр Авл Цецина (тот самый. — Л.О.): его он сперва пригласил к обеду, а потом приказал умертвить, едва тот вышел из столовой. Правда, тут опасность была слишком близка: он уже перехватил собственноручно составленную Цециной речь к солдатам». (Светоний. Божественный Тит, 6)
Я думаю, что разрешить это противоречие вполне может предположение, что крутые меры префекта, в случае необходимости, направляла твердая рука императора. Стоит заметить, что отнюдь не опасения за собственную жизнь диктовали Веспасиану такие меры. Охрану у дверей своего дворца он снял, обязательный ранее обыск приходивших с утренним приветствием — отменил.
Император позаботился также об очистке и пополнении высших сословий государства, откуда черпались «управленцы». В качестве цензора он исключил из списков сенаторов и всадников людей, себя запятнавших, и внес туда наиболее достойных из италиков и провинциалов.
Третья проблема — порядок и повиновение в провинциях и зависимых царствах. Волнения германских и галльских племен (восстание под руководством вождя Цивилиса) были подавлены еще до прибытия Веспасиана в Рим. Азия после падения Иерусалима была вновь послушна. Оставалась Греция, которой в благодарность за признание его артистических талантов Нерон даровал свободу. Веспасиан эту свободу отобрал.
Наконец, четвертая, самая трудная проблема — финансы. Сначала Нерон, затем гражданские войны смутного времени и расточительство императоров-временщиков совершенно истощили государственную и императорскую казну. Веспасиан в самом начале своего правления заявлял, что ему надо десять миллиардов денариев для того, чтобы государство поставить на ноги. При этом необходимые, с его точки зрения, расходы он урезать не хотел: После землетрясений и пожаров заново отстроил многие города. В Риме возвел несколько новых храмов. Приступил к восстановлению храма Юпитера, причем, если верить Светонию, первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на своей спине. Опустошенные пожарами и разрушениями участки земли в Риме он разрешил застраивать всем желающим (если этого не делали прежние владельцы), поддерживая их государственными субсидиями. Позади Эмилиевой базилики Веспасиан расчистил место для строительство почти квадратного в плане обширного форума. Он расположил его рядом с форумом Августа. Форум Веспасиана был посвящен победе над иудеями. В нем он поставил храм Мира, желая подчеркнуть этим, что с окончанием Иудейской войны начинается мирная эпоха существования Римского государства.
В храме сохранялись реликвии иудеев: золотой семисвечник, священные серебряные трубы, таблицы законов Моисея. На месте разрушенного дворца Нерона Веспасиан начал и почти закончил сооружение грандиозного амфитеатра, впоследствии названного Колизеем. Нуждающимся сенаторам император пополнил их состояние. Латинских и греческих учителей впервые в римской истории взял на жалованье из казны. Выдающихся поэтов, художников и артистов щедро награждал. Чтобы поддержать торговлю съестным, часто устраивал роскошные званые пиры. На праздники раздавал подарки гражданам.
Зато он не жалел сил и для отыскания все новых статей дохода государства — порой неожиданных и не слишком благовидных. Мало того, что Веспасиан увеличил дань провинций, ввел повсюду дополнительные налоги и подати, взыскал все недоимки, прощенные Гальбой по протекции его клевретов. Светоний утверждает, что он...
«...открыто занимался такими делами, каких стыдился бы и частный человек. Он скупал вещи только затем, чтобы потом распродать их с выгодой. Он без колебания продавал должности соискателям и оправдания подсудимым, невинным и виновным, без разбору Самых хищных чиновников, как полагают, он нарочно продвигал на все более высокие места, чтобы дать им нажиться, а потом засудить, говорили, что он пользуется ими как губками — сухим дает намокнуть, а мокрые выжимает». (Светоний. Божественный Веспасиан, 16)
Его сын Тит, не иначе как по наущению отца и с той же целью, торговал своим заступничеством в судебных делах, подлежащих рассмотрению принцепса. Жизненный опыт прижимистого крестьянина научил девятого римского императора выколачивать каждый медный грош из своего обширного хозяйства. К чести его, сам он грубовато подшучивал над своими неблаговидными источниками дохода.
«Один из его любимых прислужников, — рассказывает Светоний, — просил управительского места для человека, которого выдавал за своего брата. Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого человека, сам взял с него деньги, выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил на место. А когда опять вмешался служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это теперь мой брат». В дороге однажды он заподозрил, что погонщик остановился и стал перековывать мулов только затем, чтобы дать одному просителю время и случай подойти к императору Он спросил, много ли принесла ему ковка, и потребовал с выручки свою долю. Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом. Тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан (отсюда известная пословица: «деньги не пахнут». — Л.О.) (Там же, 23)
Можно осуждать Веспасиана за поступки, недостойные его сана, попрекать сребролюбием, жадностью и скупостью (как это и делали современники). Но никуда не уйти от того, что сам он жил очень просто, роскошных дворцов и вилл не построил, имений не приобрел. Своим преемникам он передал восставшее из хаоса государство и полную казну.
В заключение процитирую некоторые из замечаний Светония, относящихся к облику Веспасиана и его отношению к подданным:
«...был он доступен и снисходителен с первых дней правления и до самой смерти. Свое былое низкое состояние он никогда не скрывал и часто даже выставлял напоказ... К наружному блеску он нисколько не стремился, и даже в день триумфа, измученный медленным и утомительным шествием, не удержался, чтобы не сказать: «Поделом мне, старику: как дурак, захотел триумфа...» Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов нимало его не беспокоили... Обиды и вражды он нисколько не помнил и не мстил за них. Для дочери Вителлия, своего соперника, он нашел отличного мужа, дал ей приданое и устроил дом. Когда при Нероне ему было отказано от двора, и он в страхе спрашивал, что ему делать и куда идти, один из заведующих приемами, выпроваживая его, ответил: «На все четыре стороны!» А когда потом этот человек стал просить у него прощения, он удовольствовался тем, что почти в точности повторил ему его же слова. Никогда подозрение или страх не толкали его на расправу... Ни разу не оказалось, что казнен невинный — разве что в его отсутствие, без его ведома или даже против его воли... Во всяком случае никакая смерть его не радовала, и даже над заслуженной казнью случалось ему сетовать и плакать». (Там же, 12 — 15)
«Образ жизни его, — сообщает далее Светоний, — был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до свету, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников. Затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Кстати сказать, один из его друзей и ближайших советников был Плиний старший — писатель и ученый, от которого до наших дней дошла «Естественная история» — энциклопедия естественнонаучных знаний античности, а также ценных сведений по истории и быту древнего Рима. Покончив с текущими делами, Веспасиан совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц; после смерти Цениды у него их было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был он всего добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы». (Там же, 21)
К сенату Веспасиан относился уважительно. Ходил на его заседания, докладывал о делах. Обменивался частыми визитами с сенаторами. Склонность к шутке (подчас грубоватой) не покинула его до конца дней. Почувствовав приближение смерти, он промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом», имея в виду обычное в то время посмертное обожествление императоров. Роковая болезнь Веспасиана была краткой. Встретить свой конец ему удалось в родном имении близ Реаты, куда он специально для этого перебрался из Рима. Уже на смертном ложе он продолжал заниматься государственными делами, даже принимал послов. В последнюю минуту жизни сказал, что император должен умереть стоя, попытался подняться с ложа, но не смог и умер на руках тех, кто его поддерживал. Это случилось 23 июня 79 года.
Интерлюдия четвертая Иосиф Флавий «Иудейская война»
Роман того же названия принадлежит перу Лиона Фейхтвангера. В описании хода военных действий и сопутствующих событий писатель строго следует изложению Флавия. Однако главная тема романа — трагедия еврейского народа, для которого разрушение Иерусалимского храма явилось поворотным моментом всей его судьбы. Нам же, в рамках римской истории, и сама война, и особенно ее кульминация — разрушение храма послужат лишь материалом для выявления характера римского войска и облика его полководца Тита — будущего императора. Древний автор «Иудейской войны» и упомянутый мной в предыдущей главе руководитель обороны крепости Иотопата Иосиф бен Маттафий суть одно и то же лицо. Как и другие, эта интерлюдия будет составлена главным образом из фрагментов текста античного подлинника — в той его части, где описана осада Иерусалима и штурм храма. Однако для выявления позиции и мотивов поведения иудеев и римлян необходимо, хотя бы очень кратко, изложить предысторию этой войны. Попутно я поясню, каким образом иудейский полководец Иосиф бен Маттафий превратился в римского историка Иосифа Флавия.
В предыдущем томе упоминалось, что в 63-м году до Р.Х. Помпей Великий овладел Иерусалимом и его храмом. Иудею он объявил частью римской провинции Сирия. В 39-м году римский сенат по предложению Марка Антония назначил царем иудеев правителя Галилеи Ирода, впоследствии получившего прозвище Великий. Октавиан это назначение оставил в силе.
В 22-м году Ирод Великий заново отстроил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонянами, расширил его площадку и обнес ее мощной стеной. Рядом с храмом он возвел цитадель — «башню Антония», названную им в честь Марка Антония. В так называемом Верхнем городе он выстроил свой дворец, еще более роскошный, чем храм. При дворе Ирода Великого находилось много иноземцев. По всей стране в традициях греческой архитектуры строились новые города. Значительную часть населения в них составляли греки и римляне. В самом крупном и красивом городе Цезарее они составляли большинство. Август и Агриппа благоволили к Ироду. В своем правлении царь опирался на римлян и насильственно насаждал в Иудее культ римского императора. Колоссальное строительство оплачивалось за счет непомерных налогов, которыми Ирод обложил коренное население страны. Иудеи его ненавидели. В стране установился режим жестокой тирании. Доносы, интриги и казни — в том числе любимой жены и трех сыновей — не прекращались при дворе Ирода Великого до самой его смерти в 4-м году после Р.Х.
Царство Ирода Август разделил между тремя оставшимися в живых сыновьями: Архелаем, Филиппом и Иродом Антипой. Спустя десять лет Архелая за жестокость по отношению к подданным он сослал в Галлию. Его владения были объявлены римской провинцией Иудеей и отданы под власть римских прокураторов из сословия всадников. Резиденцией прокураторов стала Цезарея. В их распоряжении находилось наемное войско, где командовали римляне. Одна его когорта стояла в Иерусалиме. Прокураторы ведали сбором дани, которую Иудея уплачивала Риму. Они же вершили уголовный суд, но иудеям была предоставлена некоторая автономия самоуправления. Ее осуществлял синедрион — Верховный суд в Иерусалиме.
Внук Ирода Великого Агриппа, бретер и авантюрист, жил в Риме. Ему удалось втереться в доверие к императору Калигуле и в качестве царя в 40-м году получить владения Филиппа (после его смерти) и Ирода Антипы (после его изгнания). Главную часть этих владений составляла область Галилея, лежавшая к северу от Самарии. В день убийства Калигулы Агриппа находился в Риме и, как мы помним, вовремя поддержал Клавдия. За это его царство номинально было расширено на всю территорию Иудеи, хотя фактически верховная власть оставалась за римским прокуратором. Царь Агриппа, в отличие от своего деда, был щедр и милостив к подданным. Воспитанный в эллинистическом духе, он, тем не менее, уважал обычаи народа и подолгу жил в Иерусалиме. Его сын Агриппа II, унаследовав царство отца, построил себе по греческим образцам великолепный дворец в Тивериаде, на берегу Тивериадского озера. У Агриппы была своя небольшая наемная армия, которую он готов был передать под командование Веспасиана.
Такова вкратце предыстория Иудеи. События же, непосредственно предшествовавшие Иудейской войне, развивались так. В 64-м году прокуратором Иудеи был назначен Гессий Флор, грек по происхождению. Он отличался особенной жестокостью и беззастенчиво грабил страну. Иудеев из Цезареи он изгнал. Они пожаловались наместнику Сирии Цестию Галлу, которому был подчинен прокуратор. Чтобы скрыть свои злодеяния, Флор решил спровоцировать восстание иудеев. В Иерусалиме он устроил сущую резню (было убито три с половиной тысячи человек) только за то, что его поносили на улицах города. Беспорядки начались в 66-м году с отказа от установленной в угоду римлянам жертвы в храме за здравие римского императора (Нерона). Царь Агриппа и принцесса Береника старались отговорить жителей города от насилия. Властями города было разрешено римскому гарнизону, сложив оружие, беспрепятственно уйти из Иерусалима. Но когда солдаты вышли из форта Антония, их окружили иудейские фанатики и всех перебили. Восстание началось. Цестий Галл с находившимся под его командой римским легионом и вспомогательными силами пришел в Иудею и осадил Иерусалим. Он, наверное, мог бы овладеть городом, в то время еще не готовым к длительной обороне, но неожиданно отступил. На обратном пути его войско было окружено повстанцами и разгромлено. Погибло около шести тысяч римских солдат. Цестий Галл послал донесение Нерону в Грецию. Император его отозвал, назначил новым наместником в Сирии Муциана, а вести войну поручил Веспасиану.
Начало кампании и осада крепости Иотопата описаны в предыдущей главе. К концу седьмой недели осады от бомбардировок и в ходе многочисленных вылазок защитники крепости потеряли около сорока тысяч человек убитыми. Когда Иотопата капитулировала, ее комендант Иосиф бен Маттафий вместе с еще сорока видными гражданами города укрылся в пещере, куда вел подземный ход. Римляне об этом узнали, но проникнуть в укрытие через узкий лаз не могли. Веспасиан посылал, одного за другим, двух своих офицеров, которые уговаривали беглецов сдаться. Иосиф отвечал отказом.
«Наконец, — рассказывает он уже в качестве историка, — Веспасиан отправил к нему третьего посла в лице близкого знакомого Иосифа и давнего его друга, трибуна Никанора. Последний явился и рассказал, как кротко римляне обращаются с побежденными и что он, Иосиф, вследствие выказанной им храбрости, вызывает в военачальниках больше удивления, чем ненависти. Полководец зовет его к себе не для казни — ведь завладеть им он мог бы, если он даже не выйдет, — но он предпочитает даровать ему жизнь, как храброму воину. Никогда, прибавил он, Веспасиан для коварных целей не послал бы к нему друга, чтобы прикрыть постыдное добродетелью, вероломство — дружбой. Да и сам он, Никанор, никогда не согласился бы прийти для того, чтобы обмануть друга». (Иосиф Флавий. Иудейская война, III, 8)
Далее следует рассказ о сне Иосифа, в котором Бог открыл ему предстоящие бедствия иудеев, а заодно и судьбу римских императоров. Иосиф решает, что на него возложена миссия известить об этом Веспасиана, и обращается к Богу со следующей молитвой:
«Так как Ты решил смирить род иудеев, который Ты создал, так как все счастье перешло теперь к римлянам, а мою душу Ты избрал для откровения будущего, то я добровольно предлагаю свою руку римлянам и остаюсь пока жить. Тебя же я призываю в свидетели, что иду к ним не как изменник, а как Твой посланник». (Там же)
Воля читателя — поверить или решить, что Иосиф выдумал эту версию для оправдания своего малодушия. Это ведь и не очень существенно, поскольку нас интересует не личность Иосифа Флавия, а его свидетельство об Иудейской войне. Однако остальные беглецы такого рода оправданий явно не находили. Они решили покончить с собой. Для того чтобы до конца не снимать охрану входа в пещеру, очередность смерти доверили жребию. Иосиф (не иначе как по воле Бога) оказался последним. Когда все его товарищи покончили счеты с жизнью, он вышел из пещеры. Его отвели к Веспасиану. Тот действительно отдал дань уважения отваге и военному таланту пленника, но собирался отправить его к Нерону. Тогда Иосиф попросил разрешения ненадолго остаться с ним и Титом без свидетелей. Затем он сказал:
«Ты думаешь, Веспасиан, что во мне ты приобрел только лишь военнопленного. Но я пришел к тебе как провозвестник важнейших событий. Если бы я не был послан Богом, то я бы уже знал, чего требует от меня закон иудеев и какая смерть подобает полководцам. Ты хочешь послать меня к Нерону? Зачем? Разве долго еще его преемники удержатся на престоле до тебя? Нет, ты, Веспасиан, будешь царем и властителем — ты и вот этот, твой сын! Прикажи теперь еще крепче заковать меня и охранять меня для тебя... дабы ты мог казнить меня, если окажется, что я попусту говорил именем Бога». (Там же)
Веспасиан сначала счел эти слова за увертку, но потом поверил. Особенно когда вспомнил, что в перехваченном еще в самом начале осады письме Иосифа была точно предсказана продолжительность осады Иотопаты. Иудейский полководец оставался в цепях при штабе главнокомандующего до того самого дня, когда войско провозгласило Веспасиана императором. Тогда цепи были разрублены, что символизировало оправдание, а Иосиф, по его просьбе, получил право носить родовое имя своего покровителя. Он стал именоваться Иосифом Флавием. Веспасиан поручил ему написать историю Иудейской войны. Таково же было желание и самого Иосифа. Поэтому весной 70-го года он вместе с Титом отправился в Иудею и был очевидцем трагедии Иерусалима до последнего дня.
Главнокомандующему римлян в сочинении Иосифа Флавия посвящено немало, страниц. Вот, для примера, одна из них. Еще до начала осады Иерусалима, находясь в Галилее, Тит с передовым отрядом в шестьсот всадников оказывается перед во много раз превосходящим по численности противником. Тем не менее, он приказывает готовиться к атаке и обращается к воинам с речью:
«...пусть каждый еще раз подумает о том, — говорит Тит, — кто он и против кого он будет сражаться. Пусть вспомнит также, что хотя иудеи чрезвычайно смелы и презирают смерть, но зато они лишены всякой военной организации, неопытны в сражениях и могут быть названы скорее беспорядочной толпой, чем войском. Что я, в противоположность этому, должен сказать о вашей военной опытности и тактике? Потому только мы и упражняемся так с оружием в мирное время, чтобы на войне не нужно было нам считаться силами с неприятелем. Иначе какая польза от этих постоянных боевых упражнений, если мы будем сражаться с неопытными в одинаковом с ними числе?.. Сражения, наконец, решаются не количеством людей, если даже все они способны к бою, но храбростью, когда она воодушевляет хотя бы менее значительные отряды. Последние легко могут образовать тесно сомкнутые ряды и помогать друг другу, между тем как не в меру большое войско страдает больше от своей многочисленности, чем от врагов. Иудеями руководят смелость и отвага — последствия отчаяния, которые хотя успехом поддерживаются, но при малейшей неудаче все-таки погасают. Нас же ведут храбрость, дисциплина и тот благородный пыл, который в счастье обнаруживает мощную силу, но и при неудачах проявляет крайнюю устойчивость. Я полагаю, что этот час будет иметь решающее значение для моего отца, для меня, для вас: достоин ли мой отец своих прежних подвигов, его ли я сын и мои ли вы солдаты! Он привык всегда побеждать, и потому я не позволю себе предстать пред его глазами побежденным. А вы? Разве вам не будет стыдно дать себя победить, когда ваш предводитель будет предшествовать вам в опасности? А я, знайте это, намерен так именно поступить: я первый ударю в неприятеля — вы только не отставайте от меня...» (Там же, III, 10)
Эта свободная от обычного в таких случаях пафоса речь хорошо выявляет спокойное мужество и доверие полководца к своим солдатам.
И еще — о благоразумии Тита:
«Иудеи нисколько не печалились о причиненных им потерях. Все их помыслы и усилия были направлены к тому, чтобы и со своей стороны наносить урон. Смерть казалась им мелочью, если только удавалось, умирая, убить также и врага. Для Тита, напротив, безопасность солдат была столь же важна, как победа. Стремление вперед без оглядки он называл безумием и признавал храбрость только там, где обдуманно и без урона шли в дело. Поэтому он учил свое войско быть храбрым, но не подвергать себя опасности». (Там же, V, 7)
Не встретив серьезного сопротивления в Галилее и Самарии, войско Тита в начале мая подошло к Иерусалиму Для того чтобы читатель мог в какой-то степени представить себе ход последующих сражений, я попытаюсь описать рельеф города и расположение его фортификационных сооружений.
На физической карте современного Израиля хорошо видна идущая вдоль его восточной границы почти точно в направлении с юга на север горная гряда. В месте расположения древней столицы Иудеи эта гряда образовывает подобие мыса, с трех сторон (с востока, юга и запада) окруженного глубокими долинами. Ввиду крутизны склонов доступ к городу с этих трех сторон был очень труден. Еще одна долина делила сам город на две неравные части: западную (большую) и восточную. В обеих над средним уровнем плато возвышались еще холмы. Близ вершины обширного западного холма располагался Верхний город с дворцом Ирода Великого. Искусственно расширенную вершину восточного холма венчала белоснежная громада Иерусалимского храма. Ниже лежали кварталы наиболее старой части города. К этим двум холмам с севера, как бы связывая каждый из них с горной грядой, примыкали два небольших холма: западный, который назывался Голгофа и восточный — Безета. По их склонам сбегали улицы Нового города и городского предместья. Дороги подходили к Иерусалиму с севера, постепенно взбираясь на высоту горной гряды. Только оттуда он был уязвим для противника. Поэтому здесь была построена мощная система укреплений. Первая внешняя стена охватывала полукольцом с севера Голгофу и Безету. Вторая стена с 14-ю башнями шла южнее Голгофы и Безеты, почти напрямую от Верхнего города к храму В том месте, где она подходила к храмовой стене, на двадцатиметровой отвесной скале возвышалась мрачная громада квадратной Антониевой башни.
Стена, опоясывавшая Верхний город, несла на себе 60 башен. Однако главным узлом обороны Иерусалима являлся сам храм. Искусственно насыпанное плато, на котором он стоял, было по наружному периметру (длиной более километра) охвачено очень высокими и мощными стенами, сложенными из огромных каменных глыб. Внутри вдоль этих стен располагались галереи и портики. В мирное время здесь шла бойкая торговля.
От территории внутреннего двора храма наружный двор был отделен второй стеной. За нее женщины еще допускались. Но за третью стену ограждавшую само здание храма, могли проникать только мужчины.
В случае осады жажда защитникам храма не грозила: на его площадке был родник. К несчастью, в ходе междоусобных сражений в городе были уничтожены запасы зерна, которых осажденным хватило бы на годы.
Римляне разбили свой лагерь к западу от Голгофы. Предполагая поначалу, что в городе имеются большие запасы продовольствия, Тит не намеревался его осаждать. Войску был дан приказ готовиться к штурму. Иудеи пытались, выйдя из города, помешать противнику подкатить к первой внешней стены тараны. Римляне легко пресекли эти попытки. Нескольких дней оказалось достаточно, чтобы пробить стену. В середине мая воины Тита овладели Новым городом. Разграбив, они сровняли его с землей, чтобы подвести валы и осадные машины ко второй внешней стене. Ее штурм стоил римлянам тяжелых потерь. В конце мая стена была взята, и большая часть города оказалась в руках осаждавших. Все население Иерусалима и бесчисленные паломники укрылись в двух его цитаделях: Верхнем городе и храме. Ввиду выгодного расположения на холмах и мощи стен взять штурмом эти цитадели было чрезвычайно трудно. Тем временем выяснилось, что запасов продовольствия в городе нет. Тит решил перейти к осаде. От пленных и перебежчиков римляне узнали, что из города есть подземные ходы, ведущие в долины. Следуя рельефу, они в конце июня соорудили блокадную стену, замкнувшую город сплошным кольцом. Поражает быстрота, с которой римляне ее построили. Вот что пишет по этому поводу Иосиф Флавий:
«После того как обводная стена разделена была по частям между легионами, соревнование началось не только между последними, но и между отдельными когортами в каждом легионе. Простой солдат хотел отличиться перед декурионом, последний — перед центурионом, а этот — перед трибуном. Честолюбие трибунов побуждало каждого из них искать одобрения предводителей, а соревнование последних вознаграждал Цезарь. Он лично, по нескольку раз в день совершал объезды и сам осматривал работы... Стена имела тридцать девять стадий (примерно 7 км. — Л.О.) в окружности. Снаружи к ней пристроены были тринадцать сторожевых башен. В три дня воздвигнуто было это сооружение. Дело, для которого целые месяцы не могли бы считаться чересчур продолжительным сроком, окончено было с такой быстротой, которая превосходит всякое вероятие...» (Там же, V, 12)
Вскоре защитники Иерусалима стали испытывать муки голода. Тем не менее, они продержались все лето.
Ввиду приближения зимы и учитывая, что длительное голодание подорвало силы осажденных, Тит решил штурмовать иерусалимские твердыни. Подступы к храму были удобнее, чем к Верхнему городу. На это указывали все члены военного совета, созванного главнокомандующим. Но Тит не хотел штурмовать храм. Он привык уважать чужие святыни, а кроме того — опасался, что разъяренные легионеры разрушат храм, чего он допускать не хотел. Поэтому римский полководец обратился с письмом к предводителю зелотов Иоанну Гисхальскому:
«Не вы ли, безбожники, устроили эту ограду вокруг святилища? Не вы ли у нее воздвигли те столбы, на которых на эллинском и нашем языках вырезан запрет, что никто не должен переступить через нее? Не предоставляли ли мы вам права карать смертью нарушителя этого запрещения, если бы даже он был римлянином? И что же, теперь вы, нечестивцы, в тех же местах топчете ногами тела умерших, пятнаете храм кровью иноплеменников и своих! Я призываю в свидетели богов своего отечества и того, который некогда — но не теперь — милостиво взирал на это место, ссылаюсь также на мое войско, на иудеев в моем лагере и на вас самих, что я вас не принуждал осквернять эти места. И если вы изберете себе другое место сражения, то никто из римлян не ступит ногой в святилище и не прикоснется к нему. Храм я сохраню для вас даже против вашей воли». (Там же, VI, 2)
Ответа на это свое послание Тит не получил. В конце августа римляне, тоже измученные затянувшейся осадой, попытались протаранить наружную стену храма.
Шесть дней подряд работали все наличные тараны армии Тита. Стена не поддалась. Вследствие ее высоты попытка штурма с помощью приставных лестниц тоже окончилась неудачей. Римляне напрасно потеряли много солдат. Тогда Тит распорядился развести большой костер перед массивными, отделанными серебром воротами храмовой стены.
«...расплавившееся повсюду серебро, — пишет Флавий, — открыло пламени доступ к деревянным балкам, откуда огонь, разгоревшись с удвоенной силой, охватил галереи. Когда иудеи увидели пробивавшиеся кругом огненные языки, они сразу лишились и телесной силы, и бодрости духа. В ужасе никто не тронулся с места, никто не пытался сопротивляться или тушить, как остолбеневшие, они все стояли и только смотрели...» (Там же, IV, 4)
Следующее за этим развитие атаки на храм описано Флавием неясно. По-видимому, пожар как-то способствовал открытию ворот, и римлянам удалось овладеть наружным двором. Обороняющиеся укрылись за стеной внутреннего храма. Далее без перерывов и комментариев я приведу рассказ Иосифа Флавия, сократив его, но л за счет фрагментов, относящихся непосредственно к Титу:
«На следующий день Тит приказал одной части войска потушить пожар и очистить место у ворот, чтобы открыть свободный доступ легионам. Вслед за этим он созвал к себе начальников... Со всеми ними он держал совет о том, как поступить с храмом. Одни советовали поступить с ним по всей строгости военных законов, ибо «до тех пор, пока храм, этот сборный пункт всех иудеев, будет стоять, последние никогда не перестанут замышлять о мятежах». Другие полагали так «Если иудеи очистят его и никто не поднимет меча для его обороны, тогда он должен быть пощажен. Если же они с высоты храма будут сопротивляться, его нужно сжечь, ибо тогда он перестанет быть храмом, а только крепостью, и ответственность за разрушение святыни падет тогда не на римлян, а на тех, которые принудят их к этому». Но Тит сказал: «Если даже они будут сопротивляться с высоты храма, то и тогда не следует вымещать злобу против людей на безжизненных предметах и ни в каком случае не следует жечь такое величественное здание. Ибо разрушение его будет потерей для римлян, равно как и наоборот, если храм уцелеет, он будет служить украшением империи...» После этого Тит распустил собрание и приказал командирам дать отдых войску для того, чтобы они с обновленными силами могли бороться в следующем сражении. Только одному отборному отряду, составленному из когорт, он приказал проложить дорогу через развалины и тушить огонь.
В тот день иудеи, изнуренные телом и подавленные духом, воздержались от нападения, но уже на следующий день они вновь собрали свои боевые силы и с обновленным мужеством во втором часу через восточные ворота сделали вылазку против караулов наружного храмового двора. Последние, образуя впереди себя из щитов одну непроницаемую стену, упорно сопротивлялись. Тем не менее, можно было предвидеть, что они не выдержат натиска, так как нападавшие превосходили их числом и бешеной отвагой. Тогда Тит, наблюдавший за всем с Антонии, поспешил предупредить неблагоприятный поворот сражения и прибыл к ним на помощь с отборным отрядом конницы. Этого удара иудеи не вынесли: как только пали воины первого ряда, рассеялась большая часть остальных. Однако, как только римляне отступили, они опять обернулись и напали на их тыл. Но и римляне повернули свой фронт и опять принудили их к бегству. В пятом часу дня иудеи были наконец преодолены и заперты во внутреннем храме.
Тогда Тит отправился на Антонию, приняв решение на следующий день утром двинуться всей своей армией и оцепить храм. Но храм давно уже был обречен Богом огню. И вот наступил уже предопределенный роковой день — десятый день месяца Лооса, тот самый день, в который и предыдущий храм был сожжен царем вавилонян. Сами иудеи были виновниками вторжения в него пламени. Дело происходило так. Когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян. Таким образом, завязался бой между гарнизоном храма и отрядом, поставленным для тушения огня в зданиях наружного притвора. Последний отбил иудеев и оттеснил их до самого храмового здания. В это время один из солдат, не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка, точно по внушению свыше, схватил пылающую головню и, приподнятый товарищами вверх, бросил ее через золотое окно, которое с севера вело в окружавшие храм помещения. Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль, достойный такого рокового момента, и ринулись на помощь храму, не щадя сил и не обращая внимания на жизненную опасность, ибо гибель угрожала тому, что они до сих пор прежде всего оберегали.
Гонец доложил о случившемся Титу. Он вскочил с ложа в своем шатре, где он только что расположился отдохнуть после боя, и в том виде, в каком находился, бросился к храму, чтобы прекратить пожар. За ним последовали все полководцы и переполошенные происшедшим легионы. Можно себе представить, какой крик и шум произошел при беспорядочном движении такой массы людей. Цезарь старался возгласами и движениями руки дать понять сражающимся, чтобы они тушили огонь. Но они не слышали его голоса, заглушённого громким гулом всего войска, а на поданные им знаки рукой они не обращали внимания, ибо одни были всецело увлечены сражением, другие — жаждой мщения. Ни слова увещевания, ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов — одно только общее ожесточение правило сражением. У входов образовалась такая давка, что многие были растоптаны своими товарищами, а многие попадали на раскаленные, еще дымившиеся развалины галерей и таким образом делили участь побежденных. Подойдя ближе к храму, они делали вид, что не слышат приказаний Тита, и кричали передним воинам, чтобы те бросили огонь в самый храм. Мятежники уже потеряли надежду на прекращение пожара: их повсюду избивали или обращали в бегство. Громадные толпы граждан, все бессильные и безоружные, были перебиты везде, где их настигали враги. Вокруг жертвенника громоздились кучи убитых, а по ступеням его лились потоки крови и катились тела убитых наверху.
Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассвирепевших солдат, а огонь между тем все сильнее распространялся, он в сопровождении начальников вступил в Святая святых и обозрел ее содержимое. И он нашел все гораздо более возвышенным, чем та слава, которой оно пользовалось у чужестранцев, и нисколько не уступающим восхвалениям и высоким отзывам туземцев. Так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутреннее помещение храма, а пока только опустошало окружавшие его пристройки, то он предполагал — и вполне основательно — что собственно храмовое здание может быть еще спасено. Выскочив наружу, он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь, как личными приказаниями, так и через одного из своих телохранителей, центуриона Либералия, которому он велел подгонять ослушников палками. Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к Цезарю и страх перед его карательной властью. Большинство, кроме того, прельщалось надеждой на добычу, так как они полагали, что если снаружи все сделано из золота, то внутренность храма наполнена сокровищами. И вот в то время когда Цезарь выскочил, чтобы усмирить солдат, уже один из них проник вовнутрь и в темноте разложил огонь под дверными крюками, а когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились, и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом храм, против воли Цезаря, был предан огню.
...В то время когда храм горел, солдаты грабили все попадавшееся им в руки и убивали иудеев на пути несметными массами. Не было пощады к возрасту, ни уважения к званию: дети и старцы, миряне и священники были одинаково умерщвлены. Ярость никого не различала: сдававшихся на милость постигала та же участь, что и сопротивлявшихся. Треск пылавшего повсюду огня сливался со стоном падавших. Высота холма и величина горевшего здания заставляли думать, что весь город объят пламенем. И ужаснее и оглушительнее того крика нельзя себе представить. Все смешалось в один общий гул: и победные клики дружно подвигавшихся вперед римских легионов, и крики окруженных огнем и мечом мятежников, и смятение покинутой наверху толпы, которая, в страхе вопия о своем несчастье, бежала навстречу врагу. Со стенаниями на холме соединялся еще плач из города, где многие, беспомощно лежавшие, изнуренные голодом и с закрытыми ртами, при виде пожара в храме собрали остаток своих сил и громко взвыли... Храмовая гора пылала от самого основания, так как она со всех сторон была залита огнем. Но еще шире огненных потоков казались лившиеся потоки крови, а число убитых — больше убийц. Из-за трупов нигде не видно было земли: солдаты, преследовавшие неприятеля, бегали по целым грудам мертвых тел... Число всех пленных за время войны, — сообщает далее Флавий — простиралось до девяносто семи тысяч, а павших во время осады было миллион сто тысяч. Большинство их было родом не из Иерусалима, ибо со всей страны стекался народ в столицу к празднику опресноков и здесь был неожиданно застигнут войной...» (Там же, VI, 4, 5, 9)
Кровля храма рухнула внутрь. Руины здания и все окружавшие храм стены римляне разрушили до основания. Хотя пожар длился два дня, а разборка стен должна была занять много времени, датой разрушения Иудейского храма принято считать 6 августа 70-го года. На память о неприступности твердыни храма римляне оставили кусок наружной стены, которая высится и теперь в старом городе современного Иерусалима. Евреи называют ее «Стеной плача». Верхний город сопротивлялся еще месяц, затем пал и он. Иерусалим победители сровняли с землей.
Глава VI Тит и Домициан
Тит
К тому, что мы уже знаем о военной и государственной деятельности, а также характере Тита, остается добавить очень немногое. Источник сведений для этого у нас только один, притом не слишком полный. В своей книге «Жизнь двенадцати Цезарей» Светоний уделяет Титу всего четыре страницы из двухсот двадцати. Зато на этих страницах встречаются столь лестные отзывы, каких мы не находим ни в одном из жизнеописаний остальных одиннадцати Цезарей. Первая же фраза биографии Тита у Светония начинается словами:
«Тит... любовь и отрада рода человеческого, наделенный особенным даром, искусством или счастьем снискать всеобщее расположение...» (Светоний. Божественный Тит, 1)
Между тем в предыдущей главе я упомянул, что в должности префекта претория во время правления Веспасиана Тит повел себя «не в меру сурово и круто» и привел примеры, заимствованные у того же Светония. Именно в связи с этим, говоря о самом начале принципата Тита после смерти отца, римский историк добавляет, что...
«...вряд ли кто приходил к власти с такой дурной славой и таким всеобщим недоброжелательством... все видели в нем второго Нерона и говорили об этом во всеуслышанье». (Там же; 6, 7)
Но тут же, подчеркивая контраст этих ожиданий с действительностью, Светоний продолжает:
«Однако такая слава послужила ему только на пользу: она обернулась высочайшей хвалой, когда ни единого порока в нем не нашлось и, напротив, обнаружились великие добродетели. Пиры его были веселыми, но не расточительными. Друзей он выбирал так, что и последующие правители не могли обходиться без них и всегда к ним обращались... Ничего и ни у кого он не отнял, чужую собственность уважал как никто другой и отвергал даже обычные и дозволенные приношения...
Непременным правилом его было никакого просителя не отпускать, не обнадежив. И когда домашние упрекнули его, что он обещает больше, чем сможет выполнить, он ответил: «Никто не должен уходить печальным после разговора с императором». А когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!»...
Сан великого понтифика, по его словам, он принял затем, чтобы руки его были чисты, и этого он достиг: с тех пор он не был ни виновником, ни соучастником ничьей гибели, и хотя не раз представлялся ему случай мстить, он поклялся, что скорее погибнет, чем погубит». (Там же, 7—9)
Забота Тита о солдатах во время Иудейской войны упомянута в предыдущей интерлюдии. Воины платили ему исключительной преданностью и любовью. Любовь была столь горячей, что однажды поставила его в несколько затруднительное положение. После разрушения Иерусалима и Храма Тит собирался покинуть Иудею, но солдаты не хотели его отпускать из провинции, с мольбами и даже угрозами требуя, чтобы он или остался с ними или всех их вел с собою. Кое-кому это внушило подозрение, что Тит задумал отложиться от отца и стать царем на востоке. Он сам укрепил это подозрение, когда во время поездки в Александрию, при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме: таков был древний обычай при этом священном обряде, но нашлись люди, которые истолковали это иначе. Поэтому он поспешил в Италию. На грузовом судне добрался до Путеол, оттуда, не мешкая, бросился в Рим и, словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал не ожидавшего его отца словами: «Вот и я, батюшка, вот и я!»
Нельзя не упомянуть о трагедии личной жизни Тита. Помимо прирожденной доброты и мягкости характера, он обладал и многими другими качествами, которые умеют ценить женщины. Светоний пишет:
«Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом, с летами, все больше и больше: замечательная красота, в которой было столько же достоинства, сколько приятности; отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни слегка выдающийся живот; исключительная память и, наконец, способности едва ли не ко всем военным и мирным искусствам. Конем и оружием он владел отлично; произносил речи и сочинял стихи по-латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки; был знаком с музыкой настолько, что пел и играл на кифаре искусно и красиво». (Там же, 3)
Упомяну заодно, что Тит умел еще очень быстро стенографировать и искусно подражать любому почерку.
Первая жена Тита умерла рано. Вторым браком он женился на девушке из знатного рода Марции Фурнилле. Она родила ему дочь Юлию. Но брак был неудачным, и молодые супруги расстались. В мировой художественной литературе немало места уделено связи Тита с иудейской принцессой Береникой, о которой я вскользь упомянул ранее. Светоний об этом пишет крайне скупо. Согласно его свидетельству, в Риме говорили, что Тит собирался жениться на Беренике, но, став принцепсом, «...тотчас выслал из Рима, против ее и против своего желания». Можно ли предположить, что оба они испытывали сильное и глубокое чувство? Думаю, что да. Сестра союзника римлян иудейского царя Агриппы не могла быть пленницей римского полководца — она последовала за ним в Рим добровольно и в любой момент могла его покинуть. Однако их связь длилась девять лет — до самой смерти Веспасиана. Тит хотел закрепить ее браком. Но когда стал императором, понял — или ему достаточно ясно дали понять (быть может, еще отец), — что это невозможно. Уступая общественному мнению, Тит расстается со своей подругой вопреки обоюдному желанию. Трагедия любви и гордости...
Вообще, в силу своего уважения к согражданам, император Тит очень считался с общественным мнением. Не только людей знатных, но и рядовых и малоимущих.
Его правления не миновали стихийные бедствия: извержение Везувия, пожар Рима, бушевавший три дня и три ночи, «моровая язва», какой никогда не бывало.
«В таких и стольких несчастиях, — пишет Светоний, — обнаружил он не только заботливость правителя, но и редкую отеческую любовь, то утешая народ эдиктами, то помогая ему в меру своих сил. Для устроения Кампании он выбрал попечителей по жребию из числа консуляров. Безнаследные имущества погибших под Везувием он пожертвовал в помощь пострадавшим городам. При пожаре столицы он воскликнул:
«Все убытки — мои!» — и все убранство своих усадеб отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего завершения работ поручил их нескольким распорядителям из всаднического сословия. Для изгнания заразы и борьбы с болезнью изыскал он все средства, божеские и человеческие, не оставив без пробы никаких жертвоприношений и лекарств». (Там же, 8)
Только в одном вопросе император был строг и нетерпим. Он объявил беспощадную борьбу с доносчиками и их подстрекателями. Тех и других он нередко велел наказывать на форуме плетьми, а самых злостных ссылал на дальние острова.
Правление Тита продолжалось всего два года. О какой-нибудь реформаторской или иной государственной деятельности императора за этот короткий срок ничего не известно. Скорее всего, практика управления империей оставалась такой же, как при Веспасиане. Тит скончался 13 сентября 81-го года на той же вилле, что и отец, от неизвестной скоротечной болезни. Ходили слухи, что его отравил Домициан. Светоний пишет:
«Брат не переставал строить против него козни и почти открыто волновал войска (очевидно, не те, которыми командовал ранее Тит. — Л.О.), замышляя к ним бежать — однако он не казнил его, не сослал и не перестал его жаловать, но по-прежнему, как с первых дней правления, называл его своим соправителем и преемником, и не раз наедине молитвенно и слезно просил его хотя бы отвечать ему любовью на любовь». (Там же, 9)
Когда в Риме стало известно о смерти Тита...
«...весь народ о нем плакал, как о родном, а сенат сбежался к курии, не дожидаясь эдикта (о созыве сената. — Л.О.), и перед закрытыми, а потом и за открытыми дверями воздал умершему такие благодарности и такие хвалы, каких не приносил ему даже при жизни и в его присутствии». (Там же, 11)
Домициан
Даже превосходные явления жизни нередко имеют, увы, свою оборотную сторону. Исключительные достоинства Тита делали переход верховной власти от Веспасиана к его старшему сыну естественным и разумным. Но тем самым восстанавливался династический принцип наследования императорской власти (что, как мы помним, справедливо осудил еще Гальба). В силу этого принципа следующим римским императором сенат должен был провозгласить Домициана, хотя по своим личным качествам младший брат (он родился 24 октября 51-го года) являл собой полную противоположность старшему. Немалую роль в приходе к власти Домициана сыграло и настроение армии. Корпоративный дух римского войска всегда проявлялся в склонности солдат переносить свою преданность любимым полководцам на их детей. Так было с Октавианом, с сыном Германика Калигулой и его внуком Нероном. Так случилось и на этот раз.
В предыдущей главе я упомянул, что Домициан находился на Капитолии, когда легионеры Вителлия осадили там Флавия Сабина. Хотя младшему сыну Веспасиана было уже девятнадцать лет, он во время штурма храмовой ограды не проявил доблести, свойственной его отцу и брату. Поначалу спрятался в каморке сторожа, затем, закутавшись в полотняный плащ, смешался с толпой жрецов Изиды и, никем не узнанный, покинул опасное место. Некоторое время он скрывался у одного из клиентов отца, а после того как сопротивление вителлианцев было подавлено, явился в расположение флавианской армии. Его тут же провозгласили Цезарем (этот титул полагался сыну императора), и солдаты, как были после боя, увешанные оружием, проводили его в дом отца.
Вскоре и сенат одновременно с провозглашением Веспасиана императором и консулом (вместе с Титом) назначил Домициана городским претором с консульскими полномочиями — поскольку обоих консулов не было в Риме. Это, конечно, не означало, что в его руки передавалась реальная власть в городе. Она оставалась за полководцами: сначала Антонием Примом, потом Муцианом. Тем не менее, Домициан перебрался во дворец и получил некоторые полномочия, в частности, право назначения чиновников городской администрации.
Попробуем теперь представить облик девятнадцатилетнего претора. Отрочество и юность его прошли в Риме. Жил он, по-видимому, у дяди, Флавия Сабина. Во всяком случае, мы точно знаем, что с отцом и братом Домициан не виделся с пятнадцати лет, поскольку оба они были в Иудее. Дядя Флавий упорно пробивался к высоким государственным должностям, но был беден. В связи с этим положение племянника в среде римской «золотой молодежи» оказалось незавидным. Самолюбивый и завистливый, он должен был скрывать свои чувства. Гордость его страдала, лицемерие стало второй натурой. Держался уединенно, замкнуто, черты его лица были почти всегда странно неподвижны. Там, где он мог позволить себе расслабиться, проявлялись высокомерие и грубость Домициана. Светоний упоминает, что когда однажды, еще в детстве, верная подруга отца Ценида, возвратившись из какой-то поездки, хотела его, как обычно, поцеловать, он подставил ей руку.
Единственной сферой, в которой будущий император в эти годы мог найти возможность самоутверждения, была сфера интимных отношений с женщинами. С юных лет и до конца дней Домициан отличался исключительным сластолюбием. Имея в виду уже время его правления, Светоний замечает:
«Сладострастием от отличался безмерным. Свои ежедневные соития называл он «постельной борьбой», словно это было упражнение. Говорили, будто он сам выщипывает волосы у своих наложниц и возится с самыми непотребными проститутками». (Светоний. Домициан, 22)
Тот же автор пишет о внешней привлекательности юного Домициана:
«Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы...» (Там же, 18)
Разглядывая фотографию скульптурного портрета молодого Домициана из национального музея в Риме, я не могу согласиться с мнением историка. Припухлые щеки, уродливо искривленная форма ушных раковин и особенно презрительная линия рта с тонкой, запрятанной внутрь нижней губой, с опущенными углами, производят неприятное впечатление.
Первое, чем он воспользовался, оказавшись вдруг на вершине гражданской власти в городе, была возможность перенести направление своих вожделений с общедоступных «жриц любви» на жен римских аристократов. Тацит упоминает о его «постыдных и развратных похождениях» в эти дни. Однако довольно скоро Домициан столкнулся на этом поприще с женщиной, не уступавшей ему по своему любострастию. Ее звали Домиция Лонгина, и она сумела крепко привязать к себе Цезаря. Он отнял ее у мужа, бывшего консула, и женился на ней. Распутство Домиции не знало границ. Когда жена изменила Домициану со знаменитым актером Парисом, он с ней развелся, а любовника убил. Но спустя недолгое время, якобы по требованию народа, вернул во дворец. Больше он ее не отпускал до конца своих дней, чему Домиция вряд ли была рада, поскольку активно участвовала в подготовке его убийства.
В день первого появления в сенате Домициан произнес краткую речь. Он говорил о своей молодости и неопытности, держался скромно и произвел на сенаторов самое благоприятное впечатление. Однако вся его «полезная» деятельность на посту претора свелась к щедрой раздаче должностей в столице и провинциях, так что Веспасиан с присущем ему юмором говаривал в Александрии, что удивительно, как это сын и ему не прислал преемника.
Более всего Домициана, видимо, мучила зависть к военной славе старшего брата. В 70-м году восстание германских племен под руководством вождя Цивилиса приняло весьма опасный поворот. Муциан послал в Галлию войско, поручив командование опытному полководцу Цериалу, а затем решил с дополнительными силами отправиться туда и сам. Домициан напросился идти с ним. Муциан согласился, опасаясь оставлять юного Цезаря в столице без присмотра. Впрочем, до его участия в сражениях дело не дошло. Германцы были разбиты Цериалом, и Муциан убедил Домициана, что участвовать в завершении практически выигранной кампании было бы ниже его достоинства. Он оставил Цезаря в Лугдунуме (Лион), а сам отправился дальше. Таким образом, прославиться на поле боя Домициану не удалось, да и пыл его к этому моменту, наверное, поостыл.
Вскоре в Рим прибыл Веспасиан. Еще перед отъездом императора из Александрии, по свидетельству Тацита...
«...Тит долго говорил с отцом, просил его не верить слухам, порочащим Домициана, и при встрече отнестись к сыну беспристрастно и снисходительно. «Настоящая опора человека, облеченного верховной властью, — говорил Тит, — не легионы и не флоты, а дети, и чем больше их, тем лучше...» (Тацит. История, IV, 52)
По возвращении в столицу Веспасиан все же сделал младшему сыну строгий выговор и посоветовал получше помнить о своем возрасте и положении. Потому в дальнейшем Домициан счел за лучшее притвориться скромником и большим любителем поэзии, которой до того вовсе не интересовался, а после смерти отца тут же забросил. Светоний утверждает, что Домициан вообще был мало образован: не обнаруживал ни знакомства с историей и литературой, ни простой заботы о хорошем слоге (что римляне ценили), очень мало читал, а послания и эдикты императора впоследствии составлял с чужой помощью. Любимыми развлечениями его были игра в кости и стрельба из лука, в чем он достиг большого совершенства. Упражнений с тяжелым оружием Домициан не любил. В походах не только никогда не шел пешком, но редко даже ехал верхом, предпочитая передвигаться на носилках.
Во время своего правления Веспасиан, то ли ради престижа семьи, то ли уступая просьбам Домициана (вероятно, поддержанным Титом), шесть раз назначал младшего сына консулом. Но всегда лишь на несколько недель и никогда — одновременно с собой. Меж тем с Титом император делил консульство восемь раз. Очевидно, что к управлению государством отец Домициана не допускал. Возможно, не считал его пригодным. Да и не видел особой нужды, поскольку бесспорный наследник власти, Тит, был еще достаточно молод.
После смерти Веспасиана Домициан, как нам известно, плетет интриги против брата. Во время смертельной болезни Тита велит всем покинуть его, как мертвого. А когда тот умер, на похоронах не оказывает покойному никаких почестей. Позже у него достанет наглости утверждать, что завещание Веспасиана было подделано, и что на самом деле он назначался сонаследником власти.
Однако для управления огромным государством одной наглости недостаточно. В качестве императора Домициан чувствует себя неуверенно. Естественно, что он начинает свое правление с попытки произвести впечатление доброго принцепса, достойного преемника отца и брата.
«В начале правления, — пишет Светоний, — всякое кровопролитие было ему ненавистно... Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже: напротив, многое показывало, и не раз, его бескорыстие и даже великодушие. Ко всем своим близким относился он с отменной щедростью и горячо просил их только об одном: не быть мелочными. Наследств он не принимал, если у завещателя были дети... Всех, кто числился должниками государственного казначейства дольше пяти лет, он освободил от суда, и возобновлять эти дела дозволил не раньше, чем через год, и с тем условием, чтобы обвинитель, не доказавший обвинения, отправлялся в ссылку... Ложные доносы в пользу казны он пресек, сурово наказав клеветников, — передавали даже его слова: «Правитель, который не наказывает доносчиков, тем самым их поощряет». (Светоний. Домициан, 9)
Одновременно новый принцепс, не жалея сил и государственных средств, добивается популярности в народе и войске. Возобновляет не практиковавшуюся уже более двадцати лет раздачу денег неимущим (за годы своего правления он повторит ее дважды). Во время иных представлений каждый зритель получает корзинку с угощением: сенаторы и всадники — побольше, простолюдины — поменьше. И сам император закусывает вместе с ними. В театре разбрасывают подарки. Сами зрелища устраиваются часто и с небывалым размахом. В цирке, кроме обычных состязаний колесниц, на всем пространстве бегового поля разыгрываются целые сражения, пешие и конные. А в огромном амфитеатре или на специально выкопанном пруду — еще и морские. Травли зверей и гладиаторские бои Домициан устраивает даже ночью, при свете факелов. В них участвуют не только мужчины, но и женщины.
Особое внимание новый император уделяет войску. Начинает по-простому: увеличивает жалованье легионерам на одну треть и преторианцам — на четверть. Благо усилиями рачительного Веспасиана государственная казна основательно пополнилась. Однако для завоевания популярности у солдат нужна еще и военная победа. В 83-м году случается повод для войны. Ранее покоренное римлянами племя хаттов изгоняет своего вождя — ставленника Рима. Карательную экспедицию возглавляет император. Победа дается легко, к Империи присоединяют большой кусок германской земли между Рейном и Дунаем. Домициан празднует в Риме торжественный триумф (утверждение Тацита, что сражения вовсе не было, а добыча и пленные, показанные в триумфе, являли собой инсценировку, современные историки считают не соответствующим действительности).
Почувствовав наконец твердую почву под ногами, он освобождается от опеки сената и начинает активное противоборство с ним. Поначалу это выражается не в преследованиях сенаторов, а в оттеснении всего их сословия от управления государством. По распоряжению принцепса все важные вопросы для окончательного решения передаются императорскому совету, сформированному из всадников. Канцелярии императора расширяют сферу своей деятельности в такой мере, что руководство ими Домициан должен поручить не вольноотпущенникам, как при Августе или Клавдии, а именитым всадникам. Надо отдать ему должное — порядок в государственном управлении он поддерживает твердой рукой. Вот как об этом говорит Светоний:
«Суд он правил усердно и прилежно, часто даже вне очереди, на форуме, с судейского места. Пристрастные приговоры центумвиров (коллегия из 105 судей, разбиравших имущественные споры. — Л.О.) он отменял... судей, уличенных в подкупе, увольнял вместе со всеми советниками... Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее...» (Там же, 8)
Кроме того, Домициан много строил. Он восстановил храм Юпитера, разрушенный в смутное время вителлианцами, храмы и общественные здания, пострадавшие от пожара 8-го года, во время правления Тита. На всех постройках он указывает только свое имя, даже не упоминая прежних строителей. Хотя внушительных военных побед на его счету не было, Домициан счел необходимым увековечить свое имя постройкой в Риме еще одного форума. Обширных свободных площадей в центре города уже не оставалось, и Домициан решил воспользоваться промежутком между форумами Веспасиана и Августа, где проходила улица Аргилет. Здесь он начал строительство довольно нелепого, узкого и длинного форума. Сквозной проход через него сохранился. Поэтому этот форум часто называют «Проходным». Заканчивал строительство преемник Домициана. Так что увековеченным оказалось не имя автора постройки, а императора Нервы. У самого подножия Капитолия, слева от старинного храма Согласия еще Титом было начато строительство небольшого храма Веспасиана. Тит умер, не закончив постройку. Ее завершил Домициан, посвятив храм обоим обожествленным императорам: отцу и брату.
Но главные его усилия были направлены на сооружение великолепного дворцового комплекса на Палатине. Этот комплекс занял площадку размером 200 х 160 метров над Большим цирком, позади невзрачного по сравнению с ним дворца Тиберия. Официальная часть дворца Флавиев, как его теперь называют, занимала правую (если смотреть со стороны форума) часть ансамбля. За портиком обращенного к форуму фасада огромного здания располагались в ряд: просторный (40 х 30 метров), в три этажа высотой, зал приемов или «тронный зал», двухэтажная базилика — там император вершил суд — и святилище (ларарий), где находились боги его дома. За этими помещениями — окруженный портиком обширный двор с бассейном. Позади двора — большой обеденный зал. По бокам его — две овальные «нимфеи» с фонтанами. Еще дальше — императорская библиотека. В левой части дворца располагались многочисленные жилые помещения для императорской семьи, придворных, обслуги и охраны. Еще левее, вплотную к дворцу — окруженный высоким двухэтажным портиком, узкий и длинный то ли стадион, то ли площадка для игр и спектаклей, предназначенных лично для императора. Разумеется, перечисление не воссоздает облик дворца Флавиев, да это теперь и невозможно. Но получить представление о его размерах и великолепии читатель может. Дворцовый комплекс Домициана служил резиденцией всех последующих императоров, пока они оставались в Риме. Именно это имеется в виду, когда жилую часть комплекса называют «домом Августов».
Для усиления своих официально властных полномочий в отношении магистратов всех уровней Домициан в течение пятнадцати лет своего правления одиннадцать раз занимает должность консула, хотя каждый раз и ненадолго. Он строго следит за взиманием налогов, «курирует» внешние сношения Рима. Даже наблюдает за точным исполнением обрядов официальной религии.
Отстранение сената и аристократии от государственной деятельности (и от связанных с ней доходов) вызывает крайнее недовольство сенаторов. Оно выражается в слухах и ходящих по рукам памфлетах, обличающих или высмеивающих императора. Он отвечает на это ссылкой нескольких сенаторов. В 84-м году по настоянию Домициана сенат вынужден присвоить ему пожизненное звание цензора. Тем самым сенаторы и вовсе отдают себя во власть императора. Любой из них может быть исключен из состава «высокого собрания», а затем стать жертвой мстительности принцепса. Домициан расстается с личиной великодушия и обнаруживает крайнюю жестокость. Светоний рассказывает о том, как он убил ученика пантомима Париса, совсем еще мальчика, только за то, что он лицом и искусством напоминал своего учителя. Гермогена Тарсийского Домициан казнил за некоторые намеки, которые он усмотрел в его «Истории», а писцов, которые ее переписывали, велел распять. Некоего отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, то есть императору, Домициан приказал вытащить на арену и отдать на растерзание собакам.
Подтверждение этой чудовищной жестокости по ничтожному поводу мы находим у свидетеля, который еще не фигурировал в числе наших источников. Я имею в виду Плиния младшего, о котором имеет смысл сперва сказать несколько слов. Особая ценность его показаний заключается в том, что он был очевидцем правления Домициана. К моменту безвременной кончины Тита Плинию было уже двадцать лет (Светоний почти на десять лет его моложе). Подробнее о Плинии младшем будет рассказано позже, пока же ограничусь минимальной информацией об осведомленности этого свидетеля. Его юность прошла в доме дяди, Плиния старшего, — друга и советника Веспасиана. К юноше благоволили и Тит, и Домициан. Однако благоволение последнего скорее всего окончилось бы казнью, поскольку донос о вольнодумстве Плиния уже поступил в канцелярию принцепса. Смерть деспота спасла нашего свидетеля. Записей о правлении Домициана он не оставил, но в благодарственной речи, адресованной в 100-м году императору Траяну (по случаю назначения консулом), Плиний для сопоставления не раз упоминает о «деяниях» жестокого правителя. Этими упоминаниями я и воспользуюсь. В частности, по поводу отношения императора к «болельщикам» противной стороны Плиний замечает:
«Безумен был тот и не имел понятия об истинной чести, кто на арене цирка искал виновных в оскорблении величества и думал, что если мы не уважаем его гладиаторов, то мы презираем и оскорбляем его самого, что все, что сказано дурно о них, сказано против него, что этим оскорблены его божественность и воля». (Плиний мл. Панегирик императору Траяну, 33)
Кстати, из этого замечания видно, что Домициан использовал древний закон об оскорблении величества римского народа в том же зловещем, персонифицированном смысле, какой ему придал престарелый Тиберий.
Или вот впечатляющее описание паралича, в который Домицианом были ввергнуты сенат и римская аристократия:
«Ведь мы до сего времени (т.е. спустя пятнадцать лет. — Л.О.) еще не избавились от некоторой косности и от глубоко охватившего нас оцепенения. Страх и боязнь и зародившееся в нас под влиянием опасностей мелочное благоразумие вынуждали нас отвращать наши взоры, наш слух и наши умы от государственных интересов — да и не было тогда никаких ни общественных, ни государственных интересов». (Там же, 66)
Но вернемся к Светонию. Он называет имена нескольких сенаторов, казненных по самым пустяковым поводам. Например, Элия Ламию Домициан казнил за давнюю и безобидную шутку. Когда, тому уже лет шестнадцать назад, юный Цезарь отнял у него жену, Ламия сказал человеку, похвалившему его голос: «Это из-за воздержания!»... Сальвий Кокцеян погиб за то, что отмечал день рождения императора Отона, своего дяди. Меттий Помпузиан — за то, что он будто бы имел императорской гороскоп... Саллюстий Лукулл, легат в Британии, — за то, что копья нового образца позволил называть «лукулловыми» и так далее.
Эти казни нередко обставлялись отвратительным лицемерием. Светоний рассказывает:
«Свирепость его была не только безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже угощеньем со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула, близкого своего друга и соглядатая, он казнил смертью, но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика, его погубившего, сказал: «Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба?»... Нескольких человек, обвиненных в оскорблении величества, он представил на суд сената, объявив, что хочет на этот раз проверить, очень ли его любят сенаторы. Без труда он дождался, чтобы их осудили на казнь по обычаю предков (засекли розгами до смерти. — Л.О.), но затем, устрашенный жестокостью наказания, решил унять негодование такими словами — не лишним будет привести их в точности: «Позвольте мне, отцы сенаторы, во имя вашей любви ко мне попросить у вас милости, добиться которой, я знаю, будет нелегко: пусть дано будет осужденным самим избрать себе смерть, дабы вы могли избавить глаза от страшного зрелища, а люди поняли, что в сенате присутствовал и я». (Светоний. Домициан, 11)
Принцепс, которому в начале правления «всякое кровопролитие было ненавистно» (Светоний), теперь редко упускает случай присутствовать при казни своих жертв. Растоптанный им сенат заискивает перед Домицианом:
«Раньше, — пишет Плиний, — ни одно дело, обсуждавшееся в сенате, не считалось столь низменным и столь ничтожным, чтобы тут же не перейти к прославлению императора, о каких бы деяниях ни пришлось говорить. Совещались ли мы об увеличении числа гладиаторов, или об учреждении цеха ремесленников, сейчас же, словно при этом расширялись пределы нашей империи, постановляли посвятить имени Цезаря какие-нибудь величественные арки или надписи...» (Плиний мл. Панегирик императору Траяну, 54)
И еще:
«...мы видим, — обращается Плиний к Траяну, — всего лишь две-три твои статуи в притворе храма великого и многомилостивого Юпитера, да и те медные. Всего несколько лет тому назад все ступени и вся площадка перед храмом сверкали золотом и серебром и даже были залиты этими металлами, так как статуи богов стояли там в кощунственном сообществе со статуями нечестивого принцепса». (Там же, 52)
Светоний утверждает, что император не только повелевал ставить в свою честь золотые и серебряные статуи, но и сам назначал их вес. Впервые в римской истории он приказал во всех письменных и устных обращениях именовать себя не иначе как «государь наш и Бог».
Золотые статуи, повышение жалованья солдатам, денежные раздачи, бесчисленные зрелища, пиры и грандиозный размах строительства истощили государственную казну. Принцепс ищет дополнительные источники дохода. Налоги, установленные Веспасианом, и так уже предельно высоки. Домициан вынужден довольствоваться тем, что взыскивает их с италиков и провинциалов неукоснительно. Его алчность обращается все на тех же ненавистных аристократов (сам-то он похвастать знатностью рода не может).
«Имущество живых и мертвых, — пишет Светоний, — захватывал он повсюду, с помощью каких угодно обвинений и обвинителей: довольно было заподозрить малейшее слово или дело против императорского величества. Наследства он присваивал самые дальние, если хоть один человек объявлял, будто умерший при нем говорил, что хочет сделать наследником Цезаря». (Светоний. Домициан, 12)
Тацит (он на четыре года старше Плиния) тоже был современником Домициана. К сожалению, заключительная часть его «Истории», посвященная правлению Домициана, до нас не дошла. Однако в одном из его «малых» сочинений имеется фрагмент, из которого видно, что в глазах Тацита Домициан выглядел еще худшим деспотом, чем Нерон, о жестокости которого историк писал с таким отвращением и горечью.
«Нерон, — пишет он, — по крайней мере отводил глаза в сторону, и лишь после этого приказывал творить преступления, и не смотрел, как они совершаются. Но в правление Домициана злейшее из наших мучений заключалось в том, что мы видели его и были у него на виду, что любой наш вздох отмечался и записывался, что для того чтобы указать своим приспешникам на стольких побледневших людей, было достаточно его хорошо известного свирепого взгляда и заливавшей его лицо краски, которою он отгораживался от укоров совести». (Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы, 45)
Репрессии, казни, конфискации имущества множились. Напряжение в отношениях между принцепсом и аристократией росло. И наконец прорвалось восстанием. В 88-м году легату Верхней Германии Луцию Антонину удалось взбунтовать против императора находившиеся под его командой легионы. Однако войска, стоявшие в соседних провинциях, не поддержали восставших. Мятеж был быстро подавлен местными силами. Но император успел испугаться, и с тех пор страх прочно обосновался в его воспаленном мозгу. Волна репрессий взметнулась еще выше и превратилась в кошмар террора. Он усиливался по мере того, как положение государства ухудшалось. Из Британии римлянам пришлось уйти. На Дунае их войска терпели одно поражение за другим. Потеряли два легиона. Дакийские войска вторглись в Мезию. Заключенный в 89-м году мир с царем был позорным. Римлянам пришлось выплачивать компенсацию. Национальное самолюбие страдало. А император в нелепой попытке обмануть сограждан устраивает один за другим два фальшивых триумфа, где переодетые рабы изображали пленных варваров. Это вызывало насмешки римлян. Атмосфера презрения и ненависти сгущалась вокруг дворца.
Страх покушения на его жизнь терзает Домициана. В портиках, где он обычно прогуливается, стены облицевали полупрозрачным мрамором, в котором можно увидеть отражение того, что происходит за спиной. Резиденция императора на Палатинском холме превращена в крепость. Сравнивая с ней открытый для всех дом Траяна, Плиний так пишет о дворце Домициана:
«А ведь еще недавно ужасное чудовище ограждало его от других, внушая величайший страх, когда, запершись, словно в какой-то клетке, оно лизало кровь близких себе людей или бросалось душить и грызть славнейших граждан. Дворец был огражден ужасами и кознями. Одинаковый страх испытывали и допущенные, и отстраненные. К тому же и оно само было устрашающего вида: высокомерие на челе, гнев во взоре, женоподобная слабость в теле, в лице бесстыдство, прикрытое румянцем. Никто не осмеливался подойти к нему, заговорить с ним, так он всегда искал уединения в затаенных местах и никогда не выходил из своего уединения без того, чтобы сейчас же создать вокруг себя пустоту». (Плиний мл. Панегирик императору Траяну 48)
Мне чудится, я вижу:
...Сумрачная громада приемной залы дворца. Бледный свет проникает откуда-то сверху. Вдоль глухих стен два ряда зеленоватых колонн. Тускло поблескивают золоченые капители. К колоннам жмутся кучки придворных, допущенных к утреннему приему. Белые пятна встревоженных лиц. Вопросы вполголоса: «Хорошо ли почивал император?»... «Будет ли он сегодня в сенате?»... «Почему нет Статиллия?»... Ответов никто не ждет. Молчание... Отдаленный глухой звук шагов. Приближается, нарастает... Распахиваются массивные, медные с золотом двери. Появляются вооруженные телохранители императора. Бесцеремонно обходят собравшихся, всматриваются в лица — не внушает ли чей-нибудь вид подозрений? Глазами ощупывают одежду, хотя наружная охрана обыскала каждого: вдруг кто-нибудь из стражей был подкуплен или участвует в заговоре?.. Завершив круг, телохранители выстраиваются живым коридором перед входом, откуда должен появиться император. Спустя несколько долгих мгновений в черноте проема возникает зловещая фигура Домициана. На нем туника до колен с длинными рукавами. Лысина прикрыта венком. Трудно представить, что когда-то это был статный юноша, заслуживший лестный отзыв Светония. Из-под туники торчат тощие ноги. Пояс обрисовывает выпяченный живот. Голова втянута в плечи. Дряблые щеки, лоб изборожден морщинами. Узкая линия рта, почти без губ, с глубокими ямами по углам. Выражение лица надменное, а глаза как у свирепого затравленного зверя... Подозрительным, рыскающим взором он окидывает собравшихся, делает несколько шагов и останавливается на уровне передней пары телохранителей. От колонн медленно, преодолевая страх, подходят придворные. Каждый старается оказаться позади других. Выстраиваются полукругом на почтительном расстоянии от императора. Склоняют головы, в традиционном приветствии вытягивают руки, нестройным хором произносят положенные слова хвалы великому государю и богу... Домициан не отвечает. Медленно переводит пристальный, мертвящий взгляд с одного на другого. Пауза длится... Никто не смеет опустить глаз. Прочитав во всех взглядах страх и покорность, император хрипло произносит: «Благодарю, вы свободны». Круто поворачивается и уходит. За ним — телохранители. Тяжелые двери закрываются. По зале проносится вздох облегчения. Голоса звучат громче, смелее. Оживленной толпой посетители устремляются к выходу...
Но довольно фантазий, вернемся к сухим, надежно документированным фактам. Доносчиков, которых в начале своего правления Домициан объявил подлежащими суровым наказаниям, он теперь поощряет. Сплошь и рядом указания о содержании доносов поступают от самого императора. Рим и вся Италия находятся под неусыпным наблюдением тайных агентов принцепса. В 94-м году казнены сенаторы Сенецион и Рустик, написавшие воспоминания о загубленном Нероном поборнике свободы Тразее Пете и его зяте Гельвидии Приске. Сами воспоминания приказано сжечь на форуме.
«Отдавшие это распоряжение, — замечает Тацит, — разумеется, полагали, что подобный костер заставит умолкнуть римский народ, пресечет вольнолюбивые речи в сенате, задушит самую совесть рода людского. Сверх того, были изгнаны учителя философии и наложен запрет на все прочие возвышенные науки, дабы впредь нигде более не встречалось ничего честного. Мы же явили поистине великий пример терпения. И если былые поколения видели, что представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы — такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом мы бы утратили также самую память, если бы забывать было столько же в нашей власти, как безмолвствовать». (Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы, 2)
Одновременно был казнен сын Гельвидия Приска. К кружку последователей Тразеи Пета принадлежал и Плиний младший. Об этом-то и был написан донос на него. Тогда же Домициан изгнал из Рима евреев и христиан.
Так не могло продолжаться долго. Если тиран не успевает умереть своей смертью, его неизбежно настигает кинжал убийцы. Составился заговор сенаторов из ближайшего окружения Домициана. Непосредственным исполнителем стал доверенный слуга жены принцепса по имени Стефан. Во избежание подозрений он притворился, будто у него болит левая рука и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками. В намеченный день он спрятал под повязками кинжал. Заявив, что намерен раскрыть заговор, он был допущен к императору, и пока тот читал врученную ему записку, поразил его. Рана была не смертельной, но тут в покой ворвались сообщники Стефана и прикончили императора. Это произошло 18 сентября 96-го года. Никаких, не только торжественных, но и просто публичных похорон не было. Тело убитого на дешевых носилках вынесли из дворца могильщики. Кормилица Домициана предала его сожжению в своей усадьбе, а останки тайно принесла в храм рода Флавиев и смешала с пеплом Юлии, дочери Тита, которую тоже выкормила она.
Сенаторы и состоятельные граждане торжествовали. Статуи императора...
«...раззолоченные и бесчисленные, среди ликования народного были низвергнуты и разбиты в качестве искупительной жертвы. Народу доставляло наслаждение втаптывать в землю надменные лики этих статуй, замахиваться на них мечами, разрубать их топорами, словно каждый такой удар вызывал кровь и причинял боль. Никто не мог настолько сдержать порыв своей долго сдерживавшейся радости, чтобы не дать волю своей мести и не крушить эти ненавистные изображения и не бросать затем обезображенные их члены и обломки в огонь...» (Плиний мл. Панегирик императору Траяну 52)
Впрочем, хотя Плиний пишет о народе, известно, что римский плебс смерть Домициана принял равнодушно. Войско же, подкупленное повышением жалованья и все еще чтившее в принцепсе сына Веспасиана, негодовало. Светоний утверждает, что солдаты были готовы немедленно отомстить за него, но у них не нашлось предводителя. Спустя некоторое время им все-таки удалось добиться выдачи убийц императора на расправу.
Если попытаться подвести итог злополучному правлению Домициана, то, наверное, он будет таким: династический принцип наследования императорской власти был вновь дискредитирован. Сенат полностью утратил авторитет и влияние, а возглавляемая всадниками администрация усилилась. Доносительство возродилось. Войска снова вышли из-под контроля центральной власти в Риме.
Глава VII Траян
Уважаемый читатель, далее мы будем двигаться по истории древнего Рима словно путник, что в сумерках покинул хорошо накатанный тракт и перешел на ухабистую проселочную дорогу. До сих пор у нас не было недостатка в свидетельствах древних авторов. Скорее, наоборот. Подвергнуть ли сомнению искренность записок Цезаря, писем Цицерона и Сенеки? Принять интерпретацию Плутарха или Аппиана? Сослаться на Светония или Тацита? Была возможность сопоставлять изложения исторических событий, их трактовок. И вдруг — почти полный провал! Все только что названные историки были современниками первых двух (Светоний — всех четырех) императоров, о которых мне предстоит рассказать. Однако никто о них не написал. Живший двумя веками позже историк Марцеллин описывал интересующую нас эпоху, но посвященные ей начальные главы его обширного труда до нас не дошли. Некоторые весьма краткие сведения об императорах II века от Р.Х. мы находим в сочинениях историков Элия Спартиана и Юлия Капитолина, писавших в III веке, а также у Аврелия Виктора, жившего еще веком позже. Правда, об императоре Траяне имеется еще и весьма обширный материал, оставленный его современником — но не историком. Я имею в виду уже цитированный в предыдущей главе «Панегирик» Плиния младшего. Его обычно цитируют, рассказывая о правлении Траяна. Между тем здесь следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, это благодарственная, хвалебная речь. Плиний вполне искренен, но восторженных эпитетов в его речи куда больше, чем упоминаний о конкретных фактах. Во-вторых, эта речь была произнесена в сенате 1 сентября 100-го года. А Траян стал полновластным императором в конце января 98-го года. Таким образом, лестный отзыв Плиния относится лишь к трем первым годам его правления. Впереди — еще семнадцать. Для описания совсем новой исторической эпохи материала маловато. Между тем происходит поворот воистину необыкновенный. После долгого, жестокого правления Домициана, который восстановил тиранию императоров рода Клавдиев, происходит резкий перелом. Без явного изменения структуры общества и государства наступает «Золотой век» римской истории. Восемьдесят с лишком лет гражданского мира и благосостояния народа. Без казней, конфискаций, доносов и дворцовых интриг. Без смут и междоусобиц. В согласии со всеми четырьмя сменяющими друг друга императорами сенат занимается важными государственными делами. Консулы направляют деятельность магистратов. Римские армии либо побеждают, либо надежно охраняют границы Империи. Следующие за Траяном принцепсы вообще настроены миролюбиво и предпочитают решать внешние проблемы дипломатическим путем. Торговля процветает...
Как понять столь разительную перемену, да еще при такой скудной информации о делах и деятелях этого периода? Далее мы сможем все-таки убедиться в том, что все четыре названных императора, хотя во многом и непохожие друг на друга, были людьми в высшей степени достойными. И нет нужды доказывать, что судьба подданных самодержавного правителя зависит от его личных качеств. Вопрос в другом. Как случилось, что в течение столь долгого времени эти императоры не только удерживали власть (около двадцати лет каждый), но и непосредственно следовали друг за другом? Придется предположить наличие «условий отбора», объективных обстоятельств, стабильно обеспечивавших приход к власти именно таких правителей. Эти условия, очевидно, сложились в результате предыдущего опыта существования римской империи. Попробуем как-то суммировать этот опыт.
К концу века все слои римского общества окончательно расстались с мыслью о возможности реставрации Республики. Имена ее последних поборников, таких как Тразея Пет и Гельвидий Приск, отошли в область преданий. Всем было ясно, что для управления огромной империей необходима сильная, неоспоримая, несменяемая единоличная власть, располагающая послушным и слаженным аппаратом принуждения и контроля. С другой стороны, требование нравственной высоты этой власти, уважения ею свободы и гражданских прав подданных, их личного достоинства отнюдь не сдали в архив. Наоборот, после многих лет тирании оно выступало на первый план. Конечно, я имею в виду не безнадежно развращенную толпу римских люмпенов, а обширный слой мелких и средних землевладельцев, ремесленников, торговцев, армейских офицеров. А также провинциальную и муниципальную аристократию, сенаторов и всадников нового поколения.
В течение столетий военные трофеи и дань покоренных народов оседали в Риме, обогащали и развращали верхушку столичного нобилитета. На остальную Италию и римские колонии в провинциях этот золотой поток не изливался. Там сохранялись уважение к труду, гражданственность, традиционные древнеримские «добродетели» и нравы старины. К концу первого столетия новой эры приток награбленных богатств прекратился. Сынки римских знатных семейств состояния своих отцов порастратили. В результате гражданских войн, преследований и конфискаций, проводимых императорами-тиранами, старинные роды утратили влияние или вовсе пресеклись. Свою высшую администрацию правители предпочитали набирать из неримлян: италиков или римских поселенцев в провинциях. Такие провинциалы (в обоих смыслах этого слова — современном и древнеримском) стали играть ведущую роль в сенате. Его обновление особенно интенсивно происходило во время правления Веспасиана и Домициана.
Обновленный сенат доказал, что он может выиграть противоборство с императором. Домициан был убит. Перед победителями встала проблема передачи власти новому императору. Каким требованиям должен отвечать кандидат на пост главы государства? Какова будет впредь процедура его избрания? Эти вопросы, надо полагать, были предметом обсуждения и споров как среди заговорщиков, так и в правящей элите государства после успеха заговора. Умонастроения новой аристократии и печальный опыт прошлого определили ответы, основные требования и надежды сенаторов.
Единовластие императора не должно исключать участие сената в предварительном обсуждении важнейших проблем государства. Принцепс, как это было изначально, должен быть не диктатором, а главой сената: присутствовать на его заседаниях, добиваться одобрения предлагаемых им мер и решений. Закон об оскорблении величия следует отменить. Жизнь и имущество сенаторов, как и всех законопослушных граждан, не могут быть предметом посягательства со стороны императора и его приближенных. Гарантией этого пусть будет достоинство главы государства, его верность традиции предков и уважение законов. Рабы и вольноотпущенники императора не должны занимать главные посты в администрации. Предлагаемые принцепсом кандидаты в консулы пусть добиваются поддержки у сената. Наследование верховной власти на основании кровного родства следует из практики исключить. Принцепс обязан подбирать себе преемника по его способности к управлению, достоинствам и заслугам. Он может обозначить свой выбор актом усыновления, но лишь после одобрения сената.
Главой государства должен становиться заслуженный полководец, пользующийся (подобно Веспасиану) авторитетом у всего римского войска. Это позволит избежать выдвижения легионами своих претендентов на власть и гражданских войн. Военной профессии надо вернуть ее былой престиж. Высокие командные посты в армии занять опытными, преданными императору и сенату офицерами. Это особенно важно: ведь благодаря расширению сферы римского гражданства большая часть легионеров набирается в провинциях.
Наверное, я перечислил не все требования к желательной кандидатуре нового императора, какие выдвигали сенаторы. Ясно, что подыскать такого кандидата было нелегко. Но ждать нельзя: «Король умер...» Сенаторы принимают мудрое решение. Впредь до подыскания достойного кандидата они назначают как бы «временно исполняющего обязанности» принцепса. Такое обычаем не предусмотрено. А потому 18 сентября 96-го года, в тот же день, как был убит Домициан, сенат провозглашает императором старого и тяжело больного сенатора Кокцея Нерву. Он принадлежит к древнему и славному роду, безобиден и явно не протянет долго. Правда, Нерва человек сугубо штатский, и войско будет недовольно. Значит, нужно поторопиться с отысканием устраивающего всех преемника императорской власти.
Однако слабо торопились. Видимо, никак не могли прийти к соглашению. Да и Нерва поскупился задобрить подарками императорскую гвардию (Плиний не зря его называет «самым бережливым из принцепсов»). Не прошло и года, как в Риме вспыхнул мятеж преторианцев. Солдаты захватили императора в плен. Вероятно, требовали денег или новых льгот. Грозили расправой, какую двадцать лет назад учинили над другим стариком-императором, Гальбой. На этот раз мы не знаем, кто был вдохновителем бунта, но самая основа государства вновь заколебалась. Волнения начались и в легионах. Выход был найден неожиданный и эффективный. Сенаторы ли срочно покончили со своими спорами или самому Нерве пришла в голову спасительная идея... Но неожиданно плененный император заявил, что он усыновляет наместника Верхней Германии, прославленного полководца Марка Ульпия Траяна. И не только назначает его своим преемником, но немедленно (как ныне говорят, со дня опубликования) разделяет с ним верховную власть в государстве. Вскоре после этого поступило известие, что для наведения порядка в Риме Траян намерен привести свое войско. Мятеж немедленно опал, как лопнувший пузырь. Зачинщики были казнены. Обращаясь к Траяну, Плиний в своем Панегирике довольно выспренне говорит об этом критическом моменте Римской истории:
«...Прижалось к груди твоей потрясенное государство, и власть императорская, чуть было не рухнувшая над головою императора, была передана тебе по его же слову. В силу усыновления ты был призван слезными просьбами, как некогда было обыкновение призывать великих вождей с войны против чужеземцев для оказания помощи родине внутри ее. Таким образом и сын, и родитель одновременно оказали друг другу величайшую услугу: он тебе передал власть, а ты восстановил ее для него». (Плиний младший. Панегирик императору Траяну, 6)
Несмотря на отмеченные ранее недостатки, я начинаю цитировать Панегирик Плиния. В нашем распоряжении нет другого сколь-нибудь полного материала, рисующего облик нового императора. По своему объему Панегирик превосходит большинство биографий, составленных античными историками: шестьдесят типографских страниц довольно большого формата. Я постараюсь, опустив все славословия, извлечь из этого текста информацию о степени соответствия первых шагов государственной деятельности Траяна тем ожиданиям, которые предъявляла новая обстановка в Риме. Будем судить о таком соответствии не только по общему описанию взаимоотношений принцепса с сенатом, согражданами и войском, но и по конкретным фактам, в которых эти новые отношения успели проявиться за первые три года его правления. Читатель вправе заметить, что Калигула и Нерон тоже начинали свое владычество совсем иначе, чем оно потом проявилось. Но то были поначалу не уверенные в себе юноши, а Траян — зрелый муж, и власть его с самого начала бесспорна.
Действительно. С точки зрения армии, выбор Нервы был как нельзя более удачным. К моменту усыновления Траяну сорок четыре года. Он прошел весь путь от простого легионера до военного трибуна и далее — до главнокомандующего крупнейшей Рейнской армией. Под началом своего отца, известного полководца, консула, а затем наместника в Сирии, он участвовал в Иудейской войне и в войне с парфянами. В 91-м году Траян младший, в свою очередь, был избран консулом. Затем он отличился, командуя войсками в сражениях с германцами. В 97-м году удостоен почетного титула «Германский». Среди римских полководцев Траян, бесспорно, первый. Для завоевания расположения солдат важно, чтобы полководец и сам был образцовым воином. Новый император вполне отвечает этому условию. Он отличается огромной физической силой и необыкновенной выносливостью. Подобно Юлию Цезарю, в походах Траян всегда идет впереди войска пешком, задавая быстрый темп движению легионов. В упражнениях с оружием он может поспорить с самыми сильными и опытными из своих ВОИНОВ:
«Когда во время военных упражнений, — пишет Плиний, — с пылью и потом солдат смешивался и пот полководца и, отличаясь от других только силой и отвагой, в свободных состязаниях ты то сам метал копья на большое расстояние, то принимал на себя пущенное другими, радуясь мужеству своих солдат, радуясь всякий раз, как в твой шлем или панцирь приходился более сильный удар, ты хвалил наносивших его, подбадривал их, чтобы были смелее, и они еще смелели... А как ты оказывал утешение утомленным, помощь страдающим? Не было у тебя в обычае войти в свою палатку, прежде чем ты не обойдешь палатки твоих соратников, и отойти на покой не после всех остальных». (Там же, 13)
Сочетание такой мужественности с отеческой заботой высоко ценили солдаты. А командиры особенно дорожили доверием и уважением, которое им выказывал полководец:
«Среди небесных светил, — образно замечает в другом месте Плиний, — естественно бывает, что появление более сильных затмевает более мелкие и слабые; так же и прибытие императора к войску затеняет достоинство подчиненных ему командиров. Ты же действительно был выше других, но притом никого не умалял: все командиры сохраняли свое достоинство в твоем присутствии, как и без тебя. Мало того, у многих достоинство еще возрастало, потому что и ты им оказывал уважение. Потому, одинаково дорогой высшим чинами и нижним, ты так совмещал в себе полководца-императора и товарища-соратника, что как требовательный начальник ты вызвал у всех старание и усердие, а как участник в трудах и товарищ поднимал общий дух». (Там же, 19)
Есть у Плиния и прямое указание на то, что Траяну удалось восстановить воинскую дисциплину в лагерях, «преодолев, — как он пишет, — пороки предшествующего поколения: лень, упрямство и нежелание повиноваться».
Итак, взаимоотношения императора с армией наилучшие. Но каковы перспективы его сотрудничества с сенатом? Готов ли он поделиться властью с консулами? Прогнать доносчиков? Уважать старинную свободу и достоинство римлян? Наконец, попросту говоря, что он за человек? Станет ли отцом народа или деспотом, расхитителем имущества государства и сограждан? Поищем ответы на эти вопросы или хотя бы основания для надежд в Панегирике Плиния. Начну с некоторых черт характера и поведения нового правителя. В столицу из Германии Траян прибывает лишь в 99-м году — уже после смерти Нервы. Вот как описывает Плиний его первую встречу с горожанами:
«Ты мог видеть тогда, — напоминает он, — крыши домов, гнущиеся под тяжестью людей, и заполненными даже те места, где стоять можно было лишь непрочно и с опасностью для жизни. Далее — все улицы, переполненные людьми, среди которых оставлен был лишь тесный проход для тебя самого. Ты мог видеть с той и другой стороны ликующие толпы народа...
Приятно было всем, что ты поцелуями приветствовал сенат, так же как с поцелуями был когда-то и сам отпущен... Но еще приятнее было всем, что ты подвигался постепенно и спокойно и лишь настолько, насколько позволяла толпа зрителей, так как народ, собравшийся посмотреть на тебя, особенно теснил тебя, так как в первый же день ты доверил всем свои собственные бока. И не был ты окружен отрядом телохранителей, но обступали тебя со все сторон то сенаторы, то цвет всаднического сословия, смотря по тому, где кого было больше, и сам ты следовал за своими ликторами, продвигавшимися молча и совершенно спокойно...» (Там же, 23)
Здесь уместно дополнить эту картину хотя бы беглым наброском внешности Траяна. Мужественность и физическая мощь императора уже упоминались. Плиний говорит еще о его «статной фигуре, величественной голове и полном достоинства лице». Это не слишком подробное описание. В Капитолийском музее Рима находится скульптурный портрет Траяна. По-видимому, он относится как раз к началу его правления. Заметно вытянутый овал лица, удлиненный, прямой, четко вылепленный нос, плотно сжатые губы над резко очерченным выступом подбородка. На всем печать мужества и достоинства, но не свирепости! Лицо спокойного, уверенного в своей силе воина и государя. Может быть, не слишком склонного к возвышенным, оторванным от земных дел размышлениям. Об этом, пожалуй, говорит довольно низкий лоб, полуприкрытый коротко подстриженной кромкой прямых волос.
Доступность императора-гражданина сохраняется и в повседневной столичной жизни:
«Когда ты проходишь по общественным местам, — говорит Плиний, — каждому предоставляется остановиться или выйти тебе навстречу, сопутствовать тебе или пройти мимо... Всякий, кто подойдет к тебе, стремится подольше побыть с тобой, и конец беседе кладет совестливость каждого, а не твоя гордость. Мы управляемся тобой и подчинены тебе, но так же, как законам. Ведь и они умеряют наши страсти и наслаждения, но находятся постоянно с нами и среди нас. Ты возвышаешься и выдаешься над нами по своему сану, по власти, которая выше людей, но все же свойственная человеку. До тебя принцепсы, пренебрегая нами и как бы боясь равенства, теряли способность пользоваться своими ногами. Их поднимали выше нас плечи и спины рабов, тебя же молва, слава, любовь граждан, доступность твоя поднимают выше самих принцепсов». (Там же, 24)
Согласно свидетельству Плиния, свои трапезы и часы отдыха Траян предпочитает проводить в кругу друзей, за непринужденной беседой. Его отличают здравомыслие, обходительность и жизнерадостность. Он умеет из императора превратиться в друга... «ты именно тогда, — говорит Плиний, — становишься больше всего императором». Не навязывая никому свои взгляды и образ жизни, принцепс своим примером увлекает окружающих его людей:
«...не так уж плохо мы устроены, — продолжает Плиний, — чтобы, умея подражать дурным принцепсам, мы не смогли подражать хорошему. Продолжай только, цезарь, действовать так же, и твои предложения, твои действия приобретут значение и силу постановлений цензуры. Ведь жизнь принцепса — та же цензура, и притом непрерывная: по ней мы равняемся, она нас ведет, и мы не столько нуждаемся в применении власти, сколько в примере. В самом деле, страх — ненадежный учитель правды. Люди лучше научаются примерами, в которых главным образом хорошо то, что они доказывают на деле, что может осуществляться все то, чему они учат». (Там же, 45)
Казалось, в Рим возвратился строгий и мужественный дух Республики. Так и было. Только этот дух, эти республиканские традиции возвратились не из дали времен, а из италийских муниципий и западных провинций, где они сохранялись все эти годы, пока избалованная богатством столица погружалась в трясину восточной лени, роскоши, разврата и интриг Конечно, не все римские аристократы вдруг переменились, но тон стали задавать сенаторы-провинциалы. Во время правления Траяна их было уже больше трети всего состава сената. А главное, впервые за всю историю государства всемогущим правителем Рима, императором стал провинциал.
Марк Ульпий Траян родился 18 сентября 53-го года в небольшом римском городке Италика в Испании. Его предки перебрались сюда с восточного побережья Италии еще во времена Сципионов. И хотя отец нового императора был консулом в Риме, корни семьи оставались в Испании. Кстати, приход к власти в Риме выходца из элитарной провинциальной семьи, сохранившей приверженность древнеримским нравственным нормам, был, очевидно, не случайным. Три следующих императора, о которых речь пойдет далее, были по происхождению тоже провинциалами. Два — из Испании, один — из Галлии. Об этом я скажу позже. А пока вернемся к первым годам правления Траяна. Достаточно похвал общему поведению императора. Поищем в Панегирике Плиния описания конкретных фактов и поступков нового принцепса. Им можно доверять, так как они были адресованы живым свидетелям.
Плиний указывает, что Траяну чуждо тщеславие многих его предшественников, утверждавших свою славу гигантскими размерами или золотом воздвигнутых им статуй.
«В честь твою, — пишет он, — поставлены такие же изображения, какие когда-то назначались частным лицам за выдающиеся заслуги перед государством. Всем видно, что статуи цезаря сделаны из такого же материала, как и статуи Брутов и Камиллов. Да и причины тому не различны. Те герои отражали от стен города царей или побеждавших нас врагов. Ты же не допускаешь и отстраняешь самовластие и все другое, что порождает порабощение, и занимаешь место принцепса, чтобы не освобождать места для тирана». (Там же, 55)
Древний закон об оскорблении величия римского народа не был отменен, но его применение для оправдания расправ, совершаемых императорами и их приспешниками, стало невозможным. Об этом Плиний упоминает вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся:
«И императорская, и государственная казна, — вспоминает он, — обогащались... от исключительных и единственных в своем роде преступлений против величества, и притом приписывавшихся людям, чистым от каких-либо преступлений. Этот страх ты окончательно с нас снял, довольствуясь тем величием, которого никому так не хватало, как тем, которые на него претендовали». (Там же, 42)
Зато автор Панегирика подробно и с наслаждением описывает своеобразную расправу императора над доносчиками, кормившимися до той поры от этого закона. Доносительство — порок вечный, и потому, я полагаю, современного читателя тоже порадует изображенная Плинием картина:
«...ничего, — пишет он, — не было нам столь приятно и столь достойно твоего века, как то, что нам пришлось смотреть сверху вниз на заломленные назад лица доносчиков и шеи их, скрученные веревкой. Мы узнавали их и наслаждались, когда их вели... на медленную казнь и тягчайшие муки. Все они были посажены на быстро собранные корабли и отданы на волю бурь: пусть, мол, уезжают, пусть бегут от земли, опустошенной через их доносы. А если бури и грозы спасут кого-нибудь от скал, пусть поселятся на голых утесах негостеприимного берега, и пусть жизнь их будет сурова и полна страхов, и пусть скорбят об утерянной, дорогой всему человеческому роду безопасности.
Вот достойное памяти зрелище: целая флотилия доносчиков, предоставленная всем ветрам, вынужденная распустить паруса перед бурями и носиться по разъяренным волнам, на какие бы скалы они ее ни несли. Радостно было видеть, как флотилия сейчас же по выходе из гавани оказалась разбросанной по морю и как люди у этого же самого моря воздавали благодарность принцепсу который, не нарушая своего милосердия, предоставил мщение за людей и земли морским божествам». (Там же; 34, 35)
Как я уже упоминал, весьма важным, с точки зрения сенаторов, был вопрос о восстановлении определенной независимости консулов. Даже при «хорошем» Веспасиане эта должность, ранее венчавшая служебную карьеру римских аристократов, была узурпирована императором и его сыновьями. Траян отказался от этой практики. Недавно в Армении была обнаружена сохранившаяся от какого-то сооружения вырезанная на камне надпись. Вот ее текст (цитировано по книге Е. В. Федоровой «Люди императорского Рима». Изд-во Московского Университета, 1990. С. 182.):
«Император Цезарь Нерва Траян, сын божественного Нервы, наилучший Август Германский, Дакийский, Парфянский, наделенный властью народного трибуна в 20-й раз, император в 13-й раз, консул в 6-й раз... Четвертый Скифский легион соорудил».
Кое-что здесь нуждается в пояснении. Имя Цезарь Нерва Траян вместо первоначального Марк Ульпий Траян отражает, в соответствии с древней нормой, факт усыновления Траяна Нервой. Титулы Дакийский и Парфянский относятся к победам в войнах, о которых речь пойдет впереди. Второй из этих титулов позволяет датировать надпись 116-м годом — девятнадцатым, предпоследним годом правления Траяна. То, что он назван императором в 13-й раз, относится к тринадцати военным победам (с двояким смыслом титула император мы уже встречались). Я привел эту надпись, чтобы обратить внимание читателя на следующий примечательный факт. Траян ежегодно избирается народным трибуном (один раз — до усыновления) и лишь шесть раз за все годы правления — консулом (причем три раза в самые первые годы правления). Между тем по два консула избиралось ежегодно. Отсюда ясно, что должность консула была возвращена сенатской аристократии. Император во время своего избрания в консулы не только присутствует в Собрании народа, но подобно простому сенатору подчиняется всему длительному ритуалу комиций. Я позволю себе процитировать соответствующий фрагмент из Панегирика, чтобы читатель мог почувствовать силу впечатления, которое произвела столь необычная скромность принцепса.
«...ты присутствовал, — говорит Плиний, обращаясь к Траяну, — на своих комициях в качестве кандидата не только на консульство, но и как кандидат бессмертной славы, как создавший прецедент, которому хорошие принцепсы будут следовать, а дурные изумляться... ты терпеливо выслушал длинное молебствие комиций — продолжительный момент, не допускающий улыбки, — и сделался консулом, как один из-нас, которых ты назначаешь в консулы. Оказал ли кто-нибудь из предшествующих принцепсов хоть один раз такую честь как консульской власти, так и народу? Ведь одни из них ожидали дома вестников о своем избрании, заспанные или отягощенные еще вчерашним обедом, другие если и бодрствовали в этот момент, но уже замышляли в своих спальнях ссылки и казни против тех самых консулов, которые их избирали на свое место (то есть руководили выборами. — Л.О.)...
Вот уже прошла торжественная часть комиций, если только подумать об участии в них принцепса, и уже вся толпа пришла в движение, как вдруг ты, ко всеобщему удивлению, стал подниматься к креслу консула и позволил потребовать от себя той присяги, которая известна императорам только потому, что они требуют ее от других... Я поражен, сенаторы, недостаточно доверяю своим глазам и ушам и все задаю себе вопрос: действительно ли я все это видел и слышал? Ведь император — цезарь — август и он же великий понтифик стоял перед консулом, а тот сидел перед стоящим перед ним принцепсом, и сидел без смущения и страха, как будто бы давно привык к такому положению. Мало того, он сидя произносил первым слова присяги, а император повторял слова выразительно и ясно и обрекал в них самого себя и весь свой дом на гнев богов, если он сознательно когда-нибудь нарушит свою присягу... То, что я слышу сейчас впервые, о чем теперь только узнаю, это то, что не принцепс выше законов, а закон выше принцепса, и что то же самое, что запрещено нам, запрещено и цезарю, притом еще и консулу Он присягает в этом перед ликами богов, ибо кому же они так внимают, как не цезарю? Он присягает перед лицом тех, которым надлежит принести такую же присягу, прекрасно сознавая, что никому не следует так свято соблюдать присягу, как тому, для кого особенно важно, чтобы присяги не нарушались». (Там же, 63-65)
Нельзя пройти мимо еще одного упомянутого в Панегирике факта. В год жестокого неурожая в Египте по распоряжению императора из Рима в Александрию были отправлены транспорты с зерном.
«Издревле, — не без торжества замечает Плиний, — укоренилось мнение, что столица наша не может прокормиться иначе, как продуктами Египта. Возгордился надменный и ветреный египетский народ: он, мол, кормит народ-победитель, от его, мол, реки, от его кораблей зависят наше изобилие или наша скудость. Но мы вернули Нилу его богатство: он получил обратно хлеб, который когда-то посылал нам». (Там же, 31)
Этот эпизод свидетельствует о том, что в правление Траяна провинции Рима перестают быть только данниками, а постепенно становятся органическими частями римского государства. Забота императора о крестьянах выразилась, в частности, в том, что он распорядился перед началом полевых работ предоставлять им из государственной казны кредит всего под 5% годовых. Причем и эти пять процентов не оставались в казне, а направлялись на воспитание и обучение сирот и детей неимущих родителей — доброе дело, начатое еще Нервой. Впрочем, полезное и с точки зрения подготовки пополнения римского войска.
Заканчивая беглый анализ Панегирика Плиния младшего, я думаю, мы можем согласиться с тем, что он говорит в начале своей благодарственной речи:
«Не будем ни в каком случае воздавать ему хвалы как какому-нибудь богу или кумиру, ибо мы говорим не о тиране, но о гражданине, не о властелине, но об бтце. Ведь он из нашей среды, и ничто его так не отличает и не возвышает, как то, что он сам сознает себя одним из нас и не забывает, что он человек и управляет людьми». (Там же, 2)
Первыми шагами императора сенаторы могли быть довольны. Кстати, он начал свое правление с того, что клятвенно обещал не казнить и не ссылать никого из них.
Лучшего императора сенаторы, видимо, иметь и не желали, а потому в перечень титулов Траяна официально включили слово «Наилучший» (оно фигурирует в приведенной ранее надписи). И все же это было только начало, ведь Панегирик датирован 100-м годом. Что же было дальше? Известно, что сотрудничество императора с сенатом сохранялось в течение всех лет его правления. Сдержал он и свою клятву не казнить и не преследовать неугодных ему сенаторов. Однако это вовсе не означало, что сенат стал независимым от воли принцепса. Траян постоянно контролировал деятельность почтенного собрания. Все важные государственные проблемы предварительно обсуждались, по существу, решались в узком совете приближенных императора. Его обширная и хорошо организованная администрация следила за выполнением этих решений. Ключевые посты в провинциях и армиях занимали люди, назначенные Траяном. Во время длительных военных кампаний, когда императора подолгу не было в Риме, его замещал префект претория, роль которого еще возросла.
Естественно спросить: оставила ли длительная самодержавная власть свой отпечаток на личности Траяна? Изменились ли за двадцать лет его взаимоотношения с сенатом, с друзьями? Сохранились ли благожелательность и доступность принцепса?
Очень краткие сведения о правлении Траяна содержатся в трудах историка IV века от Р.Х. Секста Аврелия Виктора. Эти сведения особенно интересны тем, что, в отличие от Панегирика, они являют собой итоговую оценку жизни и деятельности Траяна (хотя и с дистанции в три века). Поэтому я полагаю уместным привести здесь два небольших фрагмента из сочинений Виктора. В первой части его «Истории Рима», которая называется «О цезарях», мы находим такое своеобразное суждение: «Траян был справедлив, милостив, долготерпелив, весьма верен друзьям: так, он посвятил другу своему Суре (трижды консул, искусный политик и дипломат. Член сенатской группы, которая поддерживала Траяна, а позже Адриана. — Л.О.) постройку — бани, именуемые Суранскими. Он так доверял искренности людей, что, вручая, по обычаю, префекту претория но имени Сабуран знак его власти — кинжал, неоднократно ему напоминал: «Даю тебе это оружие для охраны меня, если я буду действовать правильно, если же нет, то против меня». Ведь тому, кто управляет другими, нельзя допускать в себе даже малейшей ошибки. Мало того, своей выдержкой он смягчал и свойственное ему пристрастие к вину, которым страдал также и Нерва: он не разрешал исполнять приказы, данные после долго затянувшихся пиров». (С.Аврелий Виктор. История Рима. О цезарях. XIII, 8, 9)
В другой части своей «Истории Рима» тот же автор записывает:
«...Так как от каждого хорошего правителя требуются два основных качества: в мирное время — неподкупность, на войне — храбрость, и там, и здесь — мудрость, он достиг такого высокого уровня во всем этом, что, казалось, нашел какое-то равномерное их соединение, если бы только не был слишком предан вину. Он был щедр и приветлив к друзьям, любил их общество, держа себя на равной ноге с ними... Излишним кажется описывать каждое его хорошее качество в отдельности, достаточно сказать, что он был человеком высоких моральных достоинств и чист душой. Он был вынослив в труде, внимателен к каждому деятельному и пригодному для войны человеку, предпочитал больше людей чистосердечных и образованных, хотя сам не обладал обширными знаниями и любил говорить просто». (С.Аврелий Виктор. История Рима. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XIII, 4-8)
Цитированные отрывки позволяют заключить, что в течение своего правления Траян не изменил тем нравственным качествам, которые так восхищали Плиния. Однако читатель не мог не заметить и кое-что новое. В обоих фрагментах Аврелий Виктор считает необходимым упомянуть, что император питал некоторое «пристрастие к вину», а во втором фрагменте — что он был не очень образован, хотя образованность уважал. В свете грандиозных походов и блистательных военных успехов Траяна, о которых речь впереди, складывается впечатление о доблестном, умном и благожелательном, но, быть может, немного простоватом правителе-воине. Такими были многие знаменитые консулы и полководцы республиканской поры. Пожалуй, можно сказать, что в лице Траяна и под его влиянием во всем римском государстве как бы возрождалась суровая и славная воинская традиция ранней Республики. Теперь естественно перейти к рассказу о военных успехах римлян, которыми было отмечено начало II века от Р.Х.
Траян был, бесспорно, неплохим администратором. Но истинной стихией императора была война, а главной заботой — защита границ Империи. Недаром уже после провозглашения правителем он целый год оставался в Германии, занятый укреплением римских оборонительных линий на Рейне. Однако в его планы входила не только защита, но и расширение владений Рима. К тому были весомые основания. Содержание большой армии и задуманная Траяном грандиозная программа строительства в Риме требовали притока новых средств и рабов. Имелся противник, у которого «с полным правом» можно было добыть и то и другое, а заодно отразить угрозу вторжения, которая от него исходила. Таким противником была сильная в военном отношении держава дакийского царя Децебала. Этот царь сумел сплотить разрозненные ранее племена даков, обитавших за Дунаем, на территории нынешней Румынии. Мы помним, что в последней войне с Дакией император Домициан, по существу говоря, потерпел поражение. О даках с негодованием и тревогой упоминает в своем Панегирике Плиний:
«...они возгордились, — пишет он, — сбросили с себя ярмо подчиненности и уже пытались бороться с нами не за свое освобождение, а за порабощение нас, не заключали перемирия иначе как на равных условиях и, вместо того чтобы заимствовать наши законы, навязывали нам свои». (Плиний. Панегирик Траяну, II)
Тревога была тем более обоснованной, что Децебал начал переговоры с Парфией, угрожавшей владениям Рима на Востоке.
Во избежание большой войны на два фронта, Траян начал энергичную подготовку к вторжению в Дакию. Была собрана, оснащена и переброшена к берегам Дуная огромная армия. Военная кампания началась в 101-м году и продолжалась два года.
Она завершилась разгромом даков. Легионы Траяна подошли к столице страны. Децебал капитулировал. Римляне получили колоссальную контрибуцию, дакийское войско было разоружено и распущено, крепости разрушены. Однако после ухода победителей Децебал начал понемногу сколачивать новое войско. Через пару лет дакам удалось, в нарушение договора, восстановить свою былую военную мощь. В 105-м году Траян предпринял второе вторжение в Дакию. Дружины Децебала сражались отчаянно, но устоять против выучки и организации могучих римских легионов не смогли. К тому же на этот раз римляне вели истребительную войну. Методически, по мере своего продвижения, они уничтожали города и поселения. Большая часть жителей была перебита или продана в рабство. В 106-м году пала столица Сармицигетуза, находившаяся примерно в двухстах километрах севернее Дуная. Децебал лишил себя жизни.
Дакия была богата золотыми и серебряными рудниками. Траян вывез в Рим более полутораста тонн золота и вдвое против того — серебра. Плодородную и опустошенную войной землю даков стали энергично осваивать римские колонисты, особенно из числа демобилизованных ветеранов. Строится сеть оборонительных рубежей, на них размещаются постоянные гарнизоны. Новая римская провинция Дакия превращается в форпост обороны северных границ Империи (отодвинутых теперь к реке Прут).
Победу над даками Траян отметил в Риме великолепным, небывалым по своему размаху праздником, который длился четыре месяца. На аренах цирков и амфитеатров за это время сразилось десять тысяч гладиаторов, было убито одиннадцать тысяч диких зверей. Захваченное золото Децебала позволило произвести щедрые раздачи денег населению столицы, преторианцам и армии. Легионеры, участвовавшие в войне, получили по 500 денариев каждый. Началось строительство упомянутых Аврелием Виктором великолепных терм Траяна, нового водопровода и грандиозного форума...
...В самом центре исторической части современного Рима к одной из наиболее оживленных площадей столицы — площади Венеции — белым каменным водопадом спускается воздвигнутый в начале нашего века огромный монумент в честь короля Виктора Эммануила II. Полукольцо площади, куда вливается пять улиц, до отказа заполнено неиссякающим потоком спешащих, сверкающих автомобилей и трескучих, дымных мотоциклов, до которых итальянцы большие охотники.
Чуть поодаль, у самого края площади одиноко и отстраненно от всей этой суеты стоит высокая, массивная колонна из серо-коричневого мрамора. Издали заметно, что поверхность колонны неровная. Подойдя ближе, мы обнаружим, что вся она, от высокого прямоугольного цоколя до венчающей колонну человеческой фигуры, покрыта барельефами. Основание цоколя находится в углублении — на несколько метров ниже уровня бегущей мимо улицы. Это верный признак того, что колонна древняя. Ведь расположенная неподалеку площадка откопанного археологами древнеримского Форума тоже лежит на добрый десяток метров ниже прилегающей части города. Такой слой пыли с гор нанесли на нее ветры за два тысячелетия.
Барельефы колонны необыкновенно отчетливо и реалистично изображают батальные сцены. Обойдя ее кругом, легко заметить, что эти сцены следуют одна за другой, поднимаясь вверх по пологой спирали. Облачение и оружие воинов подтверждают нашу догадку. Это древние римляне, сражающиеся с варварами. Не может быть сомнения: перед нами знаменитая колонна Траяна, воздвигнутая в 106-м году нашей эры в честь победы римлян над даками в двух войнах 101 — 106 годов. На свете нет другого такого вечного памятника военной славы. Подумать только: она стоит почти две тысячи лет! Сколько поколений миновало, сколько событий, войн, революций, как изменился быт! А она все стоит — такая же, как в дни, когда ею впервые восхищались современники победоносного императора. Римские легионеры и свирепые даки на ее барельефах все так же бьются насмерть, не обращая внимания на иную жизнь, кипящую у подножия колонны. Впрочем, одно изменение произошло. Первоначально колонна служила пьедесталом для бронзовой фигуры Траяна, в XVI веке по распоряжению папы Сикста V ее заменили на фигуру Св. Петра.
Высота колонны вместе с цоколем и фигурой наверху — почти 39 метров. Сам барельеф представляет собой обернутую вокруг столба непрерывную ленту шириной в один и длиной в двести метров. На ней располагается более ста сцен, последовательно изображающих важнейшие эпизоды обеих дакийских войн. Переправа через Дунай, строительство укреплений, осада крепостей, сражения в открытом поле — все на основании свидетельств участников, быть может, записок самого Траяна. В эпизодах участвует две с половиной тысячи воинов, не считая лошадей и осадных машин (какая экспозиция амуниции, оружия, военной техники времен римской империи! Какие лица!) Фигуры воинов исключительно динамичны. Изображения ландшафта, поселений, крепостей, естественно, выполнены в ином масштабе, чем люди. Иногда они по своей схематичности напоминают географическую карту или макет. Но непременно какой-нибудь точно вылепленной деталью окружающей природы, строения, крепостной стены скульптору удается создать яркое представление о фоне происходящих событий, дать зрителю почувствовать их размах. После смерти императора золотая урна с его прахом была замурована в цоколе колонны. В средние века — похищена.
Колонна Траяна завершала ансамбль сооруженного им грандиозного форума, который тоже заслуживает краткого описания. Домициан, как мы помним, с трудом втиснул начатый строительством форум на последний остававшийся незанятым плоский участок земли внутри кольца из семи римских холмов. Траян решил эту проблему с присущим ему размахом (и благодаря колоссальным средствам, оказавшимся в его распоряжении). Он приказал срыть прилегавшее к Капитолию крыло Квиринальского холма, чтобы таким образом освободить широкий проход к Марсову полю. В этом проходе и разместился его форум. Надпись на цоколе колонны Траяна сообщает, что ее высота соответствует высоте срытого холма.
Перед посетителем ансамбля Траяна сначала открывалась огромная площадь. Для представления о ее размере скажу, что поперек площади могли бы свободно разместиться одно за другим два футбольных поля вместе с прилегающими к ним беговыми дорожками. В центре площади стояла великолепная, золоченой бронзы конная статуя императора. Вдоль боковых сторон шли просторные, как улица современного города, портики. Задние стены их на середине своей длины отступали полукругом, образуя два больших крытых зала. Пол и колонны портиков и залов — из желтого и красного африканского мрамора. Повсюду, разумеется, скульптуры и барельефы. За полукружием правого портика уступами в виде концентрических полуколец по склону холма поднимался крытый рынок. Остатки его сохранились до наших дней. В пяти этажах рынка размещалось около 150 лавок. Последний их ряд был на уровне верхушки колонны Траяна.
За площадью вытянутая в поперечном направлении на полную стосорокаметровую ширину форума располагалась большая (60 метров в глубину) двухэтажная базилика Ульпия, названная так по имени рода Траяна. По концам ее — полукруглые абсиды. Пол базилики и пять разделенных колоннадами внутренних нефов богато отделаны разноцветным мрамором.
Наконец, еще дальше, за правым и левым крыльями базилики находились относительно небольшие здания двух библиотек, латинской и греческой. В промежутке между ними и была установлена колонна Траяна. С плоских крыш обеих библиотек открывался удобный обзор ее барельефов. Форум Траяна был освящен в 113-м году.
Содержание огромной армии, подарки и празднества для народа, строительство грандиозного форума в Риме, сети дорог и мостов по всей Италии и другие щедрые траты императора позволили за семь лет израсходовать золотой запас Децебала. Траяна это не очень беспокоило. Все эти годы он тщательно готовил осуществление своего главного замысла — покорения Парфии. Оттуда он рассчитывал доставить в Рим несметные богатства и одновременно открыть постоянный источник дохода за счет прямой, без посредников караванной торговли с Индией и Китаем. Осенью 113-го года во главе четырнадцати отборных легионов, не считая вспомогательных войск, Траян начал свой великий поход на Восток. Повод для этого имелся. В 110-м году парфянский царь Хозрой сумел возвести на царский трон в Армении своего ставленника, нарушив тем самым соглашение между Парфией и Римом, заключенное еще Нероном. Поэтому наступление римлян началось с захвата Армении. Затем легионы двинулись на юг. В 115-м году была покорена Северная Месопотамия между верховьями Тигра и Евфрата. В следующем году пали расположенные в месте сближения двух великих рек столица Парфии Ктесифон, города Селевкия и Вавилон. На парфянский престол Траян посадил верного ему человека. Римляне вышли к берегам Персидского залива. Казалось, что великий индийский поход Александра Македонского будет повторен.
Но вскоре выяснилось, что не только двигаться дальше, но даже удержать захваченные земли не удастся. Надежда Траяна на поддержку эллинизированного и греческого населения ряда местных городов не оправдалась. К победителям повсюду относились враждебно. Парфянская армия отступила, сохранив боеспособность. Растянутые коммуникации римлян были уязвимы для ее кавалерии. Положение римского войска оказалось очень опасным. Затем поступили известия о волнениях среди иудейского населения в Египте и на Ближнем Востоке. Пути доставки египетского зерна войску были перерезаны повстанцами. Траяну пришлось принять трудное решение об отводе римской армии обратно за Евфрат.
Волнения в восточных провинциях были подавлены, но это не меняло дела, римляне потерпели одно из самых тяжелых поражений. Стоившая таких усилий и так успешно начавшаяся война окончилась неудачей. У Империи не хватило сил для покорения Парфии. Траян был достаточно опытным правителем и полководцем, чтобы осознать это. И слишком честным и мужественным человеком, чтобы обманывать себя и своих соратников. Горечь такого понимания, видимо, подорвала его душевные и физические силы. На обратном пути в Италию он тяжело заболел. Ему пришлось сойти с корабля на побержье Малой Азии, в Киликии. В городе Селинунте, в доме местного купца, император Траян умер. Это случилось в начале августа 117-го года.
Интерлюдия пятая Письма Плиния Младшего
В двух предшествующих главах широко использовался материал «Панегирика» Траяну — благодарственной речи, которую произнес по поводу своего назначения консулом сенатор Плиний младший. Известно, что, готовя свою речь для публикации, он существенно переработал и расширил ее текст. По существу, Панегирик — это трактат, выражающий определенные идеи автора. Для нас Плиний интересен не столько как сенатор и государственный деятель, сколько как публицист и как личность. Особую ценность представляют опубликованные им 368 писем. Треть из них — деловая переписка с Траяном за те два года, что Плиний был наместником провинции. Остальные — письма к друзьям и близким. Они тоже литературно обработаны. Но это только увеличивает их ценность как документов эпохи, как хорошо продуманного изложения взглядов автора. Нет нужды особо подчеркивать и ценность свидетельств очевидца происходивших в то время событий. Для этой интерлюдии я выбрал отрывки из двадцати семи писем, показавшиеся мне наиболее интересными. Но сначала — несколько кратких сведений об авторе писем.
Гай Плиний Цецилий Секунд родился в 61-м году в небольшом городке Комо на севере Италии. Его отец был там муниципальным советником. Он умер, когда мальчику было девять лет. Нравы в городке, как и в римских провинциях, были чище и строже, чем в столице. Плиний любил свой Комо. Уже занимая высокие посты в Риме, не раз приезжал туда, помогал жителям. Средних школ в городке не было, и мать привезла сына в Рим, к своему брату Плинию старшему — ученому, автору «Естественной истории», советнику и другу императора Веспасиана. В доме дяди царила атмосфера серьезного труда. Плиний старший руководил образованием племянника, полюбил его и усыновил. Вместе с дядей Плиний младший бывал при дворе Флавиев. Веспасиан и Тит благоволили к юноше. Дядя погиб в 79-м году во время извержения Везувия. После года обязательной военной службы в Сирии Плиний занялся адвокатурой. Домициан (при всех его недостатках) умел ценить образованных и дельных людей. Он назначил Плиния квестором, затем претором. Правда, позже, как я упоминал, едва не казнил его за близость к кружку последователей Тразеи Пета. Нерва рекомендовал Плиния младшего Траяну, и тот назначил его префектом эрария — заведующим государственным казначейством. Траян оценил деловые качества Плиния. В 111-м году он назначил его наместником провинции Вифиния, где городское хозяйство и финансы находились в плачевном состоянии. Из Вифинии Плиний не вернулся — через два года он умер.
Итак, представляю на суд читателя (без комментариев) отобранные фрагменты из писем Плиния младшего. Я сгруппировал и расположил их в том порядке, какой подсказывает содержание писем, а не так, как они следуют в десяти книгах писем Плиния.
Пояснения относительно имен адресатов давать не буду (из экономии места). Переводы выполнены М. Е. Сергеенко и А. И. Доватуром.
Из письма Помпею Сатурнину (1, 8):
«...Я собираюсь тебя попросить: удели мне время опять для той речи, которую я держал своим землякам перед открытием библиотеки (построенной на средства Плиния. — Л.О.)...
Колебания мои вызваны не качеством моих писаний, а содержанием их. Тут есть слабый привкус как бы самохвальства и превозношения, и меня при моей скромности это тяготит. Пусть я буду говорить сжато и просто, но все же я вынужден толковать и о щедрости своих родителей, и о своей собственной, а это тема опасная и скользкая...
А затем я помню, насколько выше считать наградой за благородный поступок не молву, а сознание сделанного. Слава должна прийти сама, ее нечего искать, а если случайно она и не придет, то поступок, заслуживший славу, все равно останется прекрасным. Те, кто украшает словами свои благодеяния, совершают их, по-видимому, ради того, чтобы разгласить о них...
Есть еще особая причина, меня удерживающая. Я говорил эту речь не перед народом, а перед декурионами, и не на площади, а в курии. Боюсь оказаться непоследовательным: при моем выступлении я хотел избежать громкого одобрения и согласия толпы; теперь, издавая свою речь, я ищу его. А я ведь не пустил этот самый народ, о котором заботился, на порог курии, чтобы не показалось, будто я перед ним как-то заискиваю; теперь же явно угодничаю даже перед теми, для кого мой дар (подарок городу. — Л.О.) имеет значение только примера».
Письмо VII, 28:
«Плиний Септицию привет.
Ты говоришь, что некоторые в твоем присутствии укоряли меня в том, что я при всяком случае сверх меры восхваляю своих друзей. Признав свою вину, приветствую ее. Что почетнее обвинения в доброжелательстве? Кто, однако, эти люди, которые лучше меня знают моих друзей? Допустим, они знают их лучше: почему они завидуют моему счастливому заблуждению? Пусть друзья мои не таковы, как я всюду о них говорю, но я счастлив тем, что они кажутся мне такими. Пусть поэтому на других перенесут свое мрачное усердие: есть немало людей, которые называют нападки на своих друзей здравым о них суждением. Меня никогда не убедят, что любовь моя к друзьям чрезмерна. Будь здоров».
Письмо I, 15:
«Плиний Септицию Клару привет.
Послушай! обещаешь быть к обеду и не приходишь! В суд — уплати до асса расходы — и немалые! Приготовлены были: по кочанчику салата, по три улитки, по два яйца, пшеничная каша с медовым напитком и снегом (посчитаешь и его в первую очередь, потому что он растаял на блюде), маслины, свекла, горлянка и тысячи других не менее изысканных блюд. Ты услышал бы или сцену из комедии, или чтение, или игру на лире, а пожалуй и все это — вот какой у меня размах! А ты предпочел есть у кого-то устриц, свинину, морского ежа и смотреть на гадитанок (испанские танцовщицы из Гадеса. — Л.О.).
Будешь наказан, как — не скажу! Но поступил ты жестоко, лишив удовольствия — себя ли не знаю, а меня конечно; впрочем, и себя. Как бы мы позабавились, посмеялись, позанимались! Пообедаешь роскошнее у многих, нигде — веселее, спокойнее, непринужденнее. В общем, проверь, и если потом ты не предпочтешь отказывать другим, отказывай всегда мне.
Будь здоров».
Письмо VI, 11:
«Плиний Максиму привет.
Какой радостный день! Я был приглашен в совет префектом города и слушал очень даровитых и многообещающих юношей, Фуска Салинатора и Уммидия Квадрата, выступавших защитниками обеих сторон. Отличная пара, и не только для нашего времени; они будут украшением литературы. Изумительная честность, разумная твердость, пристойный вид, прекрасная латинская речь, мужественный голос, большой талант и такой же здравый смысл свойственны обоим. Каждое из этих качеств доставляло мне удовольствие и, между прочим, то, что они смотрели на меня как на руководителя, как на учителя, и слушателям казалось, что они соревнуются со мной и идут по моим следам... Какой (повторяю) радостный день! Мне надо отметить его белым-белым камешком. Какая радость для общества видеть знатных юношей, ищущих прославить себя работой и занятиями! Чего мне еще хотеть? Идущие прямым путем ставят меня образцом. Молю богов: да радуюсь всегда этой радостью. И у них — ты свидетель — прошу: пусть все, кто так высоко меня ценит, стремятся меня превзойти. Будь здоров».
Письмо VII, 5:
«Плиний Кальпурнии (жене. — Л.О.) привет.
Нельзя поверить, как велика моя тоска по тебе. Причиной этому прежде всего любовь, а затем то, что мы не привыкли быть в разлуке. От этого я большую часть ночей провожу без сна, представляя твой образ. От этого днем, в те часы, когда я обычно видел тебя, сами ноги, как очень верно говорится, несут меня в твой покой. Наконец, унылый, печальный, будто изгнанный, я отхожу от порога. Свободно от этих терзаний только то время, в течение которого я занят на форуме тяжбами друзей. Подумай, какова моя жизнь, ты — мой отдых среди трудов, утешение в несчастье и среди забот. Будь здорова».
Письмо I, 22:
«Плиний Катилию Северу привет.
Давно уже я застрял в городе. И не помню себя от тревоги: мне покоя не дает длительная и упорная болезнь Тития Аристона. Я его особенно люблю и уважаю. Непревзойденная основательность, чистота, образованность. Мне кажется, гибнет не один человек, а в одном человеке — сама литература и все науки. Какой это знаток и частного, и государственного права! Чего только он не знает! Как знакома ему наша старина! Сколько «примеров» он помнит! Нет предмета, который ты пожелал бы изучить и в котором он не оказался бы твоим учителем. Для меня, в моих поисках мне неизвестного, он был сокровищницей. На его слова можно положиться целиком. Говорит он медлительно, сжато, красиво. Он знает все так, что ему не нужно никаких справок, и, однако, в большинстве случаев он колеблется и приходит в сомнение от разницы в доводах, которые остро и разумно перебирает и взвешивает, восходя к самому началу и первым процессам. Как скромен его стол, как непритязательна одежда! Я гляжу на его спальню и кровать и представляю себе старую, простую жизнь. Во всем сквозит высокая душа, которая прислушивается не к гулу похвал, а к голосу собственной совести, которая ищет награды за верный поступок не в людских толках, а в самом поступке. Трудно сравнивать с этим человеком людей, о чьей преданности философии докладывает их вид. Он не посещает усердно гимнасий и портиков, не забавляет себя и других бездельников длинными рассуждениями — он занят делом: многим помогает в суде защитой, еще большему числу — советом. Никто, однако, из тех философов не превзошел его чистотой, верностью долгу, справедливостью, мужеством.
Если бы ты находился при нем, ты удивился бы, с каким терпением переносит он эту свою болезнь, как преодолевает боль, терпит жажду; неподвижный и укрытый, тихо лежит в жестоком жару лихорадки. Недавно он пригласил меня и еще нескольких особенно дорогих ему людей и попросил поговорить с врачами о характере его болезни: если она неизлечима, он уйдет из жизни по своей воле; если она только трудная и затяжная, он будет бороться с ней и жить, уступит мольбам жены, уступит слезам дочери, уступит, наконец, нам, друзьям, и не разобьет добровольной смертью наших надежд (если мы не надеемся впустую). Я считаю такое решение очень трудным и достойным особого одобрения. Многие устремляются к смерти по какому-то безумному порыву; обсуждать и взвешивать основания для нее и по совету разума выбирать между жизнью и смертью может только высокая душа.
Врачи обещают нам счастливый исход. Услышал бы их бог и наконец избавил меня от этого беспокойства! Я бы спокойно уехал к себе под Лаврент (на виллу. — Л.О.) к книгам, дощечкам, на отдых, наполненный трудом. Теперь нет ни времени читать или писать (я сижу около него), ни охоты, тревога мучит...»
Следующее письмо, вернее, то, что я его счел нужным привести, нуждается в пояснении. Оно может показаться длинным и скучным. Но это единственное в своем роде подробное описание сельской усадьбы римского аристократа. Число комнат кажется чересчур большим, но оно не больше, чем в поместьях российских придворных такого же ранга. Читатель может заметить, что Плиний гордится удобством, расположением и освещением комнат, видами из окон, парком, а не роскошью отделки или убранством помещений своей виллы.
Из письма II, 17:
«Плиний Галлу привет.
Ты удивляешься, почему я так люблю мой Лаврентинум (или, если ты предпочитаешь, мой Лаврент). Ты перестанешь удивляться, познакомившись с прелестью виллы, удобством местоположения, широким простором побережья.
Вилла отстоит от Рима в 17 милях, так что, покончив со всеми делами, полностью сохранив распорядок дня, ты можешь там пожить...
На вилле есть все, что нужно; содержание ее обходится недорого. Ты входишь в атрий, скромный, но со вкусом устроенный; за ним в форме буквы «D» идут портики, окружающие маленькую милую площадку: в плохую погоду нет убежища лучше — от нее защищают рамы со слюдой, а еще больше — нависающая крыша. Напротив веселый перистиль, (площадка, окруженная колоннадой. — Л.О.) а за ним красивый триклиний (столовая), выдвинутый вперед к побережью. Когда при юго-западном ветре на море поднимается волнение, то последние волны, разбиваясь, слегка обдают триклиний. У него со всех сторон есть двери и окна такой же величины, как двери: он смотрит как бы на три моря. Оглянувшись, ты через перистиль, портик, площадку, еще через портик и атрий увидишь леса и дальние горы.
Слева от триклиния, несколько отступив назад, находится большая комната, за ней другая, поменьше. Она освещена через одно окно утренним солнцем, через другое — вечерним (вечернее стоит долго). Море от нее дальше, и волны до нее не докатываются. Угол между стеной этой комнаты и стеной триклиния залит полуденным солнцем; нагретые стены еще увеличивают жару. Тут мои домашние разбивают зимний лагерь: тут у них и гимнасий; здесь никогда не чувствуется ветер, и надвинувшимся тучам надо совсем затянуть ясное небо, чтобы они оттуда ушли. К этому углу примыкает комната, закругленная в виде абсиды: солнце, двигаясь, заглядывает во все ее окна. В ее стену вделан, как бывает в библиотеках, шкаф, где находятся книги, которые надо не прочесть, но читать и перечитывать. Спальня рядом — через маленький коридорчик, откуда равномерно в обе стороны поступает здоровое умеренное тепло от нагретого пола и труб. Остальная часть этого крыла предназначена для рабов и отпущенников; большинство комнат так чисто, что там можно принимать гостей.
По другую сторону находится прекрасно отделанная комната, затем то ли большая спальня, то ли средней величины столовая; в ней очень светло и от солнца, и от моря. За ней лежит комната с прихожей, летняя по своей высоте и зимняя по своей недоступности ветру. За стеной (она у них общая) другая комната, тоже с передней.
Потом баня: просторный фригидарий (помещение с прохладным бассейном) с двумя бассейнами, которые, круглясь, словно выступают из противоположных стен. Если принять во внимание, что море рядом, то они даже слишком вместительны. Рядом комната для натирания, гипокауст (отопительная система), рядом — пропнигий (парная). Затем две комнатки, отделанные скорее со вкусом, чем роскошные. Тут же чудесный бассейн с горячей водой, плавая в котором видишь море. Недалеко площадка для игры в мяч, на которой очень жарко даже на склоне дня. Тут поднимается башня с двумя подвальными помещениями и с двумя помещениями в ней самой, а, кроме того, есть и столовая с широким видом на море, на уходящее вдаль побережье и прелестные виллы. Есть и другая башня, а в ней комната, освещаемая солнцем от восхода и до заката. За ней большая кладовая и амбар, а под ним триклиний, куда с разбушевавшегося моря долетает только гул, да и то замирающим отголоском. Он смотрит на сад и аллею, идущую вокруг сада.
Аллея обсажена буксом, а там, где букса нет, розмарином... Этим видом из столовой, далекой от моря, наслаждаешься не меньше, чем видом моря. Сзади нее две комнаты, под окнами которых вход в усадьбу и другой сад, по-деревенски обильный.
Отсюда тянется криптопортик (крытый портик, где пространство между колоннами заделано камнем — Л.О). По величине это почти общественная постройка с окнами по обеим сторонам. В сторону моря их больше, в сторону сада меньше: по одному на два с противоположной. В ясный безветренный день они открыты все; когда с какой-то стороны задует ветер, их можно спокойно держать открытыми с той, где его нет. Перед криптопортиком цветник с благоухающими левкоями...
За цветником, криптопортиком, садом лежат мои любимые помещения, по-настоящему любимые: я сам их устроил. Тут есть солярий. Одной стороной он смотрит на цветник, другой — на море, обеими — на солнце. Двери спальни обращены к криптопортику окно — к морю. Напротив из середины стены выдвинута веранда, с большим вкусом устроенная. Ее можно прибавлять к спальне и отделять от нее: стоит только выставить рамы со слюдой и отдернуть занавеси или же задернуть их и вставить рамы. Тут стоят кровать и два кресла; в ногах море, за спиной виллы, в головах леса: столько видов — из каждого окошка особый. Рядом спальня, где спишь и отдыхаешь. Стоит закрыть окна, и туда не долетают ни голоса рабов, ни ропот моря, ни шум бури. Не видно блеска молний и даже дневного света. Такая полная отключенность объясняется тем, что между спальней и стеной, обращенной к саду, проходит коридор: все звуки поглощены этим пустым пространством. К спальне примыкает крошечный гипокауст, который, смотря по надобности, или пропускает тепло через узкий душник, или сохраняет его у себя. К солнцу обращены спальня с передней. Восходящее солнце сразу же попадает сюда, остается и после полудня. Когда я скрываюсь в этом помещении, мне кажется, что я ушел даже из усадьбы, и очень этому радуюсь, особенно в Сатурналии, когда остальной дом, пользуясь вольностью этих дней, оглашается праздничными криками. Ни я не мешаю моим веселящимся домочадцам, ни они мне в моих занятиях».
Из письма IX, 36:
«Плиний Фуску привет.
Ты спрашиваешь, каким образом я распределяю свой день в этрусском поместье. Просыпаюсь, когда захочу, большей частью около первого часа (зимой — восемь часов утра, летом — пять. — Л.О.), часто раньше, редко позже. Окна остаются закрыты ставнями. Чудесно отделенный безмолвием и мраком от всего, что развлекает, свободный и предоставленный сам себе, я следую не душой за глазами, а глазами за душой: они ведь видят то же, что видит разум, если не видят ничего другого. Я размышляю над тем, над чем работаю, размышляю совершенно как человек, который пишет и исправляет, — меньше или больше, в зависимости от того, трудно или легко сочинять и удерживать в памяти. Затем зову секретаря и, впустив свет, диктую то, что оформил. Он уходит, я вновь вызываю его и вновь отпускаю. Часов в пять-шесть (время точно не размерено) я — как подскажет день — удаляюсь в цветник или криптопортик, обдумываю остальное и диктую. Сажусь в повозку и занимаюсь в ней тем же самым, чем во время прогулки или лежания, освеженный самой переменой. Немного сплю, затем гуляю, потом ясно и выразительно читаю греческую или латинскую речь не столько ради голоса, сколько ради желудка; от этого, впрочем, укрепляется и голос. Вновь гуляю, умащаюсь, упражняюсь, моюсь.
Если я обедаю с женой и немногими другими, то читается книга, после обеда бывает комедия и лирник. Потом я гуляю со своими людьми, среди которых есть и образованные. Разнообразные беседы затягиваются на целый вечер, и самый длинный день скоро кончается.
...Приезжают друзья из соседних городов, часть дня отбирают для себя и порой своевременным вмешательством помогают мне, утомленному. Иногда я охочусь, но не без табличек (имеются в виду вощеные дощечки для записи неожиданных мыслей. — Л.О.), чтобы принести кое-что, если ничего и не поймал. Уделяется время и колонам (арендаторам) (по их мнению, недостаточно): их деревенские жалобы придают в моих глазах цену нашим занятиям и городским трудам. Будь здоров».
Из письма IX, 23:
«Плиний Максиму привет.
Когда я произносил свои речи, часто случалось, что центумвиры, долго державшиеся в рамках судейской важности и серьезности, все внезапно, как бы побежденные и вынужденные, вставали и выражали мне свою похвалу. Часто я уходил из сената, прославленный так, как только мог пожелать, но никогда я не получал большего удовольствия, чем недавно от разговора с Корнелием Тацитом. Он рассказывал, что во время последних цирковых игр рядом с ним сидел какой-то римский всадник. После разнообразной ученой беседы всадник спросил его: «Ты италик или провинциал?» «Ты меня знаешь, — ответил тот, — и притом по моим литературным работам». Тот спросил: «Ты Тацит или Плиний?» Не могу выразить, как мне приятно, что наши имена связывают как собственность не нашу, людскую, а литературную, и что каждый из нас известен по занятиям своим даже тем, кому лично он неизвестен».
Из письма V, 5:
«Плиний Новию Максиму привет.
Меня известили о смерти Г. Фанния: известие это повергло меня в глубокую печаль, во-первых, потому, что я любил этого выдающегося, красноречивого человека, а затем я привык прислушиваться к его суждениям. Был он наблюдателен от природы, от опыта сведущ, правду резал напрямик... Он был завален работой в суде, но находил время писать о последних днях людей, убитых или сосланных Нероном, и уже закончил три книги, основательные, правдивые, по стилю средние между историей и речью. Он тем более хотел закончить остальные, что изданные читали и перечитывали. Мне всегда кажется жестокой и преждевременной смерть тех, кто готовит нечто бессмертное...
Я ухожу мыслями в прошлое, и скорбное сожаление охватывает меня: сколько бессонных часов, сколько труда потратил он даром! И я представляю себе собственную смертность, свои писания. Не сомневаюсь, что и ты от тех же мыслей в страхе за свои незаконченные работы. Постараемся же, пока нам дана жизнь, чтобы смерти досталось как можно меньше того, что она сможет уничтожить. Будь здоров».
Из письма Гемину (IX, 11):
«...Я не думал, что в Лугдуне (ныне Лион. — Л.О.) есть книгопродавцы, и с тем большим удовольствием узнал из твоих писем, что мои книжки распродаются. Я в восторге от того, что одобрение, которое они снискали в Риме, остается за ними и в чужих краях. Я начинаю считать достаточно отделанными те произведения, оценка которых столь одинакова у людей, живущих в столь разных областях. Будь здоров».
Из письма Арриану (VI, 2):
«...Я всякий раз, когда бываю судьей (я чаще судья, чем адвокат), соглашаюсь на испрошенное число Клепсидр (водяные часы), как бы много их ни просили: я считаю опрометчивым гадать об объеме дела, которое не прослушано, и, не зная, как оно велико, ограничивать время для его обсуждения, тем более что первой своей обязанностью судья должен считать терпение, и справедливый суд его требует. — Но ведь говорят лишнее! — Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого. А потом судить о том, что лишнее, ты можешь, только прослушав все...»
Из письма III, 11:
«Плиний Генитору привет.
Наш Артемидор, по природе своей человек очень благожелательный и привыкший превозносить дружескую помощь, о моей услуге распустил слух верный, но только все преувеличил.
Когда философы были изгнаны из города (при Домициане. — Л.О.), я навестил его на его пригородной вилле. Я был претором, мой приезд был приметен и тем более опасен. Он тогда нуждался в деньгах — и больших — для уплаты долга, сделанного из побуждений прекрасных. Под ворчание некоторых моих важных — и богатых — друзей я сам взял взаймы и подарил ему эти деньги. Сделал я это, когда семеро моих друзей были или убиты, или высланы: убиты Сенецион, Рустик, Гельвидий; высланы Маврик, Гратила, Аррия, Фанния — столько молний упало вокруг меня. Словно опаленный ими, я по некоторым верным признакам предугадывал нависшую надо мной гибель. Этим поступком, о котором он трубит, я особой славы не заслужил, я только не вел себя постыдным образом...»
Из письма I, 5:
«Плиний Волонию Роману привет.
Видел ты такого перепуганного и присмиревшего человека, как М. Регул после смерти Домициана? Преступлений при нем совершал он не меньше, чем при Нероне, но не так открыто. Ему стало страшно моего гнева — и не зря: я разгневан... А кроме того, он вспомнил, как приставал ко мне у центумвиров с расчетом меня погубить. Я помогал по просьбе Аррулена Рустика Аррионилле, жене Тимона. Регул выступал против. Я в этом деле частично опирался на мнение Меттия Модеста, человека прекрасного. Он тогда находился в ссылке, был выслан Домицианом. И вот тебе Регул: «Скажи, Секунд, — обращается он ко мне, — что ты думаешь о Модесте?» Ответь я: «хорошо» — гибель; ответь: «плохо» — позор. Могу сказать одно: боги мне помогли. «Я отвечу, если об этом будут судить центумвиры». Он опять: «Я спрашиваю, что ты думаешь о Модесте?». «Свидетелей, — ответил я, — обычно спрашивают о подсудимых, а не об осужденных». Он в третий раз: «Я спрашиваю, что ты думаешь не о Модесте, а об его лояльности?» «Ты спрашиваешь, что я думаю? Я считаю, что не дозволено даже обращаться с вопросом о том, о ком уже принято решение». Он замолчал. Меня хвалили и поздравляли: я не повредил своему доброму имени ответом, хотя бы мне и полезным, но бесчестным, и не угодил в силок, расставленный таким коварным вопросом...»
Из переписки Плиния младшего с Траяном.
X, 23:
«Плиний императору Траяну.
У жителей Прусы, владыка, баня старая и грязная. Они сочли бы благом постройку новой. Мне кажется, ты можешь снизойти к их желанию. Деньги на постройку будут: это, во-первых, суммы, которые я уже начал возвращать и требовать от частных лиц, а затем они сами готовы внести на сооружение бани то, что обычно тратят на масло. Постройки этой требуют и достоинство города, и великолепие твоего времени».
X, 24:
«Траян Плинию.
Если возведение новой бани жителям Прусы по силам, то мы можем снизойти к их желанию, лишь бы для этого не надо было новых обложений и не уменьшились средства на будущие необходимые расходы».
X, 29:
«Плиний императору Траяну.
Семпроний Целиан, юноша всаднического звания, прислал ко мне двух рабов, оказавшихся среди новобранцев. Я отложил наказание им, чтобы у тебя, создателя и укрепителя воинской дисциплины, спросить, как наказать их. Сам я в нерешительности, главным образом потому, что они уже принесли присягу, но не распределены по отрядам. Прошу тебя, владыка, напиши, чему мне следовать, тем более что случай этот должен послужить примером».
X, 30:
«Траян Плинию.
Семпроний Целиан поступил согласно моим распоряжениям, прислав к тебе людей, по поводу которых надлежит расследовать, не заслуживают ли они смертной казни. Важно узнать, предложили они себя в качестве добровольцев, взяты по набору или поставлены в замену кого-то. Если они взяты по набору, то это ошибка тех, кто производил расследование (при наборе выяснялось гражданское состояние новобранцев. Рабы и люди позорных профессий (напр. гладиаторы) в войско не допускались. — Л.О.). Если они явились сами, зная о своем состоянии, наказать следует их. Неважно, что они еще не распределены по отрядам. Тот самый день, когда они были признаны годными для службы, уже требовал правдивого показания о своем происхождении».
X, 41:
«Плиний императору Траяну.
...В области никомедийцев есть очень большое озеро: мрамор, плоды, дрова, строительные материалы дешево и без большого труда доставляют по нему на судах с самой дороги. Оттуда же с большим трудом и еще большими издержками довозят их в телегах до моря... (пропуск в тексте, видимо, предложение о постройке канала. — Л.О.)
Эта работа требует множества рук, но их, конечно, хватит: и в деревнях здесь много людей, и в городе еще больше. Можно твердо надеяться, что все очень охотно приступят к делу, выгодному для всех. Остается тебе прислать, если ты согласен, нивелировщика или архитектора, который бы тщательно исследовал, выше ли это озеро, чем море. Здешние знатоки утверждают, что оно выше на сорок локтей. Я в этих самых местах нашел канал, вырытый еще царем, неизвестно только, для стока ли влаги с окружающих полей или для соединения озера с рекой. Он недокончен, потому ли, что царя застигла смерть, или же потому, что он отчаялся в успехах работы. И я горячо желаю (ты скажешь, что я озабочен твоей славой), чтобы ты довел до конца то, что только начали цари».
X, 42:
«Траян Плинию.
Озеро это может соблазнить нас, и мы захотим соединить его с морем. Надо только тщательно исследовать, не стечет ли оно целиком, если устроить спуск к морю: надо установить, сколько воды оно получает и откуда. Ты можешь попросить нивелировщика у Кальпурния Макра, и я пришлю тебе кого-нибудь, опытного в этом деле».
X, 120:
«Плиний императору Траяну.
До этого времени, владыка, я никому не давал пропусков на проезд и посылал с ними только по служебным делам (пропуск давал право пользоваться подставами императорской почты. — Л.О.). Это неизменное мое правило я вынужден был нарушить. Я счел жестокостью отказать в пропуске моей жене, когда, услышав о смерти деда, она пожелала уехать к своей тетке: услуга эта обеспечивала ей быструю езду, и я знал, что ты одобришь путешествие, предпринятое по велению родственной любви.
Я пишу тебе об этом, потому что, мне кажется, я буду неблагодарным, если утаю среди прочих твоих благодеяний это единственное, которым обязан твоей снисходительности. Надеясь на нее, я, словно с твоего разрешения, не усомнился сделать то, с чем бы я запоздал, если бы спрашивал твоего решения».
X, 121:
«Траян Плинию.
Ты не без основания понадеялся на меня, дорогой Секунд: нечего было сомневаться в моем ответе, если бы ты ждал моего решения. Жене твоей, конечно, надлежало облегчить путь пропусками, которые я дал тебе для служебного пользования, так как ей следовало усугубить радость, которую приезд ее должен был доставить ее тетке, быстротой своего прибытия».
Извержение Везувия (24 августа 79-го года)
Письмо VI, 16:
«Плиний Тациту привет.
Ты просишь описать тебе гибель моего дяди. Хочешь точнее передать о нем будущим поколениям. Благодарю. Я знаю, что смерть его будет навеки прославлена, если ты расскажешь о ней людям. Он, правда, умер во время катастрофы, уничтожившей прекрасный край с городами и населением их, и это памятное событие сохранит навсегда и его имя. Я считаю счастливыми людей, которым боги дали или свершить подвиги, достойные записи, или написать книги, достойные чтения. Самыми же счастливыми — тех, кому даровано и то, и другое. В числе их будет и мой дядя — благодаря своим книгами и твоим. Тем охотнее берусь я за твое поручение и даже прошу дать его мне.
Дядя был в Мизене (мыс в 85 км от Везувия — база военного флота) и лично командовал флотом. В девятый день до сентябрьских календ, часов около семи (2 часа дня. — Л.О.) мать моя показывает ему на облако, необычное по величине и по виду. Дядя уже погрелся на солнце, облился холодной водой, закусил и лежа занимался. Он требует сандалии и поднимается на такое место, откуда лучше всего можно было разглядеть это удивительное явление. Облако (глядевшие издали не могли определить, над какой горой оно возникло; что это был Везувий, признали позже) по форме своей больше всего походило на пинию: вверх поднимался как бы высокий ствол и от него во все стороны расходились как бы ветви. Я думаю, что его выбросило током воздуха, но потом ток ослабел, и облако от собственной тяжести стало расходиться в ширину. Местами оно было яркого белого цвета, местами в грязных пятнах, словно от земли и пепла, поднятых кверху. Явление это показалось дяде, человеку ученому, значительным и заслуживающим ближайшего ознакомления. Он велит приготовить либурнику (легкое, быстроходное судно. — Л.О.) и предлагает мне, если хочу, ехать вместе с ним. Я ответил, что предпочитаю заниматься. Он сам еще раньше дал мне тему для сочинения. Дядя собирался выйти из дому, когда получил письмо от Ректины, жены Тасция: перепуганная нависшей опасностью (вилла ее лежала под горой, и спастись можно было только морем), она просила дядю вывести ее из этого ужасного положения. Он изменил свой план, и то, что предпринял ученый, закончил человек великой души. Он велел вывести квадриремы (большие суда с четырьмя рядами гребцов. — Л.О.) и сам поднялся на корабль, собираясь подать помощь не только Ректине, но и многим другим (это прекрасное побережье было очень заселено). Он спешит туда, откуда другие бегут, держит прямой путь, стремится прямо в опасность и до того свободен от страха, что, уловив любое изменение в очертаниях этого страшного явления, велит отметить и записать его.
На суда уже падал пепел, и чем ближе они подъезжали, тем горячее и гуще. Уже куски пемзы и черные, обожженные обломки камней, уже внезапно отмель и берег, доступ к которому прегражден обвалом. Немного поколебавшись, не повернуть ли назад, как уговаривал кормщик, он говорит ему «Смелым в подмогу судьба, правь к Помпониану». Тот находился в Стабиях (15 км до вулкана. — Л.О.), на противоположном берегу (море вдается в землю, образуя постепенно закругляющуюся, искривленную линию берега). Опасность, еще не близкая была очевидна и при возрастании оказалась бы рядом. Помпониан погрузил на суда свои вещи, уверенный, что отплывет, если стихнет противный ветер. Дядя прибыл с ним: для него он был благоприятнейшим. Он обнимает струсившего, утешает его, уговаривает. Желая ослабить его страх своим спокойствием, велит отнести себя в баню. Вымывшись, располагается на ложе и обедает — весело или притворяясь веселым — это одинаково высоко.
Тем временем во многих местах из Везувия широко разлился, взметываясь кверху, огонь, особенно яркий в ночной темноте. Дядя твердил, стараясь успокоить перепуганных людей, что селяне впопыхах забыли погасить огонь и в покинутых усадьбах занялся пожар. Затем он отправился на покой и заснул самым настоящим сном: дыхание у него, человека крупного, вырывалось с тяжелым храпом, и люди, проходившие мимо его комнаты, его храп слышали. Площадка, с которой входили во флигель, была уже так засыпана пеплом и кусками пемзы, что человеку, задержавшемуся в спальне, выйти было бы невозможно. Дядю разбудили, и он присоединился к Помпониану и остальным, уже давно бодрствовавшим. Все советовались, оставаться ли в помещении или выйти на открытое место: от частых и сильных толчков здания шатались. Их словно сдвинуло с мест, и они шли туда-сюда и возвращались обратно. Под открытым же небом было страшно от падавших кусков пемзы, хотя легких и пористых. Выбрали все-таки последнее, сравнив одну и другую опасность. У дяди один разумный довод возобладал над другим, у остальных — один страх над другим страхом. В защиту от падающих камней кладут на головы подушки и привязывают их полотенцами. По другим местам — день (следующий после начала извержения. — Л.О.), здесь — ночь чернее и плотнее всех ночей, хотя темноту и разгоняли многочисленные факелы и разные огни. Решили выйти на берег и посмотреть вблизи, можно ли выйти в море: оно было по-прежнему бурным и враждебным. Дядя лег на подостланный парус, попросил раз-другой холодной воды и глотнул ее. Огонь и запах серы, возвещавший о приближении огня, обращают других в бегство, а его поднимают на ноги. Он встал, опираясь на двух рабов, и тут же упал, думаю, потому, что от густых испарений ему перехватило дыхание и закрыло дыхательное горло: оно у него от природы было слабым, узким и часто побаливало (современные исследователи полагают, что он страдал астмой. — Л.О.). Когда вернулся дневной свет (на третий день после того, который он видел в последний раз), тело его нашли в полной сохранности, одетым как он был; походил он скорее на спящего, чем на умершего».
Письмо VI, 20:
«Плиний Тациту привет.
Ты говоришь, что после письма о смерти моего дяди, которое я написал по твоей просьбе, тебе очень захотелось узнать, какие же страхи и бедствия претерпел я, оставшись в Мизене...
После отъезда дяди я провел остальное время в занятиях (для чего и остался). Потом была баня, обед, сон, тревожный и краткий. Уже много дней ощущалось землетрясение, не очень страшное и для Кампании привычное, но в эту ночь оно настолько усилилось, что все, казалось, не только движется, но становится вверх дном. Мать кинулась в мою спальню, я уже вставал, собираясь разбудить ее, если она почивает. Мы сели на площадке у дома: небольшое пространство лежало между постройками и морем. Не знаю, назвать ли это твердостью духа или неразумием (мне шел восемнадцатый год). Я требую Тита Ливия, спокойно принимаюсь за чтение и продолжаю делать выписки. Вдруг появляется дядин знакомый, приехавший к нему из Испании. Увидав, что мы с матерью сидим, а я даже читаю, он напал на мать за ее хладнокровие, а на меня за беспечность. Я продолжал усердно читать.
Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясет. На открытой узкой площадке очень страшно. Вот-вот они рухнут. Решено наконец уходить из города. За нами идет толпа людей, потерявших голову и предпочитающих чужое решение своему. С перепугу это кажется разумным. Нас давят и толкают в этом скопище уходящих. Выйдя за город, мы останавливаемся. Сколько удивительного и сколько страшного мы пережили! Повозки, которым было приказано нас сопровождать, на совершенно ровном месте кидало в разные стороны. Несмотря на подложенные камни, они не могли устоять на одном и том же месте. Мы видели, как море отходит назад. Земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперед. Много морских животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги. Она разверзалась широкими полыхающими полосами, похожими на молнии, но большими.
Тогда тот же испанский знакомец обращается к нам с речью настоятельной: «Если твой брат и твой дядя жив, он хочет, чтобы вы спаслись; если он погиб, он хотел, чтобы вы уцелели. Почему вы медлите и не убегаете?» Мы ответили, что не допустим и мысли о своем спасении, не зная, жив ли дядя. Не медля больше, он кидается вперед, стремясь убежать от опасности.
Вскоре эта туча опускается к земле и накрывает море. Она опоясала и скрыла Капри, унесла из виду Мизенский мыс. Тогда мать просит, уговаривает, приказывает, чтобы я убежал; для юноши это возможно. Она, отягощенная годами и болезнями, спокойно умрет, зная, что не была причиной моей смерти. Я ответил, что спасусь только вместе с ней. Беру ее под руку и заставляю прибавить шагу. Она повинуется неохотно и упрекает себя за то, что задерживает меня.
Падает пепел, еще редкий. Я оглядываюсь назад: густой черный туман, потоком расстилающийся по земле, настигал нас. «Свернем в сторону, — говорю я, — пока видно, чтобы нас, если мы упадем на дороге, не раздавила идущая сзади толпа». Мы не успели оглянуться — вокруг наступила ночь, не похожая на безлунную или облачную: так темно бывает только в запертом помещении при потушенных огнях. Слышны были женские вопли, детский писк и крик мужчин. Одни окликали родителей, другие — детей или жен и старались узнать их по голосам. Одни оплакивали свою гибель, другие — гибель близких. Некоторые в страхе перед смертью молили о смерти. Многие воздевали руки к богам. Большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь. Были люди, которые добавляли к действительной опасности вымышленные, мнимые ужасы. Говорили, что в Мизене то-то рухнуло, то-то горит. Это была неправда, но вестям верили. Немного посветлело, но это был не рассвет, а отблеск приближавшегося огня. Огонь остановился вдали. Опять темнота, опять пепел, густой и тяжелый. Мы все время вставали и стряхивали его. Иначе нас засыпало бы и раздавило под его тяжестью. Могу похвалиться: среди такой опасности у меня не вырвалось ни одного стона, ни одного жалкого слова. Я только думал, что я гибну вместе со всеми и все со мной, бедным, гибнет: великое утешение в смертной участи.
Туман стал рассеиваться, расходясь как бы дымным облаком. Наступил настоящий день и даже блеснуло солнце. Но такое бледное, какое бывает при затмении. Глазам все еще дрожавших людей все предстало в измененном виде. Все, словно снегом, было засыпано толстым слоем пепла. Вернувшись в Мизен и кое-как приведя себя в порядок, мы провели тревожную ночь, колеблясь между страхом и надеждой. Осилил страх: землетрясение продолжалось, множество людей, обезумев от страха, изрекали страшные предсказания, забавляясь своими и чужими бедствиями. Но и тогда, после пережитых опасностей и в ожидании новых, нам и в голову не приходило уехать, пока не будет известий о дяде.
Рассказ этот недостоин истории, и ты не занесешь его на ее страницы. Если же он недостоин и письма, то пеняй на себя: ты его требовал. Будь здоров».
Глава VIII Адриан
Предыдущая глава заканчивалась сообщением о смерти императора Траяна. Краткость этого сообщения могла вызвать недоумение читателя. Сейчас оно разъяснится. Дело в том, что некоторые не совсем ясные обстоятельства, связанные с кончиной императора, имели важное значение для начала правления его преемника. Поэтому я перенес рассказ о них сюда, в начало новой главы. Внимательный читатель, наверное, заметил, что во всем жизнеописании Траяна нет даже упоминания о его возможном наследнике. Детей у императора не было. Никаких сведений об усыновлении или хотя бы возвышении кого-либо из приближенных в тексте предыдущей главы нет. И не случайно: до самого дня смерти Траян не назвал имени своего избранника. А между тем, казалось бы, вероятная кандидатура для этого была. Сорокалетний наместник Сирии Элий Адриан, уроженец того же, что Траян, испанского городка Италика, муж его внучатой племянницы, имел все основания надеяться стать преемником верховной власти в Риме. Помимо родства, он уже успел проявить себя наилучшим образом как полководец, консул и наместник провинций: сначала Паннонии, затем Сирии. Отношения Адриана с императором тоже, казалось бы, давали все основания для надежды. Еще одиннадцать лет назад, после взятия столицы дакийского царя Децебала, Траян вручил отличившемуся при штурме крепости Адриану перстень, полученный от Нервы. Это всеми было воспринято как залог будущего усыновления. Наконец, жена императора, Плотина, имевшая немалое влияние на Траяна, энергично поддерживала кандидатуру Адриана. Она сопровождала мужа в Парфянском походе. На ее глазах с императором случился первый приступ паралича. Это, наверное, заставило ее напомнить Траяну, что наследник все еще не назначен. Заболевший император возвращался из неудачного похода в Италию через Антиохию. Там он встретился с Адрианом, но ничего не сказал об усыновлении, хотя и назначил его вместо себя главнокомандующим остававшегося на Востоке войска.
Хронология дальнейших событий выглядит так. Через десять дней после отплытия императорской четы Адриан получил от Плотины тайное известие о смерти Траяна. Она также уведомляла, что император перед своей кончиной усыновил Адриана и что сообщение об этом с надежным человеком послано в Рим. Императрица обещала в течение двух-трех дней сохранить в тайне смерть мужа для того, чтобы Адриан смог подготовиться к возможным неожиданностям. Таковые, очевидно, могли последовать из-за того, что усыновление не было официально объявлено императором и утверждено сенатом. Получив это известие, Адриан поспешно отплыл в Селинунт, чтобы проститься с покойным и присутствовать при сожжении его тела. После чего Плотина с небольшой свитой повезла урну с прахом Траяна морем в Италию, а Адриан возвратился в Сирию. О смерти императора и усыновлении было объявлено во всеуслышание. Войско единодушно приветствовало Адриана в качестве императора. Однако сенат в Риме принял эти известия далеко не так однозначно. Многие сенаторы сомневались в подлинности усыновления. Вот что записал в кратком жизнеописании Адриана живший в III веке историк Элий Спартиан:
«Было распространено мнение, что Траян имел намерение оставить своим преемником Нератия Приска, а не Адриана... Многие даже говорят, что у Траяна было намерение, по примеру Александра Македонского, умереть, не назначая себе преемника. Многие сообщают, что он хотел послать обращение в сенат с просьбой в случае, если с ним самим что-либо случится, дать государя Римскому государству, добавив только ряд имен, чтобы тот же сенат выбрал из них лучшего. Имеется сообщение о том, что Адриан был признан усыновленным уже после смерти Траяна, благодаря интригам Плотины, причем вместо Траяна слабым голосом говорило подставное лицо». (Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана. IV, 8)
Так как же на самом деле совершилось усыновление? Похоже, что это осталось тайной и для самого Адриана. Пять человек присутствовали при кончине императора: его советник и бывший опекун Адриана Аттиан, жена Плотина, племянница Матидия, врач Критон и ординарец императора Федим. Первые четверо были горячими сторонниками Адриана, последний — его ярым ненавистником. По странному стечению обстоятельств он умер от лихорадки (?!) на следующий день после смерти Траяна. Никто не рассказал Адриану подробностей кончины императора и обстоятельств записи его последней воли. Сам Адриан был достаточно умен, чтобы не расспрашивать. Ни тогда, ни после. Он понимал, что в интересах спокойствия в государстве Плотина и остальные могли пойти на сговор и подлог, но предпочитал об этом не знать. Никто из четверых не проговорился и потом.
«В письме сенату, — пишет тот же автор об Адриане, — он просил извинения за то, что не дал сенату высказать суждение по поводу перехода к нему императорской власти — именно потому, что спешно был провозглашен воинами, так как государство не могло оставаться без императора». (Там же VI, 2)
В этом извинении звучит недвусмысленный намек на то, что императором Адриана утвердило парфянское войско (в котором находилось более половины всех солдат Империи) и потому сенату следует благоразумно подтвердить его решение. Что и было сделано незамедлительно, вопреки всем сомнениям. Но отчего же все-таки Траян сопротивлялся уговорам Плотины и Аттиана, почему загодя не усыновил Адриана? Чтобы ответить на этот вопрос, надо проследить всю историю взаимоотношений императора с его будущим преемником. А значит, начать биографию Адриана с самого начала. Так и поступим.
Публий Элий Адриан родился 24 января 76-го года. Род Элиев перебрался из итальянского городка Адрия на побережье Адриатического моря в Испанию за четыре века до рождения Публия. Он обосновался в том же городе Италика, что и род Траяна. Все, что было ранее сказано о сохранении республиканских традиций в римских провинциальных городах, относится и к роду Элиев. О достоинстве и честности отца Публия — члена муниципалитета Италики (и двоюродного брата Траяна) — говорит такой факт. Хотя состояние семьи было довольно скромным, он, будучи одно время наместником в Африке, отнюдь не разбогател там. Заметим, что в среде римских поселенцев Испании богатство шло рука об руку с экономией, а почти сельский образ жизни сочетался с высокомерной и мрачноватой важностью. Эллинизм в тех краях был почти неведом. Отец Публия умер, когда мальчику было девять лет. Его опекуном стал дальний родственник, римский всадник Ацилий Аттиан. Первоначальное образование Адриан получил в Риме. По этому поводу попробуем вкратце рассказать о римской системе обучения детей.
В императорскую эпоху образование было частным и платным. В начальную ступень — просто школу (schola) — поступали в семь лет. За небольшую плату, доступную широким слоям населения, мальчики и девочки (совместно) в течение четырех-пяти лет учились читать, писать, постигали начала арифметики. Еще заучивали наизусть стихи — чаще всего из Вергилия. Специальных помещений не было. Занимались где-нибудь на площади, в городском саду или в уголке портика. В богатых семьях дети получали начальное образование дома. Средняя ступень — школа грамматика. За довольно высокую плату грамматик обучал детей основам римского права, математике, началам астрономии и философии. В программу входило также знакомство с латинской литературой и изучение греческого языка с элементами греческой литературы. На это уходило еще четыре года. Занятия проводились с небольшими группами, где преподаватель мог уделять внимание каждому ученику. Высшая ступень обучения — школа ритора — предполагала весьма насыщенную программу Кроме углубленного изучения пяти предметов предыдущей ступени, вводилось еще два, очень важных с точки зрения античной педагогики: ораторское искусство и музыка. Занятия в школе ритора стоили очень дорого и носили характер индивидуального обучения. Широко практиковались диспуты учащихся на заранее заданную преподавателем тему — иногда публичные. Риторскую школу оканчивали в 19-20 лет. Ее выпускники должны были быть хорошо подготовлены для государственной службы или адвокатуры. Поэтому центральная и муниципальные власти держали эти школы под своим надзором. Риторы получали от государства весьма высокое жалованье. Для завершения образования молодые аристократы отправлялись на год-два в один из знаменитых культурных центров Империи: в Афины, Антиохию, Александрию или на Родос.
Адриан сумел завершить программу школьного обучения в ускоренном темпе. В 16 лет он уже отправляется в Афины, где занимается под руководством известного софиста Изея. Исключительно одаренный юноша отличался жадной любознательностью и феноменальной памятью. Следующее свидетельство Спартиана относится уже к императору Адриану, но память — это божий дар, который проявляется в самом раннем возрасте. «Очень многих людей, — пишет историк, — он называл по имени без помощи номенклатора, хотя слышал их имена только один раз, притом вместе со многими другими. Очень часто он даже поправлял номенклаторов, когда те ошибались. Он называл и имена ветеранов, которых давно уже отпустил в отставку. Книги, бегло им прочитанные и неизвестные большинству, он цитировал на память... Всю государственную отчетность он знал так, как ни один отец семейства, как бы старателен он ни был, не знает своих домашних расходов». (Там же, XX, 12)
Кроме того, Адриан оказался необыкновенно восприимчив ко всем наукам и искусствам. Историк IV века Аврелий Виктор так описывает разнообразные таланты Адриана:
«Он отлично знал греческую литературу, и многие называли его Греком. Он воспринял от афинян их наклонности и нравы и не только овладел их языком, но и приобщился к их излюбленным занятиям: пению, танцам, медицине, был музыкантом, геометром, художником, ваятелем из меди и мрамора наравне с Поликлетом и Евфранором. К тому же он был и остроумен, так что редко можно было видеть среди людей столь образованного и изящного человека». (Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XIV, 2)
Высочайшая культура древней Греции и современная Адриану стадия ее развития — эллинизм — очаровали юношу. Он влюбился в Афины и эту любовь сохранил до конца своих дней. Выдающемуся таланту нередко сопутствует честолюбие. Адриан был весьма честолюбив, хотя в ту пору ему и присниться не могло, какой простор для его необычайных способностей откроет будущее.
Через три года он возвращается в Рим и получает скромное назначение одним из судей в трибунале, который разрешает споры о наследстве. В его латинской речи сохранился провинциальный акцент, что вызывает смех во время выступлений в суде. Адриан упорно работает над своим произношением, берет уроки у актеров, заводит с ними дружбу. Строгая испанская родня немало скандализирована этим обстоятельством. Впрочем, как и всем поведением Адриана в Риме. Молодой судья жаждет добиться признания в кругах столичной «золотой молодежи», участвует в ее дебошах, залезает в долги. Наверное, не без вмешательства семьи, год спустя он соглашается сменить судейское кресло на палатку военного трибуна.
Грубоватое мужское братство офицеров легиона встречает Адриана приветливо. Этим простым людям, профессионалам военного дела, лестно, что молодой аристократ променял успешно начатую гражданскую карьеру и развлечения столичной жизни на суровую рутину военного лагеря. Тем более что новичок ничуть на задается, не выказывает ни своей образованности, ни утонченности воспитания. Способность быстро схватывать существо всякого нового дела, твердость характера и отличная физическая подготовка (сказывается юношеское увлечение охотой на дикого зверя) вскоре завоевывают ему уважение соратников. Он, не чинясь, участвует в их попойках и бесхитростных развлечениях. С видимым уважением слушает бесконечные рассказы ветеранов о былых подвигах. Но ни с кем не сходится близко. В свободные от службы часы отправляется один бродить вдоль берега Дуная или по дальним окрестностям лагеря. Бескрайние снежные поля, укрытые белым покрывалом дремучие хвойные леса, зеленоватая броня льда, сковавшая могучую реку, — все волнует его душу своей дикой, неведомой ранее красотой. Приходят известия о смерти Домициана и избрании Нервы. Потом об усыновлении Траяна. Последняя новость вызывает небывалое оживление в войске. Всем известно, что Траян — сторонник возобновления наступательных войн с варварами. Теперь не воспоминания, а горячие споры о будущей стратегии этих войн допоздна звучат в палатках офицеров. Придунайские легионы находятся в отличной боевой форме. Все убеждены, что главное направление военной экспансии Рима будет именно здесь — против даков. Чтобы известить Траяна о своей готовности и рвении, решают отправить к нему посланца с поздравлением по поводу усыновления Нервой. Выбор падает на Адриана — ведь он дальний родственник Траяна. В дороге Адриан узнает о смерти Нервы. Он хочет первым сообщить эту новость теперь уже единовластному правителю Рима. Во время одной из переправ на него нападают. Адриан лишается лошадей. Часть пути до резиденции Траяна в Колоне (нынешний Кельн) проделывает пешком и все же оказывается первым. Свою признательность император выражает тем, что оставляет Адриана у себя в войске. Злоумышленником, организовавшим нападение на двадцатитрехлетнего вестника, оказывается его родственник Сервиан — пожилой муж сестры. Он сам хотел доставить императору важное известие. Раздосадованный неудачей, Сервиан доносит Траяну о недавних «подвигах» Адриана в Риме и его долгах. Последние особенно возмущают императора-провинциала. Поначалу он относится к молодому трибуну с недоверием и даже неприязнью. Но вскоре, оценив его знание военного дела и рвение, меняет свое отношение. Впрочем, сомнение остается. Теперь оно питается излишней, с точки зрения главнокомандующего, образованностью Адриана. Вообще-то говоря, император уважает это качество, но считает его более подобающим для людей штатских.
Начинается Дакийская война. Стремление всегда быть первым побуждает Адриана к некоторой браваде, порой к неоправданному личному риску. Что, впрочем, приносит ему в действующей армии лестную репутацию храбреца. При этом он проявляет себя и как толковый военачальник — строгий, но предусмотрительный и заботливый по отношению к своим солдатам. Сказывается и его привычка к суровому климату этих мест. Сомнение Траяна уступает место расположению. Во второй дакийской кампании он поручает еще не достигшему тридцати лет Адриану командование прославленным легионом Минервы, которому предстоит сыграть ключевую роль в штурме вражеской столицы. После ее падения, здесь же, на бастионах крепости, император надевает на палец доблестного командира тот самый бриллиантовый перстень Нервы, о котором я упомянул в начале главы. В Дакийской войне Адриан приобрел славу доблестного полководца и прочный авторитет в римском войске. Со временем это сыграет важную роль в его судьбе.
В свите Траяна Адриан возвращается в Рим. Богатые трофеи, которые император щедрой рукой раздает своим военачальникам, делают его состоятельным человеком. Это уже не тот робеющий провинциал, над которым подшучивали его коллеги-судьи. Он прославлен, близок к императору, уверен в себе. К тому же молод и хорош собой.
«Он был, — пишет Спартиан, — высокого роста, отличался внешним изяществом, завивал с помощью гребня свои волосы, отпустил бороду... имел крепкое телосложение. Он очень много ездил верхом и ходил пешком, всегда проделывал упражнения с оружием и копьем. На охоте он очень часто собственноручно убивал львов». (Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана. XXVI, 1)
Естественно, Адриан пользуется успехом у женщин. Мне представляется, что он похож на Арамиса из «Трех мушкетеров». Блестяще образован, изящные манеры, бородка, волосы завивает. А вместе с тем — отвага и железная рука. Охотится на львов с луком или копьем!
В Риме Адриан возвращается на поприще государственной службы. Теперь в важной должности куратора и хранителя законодательных актов сената. Он завоевывает расположение и даже дружбу жены Траяна, Плотины. Умная и тактичная женщина, императрица по образованности и восприимчивости к красоте намного превосходит своего мужа-воина, но умеет это скрыть. Она пользуется большим влиянием на императора. Ее дружбу Адриан будет почтительно сохранять до конца дней Плотины. В грядущей критической ситуации она, как мы уже знаем, сыграет решающую роль в его судьбе. А пока по совету Плотины Траян поручает Адриану ответственную функцию своего, как мы бы сказали ныне, референта. Грубоватая речь императора, превосходная на военном совете, не очень подходит для выступлений в сенате. Речи его теперь пишет Адриан. Он же зачитывает их в сенате, когда Траян не может присутствовать на заседании. Это была отличная школа управления государством!
Если военные успехи Адриана никак не могли вызвать ревность Траяна, то определенная зависимость от литературного таланта «референта» ему, видимо, в какой-то мере досаждала. Отношения стали менее сердечными. Это проявилось в первоначальном отказе Траяна дать согласие на брак Адриана с внучатой племянницей императора Сабиной. Брак был задуман Плотиной, уже тогда видевшей в способном молодом человеке наследника своего августейшего супруга. В конце концов ей удалось побороть предубеждение Траяна, и Адриан стал членом семьи императора. Сам он относился к своей женитьбе сугубо прагматически, как к важному этапу восхождения на вершину власти, о которой уже имел дерзость помышлять. Хотя Сабина была молода и даже привлекательна, никаких нежных чувств Адриан к ней не питал (брак этот формально сохранится до самой смерти Сабины, но будет отравлен взаимной неприязнью. Детей у них не будет).
Чопорная староримская испанская родня, окружавшая императора, была чужой для эллинизированного нового члена этой семьи. С его гражданскими советниками, за исключением своего бывшего опекуна Аттиана, товарища по военной службе Марция Тюрбо и близкого друга Траяна, Лициния Суры, он не сошелся. Мог бы завязать дружбу с Плинием, но в глубине души ревновал императора к нему. А члены военного совета принцепса восприняли возвышение чуждого им по духу, чересчур образованного аристократа с едва сдерживаемым недоброжелательством. Да и его боевая слава казалась им поспешной. В целом Адриан чувствовал себя в Риме неуютно и потому был рад неожиданному новому назначению. Поступили известия о вторжении в новообразованную провинцию сарматских полчищ с востока. Траян назначил Адриана на освободившийся пост наместника соседней провинции Паннония и поручил ему изгнать сарматов из Дакии. Занятый подготовкой большой Парфянской войны и сооружением своего форума, император не хотел отвлекаться на эту, как ему казалось, несложную карательную экспедицию. Однако задача оказалась трудной, и ее решение заняло у Адриана целый год. Неорганизованные и необузданные орды сарматов в открытом бою не могли противостоять дисциплинированной мощи римских легионов. Но их тактика внезапных кавалерийских налетов держала немногочисленное войско Адриана в постоянном напряжении. Страна была разграблена и опустошена в ходе предыдущей истребительной войны. Деревни опустели, снабжение войска продовольствием было крайне затруднено. Оставшееся в живых коренное население Дакии ненавидело римлян и всячески помогало их противникам. Поневоле приходилось прибегать к поголовным конфискациям и устрашающе жестоким карам. Адриан понимал, что рано или поздно эти отравленные семена взойдут новыми восстаниями и вторжениями варваров. Впервые . ему пришла в голову мысль об ошибочности стратегии покорения соседних с Империй народов и расширения ее и без того непомерно огромной территории. В конце концов сарматы ушли из Дакии так же внезапно, как вторглись в нее. Адриан произвел большие работы по усилению оборонительных сооружений по Тиссе и Пирету (Пруту). Но в столицу он возвращался убежденным противником дальнейшей военной агрессии Рима. С тревогой думал о предстоящей войне с Парфией. Не без горечи принял свое избрание в консулы. Награда за бессмысленную, как он теперь понимал, жестокость его обрадовать не могла.
Между тем оказалось, что не он один разочарован в политике новых завоеваний. В окружении Траяна сложились две партии: войны и мира. Первую возглавляли военные советники Траяна, его генеральный штаб, вторую — Адриан и Сура. Сам император без тени сомнения тщательно готовился к парфянскому походу. Легионы из Европы уже перебрасывались на Восток. Туда же направлялись запасы зерна и снаряжения. Только Сура мог бы попытаться остановить это еще медленное, тяжкое, но уже набиравшее скорость движение. Только его согласился бы выслушать Траян. Но Сура был тяжело болен, у него не было сил для трудного разговора с другом-императором. Он умер, так и не сумев осуществить это свое намерение. Скрытое противоборство с партией войны было проиграно. Однако Траян, видимо, успел о нем догадаться. В его отношении к новоизбранному консулу появились отчуждение и холодность. На совещания, связанные с подготовкой войны, Адриана не приглашали, хотя и звание консула, и победа над сарматами, казалось бы, давали ему право в них участвовать. Впрочем, дел у него хватало, поскольку император понемногу устранился от всех забот по гражданскому управлению.
По окончании консульских полномочий, в 113-м году Траян посылает Адриана наместником в Сирию. Это означало начальствование над глубоким тылом грядущей войны. По дороге наместник на несколько месяцев задерживается в Греции.
Двадцать лет пролетело со времени его ученичества. Тогда он покидал эти края, как юноша, узнавший первую любовь. Теперь возвращался зрелым мужем, прошедшим через грязь и кровь двух жестоких войн, через зависть и интриги императорского двора. Все эти годы в глубине души он бережно хранил воспоминания о пленившей его красоте. Питал их чтением бессмертных творений древних авторов, собирал коллекцию произведений греческого искусства, которые находил не только в Италии, но и в Галлии, и на берегах Дуная. Когда по дороге от Пирея к Афинам показалась вершина Акрополя и словно парящий над ней, розовый в лучах восхода контур Парфенона, сердце его забилось, как у любовника, спешащего на давно желанное свидание...
Двадцать лет назад лишь немногие ученые афиняне с сожалением провожали необыкновенно одаренного юношу Теперь весь город готовился встретить родственника и легата римского императора. Старейшины и жрецы в торжественном собрании граждан почтительно и не без опасения, как это будет воспринято, объявили о присвоении Адриану почетного звания архонта. Вскоре опасения рассеялись. Высокий римский гость оказался не только другом афинян, но знатоком и почитателем великого прошлого их города. Он жадно всматривался в дремлющую красоту современной Греции. Путешествовал по стране. Посетил Спарту Мегары, Аркадию, Дельфы, два дня провел в Херонее у Плутарха. Наметанный глаз Адриана с горечью замечал опустевшие ниши, откуда были вывезены статуи, оголенные площади и портики. С тяжелым сердцем бродил он среди руин разрушенного некогда римлянами Коринфа. Он все более утверждался во мнении, что неуловимое чувство прекрасного, почти религиозное поклонение красоте не умерли в душе этого давно покоренного грубой силой народа. Его творческие силы точно ждали своего часа, чтобы проснуться и вновь одарить, облагородить одичавшие в суетной борьбе за власть и богатство народы...
В Сирии Адриан увидел совсем иную картину. В столице провинции, Антиохии, кипела жизнь. Пестрая, разноликая толпа торговцев, ремесленников, солдат и воров, богачей и нищих заполняла улицы, оглашая их гортанными криками на множестве языков (хотя преобладал все же местный греческий диалект). Базары ломились от разнообразных товаров. Собирались и разгружались караваны, уходившие и возвратившиеся из далекой Индии и Китая. Объехав всю страну, Адриан с удовольствием отметил ухоженность полей, хорошее состояние дорог, строительство и обустройство городов. После умиротворения этого благодатного края и организации местного самоуправления, произведенных почти два века назад великим Помпеем, после обуздания императорами дома Флавиев произвола наместников и откупщиков Сирия расцветала. Римская организация и греческая культура, дополняя друг друга, приносили обильные плоды мира и благосостояния. Некоторые из местных советников с тревогой говорили ему о тайных сборищах секты христиан. Но их малочисленность и отталкивающий фанатизм явно не представляли серьезной опасности для дальнейшего прогресса этой, пожалуй, самой благоустроенной провинции Рима.
В течение года Адриан готовит и заполняет воинские склады, принимает и размещает прибывающие легионы. Затем приезжает Траян со своим штабом и многочисленной свитой. Императора сопровождают Плотина и племянница Матидия. Хотя брак Адриана не ладился, теща под влиянием Плотины относится к нему хорошо. Император одобрил действия своего наместника, произвел смотр легионам и отправил экспедиционный корпус в Армению. Остальное войско под его командой стало выдвигаться к верховьям Евфрата. Армения была захвачена без труда. На зиму Траян вернулся в Антиохию, а весной 115-го года отбыл к войску, которое стало спускаться вниз по течению реки. Парфянская война началась. В ту зиму общение с императором было дружественным, но не более. Как и ожидал Адриан, ему было приказано обеспечивать нужды армии, оставаясь в глубоком тылу Единственным успехом за это время было назначение Аттиана (под влиянием Плотины) главным советником императора, а затем и префектом претория. Вскоре бывший опекун Адриана прибыл из Рима — преторианцы участвовали в кампании — и через Антиохию проследовал к действующей армии. Встреча с Аттианом ободрила Адриана. Однако связь между Антиохией и войском была нерегулярной. В течение года с большими опозданиями доходили вести сначала об успешном продвижении римлян на юг, потом о взятии Вавилона, Селевкии и парфянской столицы Ктесифена. Вместе со всеми Адриан радовался успехам римского оружия, но в глубине сознания упорно пряталась тревога. Сообщения о решительном сражении не было. Военный опыт наместника подсказывал ему, что парфяне избрали тактику отступления с арьергардными боями, чтобы завлечь Траяна в глубь своей необъятной территории. Остановиться нельзя, закрепиться негде. Когда кончатся запасы продовольствия, снабжение огромной армии, далеко ушедшей от плодородного побережья и морских путей в пустыню, станет невозможным. Неподалеку за Тигром, вдоль всего нижнего течения реки протянулась мощная горная цепь. Пытаться преследовать парфян в горах — безумие. Следующую зиму Траян потратил на безрезультатную осаду расположенной посреди пустыни неприступной крепости Асра. Адриан понимал, что действия императора продиктованы уже не стратегическим замыслом, а упрямством...
Весной вспыхнуло новое восстание иудеев. Банды иерусалимских зелотов перерезали сухопутные пути доставки хлеба в армию из Египта. В Сирии было спокойно, но другие арабские страны, терпевшие большой ущерб из-за прекращения караванной торговли, в любую минуту могли присоединиться к мятежу. Траян снарядил карательную экспедицию против иудеев, но вынужден был признать неудачу своего похода. Римское войско возвратилось на правый берег Евфрата. Опасения Адриана оказались не напрасными. Сначала Дакия, теперь Парфия! Пагубность политики завоеваний подтвердилась...
Долгими зимними вечерами, отдыхая от суеты дневных забот, один в огромном дворце сирийских царей, Адриан предавался воспоминаниям и размышлениям. Погасив светильники, допоздна засиживался у очага в мрачноватом покое. Рассеянно следил за синими огоньками, пугливо пробегающими по тускло мерцающей груде углей. Из темных углов зала подступали видения. Германия... Рим... Истерзанная войнами Дакия... Бешеные наскоки свирепых сарматских конников... То чудились голоса боевых товарищей, солдат его легиона, то оживали в памяти неторопливые, проникнутые древней мудростью беседы под сенью афинских портиков. И всякий раз его мысли обращались к туманному будущему Империи. Странные мысли, не подобающие наместнику провинции всемогущего Рима...
Недопустимо, думал Адриан, постоянно воевать на дальних окраинах государства. Это истощает силы, отрывает от земли многие тысячи крестьян. Следует не только отказаться от расширения владений Рима, но и уйти из тех диких краев, где его власть и влияние удерживаются только силой оружия. Вернуть земли, захваченные у парфян, уйти из Армении, стран Малой Азии и Ближнего Востока. Кроме приморских областей, уже воспринявших влияние греческой культуры, начавших освоение римских порядков и латинского языка. Уйти из зарейнской Германии. Быть может, и из Дакии, хотя при этом возникнут большие проблемы с возвращением колонистов. Основой внешней политики Империи пусть будет вооруженный мир. Божественный Август понимал необходимость прочного мира для процветания Рима. Он сумел договориться с парфянами, увел войско из Германии. Впрочем, в одном Август ошибался: он хотел оставить приграничные провинции в принудительном подчинении Риму, сохранить обложение их данью. Такой мир будет непрочным, а положение римлян в этих провинциях — ненадежным. Оставшиеся в сокращенных границах Империи народы должны получить равные права с италиками, почувствовать себя добровольными подданными единого для всех государства. Римское гражданство надо постепенно, но неуклонно расширять. Сначала на тех, кто пожелает вступить в ряды войска, потом и на все остальное население провинций. В годы смертельной опасности все римляне выходили на стены древнего Города, чтобы отразить нашествие врага. Империя должна стать как бы огромным городом, граждане которого готовы защищать себя и своих детей на его границах. Дома и храмы города заменит единый для всех порядок, основанный на многовековом опыте Римского государства. В новых масштабах должно возродиться гражданское ополчение. Тогда никакие орды варваров не смогут вторгнуться в пределы обновленной римской империи. Национальные особенности сохранятся, но латинский язык будет играть роль могучего средства сближения народов. Не военные трофеи и ограбление покоренных соседей — мысленно возражал своим оппонентам Адриан. Торговля позволит использовать ресурсы огромного государства и станет источником благосостояния римлян. Всю империю надо покрыть сетью дорог, не уступающих италийским. Возрожденная культура Греции в сочетании с опытом римской цивилизации постепенно преобразуют ныне дикие провинции да и саму Италию. В обозримом будущем Рим не сможет освободиться от позора рабства. Но приток новых рабов прекратится. Дети нынешних постепенно будут обретать свободу. Следует уже сейчас учить римлян уважать человека в рабе...
Странные мысли! Вряд ли бы их одобрил император, лелеющий мечту о повторении похода Александра Македонского...
Жарким майским днем в Антиохию неожиданно прибыл Траян в сопровождении Аттиана, своего врача Критона и женщин. Император ехал верхом, но посадка была странной. Поводья он держал в левой руке, а правая безжизненно висела вдоль тела. Лицо его изменилось чрезвычайно. Казалось, что он страшно постарел, хотя в стиснутых челюстях и складках у рта читались прежняя воля и упрямство. Критон и Матидия помогли ему подняться по лестнице и уложили в постель. Плотина рассказала Адриану, что три недели назад у императора случился временный паралич. Он с трудом мог говорить и едва шевелил правой рукой и ногой. Потом почти оправился. Но Критон настоял на возвращении в Рим. По его словам, аравийская жара могла вызвать повторение приступа, быть может, с еще более тяжелыми последствиями.
На следующее утро император пригласил Адриана к себе. Он сидел в глубоком кресле, был спокоен, но более обычного сдержан и суров.
— Плотина рассказала тебе о моей болезни? — спросил он.
— Да, — ответил Адриан.
— Критон настаивает на длительном отдыхе. Быть может, зря, но я не хочу рисковать. Впереди трудный поход. Войско останется здесь. Часть его будет держать оборону на Евфрате, остальные отойдут сюда для отдыха. Потом ты их сменишь. За зиму я пополню провиантские склады и проведу новый набор. Ранней весной приведу еще десять легионов. В Гельвеции из горцев сформирую отряды разведчиков-проводников.
Траян замолчал, как бы в последний раз обдумывая то, что собирался еще сказать. Молчал и Адриан.
— Я назначаю тебя главнокомандующим, — продолжал император. —Твои недоброжелатели из моего штаба возвратятся в Рим. Я знаю, ты не одобряешь эту войну, но сделаешь все, как надо... — Император опять умолк на мгновение. — И не обманешь меня. Мне не случилось всерьез заняться философией, и я, кажется, не скрывал, что не очень-то одобряю твою приверженность учениям древних греков.
Но, насколько я понимаю, предательства эти учения не допускают. Чего не могу сказать о моих полководцах. Если болезнь затянется...
Траян снова умолк. Адриан видел, что он еще не все сказал, и, скрывая волнение, ждал продолжения неожиданной откровенности. После долгой паузы, как бы преодолев внутреннее сопротивление, Траян спросил:
— Как бы ты поступил на моем месте? Ушел бы из Парфии? Адриан понял, что выбор преемника императора зависит от его ответа. Но обмануть Траяна, которого так уважал и кому стольким был обязан, он не мог. Удастся ли его переубедить? Или хотя бы заставать усомниться? В эту критическую минуту жизни Адриан вдруг решился на полную откровенность.
— Да, — ответил он, — я ушел бы из Парфии и из Армении. Быть может, из Дакии тоже. И вообще отказался бы от всяких новых завоеваний. Империя слишком велика. Мы не можем без конца содержать наемные армии на ее дальних границах.
— Но варвары не прекратят своих попыток вторжения, — возразил Траян. — Чтобы их изгонять, все равно придется держать легионы наготове. Лучше уж, чтобы они находились близ границ.
— Не обязательно регулярные легионы, — возразил Адриан. Он заговорил быстро, торопясь изложить Траяну свою обдуманную в последние месяцы стратегию. — В Азии мы можем создать заслон из союзных нам царств. В Европе вдоль всей линии обороны по Дунаю и Рейну через каждые десять миль расположить небольшие, но хорошо укрепленные лагеря. Двух сотен будет достаточно. Соединить их рвами, палисадами и хорошими дорогами. Легионы набрать из местных жителей, предоставив им сразу права римского гражданства. В мирное время легионеры пусть крестьянствуют на прилежащих землях. Зимой расчищают дороги от снега. В каждом лагере будет постоянно дежурить одна сменная когорта. Она будет высылать конные разъезды на дороги и тренировать своих солдат. Выстроить высокие башни, на верхушках которых можно разводить костры. Ночью их будет видно из двух соседних лагерей — и так по всей цепи. Заслоняя и открывая огонь, можно условными сигналами сообщить о начавшемся вторжении. Легионеры со своим оружием немедленно соберутся в условленных местах и с разных сторон двинутся на врага. В мирное время не нужно будет их кормить и платить жалованье. Как было в старину, когда Рим оборонялся от воинственных соседей и галлов...
Адриан умолк, напряженно вглядываясь в выражение лица Траяна. Тот молча выслушал и неодобрительно покачал головой.
— Я ожидал чего-то подобного, — сказал он. — Поэтому не усыновил тебя, как собирался раньше. Такая политика будет означать конец Рима. Он растворится в огромной массе провинциалов. Ведь дети тех легионеров будут римскими гражданами. Да и все другие, не вступившие в легионы, потребуют того же. Ты думаешь, что они воспримут наши обычаи и законы? Боюсь, что наоборот — навяжут нам свои...
Траян надолго задумался, затем произнес решительно:
— Пока жив, я буду укреплять могущество Рима и силой заставлю его врагов уважать наши границы, которые постараюсь отодвинуть еще дальше. Возможно, что не назначу преемника. Не вижу, кто бы это мог быть. Пусть его изберет сенат. Если ты сумеешь убедить сенаторов... Но я не хочу способствовать тому, что считаю пагубным для Империи. Спасибо за откровенность, — добавил он устало. — Мое решение о командовании войском остается в силе. Я не сомневаюсь в твоей верности своему долгу... и мне. Ступай. Я должен отдохнуть...
Разговор этот продолжения не имел. Возможно, что и протекал он не совсем так. Хотя наверняка состоялся, а последующие события позволяют думать, что предложенная реконструкция недалека от истины. Через несколько дней император взошел на корабль, отплывающий в Италию. Достигнуть ее берегов ему было не суждено... Все, что известно о смерти Траяна и провозглашении нового императора, изложено в начале главы. Теперь я могу начать рассказ о двадцати с лишним годах его своеобразного правления.
Итак, умер император-воин, воскресивший традиции республиканской доблести и простоты. Ему наследовал тоже воин, но не любящий войну, разносторонне образованный правитель, гуманист, поклонник красоты. Посмотрим, как сложится его правление. В начале главы я упомянул, что многие в Риме, особенно среди сенаторов, сомневались в подлинности усыновления Адриана, что свидетельствовало о его непопулярности в кругах столичной аристократии. Кроме обычной зависти, это было связано с некоторыми особенностями характера нового императора. Будучи исключительно одаренным человеком, он не только гордился своими талантами, но был ревнив и не терпел чьего-либо превосходства. С простолюдинами и солдатами Адриан был всегда прост, доступен и доброжелателен. Но с людьми своего круга мог порой проявлять обидное высокомерие и язвительность. Вот что пишут древние авторы о давно умершем императоре (но к сорока годам характер человека уже вполне определяется, и мы вправе отнести их замечания к началу правления Адриана).
«Он был переменчив, — утверждает Виктор, — многообразен, обладал сложным характером, был как бы рожден властелином пороков и добродетелей (то есть свободно проявлял те и другие. — Л.О.), умел искусно направлять движения ума, удачно скрывая в своем характере то завистливость, то мрачность, то резвость... Он притворно показывал сдержанность, доступность, милосердие, наоборот, скрывал свою жажду славы, которой постоянно пылал. Он был очень остер и задирист, но в равной мере искусно парировал серьезные слова, шутку, брань: на стихи он отвечал стихами, на изречения — изречениями, так что казалось, что он все заранее обдумал». (Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XIX, 6)
Поскольку в те времена писать стихи и представлять себя ценителем и знатоком искусства было модно, Адриан мог обидеть многих. Возникали опасения, что его правление окажется деспотичным. И хотя сенат не посмел отказать в подтверждении последней воли Траяна, представленной его вдовой, атмосфера в Риме была чревата заговором. Пользуясь отсутствием Адриана в Риме, военачальники Траяна усиленно подогревали сомнения по поводу усыновления. Спартиан утверждает, что четверо бывших консулов — Нигрин, Цельз, Пальма и Лузий — даже намеревались убить Адриана сразу по его прибытии в столицу Верный Аттиан сообщил об этом в Антиохию. (Император вынужден был задержаться на Востоке. Путем разумных уступок территории и предоставления независимости Армении ему удалось добиться заключения мира с Парфией. Потребовалось время и для того, чтобы окончательно успокоить иудейских мятежников. Затем императору пришлось отправиться в Дакию, чтобы отразить угрозу нового вторжения сарматов.) Префект претория предлагал упредить заговорщиков. Неизвестно, получил ли он согласие Адриана или действовал на свой риск и страх, но все четверо были убиты преторианцами, когда находились вне Рима. Спартиан пишет, что эти убийства они совершили по приказу сената и против воли Адриана. Но тут же оговаривается, что так утверждает сам Адриан в своем жизнеописании (до нас не дошедшем). И тут же продолжает:
«Поэтому, чтобы опровергнуть в высшей степени неблагоприятное для него мнение, будто он позволил убить одновременно четырех консуляров, Адриан немедленно вернулся в Рим... Чтобы положить конец толкам о себе, он по прибытии произвел раздачу народу в двойном размере, несмотря на то, что в его отсутствие каждому было уже выдано по три золотых. Принеся в сенате извинение за то, что было сделано, он клятвенно обязался не наказывать ни одного сенатора без постановления сената». (Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана, VII, 1-4)
Ввиду безусловной поддержки легионов и верности преторианцев, Рим находился в полной власти императора. Клятве его мало кто поверил. Многие сенаторы да и рядовые граждане старшего поколения вспоминали правление Домициана и трепетали от страха. Адриану пришлось приложить немало усилий, чтобы рассеять эти опасения.
«Не упуская из виду ничего, что могло доставить ему расположение, — продолжает Спартиан, — он простил частным должникам императорского казначейства как в Риме, так и в Италии неисчислимые суммы, которые за ними числились, а в провинциях также огромные суммы остававшихся недоимок, а чтобы еще больше укрепить общее спокойствие, он велел сжечь на форуме божественного Траяна долговые расписки. Имущество осужденных он запретил забирать в свою частную казну, зачисляя все суммы в государственное казначейство. Мальчикам и девочкам, которым еще Траян назначил питание, он сделал щедрые надбавки. Состояние сенаторов, которые разорились не по своей вине, он пополнил до размеров, полагающихся сенаторам, в соответствии с количеством их детей, причем очень многим он без задержки выдавал средства с таким расчетом, чтобы их хватило до конца их жизни. Не только его друзьям, но и большому количеству людей из широких кругов его щедрость открывала путь к исполнению почетных должностей. Поддерживал он и некоторых женщин, выдавая им деньги на прожитие. Он устроил гладиаторские бои, продолжавшиеся непрерывно в течение шести дней, и в день своего рождения выпустил тысячу диких зверей». (Там же, VII, 6-12)
И далее:
«Адриан отправился в Кампанию и облегчил положение всех ее городов своими благодеяниями и щедротами, вызывая к себе дружеские чувства со стороны всех лучших людей. В Риме он часто присутствовал при исполнении преторами и консулами их служебных обязанностей, принимал участие в пирах друзей, посещал больных по два и три раза в день, в том числе — некоторых всадников и вольноотпущенников, утешал их, поддерживал своими советами, всегда приглашал на свои пиры. В сущности, он во всем поступал как частный человек». (Там же, IX, 6-9)
Аттиана Адриан сместил с должности префекта претория, заменив его другим своим сторонником, тем самым возложил ответственность за убийство четырех консуляров на своего бывшего опекуна (возможно, согласовав с ним эту акцию, поскольку вскоре провел его в сенат).
«Процессов по обвинению в оскорблении величества он не допускал. Наследств от незнакомых ему людей не принимал, равно как и от знакомых, если у них были дети... Он запретил господам убивать рабов и предписал судьям (а не самим господам. — Л.О.) выносить приговор, если рабы того заслужили. Он запретил продавать без объяснения причин раба или служанку своднику или содержателю гладиаторской школы. Расточителей своего имущества, если они были правоспособны, он приказывал сечь в амфитеатре, а затем отпускать. Рабочие тюрьмы для рабов и свободных людей он упразднил». (Там же, XVIII, 4-9)
Своих вольноотпущенников и рабов император держал в строгости, не позволял влиять на себя. К участию в государственном управлении не допускал. Помощников и сотрудников императорской канцелярии он набирал среди всадников, нередко — провинциалов. Новый слой крупных чиновников теперь формировался из полноправных граждан.
Постепенно Рим успокоился. Сенат вполне искренне предложил Адриану весь набор высоких императорских титулов. Он от всего отказался, включая и желанное звание отца отечества. Его он хотел заслужить в собственных глазах, осуществив преобразования, которые задумал еще в Антиохии. Первые шаги в этом направлении надлежало сделать в Галлии и Германии. Туда он вскоре и отправился.
Сначала необходимо было восстановить воинскую дисциплину и боевую подготовку давно бездействовавших легионов. И лишь потом начинать их пополнение за счет местного населения. По опыту Дакии Адриан знал, что одной только строгости недостаточно, чтобы подтянуть солдат. Следовало их увлечь собственным примером, пробудить дух соперничества.
«Любя больше мир, чем войну, — записывает Спартиан, — он тем не менее упражнял воинов, как будто война была неминуемой, действуя на них примером собственной выносливости. Сам среди их манипулов он исполнял обязанности военного начальника, с удовольствием питаясь на глазах у всех лагерной пищей, то есть салом, творогом и поской (напиток из воды, уксуса и сбитых яиц), по примеру Сципиона Эмилиана, Метелла и своего приемного отца Траяна. Многих он наградил, некоторым дал почетные звания для того, чтобы они могли легче переносить его суровые требования... На всех прочих он оказывал влияние примером своей доблести, проходя вместе с ними в полном вооружении по двадцати миль. В лагерях он велел разрушить помещения для пиров, портики, закрытые галереи и художественные сады. Он часто надевал самую простую одежду, перевязь его меча не была украшена золотом, застежки военного плаща были без драгоценных камней, только его палаш заканчивался рукояткой из слоновой кости. Он посещал больных воинов там, где они были размещены на постой; сам выбирал места для лагеря. Жезл центуриона он давал только людям сильным и имевшим хорошую репутацию, трибунами он назначал только тех, у кого выросла настоящая борода и чьи благоразумие и лета могли придать вес званию трибуна. Он не позволял трибунам брать от солдат какие-либо подарки, устранял повсюду всякие признаки роскоши, наконец, улучшил их оружие и снаряжение». (Там же, X, 1-7)
Командиры легионов получили ясные распоряжения о строительстве опорных лагерей и дорог («лимес») вдоль всего течения Рейна. Ветеранам было разрешено жениться на местных женщинах. Адриан обещал, что дети, рожденные в таких браках, будут римскими гражданами. Потом разрешил набор в легионы молодежи из близлежащих поселений. Этим молодым варварам было гарантировано получение гражданства по окончании срока службы. Право наследовать земельные участки родителей за ними сохранялось. Так Адриан начинал подготовку системы самообороны. Аналогичные распоряжения император еще раньше дал легатам верхнедунайских провинций и Дакии (уйти из нее он все же не решился).
Уважение и преданность солдат, которые Адриан сумел завоевать в Дакии и на Востоке, теперь окружали его и здесь, на севере. Спартиан свидетельствует, что «он был очень любим воинами за свою исключительную заботу о войске и за то, что по отношению к ним он был очень щедр». (XXI) Самоличную инспекцию войск по всем границам Империи Адриан впоследствии производил регулярно в течение всего своего правления. Постоянно следил за снабжением их провиантом и деньгами для своевременной выплаты жалованья солдатам. Это не только обеспечивало боеспособность войск, но поддерживало любовь и преданность легионеров императору в такой мере, что он без опасений мог по нескольку лет не появляться в Риме. Впрочем, сие вовсе не означало, что Адриан выпускал управление государством из своих рук. В Риме оставался Совет императора, составленный им из самых доверенных лиц. Совет руководил работой департаментов: финансового, юридического, императорских распоряжений, по делам прошений на его имя и других. Особое ведомство занималось личным имуществом и казной императора. Возглавлявшие департаменты сенаторы и всадники постепенно утрачивали свои сословные отличия, сливаясь в один слой имперской служилой аристократии. Внутри департаментов создавались отделы со своим «штатом» высокооплачиваемых чиновников.
Но вернемся к началу правления Адриана.
В Германии император пробыл около года. Затем перебрался в Британию. Там проблема защиты южной, колонизированной части острова от набегов воинственных соседей с севера решалась просто. В наиболее узком месте, где расстояние от моря до моря составляет всего восемьдесят миль, легионеры, по указанию императора, соорудили сплошную стену. Остатки ее сохранились до наших дней. После Британии Адриан посетил Галлию и Испанию. В обеих провинциях нельзя было не заметить благодатное влияние длительного мира. Потом он переправился через пролив на северо-западное побережье Африки. Волнения в Мавретании (Алжир) затухали. Император вскоре отплыл в Рим.
Однако надолго задержаться в столице ему не пришлось. Поступили донесения о серьезных инцидентах на Востоке. Похоже было, что парфянский царь Озрой намерен возобновить войну с Римом. Не теряя времени, Адриан отправился к границам Парфии. С собой он взял маленькую дочь владыки. (Траян захватил ее в Вавилоне чуть ли не в колыбели и как заложницу отправил в Рим.) Через посредников удалось договориться о встрече «на высшем уровне». Она состоялась на левом берегу Евфрата. Еще до начала переговоров, в знак доброй воли Адриан передал царю его дочь и сообщил о намерении вернуть священный золотой трон, увезенный в Рим Траяном. Как оказалось, агрессия Озроя против римлян была продиктована страхом. У парфянского владыки возникли династические трудности, и он хотел убедиться, что римляне не воспользуются ими для новой попытки вторжения. Адриану удалось развеять эти опасения. Был заключен мирный договор, сохранивший силу до конца дней императора.
На всех границах Империи установился прочный мир. Совет и администрация в Риме успешно справлялись с делами управления государством. Адриан мог себе позволить потратить годы на организацию экономики и общественной жизни римских провинций. Ведь в процветании провинций император видел залог могущества и благосостояния Рима. Особое внимание он уделял благоустройству провинциальных городов, строительству дорог и мостов. Его сопровождала целая армия архитекторов, инженеров, декораторов, землеустроителей. Он руководил проектированием и начинал сооружение общественных зданий, водопроводов, бань по римскому образцу, контролировал состояние финансов, вершил суд, присутствовал на военных учениях. Одновременно с этим Адриан удовлетворял свою необыкновенную любознательность. По свидетельству Спартиана:
«Он страстно любил путешествия: со всем тем, о чем он читал относительно разных мест по кругу земель, он хотел познакомиться, увидав своими глазами. К холоду и жаре он был вынослив настолько, что никогда не покрывал головы». (Там же, XVII, 8-10)
В общей сложности за время своего двадцатилетнего правления Адриан не менее десяти лет провел вне Рима. В этот раз его маршрут начался с Малой Азии. Он посетил Каппадокию, Галатию, Вифинию. Затем переправился в Европу. Прошел Фракию, Македонию, всю Северную Грецию и надолго задержался в своих возлюбленных Афинах. Это путешествие длилось четыре года. Помимо природы, архитектуры, обычаев городской и сельской жизни в странах, которые он проходил, императора живо интересовали философия и религия разных народов. Он старался проникнуть в глубинный, скрытый смысл восточных культов, изучал обряды, подолгу беседовал со жрецами. В Греции разыскивал и благоговейно рассматривал памятники древней культуры. Завязывал дружбу с художниками, философами и астрономами. В Афинах начал большие работы по расширению и благоустройству города, заложил строительство великолепного храма Зевса Олимпийского, руководил спортивными играми, был посвящен в древние таинства Элефсинских мистерий. Из Греции поплыл в Сицилию, взобрался на Этну, чтобы с ее вершины любоваться восходом солнца, и, наконец, вернулся в Рим.
В долгом и безмятежном путешествии Адриана сопровождал юноша Антиной, грек по происхождению, с которым он познакомился в Вифинии. Поразительная красота Антиноя в глазах императора-эстета представлялась живым воплощением гармонии. Адриан горячо полюбил мальчика, и тот, видимо, отвечал ему взаимностью. Однако этому не суждено было продолжаться долго. Спустя несколько лет, во время путешествия вместе с Адрианом по Египту, Антиной утонул в Ниле. Романтическая легенда утверждает, что утопился. Будто бы от египетских прорицателей он узнал, что, принеся в жертву свою жизнь, сможет продлить дни императора, которому было уже за пятьдесят. После его смерти Адриан учредил культ Антиноя — культ совершенной красоты. Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся статуи юноши. Характер любви императора к Антиною впоследствии послужил пищей для множества домыслов и догадок. От интимной близости (однополая любовь в античном мире была распространена) до платонического поклонения, подобного тому, какое описано Томасом Манном в повести «Смерть в Венеции». Французская писательница, член Академии Маргарет Юрсенар в своих «Мемуарах Адриана» с глубоким волнением описывает любовь императора к прекрасному юноше и горе его утраты. Кстати, в отличие от многих исторических романов, изложение фактов биографии императора в книге Юрсенар опирается на тщательное изучение античных источников. Интересен и жанр имитации исторического документа. Известно, что Адриан оставил свое жизнеописание, до нас не дошедшее. Впрочем, античные авторы пишут об Антиное довольно скупо и невразумительно, что оставляет простор для воображения романиста. Так, например:
«Об Антиное, — сообщает Спартиан, — идет разная молва: одни утверждают, что он обрек себя ради Адриана, другие выдвигают в качестве объяснения то, о чем говорят его красота и чрезмерная страсть Адриана. Греки, по воле Адриана, обожествили Антиноя и утверждали, что через него даются предсказания...» (Там же, XIV, 8)
Но это все позднее. А пока, после своего первого длительного пребывания на Востоке, Адриан на три года остается в Риме. Он занят, в частности, реализацией обширных планов строительства в столице. Форум Траяна Адриан продолжил дальше — за его колонну: добавил к нему храм, посвященный покойному императору. По собственному проекту выстроил грандиозный храм Венеры и Ромы (богини Города). Проводя обширные восстановительные работы, Адриан не проявил обычного для властителей тщеславия:
«Возводя повсюду бесконечное число сооружений, он, однако, никогда не писал на них своего имени, за исключением храма отца своего — Траяна. В Риме он восстановил Пантеон, ограждения, базилику Нептуна, множество священных зданий, форум Августа, бани Агриппы; все эти сооружения он посвятил собственным именам их создателей. Но от своего имени он выстроил мост, гробницу около Тибра и храм Доброй богини. Он перенес Колосс с того места, на котором теперь находится храм Рима, причем архитектор Декриан поднял его в стоячем положении на воздух. Потребовалось применение огромной силы, так что на эту работу пришлось употребить даже труд двадцати четырех слонов. Он посвятил это изображение Солнцу, удалив голову Нерона, которому раньше была посвящена эта статуя». (Там же, XIX, 9-13)
Ограждениями Спартиан называет окруженную прямоугольным портиком огромную площадь для собраний, которую начал строить Цезарь, а закончил Август. В первой главе она была названа «Ограды». Колосс — это памятная читателю гигантская (36 метров в высоту) скульптура Нерона, стоявшая в преддверии Золотого дворца. На ее месте как раз и поставил Адриан свой храм Венеры и Ромы. Скульптуру он решил (несколько преобразив) сохранить, и переместил ее ближе к Колизею. Возведенная позднее огромная круглая гробница Адриана, хотя и многократно перестроенная, сохранилась в Риме до наших дней («Замок Ангела»). Сохранился и самый замечательный из древних памятников столицы Италии — великолепный Пантеон. Описание и фотографии интерьера этого уникального сооружения читатель найдет в любой книге, посвященной древнеримской архитектуре. Однако ни одно описание не передает того впечатления величественного покоя и гармонии, которое испытывает современный турист, вступая под ничем не раздробленное пространство купола сорокатрехметровой высоты (15-этажный жилой дом!). Спартиан не совсем точен: Адриан не восстановил полуразрушенный Пантеон Агриппы, находившийся на том же месте, а фактически построил новый. Хотя на фронтоне входного портика приказал сохранить надпись: «Марк Агриппа сын Луция консул в третий раз построил».
В знак признательности сенат еще раз предложил Адриану звание отца отечества, которое он на этот раз принял. Действительно отеческое, заботливое отношение Адриана к рядовым согражданам легко усмотреть в некоторых коротких замечаниях Спартиана, которые я приведу без комментариев. Например:
«В беседах с людьми даже очень низкого звания он проявлял исключительную любезность и ненавидел тех, кто неодобрительно относился к этому, доставлявшему ему удовольствие проявлению человечности под тем предлогом, будто они оберегают достоинство государя». (Там же, XX, 1)
«В его правление были голод, моровая язва, землетрясения; во всех этих несчастьях он проявлял заботливость, многим городам, опустошенным этими бедствиями, он приходил на помощь... Многим городам он дал латинское право, многие освободил от налогов». (Там же, XXI, 5)
«В театре он, по старинному обычаю, ставил пьесы всякого рода и предоставлял дворцовых актеров в распоряжение народа. В цирке при нем убивали много диких животных и часто даже по сто львов. Он часто устраивал перед народом военные танцы — пиррихии». (Там же, XIX, 6)
«Несмотря на свою склонность бранить музыкантов, трагиков, комиков, грамматиков, риторов, ораторов, он всех специалистов удостаивал высоких почестей и делал богатыми, хотя и приводил их в смущение своими вопросами... Ученых, которые явно не подходили для своей профессии, он делал богатыми и удостаивал почестей, но отстранял от их профессиональных занятий». (Там же, XVI, 8, 11) Или вот такой характерный эпизод:
«Он часто мылся со всеми в общественных банях. Известен следующий забавный случай в бане. Как-то раз он увидел, как один ветеран, которого он знал по военной службе, терся спиной и другими частями тела о стену. Осведомившись, почему он трется о мрамор, и услыхав, что он делает это потому, что у него нет раба, Адриан подарил ему и рабов, и деньги. На следующий день, когда многие старики, с целью вызвать государя на щедрость, стали тереться о стены, он велел позвать их к себе и приказал растирать друг друга». (Там же, XVII, 5)
Здесь я полагаю необходимым сделать небольшое отступление и рассказать о римских банях. Они упоминались уже не однажды, но, наверное, не все читатели ясно представляют себе, что это такое. А без такого представления и описанный эпизод будет непонятен, и — что куда существеннее — останется неведомой важная область культурной и общественной жизни древних римлян.
Начать придется с того, как древние римляне смывали с тела грязь и пот. Каждый из нас знает, что руки не удается вымыть даже горячей водой, если они испачканы чем-то жирным. Жир всегда присутствует в выделениях кожи. Обволакивая частички грязи, он укрывает их от воды. Вместе с тем любому механику известно, что даже очень грязные руки легко отмыть жидким машинным маслом, которое потом можно стереть тряпкой. Этим приемом, видимо, и пользовались древние римляне. С собой в баню каждый приносил оливковое масло, которым растирался до купания. Грязное масло счищали плоскими щетками — скребками. Эту операцию выполнял раб купальщика или банщик. Бедняки, надо полагать, просили друг друга «спинку потереть». Есть упоминания, что вместе с маслом приносили песок. Вероятно, для того, чтобы обсыпать им тело перед очисткой. Некоторые виды песка адсорбируют масло. И все же поверхность тела после всех этих операций оставалась жирной. Впрочем, оливковое масло впитывается кожей не хуже иных современных кремов. И даже благотворно влияет на мускулатуру. Недаром древние атлеты перед состязанием натирались тем же оливковым маслом. В век Адриана, вероятно, появилось и нечто подобное жидкому мылу. При всем разнообразии современных рецептов варки мыла суть их состоит в обработке растительных или животных жиров щелочью. Археологи утверждают, что египтяне умели изготовлять мыло еще шесть тысячелетий тому назад. Современник Веспасиана Плиний старший в своей «Естественной истории» сообщает, что мыло вновь изобрели галлы. В растопленный козий жир они добавляли золу бука (из золы бука в старину вываривали щелок и на Руси). От галлов и германцев о мыле узнали и римляне. Во второй половине того же века римский врач Гален уже описывает способ его приготовления. Испанцы в средние века варили мыло на основе оливкового масла. Не исключено, что и римляне времен империи подмешивали в оливковое масло золу или другие содержащие щелочь природные вещества, что позволяло смывать остатки масла с кожи теплой водой.
Частные бани в домах состоятельных римлян появились еще при Республике. Читатель может вспомнить, как Сенека описывал маленькую и темную баньку Сципиона Африканского. Позже размеры и украшение собственных бань стали предметом особого тщеславия римских богачей. Затем появились общественные купальни для бедноты — тесные и неопрятные. К концу республиканского периода в Риме их насчитывалось около двухсот. Императоры ради завоевания популярности стали строить и дарить городу колоссальные, роскошно отделанные общественные бани — термы. При их сооружении использовались самые последние достижения строительной техники, изыски архитектуры и декоративного искусства. Первые термы были, как мы помним, сооружены полководцем и зятем Августа Марком Агриппой. В правление Адриана римляне могли пользоваться еще и термами, которые построили Нерон, Тит, Домициан и Траян.
Размеры римских бань трудно себе представить. В них одновременно могло находиться несколько тысяч человек. Оно и понятно. В эпоху Империи термы были местом ежедневного отдыха, досуга, общения и развлечения римлян после рано заканчивавшегося трудового дня. В них ходили большими компаниями. Доступ в бани за очень умеренную плату (детям — бесплатно) был открыт для всех граждан без различия сословий. Сохранившиеся руины центрального здания терм императора Каракаллы (начало III века) поражают своей грандиозностью. Они занимают площадь 200х150 метров. Здание стояло в середине окаймленного портиками квадратного парка со стороной в 400 метров. Здесь же располагались библиотеки. В число закрытых, собственно банных помещений входили раздевалки, где под охраной мальчиков-рабов купальщики оставляли свою одежду, теплые комнаты для предварительного прогрева тела, жаркие комнаты, где потели (как в современных финских банях), помещения для натирания маслом и массажа, огромные бассейны с теплой и холодной водой (вода к термам подавалась по акведукам, бассейны были проточными). В состав комплекса центрального здания входили и открытые площадки (палестры) для игры в мяч и других спортивных упражнений. Их окружали тенистые портики для прогулок и бесед, террасы, где принимали солнечные ванны. Нагретый воздух от расположенных в подвале печей подавался по трубам под пол обогреваемых помещений. Своды и полы были покрыты мозаикой, стены отделаны цветным мрамором. Интерьеры украшались бесчисленными колоннами, статуями и барельефами. Это были настоящие дворцы, доступные для каждого горожанина. Чтобы обеспечить достаточный объем воздуха, крытые помещения делались очень высокими — как современный восьмиэтажный дом. Вместо потолков и деревянных перекрытий (нестойких в условиях высокой влажности) каждое помещение заканчивалось куполом. Кроме круглых куполов, часто использовалась конструкция из двух коротких взаимно перпендикулярных полуцилиндров. В месте их пересечения получался четырехсводчатый купол (наподобие огромной тюбетейки), опиравшийся по углам на мощные столбы. Застекленные торцы полуцилиндров обеспечивали освещение. Наружные стены терм обычно не украшались.
Можно вообразить, какой шум и гам стоял внутри этих гигантских помещений. Впрочем, к чему воображать? Есть свидетельство очевидца. Вот начало одного из писем Сенеки уже знакомому нам ученику и другу:
«Сенека приветствует Луцилия!
Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина! Сейчас вокруг меня со всех сторон — многоголосый крик: ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки, когда они трудятся или делают вид, будто трудятся, я слышу их стоны. Когда они задержат дыханье, выдохи их пронзительны, как свист. Попадется бездельник, довольный самым простым умащением, — я слышу удары ладоней по спине, и звук меняется, смотря по тому, бьют ли плашмя или полой ладонью. А если появятся игроки в мяч и начнут считать броски — тут уж все кончено. Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Прибавь и тех, кто с оглушительным плеском плюхается в бассейн. А кроме тех, чей голос, по крайней мере, звучит естественно, вспомни про выщипывателя волос, который, чтобы его заметили, извлекает из гортани особенно пронзительный визг и умолкает, только когда выщипывает кому-нибудь подмышки, заставляя другого кричать за себя. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликающие товар». (Сенека. Нравственные письма Луцилию, № 56).
Но пора вернуться к Адриану. Между прочим, он приказал женщинам и мужчинам пользоваться банями раздельно — в разное время. Поскольку это распоряжение пришлось повторять кое-кому из последующих императоров, надо полагать, что римляне любили совместные купанья. На некоторых римских фресках можно видеть женщин в купальниках, очень напоминающих современные — типа «бикини».
Три года, что Адриан оставался в Риме, он занимался совершенствованием своей системы управления государством. Находившиеся на государственной службе чиновники получали высокое жалованье в соответствии с установленной императором иерархии должностей. Для их подготовки он основал в Риме Атеней — высшую юридическую и административную школу с двумя отделениями, латинским и греческим. Последнее — для будущих «управленцев» в эллинизированных восточных провинциях.
В 128-м году Адриан в сопровождении Антиноя отправляется во второе длительное путешествие на Восток. Их маршрут пролегает через Карфаген в Афины, где император присутствует при освящении законченного строительством храма Зевса Олимпийского. Затем он отправляется в Иудею. На месте разрушенного Титом Иерусалима Адриан замыслил создать по римскому образцу новую столицу ближнего Востока — Элию Капитолину. С форумом, базиликой, амфитеатром, портиками и общественными банями. Наверное, он полагал, что разумные иудеи сумеют оценить эти достижения римской цивилизации. Веротерпимость римлян общеизвестна. Никто не помешает фанатикам странной веры воздвигнуть новый храм своему незримому богу в мирном соседстве с храмом Венеры — покровительницы Рима. Впоследствии Адриану пришлось убедиться в своей ошибке.
Оставив в Иудее команду архитекторов и строителей, император направился в Египет. Он давно мечтал увидеть памятники его древнейшей культуры, узнать обычаи, побеседовать с учеными, познакомиться с сокровищами Александрийской библиотеки и услышать из уст жрецов предания о правлении легендарных фараонов.
Но в Египте Адриан потерял своего дорогого мальчика. Опустошенный и подавленный, он оставил злополучную страну пирамид. Чтобы заглушить тоску, отправился кружным сухопутным путем в Вифинию. Оттуда тем же маршрутом, что они впервые проделали вместе, — в Грецию. Афины в этот раз не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся в сердце императора. Не с кем было делиться мыслями о непреходящем значении высокого искусства эпохи Перикла. Томили воспоминания о восхищении, которое он читал в глазах любимого юноши, когда показывал ему творения Фидия и Скопаса. Вокруг было много интересных собеседников, людей, искренне к нему расположенных. Но к себе в душу он никого не пускал. Сура, Плотина, Аттиан умерли. Адриан понял, что на свете больше нет ни одного человека, который был бы ему по-настоящему дорог. Жизнь шла к концу, но не было ни семьи, ни близких друзей. На горизонте маячила одинокая, унылая старость.
Оставалась только взятая на себя миссия строительства нового Рима. После пяти лет отсутствия император возвратился в столицу. Сложное многообразие юридических положений и прецедентов, сложившееся в результате многолетней практики преторских эдиктов, затрудняло управление государством. Адриан назначил комиссию во главе с видным юристом Сильвием Юлианом и поручил ей разработать единый свод важнейших законов. Впоследствии он был утвержден императором и получил наименование «Вечного эдикта».
Пребывание в Риме, в постоянном окружении придворных, на виду у римской толпы тяготило Адриана. Примерно в двадцати километрах к востоку от Рима, в местечке Тибур (ныне Тиволи) он начал строительство обширной виллы, в которой провел почти безвыездно последние пять лет своей жизни. На территории виллы, кроме дворца, располагались большие и малые термы, две библиотеки, театры, сады, украшенные многочисленными статуями. Вилла Адриана была, по-видимому, настоящим собранием шедевров античного искусства. Различные ее уголки должны были напоминать императору самые дорогие места, которые он посещал во время своих путешествий. Здесь находилось и подобие афинской агоры с расписным портиком, и Пританей, и Ликей, и Академия. В дальнем конце огромного парка Адриан поставил маленький храм. К нему вел канал, окаймленный открытым портиком и скульптурами, стоящими между его колонн. Этот ансамбль назывался Каноп — в память египетского города, где находился храм Сераписа. Александрию и египетский Каноп тоже соединял канал. Культ Сераписа для Адриана сочетался с культом Антиноя. Так называемый Морской театр представлял собой небольшое здание, стоявшее на островке посередине круглого озерца. Там Адриан уединялся во время приступов мизантропии и болезни.
Строительство виллы было закончено в 134-м году. А двумя годами ранее Адриану пришлось опять отправиться на Восток. На этот раз не с познавательной целью и не ради удовольствия, а в связи с новым восстанием иудеев, которое возглавил Симон Бар-Кохба. С любым варварским народом римляне при желании могли найти общий язык. Многобожие этих народов легко уживалось с римским. Функции богов были схожи, различие имен не играло существенной роли. Иудеи же с их единственным, непостижимым и мстительным богом противопоставили себя всему миру.
Римские войска поначалу терпели поражения. Пришлось перебросить в Иудею несколько легионов и вызвать из Британии прославленного полководца Юлия Севера. Жестокая война продолжалась три года. Иудеи смирились лишь тогда, когда их край был превращен в пустыню. В Риме отпраздновали триумф, но императора он не порадовал. Жажда славы угасла. Адриан чувствовал себя усталым и по окончании торжеств удалился на свою виллу Там он хотел почти частным человеком спокойно окончить свои дни. С любимыми книгами, в окружении собранных им произведений высокого искусства, предаваясь дорогим воспоминаниям. Но боги отказали императору в спокойном и возвышенном конце жизни. Последние годы его мучила тяжкая болезнь, проявлявшаяся сильными болями. Аврелий Виктор пишет:
«...он страдал от боли почти во всех членах тела до такой степени, что многократно просил самых верных слуг убить его, а чтобы он не совершил самоубийства, его охраняла стража из самых близких людей». (Там же, XIV, 12)
Надо было избрать себе преемника. За два года до смерти Адриан усыновил Луция Вера, к которому питал привязанность ради его красоты и легкого характера еще до встречи с Антиноем. В 137-м году назначил его консулом. Однако Вер отличался очень слабым здоровьем и в самом начале следующего года умер. Тогда император остановил свой выбор на немолодом (ему было за пятьдесят), но очень достойном, доброжелательном и прекрасно образованном сенаторе Антонине. Адриан полагал, что правление его будет недолгим, и при усыновлении поставил условие, чтобы Антонин, когда унаследует власть в Риме, в свою очередь, сразу же усыновил Марка Катилия Севера, тогда еще семнадцатилетнего юношу. В нем Адриан видел продолжателя начатых им преобразований государства. Одновременно Антонин должен был усыновить Луция Вера младшего — сына недавно умершего первого избранника Адриана. Это была как бы дань его памяти. Тем самым, впервые в Римской истории, закладывалась возможность долговременного разделения верховной власти между двумя императорами. А между тем мучения больного становились невыносимыми. Однажды после очередного приступа боли — он был один на своем острове — Адриан без сил в тысячный раз вопрошал богов, за что ему такая мука... Вдруг вспомнилось, как он в Антиохии допрашивал старика — члена секты христиан. И тот ему рассказал легенду о том, как Христос-сын из бога стал человеком и добровольно принял казнь на кресте, чтобы своими мучениями искупить грехи всех людей. Он тогда спросил, что же побудило сына бога так поступить. Любовь, — ответил старик, — любовь к людям. Может быть, и ему Адриану, послана эта казнь ради спасения людей? Но разве он любит их? Когда-то любил. Своих солдат, товарищей, сограждан. Любил мальчика. Все ушло. От непрерывных мучений сердце его ожесточилось. Он еще ценит красоту, любит Афины, любит Рим. Не город и не миллионы людей, которые называют себя римлянами. Рим — это величие духа, понятие, стоящее над людьми! Люди некрасивы, глупы, корыстны. Нет, он не любит людей. Вот он кричит от боли, а они суетятся со своими мелкими заботами, наслаждаются, смеются... Разве это справедливо? Он столько сделал для них. Почему именно он должен так страдать? Нет, он не любит людей, не любит этот подлый, грязный мир...
«Адриан, — записывает Спартиан, — которому жизнь уже совсем опостылела, велел рабу пронзить его мечом. Когда весть об этом распространилась и дошла до Антонина, к Адриану явились префекты и его сын (приемный. — Л.О.) с просьбами, чтобы он стойко переносил неизбежную болезнь, причем Антонин говорил, что он окажется отцеубийцей, если, будучи им усыновлен, допустит, чтобы Адриан был убит. Разгневанный на них, Адриан велел казнить того, кто выдал его намерение, но этот человек был спасен Антонином. Адриан немедленно написал свое завещание и не переставал заниматься государственными делами. И после завещания он сделал попытку покончить с собой. Когда у него отняли кинжал, он сделался еще более свирепым. Он просил яда у своего врача, но тот, чтобы не дать ему, убил самого себя». (Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана. XXIV, 7)
Истерзанный непрестанными болями, император постепенно озлобился и вопреки всему прежнему опыту7 своей жизни превратился в тирана, способного в припадке гнева казнить всех и каждого. Рим в страхе замер. Вдруг после визита какого-то старца из Паннонии (экстрасенса тех времен?) Адриану стало легче и он поехал на морской курорт в Байи. Потом боли возвратились с новой силой. Стало ясно, что конец близок. Император вызвал Антонина и на его глазах умер 10 июля 138-го года. Спартиан так заканчивает жизнеописание Адриана:
«Ненавидимый всеми, он был похоронен в имении Цицерона в Путеолах. Незадолго до своей смерти он принудил умереть девяностолетнего Сервиана (всю жизнь интриговавшего против него мужа сестры. — Л.О.), боясь, что тот его переживет и станет, как он думал, императором. За незначительные проступки он велел убить множество других людей, которых Антонин, однако, спас. Умирая, он, говорят, написал такие стихи:
«Душа моя, скиталица
И тела гостья, спутница,
В какой теперь уходишь ты,
Унылый, мрачный, голый край,
Забыв веселость прежнюю».
(Там же, XXV, 7)
«Ненавидимый всеми». Жестокий и несправедливый приговор! Люди отняли у Адриана возможность достойно умереть по своей воле. Они продлевали его мучения, лишили рассудка и сами же в страхе возненавидели. Свой страх и ненависть они сообщили потомкам, оскорбив этим память одного из самых великих римлян.
Глава IX Антонин Пий и Марк Аврелий
II век после Р.Х. многие авторы именуют «Золотым веком» Римской истории. Нередко его называют временем правления династии Антонинов, имея в виду всю плеяду императоров от Нервы до Марка Аврелия. Между тем ни Нерва, ни Траян, ни Адриан не принадлежали к семейству Антонинов. Первым императором из этого семейства стал преемник Адриана — Антонин Пий. До усыновления его полное имя было Тит Аврелий Фульвий Бойоний Антонин. Род Аврелиев в давние республиканские времена переселился в Галлию. Перейдя в род Адриана, будущий император стал именоваться Тит Элий Адриан Антонин. Прозвище Пий (благочестивый) он приобрел позже — за то, что вопреки сопротивлению сената добился посмертного обожествления Адриана и поставил ему храмы (сначала в Путеолах близ места кончины, а потом в Риме). В Историю он вошел просто как Антонин Пий. Согласно последней воле Адриана став императором, Антонин Пий усыновил юношу из рода Анниев — Марка Анния Катилия Севера. Войдя и в род Элиев, и в род Аврелиев, он стал именоваться Марк Элий Аврелий Антонин. Отсюда сокращенное Марк Аврелий (иногда Марк Антонин).
Так что, строго говоря, к династии Антонинов принадлежат только два последних императора из тех, что фигурируют в этой книге. Почему же историческая традиция распространила это имя на всю эпоху «древнеримского ренессанса», начавшуюся после смерти Домициана? Быть может, потому, что более чем сорокалетний период правления этих двух императоров был особенно счастливым и потому их имя стало синонимом всего «Золотого века»? В какой-то мере так. Ведь оба они отличались исключительной (даже для этого века) мягкостью и доброжелательностью. Почему же после смерти Марка Аврелия эпоха внутреннего мира, согласия и процветания Рима так резко и безвозвратно оборвалась? Неужели только потому, что следующий император, Коммод, был полной противоположностью своих предшественников? Но ведь сумел Рим оправиться после деспотических правлений Нерона и Домициана! Видимо, в последнем счастливом сорокалетии Римской истории был какой-то изъян. Попробуем разобраться. С этой целью (не упуская из виду хронологию событий) я буду иногда рассматривать весь этот период в целом, обращая внимание на сходство личных качеств и особенностей правления двух последних императоров.
В первую очередь их объединяют высокая культура, терпимость и доброжелательность. Антонин Пий родился в 86-м году, стал императором в 138-м, а умер в 161-м, семидесяти пяти лет от роду. Его почти безоблачное правление длилось двадцать три года. Вот несколько фрагментов из биографии Антонина Пия, составленной историком III века Юлием Капитолином (первый фрагмент относится ко времени до избрания императором). «Он выделялся своей наружностью, славился своими добрыми нравами, отличался благородным милосердием, имел спокойное выражение лица, обладал необыкновенными дарованиями, блестящим красноречием, превосходно знал литературу, был трезв, прилежно занимался возделыванием полей, был мягким, щедрым, не посягал на чужое — при всем этом у него было большое чувство меры и отсутствие всякого тщеславия». (Юлий Капитолин. Антонин Пий, II, 1) «Он управлял подчиненными ему народами с большой заботливостью, опекая всех и все, словно это была его собственность. Во время его правления все провинции процветали. Ябедники исчезли. Конфискация имущества происходила реже, чем когда бы то ни было, так что только один человек, обвиненный в стремлении к тирании, был объявлен вне закона: это был Атилий Тициан, причем так наказал его сенат. Император запретил производить розыск относительно его соучастников, а его сыну он всегда оказывал помощь во всем». (Там же, VII, 1) «Он приказал своим прокураторам проявлять умеренность при сборе податей, а с тех, кто превышал меру, он требовал отчета в их действиях и никогда не радовался выгоде, если она была связана с притеснением провинциалов... Недосягаемость императорской власти он соединил с величайшей любезностью, что еще больше усилило ее, к неудовольствию придворных слуг, которые при государе, делавшем все без посредников, не могли уже запугивать людей и продавать то, что не было тайной». (Там же, VI, 1)
Марк Аврелий родился в 121-м году. На восемнадцатом году жизни, после усыновления Антонином Пием, по желанию приемного отца переселился в императорский дворец и был назначен квестором. В девятнадцать лет стал консулом, в двадцать четыре года — второй раз консулом, а после смерти Антонина Пия, в сорок лет — императором. Вот как пишет о Марке Аврелии и его правлении тот же историк: «...он так вел себя в течение двадцати трех лет в доме отца (приемного. — Л.О.), что любовь к нему с каждым днем возрастала... Поэтому, когда Антонин Пий почувствовал приближение конца жизни, он призвал своих друзей и префектов, всем им представил Марка как преемника своей власти и утвердил его». (Юлий Капитолин. Жизнеописание Марка Антонина Философа, VII, 2) «К народу он обращался, как это было принято в свободном государстве. Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда нужно было удержать людей от зла либо побудить к добру, богато наградить одних, оправдать — выказав снисходительность — других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших — превосходными, спокойно перенося даже насмешки некоторых...» (Там же, XII, 1) «Так он правил, окруженный всеобщей любовью, так что одни называли его братом, другие — отцом, третьи — сыном, как кому позволял возраст. И все любили его, и закончил он свои дни... на шестьдесят первом году жизни. И так ярко проявилась любовь к нему в этот день императорских похорон, что никто не считал нужным горевать о нем, так как все были уверены, что, ниспосланный богами, он возвратился к богам». (Там же, XVIII, 1)
После смерти Марка Аврелия остались его «Записные книжки». Одна из записей указывает на то, что Марк любил своего приемного отца и, став императором, старался во всем следовать его примеру. Он пишет: «Во всем ученик Антонина: это его благое напряжение в том, что предпринимается разумно, эта ровность во всем, праведность, ясность лица, ласковость, нетщеславие... И как он вообще ничего не оставлял, пока не рассмотрит дело вполне хорошо и ясно. И как он сносил тех, кто несправедливо его порицал, не порицая их. Как не спешил никуда и как не слышал клевет. И какой старательный был наблюдатель нравов и людских дел, а не хулитель их. На любой звук не косился. Не подозрительный, не выдумщик. И сколь немногим довольствовался, будь то жилье, постель, одежда, еда или прислуга. И как трудолюбив, как вынослив... Эта прочность и неизменность в дружбе и терпимость к тем, кто открыто выступал против его решений, и радость, если кто укажет лучшее. И как был благочестив без суеверия. Встретить бы тебе свой последний час с такой же, как у него, чистой совестью». (Марк Аврелий Антонин. Размышления, VI, 30)
Раз уж я воспользовался материалом из «Записных книжек» Марка Аврелия, надо пояснить, что это такое. Они переиздавались много раз, едва ли не на всех языках мира. Не будет преувеличением сказать, что слава автора «Записных книжек» намного превзошла славу последнего императора рассматриваемой нами эпохи «Высокой Империи». Записи Марка Аврелия были впервые напечатаны в XVI веке под названием «Размышления». В некоторых изданиях фигурирует название «К самому себе». Вероятно, авторского названия не существовало. Личные записи императора явно не предназначались для опубликования — по крайней мере в таком виде, как они остались после его смерти. Это около пятисот замечаний, по большей части очень коротких, хотя встречаются и пространные философские рассуждения. Записи носят характер заметок для памяти. Они сделаны в разное время и никак не систематизированы. Многие положения повторяются неоднократно, как бывает, если какая-то мысль на протяжении долгого времени преследует автора. Философский аспект превалирует как в коротких замечаниях этического характера, так и в рассуждениях о высоких материях: устройстве мира, мировом разуме, душе и ее посмертных превращениях. Недаром биография, составленная Капитолином, названа «Жизнеописание Марка Антонина Философа». Нередко в литературе Марка Аврелия называют «философ на троне». Он не был истинным ученым-философом: не создал оригинальной философской концепции и даже не развил какое-либо из существующих философских учений. Греческой философией различных школ и направлений Марк с увлечением занимался с детства. Заметив его раннюю, не по годам, серьезность, император Адриан пригласил в Рим лучших учителей. К двенадцати годам мальчик выбрал для себя учение стоиков. Уже тогда стоицизм для него был не только мировоззрением, но и практическим руководством в жизни. Он приучал себя к воздержанию, спал на досках. Убежденным стоиком Марк Аврелий остался до конца своих дней. Вся его государственная деятельность направлялась идеями, и в частности этикой, стоицизма. С аналогичной ситуацией мы уже встречались при знакомстве с Сенекой. Повторю: здесь не место углубляться в философское учение стоиков. Но этические взгляды римского императора и их приложение к практике управления государством нас, конечно же, интересуют. По этой причине некоторые (очень немногие) замечания этического плана из «Размышлений» Марка Аврелия я считаю нужным процитировать, приостановив историческое повествование. Отобранные цитаты объединены в четыре условно поименованные группы.
Восприятие внешнего мира во власти человека
«В чужом ведущем (термин стоической философии, обозначающий, грубо говоря, душу человека) твоей беды нет, как нет ее, конечно, и в том или ином развороте или изменении внешнего. Но где же? Там, где происходит признание беды. Так вот пусть не идет оттуда признание, и все у тебя хорошо. И если даже это твое тело режут и жгут, если оно гноится, гниет, пусть та доля, которая ведает признанием этого, будет покойна, то есть пусть рассудит, что это ни добро, ни беда, раз может так случиться и с хорошим человеком, и с дурным». (Там же, IV, 39) «Быть похожим на утес, о который неустанно бьется волна. Он стоит, и разгоряченная влага затихает вокруг него. Несчастный я, такое со мной случилось! — Нет! Счастлив я, что со мной это случилось, а я по-прежнему беспечален, настоящим не уязвлен, перед будущим не робею». (Там же, IV, 49)
Личные качества души — отражение природы человека
«...Довольно тебе, если проживешь сколько тебе там остается так, как хочет твоя природа. Вот и рассмотри, чего она хочет, и пусть ничто другое тебя не трогает — изведал же ты, как после стольких блужданий нигде ты не обрел счастливой жизни: ни в умозаключениях, ни в богатстве, ни в славе, ни в удовольствии — нигде. Тогда где ж она? В том, чтобы делать, чего ищет природа человека... нет человеку добра в том, что не делает его справедливым, здравомысленным, мужественным, свободным...» (Там же, VIII, 1)
«Радость человеку — делать то, что человеку свойственно. А свойственны человеку благожелательность к соплеменникам, небрежение к чувственным движениям, суждение об убедительности представлений, созерцание всеобщей природы и того, что происходит в согласии с ней». (Там же, VIII, 26)
«...являй себя в том, что всецело зависит от тебя: неподдельность, строгость нрава, выносливость, суровость к себе, несетование, неприхотливость, благожелательность, благородство, самоограничение, немногоречие, величавость. Не чувствуешь разве, сколько ты мог уже дать такого, где никакой не имеет силы ссылка на бездарность и неспособность». (Там же, V, 5)
Доброжелательность
«У всякого своя радость. У меня вот — когда здраво мое ведущее и не отвращается ни от кого из людей и ни от чего, что случается с людьми, а напротив, взирает на все доброжелательным взором, все приемлет и всем распоряжается по достоинству». (Там же, VIII, 43)
«Иной, если сделает кому что-нибудь путное, не замедлит указать ему, что тот отныне в долгу. Другой не так скор на это — он иначе, про себя помышляет о другом как о должнике, помня, что он ему сделал. А еще другой как-то даже и не помнит, что сделал, а подобен лозе, которая принесла свой плод и ничего не ждет сверх этого. Пробежал конь, выследила собака, изготовила пчела, а человек сделал добро — и не кричат, а переходят к другому, чтобы, подобно лозе, снова принести плод в свою пору». (Там же, V, 6)
«С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надеждой и ненарочитой значительностью, любовно, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума...» (Там же, II, 5)
Общественное служение
«Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет, что просыпаюсь на человеческое дело. И еще я ворчу, когда иду делать то, ради чего рожден и зачем приведен на свет? Или таково мое устроение, чтобы я под одеялом грелся? — Так ведь сладко это. — А ты, значит, родился для того, чтобы сладко было? И ничуть не для того, чтобы трудиться и действовать?.. Не любишь ты себя, иначе любил бы и свою природу, и волю ее. Вот ведь кто любит свое ремесло — сохнут за своим делом, неумытые, недоевшие. Ты, значит, меньше почитаешь свою природу, чем чеканщик свою чеканку, плясун — пляску, серебро — сребролюбец, тщеславие — честолюбец? Ведь эти, когда они что-то там переживают, ни еду не предпочтут, ни сон — только бы им умножать то, к чему они устремлены, а для тебя общественное деяние нечто более убогое, недостойное даже таких усилий?» (Там же, V, 1)
«Две готовности надо всегда иметь. Одна: делать только то, что подлежит тебе по разуму властителя и законодателя на пользу людей. И еще: перестраиваться, если явится кто-нибудь, чтобы поправить или переубедить в каком-нибудь мнении. Только чтобы переубеждение шло от некой достоверности, будь то справедливость, или общая польза, или что-нибудь такое, а не от того, что поманила сладость или там слава.» (Там же, IV, 12)
«Кто-то станет презирать меня? Его забота. А моя забота — чтобы не случилось, что я сделал или сказал что-нибудь достойное презрения. Кто-то возненавидит? Его забота. А я, благожелательный и преданный всякому, готов и ему показать, в чем его недосмотр — без хулы, без намека на то, что вот-де терплю, а искренне и просто...» (Там же, XI, 13)
Читатель понимает, что из пятисот замечаний, даже ограничиваясь рамками этики, можно было бы отобрать намного больше интересных высказываний. Но и этого достаточно, чтобы получить представление о нравственном облике «императора-философа».
Обратимся теперь к практике правления обоих императоров. Во-первых, поинтересуемся их взаимоотношениями с сенатом. Они, по-видимому, были наилучшими. Об Антонине Пии Юлий Капитолин пишет так: «Будучи императором, он оказывал сенату такое уважение, какое он хотел бы видеть по отношению к себе со стороны другого императора в бытность свою частным человеком». (Юлий Капитолин. Антонин Пий, VI, 5) О Марке Аврелии тот же историк говорит более подробно: «Никто из государей не оказывал сенату большего уважения... Многим сенаторам, обедневшим не по своей воле, он пожаловал звание трибунов или эдилов. В это сословие он зачислял только тех, кого он сам хорошо знал (отмечу, что при Марке Аврелии в сенат было введено больше провинциалов, чем при каком-либо из прежних императоров. Их число превысило половину состава сената). Уважение его к сенаторам выражалось и в том, что при привлечении кого-нибудь из них к суду по уголовному делу он расследовал это дело секретно и уже потом объявлял о нем... Всякий раз, как у него была возможность, он участвовал в заседаниях сената, хотя бы ему не о чем было докладывать. Если же он хотел о чем-нибудь доложить, то приезжал даже из Кампании. Кроме того, он часто участвовал в комициях, оставаясь там до самой ночи. Из курии он никогда не уходил раньше, чем консул объявит: «Мы больше не задерживаем вас, отцы сенаторы». Сенат он сделал судьей по апелляциям на решения консула». (Юлий Капитолин. Жизнеописание Марка Антонина Философа, X, 2)
Оба Антонина сохранили административную систему управления, созданную Адрианом, включая и Совет императора. Рассмотрим сначала их внутригосударственную деятельность. Не цитируя, перечислю факты, отмеченные биографом Антонина Пия.
Будучи очень богатым, он на собственные средства закончил все строительные работы, начатые Адрианом. Не сменил никого из чиновников. Любые свои решения сначала обсуждал с друзьями и всегда считался с их мнением. Знатных бездельников лишил государственного содержания, говоря, что «самое недостойное, самое возмутительное — это если кто-нибудь объедает государство, сам не принося ему никакой пользы». Вместе с тем дельных сенаторов и должностных лиц поддерживал материально, если они в том нуждались. Отчетность по налогам и отчетность всех провинций знал с большой точностью. Строго контролировал управителей провинций. Многим городам оказывал денежную помощь для строительства новых сооружений и восстановления старых. В частности, после сильного землетрясения на Родосе и в Азии. Увеличил размер денежного подарка воинам. Кроме обычных раздач денег народу, в дни голода, случившегося из-за неурожая, покупал на свои деньги и бесплатно раздавал хлеб и масло. Наследства от тех, у кого были дети, не принимал. Был экономен, казну пополнил. Судьям предписывал более склоняться к духу, чем к букве закона, так, чтобы справедливость превалировала над формальностью. Ограничил практику пыток. Повелел, чтобы владельца, убившего своего раба без причины, судили и наказывали как за убийство чужого раба.
О Марке Аврелии
После смерти Антонина, согласно его воле, выраженной в усыновлении, Марк был провозглашен императором одновременно с Луцием Вером (таково было условие, поставленное Адрианом). Луций был человеком легкомысленным и падким на разного рода развлечения. Фактически правление находилось целиком в руках Марка Аврелия. Однако он всячески скрывал и оправдывал бездеятельность и пороки своего сводного брата и соправителя. В отношении государственных средств Марк проявлял величайшую бережливость, тем не менее, почти за двадцать лет своего правления семь раз устраивал крупные раздачи денег неимущим. Зато ограничил число зрелищ, на которых выступали гладиаторы, и уменьшил подарки актерам. Как и его приемный отец, Марк Аврелий постоянно заботился о снабжении населения продовольствием. Во время очередного голода закупал хлеб и раздавал его не только в Риме, но и в италийских городах. Оказывал материальную поддержку дельным людям и городам, приходившим в упадок. Там, где это было необходимо, даже отменял подати и налоги. Тщательно следил за исправностью улиц в Риме и больших дорог. К судебным делам относился с особым вниманием. Никогда не проявлял пристрастия в пользу императорского казначейства, если судил по делам, которые могли бы принести ему выгоду. Доносы презирал, на клеветников наложил пятно бесчестия.
Читатель, конечно же, отметил сходство. Об Антонине Пии и Марке Аврелии можно равно сказать, что они заботились о благе своих подданных, были правителями великодушными, бескорыстными, но бережливыми. Однако реформаторами их назвать нельзя. Никаких существенных нововведений они не предложили. Государственная система управления, отлаженная Адрианом, действовала надежно. Внутренняя жизнь Рима, Италии и ближних провинций в течение сорока с лишним лет продолжалась по инерции: ровно и относительно благополучно. Чего отнюдь нельзя сказать об окраинных провинциях и отношениях с соседями Империи.
За время правления Антонина Пия восстания местного населения вспыхивали по всей периферии Римской империи: в Иудее, Греции и Египте, в Мавретании и Британии, в Германии и Дакии. На востоке приходилось сдерживать нажим сарматов. Император был стар, да и по характеру своему не воин. Он оставался в Риме. Восстания подавляли его легаты. Как и прежде — с помощью регулярного римского войска, порядочно разбавленного варварами-наемниками.
Сразу после смерти Антонина Пия римским полководцам пришлось подавлять новые волнения в Британии, Германии и Испании. В 162-м году парфяне, нарушив мирный договор, заключенный еще Адрианом, начали новую войну с Римом. Им удалось разбить местные силы римлян, подчинить Армению и вторгнуться в Сирию. Ситуация на Востоке стала критической. Пришлось срочно перебросить туда рейнские и дунайские легионы. В качестве главнокомандующего на войну с парфянами отправился Луций Вер. Марк Аврелий остался в Риме. Так было надежнее для новой власти. Тем более что с легионами на Восток прибыли опытные полководцы Авидий Кассий и Стаций Приск.
Вер и не пытался принять участие в боевых действиях. Император-соправитель развлекался в Антиохии. Однако Кассий и Приск за два года сумели одержать победу над Парфией и даже захватить ее столицу. Но тут в римском войске вспыхнула эпидемия чумы. Заключив с парфянами мирный договор, римляне ушли с Востока. Возвратившиеся воины принесли чуму в Рим. В следующие несколько лет от нее умерло около двухсот тысяч человек.
Тем временем, ввиду ослабления обороны по Дунаю, в пределы Империи началось вторжение германских племен маркоманнов и квадов. Им удалось захватить все римские провинции в среднем течении Дуная и через альпийские проходы проникнуть в Северную Италию. Марку Аврелию пришлось мобилизовать все наличные силы и в связи с опустошениями, произведенными чумой, зачислить в войско отпущенных по этому случаю рабов, гладиаторов и даже разбойников. Однако денег для жалованья солдатам не было, казна была опустошена парфянской войной. Марк Аврелий поступил так, как не делал никто до него. По свидетельству Юлия Капитолина, «...он даже не подумал требовать от провинций каких-нибудь чрезвычайных поборов. На форуме божественного Траяна он устроил торги принадлежавших императору предметов роскоши. Он продал золотые, хрустальные, мурриновые бокалы, императорские сосуды, шелковую золоченую одежду жены, даже драгоценные камни, которые он нашел в большом количестве в потайной сокровищнице Адриана. Эта распродажа длилась два месяца, и было выручено столько золота, что он мог, закончив маркоманнскую войну так, как он желал, дать покупщикам такое разрешение: кто хочет вернуть купленные вещи и получить назад деньги, пусть знает, что это позволено. И он не выказывал никакого неудовольствия ни против тех, кто не отдавал купленного, ни против тех, кто отдавал его». (Там же, XVII, 3)
В поход против маркоманнов и квадов отправились оба соправителя. Но в 169-м году Луций Вер умер от апоплексического удара. Северная война продолжалась еще пять лет и закончилась трудной победой римлян. Варвары были изгнаны из всех римских провинций. Легионы продвинулись и дальше на север, завладев частью земель своих противников на территории нынешней Венгрии и Словакии. Марк Аврелий даже намеревался создать там новые римские провинции Маркоманнию и Сарматию, но не успел. В 175-м году ему пришлось срочно отправиться на Восток, где главнокомандующий восточным войском Авидий Кассий, распустив слух о смерти Марка, объявил себя римским императором. Впрочем, до междоусобной войны дело не дошло, так как Кассий был убит своими же офицерами. Однако, воспользовавшись отсутствием императора, маркоманны и их союзники собрались с силами и вновь напали на римлян. В 177-м году Марк Аврелий снова отправился на войну. На этот раз его сопровождал шестнадцатилетний сын, Коммод. Варвары были вновь отброшены, но император сам стал жертвой чумы и в 180-м году умер в городе Виндбонне (нынешняя Вена).
Ирония судьбы! Марк Аврелий, философ, ненавидевший насилие, из почти двадцати лет своего правления более половины времени провел на войне. Трудно сказать, командовал ли он сражениями. Нам ничего не известно о его военном опыте. В молодые годы Марк его не получил (здоровье у него было слабое, но он умел преодолевать недуги усилием воли). В связи с подавлением различных восстаний в годы правления Антонина Пия имя Марка не упоминается. Но, так или иначе, для поддержания воинского духа присутствие императора на театре военных действий было, несомненно, полезным, и Марк Аврелий видел свой долг в том, чтобы находиться там.
Чего он, увы, не видел и не понимал, так это пагубности политики подчинения Риму захваченных у соседей территорий (даже собирался создавать новые провинции). То же относится и к Антонину Пию. Оба они были привержены традиционной, еще республиканской политике силы и не сомневались в праве Рима господствовать над всеми побежденными им народами, равно как и в целесообразности этого. По-видимому, Адриан не успел убедить их в необходимости сокращения территорий Империи, интеграции и романизации всего ее населения. Антонина Пия он усыновил перед самой смертью, будучи тяжелобольным, а Марк Аврелий был еще слишком молод. Как сложилась бы судьба Римской империи, если бы в течение сорока лет после смерти Адриана его замысел настойчиво проводился в жизнь? Об этом нам остается только гадать...
В упрек Марку Аврелию можно поставить реставрацию династического принципа наследования императорской власти. Еще в 166 году, во время триумфа по поводу победы над Парфией, он провозгласил своего пятилетнего сына Коммода Цезарем, а спустя одиннадцать лет — Августом. Это было прямым указанием на наследование титула римского императора, хотя в шестнадцать лет никак нельзя было судить о том, будет ли Коммод его достоин. Чтобы проверить свой выбор, Марк взял сына с собой на вторую войну с маркоманнами. Результат был, очевидно, неудовлетворительным. Если верить Юлию Капитолину то за два дня до смерти Марк Аврелий сказал друзьям, что он огорчен не тем, что умирает, а тем, что оставляет после себя такого сына. Есть версия, что в действительности Коммод и не был сыном Марка (о развратности жены императора Фаустины в Риме ходили упорные слухи). Тем не менее, сенат провозгласил его императором. У нового правителя не оказалось ни государственного ума, ни личного достоинства. Очень скоро он выказал себя человеком жестоким, к тому же пьяницей и дебоширом. Его интересовали только гладиаторские бои. Отличаясь большой физической силой, он сам — неслыханно для римского императора! — участвовал в них великое множество раз. Большую часть времени новый принцепс проводил в казармах гладиаторов, препоручая государственные дела часто сменяющимся фаворитам. С сенатом он вскоре начал жестокую борьбу, государственную казну растратил на попойки. В 192-м году в результате дворцового заговора Коммод был убит. Власть в государстве захватили преторианцы... С этого момента начинается эпоха так называемой «Низкой Империи», когда императорская власть часто переходила из рук в руки — в большинстве случаев недостойные. А мой рассказ на этом заканчивается.
Грустное окончание? Не будем торопиться с выводами. Описывая правление Марка Аврелия, я имел возможность показать его высокие личные достоинства, но вместе с тем отметить некоторую политическую недальновидность. Что важнее? С точки зрения ближайшей Истории Рима, наверное последнее. Если бы Марк продолжил дело Адриана, слава и могущество Рима, возможно, продлились бы еще одно-два столетия. Однако последующий распад огромного римского государства, вероятно, был неизбежен. Об этом убедительно говорят политэкономы, указывая на неэффективность рабского труда и другие весьма серьезные вещи. Наверное, они правы. Однако хочу обратить внимание читателя на значение личных качеств Марка Аврелия, причем в плане историческом и даже более крупномасштабном, чем судьба Римской империи.
Первая книга (глава) «Размышлений» представляет собой некий список признательности Марка всем, кто в ранние годы формировал его мировоззрение и отношение к людям. Здесь и предки, и родители, и учителя, и даже боги. Совокупность взглядов и черт характера, за которые император благодарит своих наставников, хорошо представляет личность автора «Размышлений». Я не воспользовался этим списком потому, что он, естественно, имеет декларативный характер и, кроме того, куда убедительнее привести сторонние свидетельства о достоинствах человека. Но на один из пунктов этого перечня воспринятых качеств я бы хотел обратить внимание читателя. Вот его текст: «От... Севера (по-видимому, философ Клавдий Север. — Л.О.) любовь к ближним, истине, справедливости. И что благодаря ему я узнал о Тразее, Гельвидии, Катоне, Дионе, Бруте и возымел представление о государстве, которым правят в духе равенства и равного права на речь, с законом, равным для всех, также о единодержавии, которое всего более почитает свободу подданных». (Марк Аврелий Антонин. Размышления, I, 14)
Тразея Пет и Гельвидий Приск, как мы помним, — казненные республиканские оппоненты Нерона. Катон младший и Марк Брут — республиканцы, противники Юлия Цезаря и, наконец, Дион — ученик и друг Платона, боровшийся против тирана Сиракуз Дионисия II. То, что Марк Аврелий называет эти имена в качестве нравственного примера, как имена людей, которым он обязан представлением о свободном и равноправном (хотя и единодержавном) государстве, означает, что он следует их примеру и разделяет их политические убеждения. Мы также вправе заключить, что достойные восхищения нравственные качества Марка Аврелия не случайно схожи с отмеченными ранее достоинствами его предшественников: Нервы, Траяна, Адриана и Антонина Пия. По-видимому, все они следовали тем же примерам. В этом проявилось возрождение или, точнее сказать, новое выявление традиционных особенностей римского характера. Я назову три на мой взгляд, главные. Это мужество, свободолюбие и личное достоинство. Эти особенности во многом обусловили расцвет и могущество древнего Рима, победное шествие по миру его легионов. Яркие проявления римского характера нам открылись при знакомстве с великими римлянами времен Республики и Гражданских войн. Империя возникла как необходимая форма существования огромного Римского государства. Присущая ей возможность деспотии не раз реализовалась в весьма отталкивающих формах (историки ведь описывают главным образом поступки самих деспотов). Но римский характер продолжал существовать, римская традиция не прерывалась. Это засвидетельствовали для потомков мужественным достоинством своей жизни и смерти Тразея Пет, Гельвидий Приск и многие другие жертвы деспотии. За время жестокого правления Домициана терпение римлян исчерпалось. Они не захотели более сносить не совместимую с их характером тиранию. Приход к власти плеяды императоров «Золотого века» — от Нервы до Марка Аврелия — не случаен. Они на уровне верховной власти восстановили древнеримскую нравственную традицию. Им удалось найти форму единовластия, совместимого с традиционной республиканской психологией римлян. Напомню, что первые шаги в этом направлении были сделаны Юлием Цезарем и Августом. И хотя после Марка Аврелия в силу объективных внешних обстоятельств римская республиканская традиция была постепенно утрачена, ее почти тысячелетнее существование и связанные с ней успехи Римского государства повлияли на дальнейшую историю западного мира. После мрачного удушья средних веков римские идеалы свободы и личного достоинства возродились в европейских освободительных движениях XVIII века. Эти идеалы живы и поныне. Вера в их могущество укрепляется знакомством с Римской историей.
Вместо эпилога
Увы, мой неведомый друг, мой читатель! Пора нам прощаться. Спасибо за твое долготерпение и, надеюсь, сочувствие. Но прежде чем расстаться, давай вместе простимся с древним Римом. Глянем на него с высоты птичьего полета. На форум, храмы, портики, где перед нашим мысленным взором прошелестели девять веков, свершилось столько событий, являлись такие лица!
Нет, я не предлагаю тебе путешествие на машине времени и ковре-самолете. Останемся реалистами. В большом зале нового музея античности в Риме выстроен макет Вечного Города метров двадцать пять в поперечнике. На нем, правда, представлен Рим IV века нашей эры. Но не беда. После Марка Аврелия в нем мало что строилось (если не считать терм Севера, Каракаллы, Диоклетиана и Константина). Вокруг макета идет приподнятая над ним кольцевая галерея. Находясь на ней, мы и совершим обзор «с высоты птичьего полета». Достоверность планировки и внешнего вида зданий оставим на совести ученых: археологов, историков и архитекторов. Надеюсь, что похожее зрелище мы бы увидели 18 веков назад. Фотография макета представлена на разворотах в начале и в конце книги.
Для описания я выбрал место поближе к историческому центру города. Мы оказались на южной окраине. Фиксируем ориентиры. Ближе всего к нам полукруглый конец Большого Цирка. Так и хочется назвать его ипподромом. Беговое поле протянулось на полкилометра наискось влево, в направлении ближней излучины Тибра, оттесняющей город (река находится слева от нас. Общее направление ее течения в границах города — с севера на юг. Но русло образует три большие излучины: следующая за ближней уходит сильно влево, а третья вновь наступает на город). С близкого расстояния хорошо видны двухъярусные трибуны Цирка, продольная разделительная стенка на его поле («спина») и стартовые стойла для квадриг на противоположном конце. Второй ориентир — Палатинский холм. Он начинается сразу за Большим Цирком. Обращенные в нашу сторону фасады его дворцов выстроились параллельно направлению Цирка и почти нависают над его трибуной. Третий ориентир — Колизей. Огромная чаша амфитеатра возвышается близ дальнего правого угла подножия Палатина. С нашей точки наблюдения направление на Колизей — наискось вправо. Оно составляет примерно прямой угол с продольной осью Большого Цирка. Мы находимся против вершины этого угла, а внутри него — Палатинский холм. В такой «системе координат» я постараюсь определить расположение всех прочих достопримечательностей города. Но сначала несколько первых впечатлений от его панорамы.
Если мы будем следовать взглядом вдоль линии, которая выходит из вершины нашего прямого угла и делит его пополам, то «перевалим» через Палатинский холм и окажемся в низине, тесно застроенной величественными зданиями и храмами, увидим обширные площади, окруженные портиками. Это исторический центр города. Здесь расположен древний Форум, а то, что я, глядя сверху, назвал площадями, не что иное, как императорские форумы. В направлении, примерно параллельном оси Большого Цирка, низина и древний Форум на ней упираются в небольшой, но крутой Капитолийский холм. Слева он обрывается «Тарпейской скалой», с которой сбрасывали преступников.
Справа в его склоне была вырыта тюрьма с Туллиевым подземельем, где по приказу Цицерона были задушены сподвижники Катилины. Там же спускалась к Форуму лестница Гемониев, на которой выставляли трупы казненных.
«Двигаемся» дальше в том же направлении — параллельно Большому Цирку. За Капитолием попадаем в район, охваченный второй (отступающей от города) излучиной реки. Это — Марсово поле. Когда-то оно действительно было полем, местом военных смотров, спортивных состязаний и собраний центуриатских комиций, куда приходили с оружием, что в черте города запрещено. Теперь Марсово поле застроено общественными зданиями и портиками. В двух этих районах расположены почти все знакомые нам здания. По склонам остальных пяти римских холмов и в долинах между ними теснятся жилые кварталы. Дома, построенные после пожара 64-го года, в основном небольшие — в два-три этажа. Улицы довольно узкие, но прямые. Ближе к окраинам много зелени, хотя обширные сады времен Республики не сохранились.
Возвращаясь к двум районам размещения общественных зданий, отметим характерные особенности их застройки. Первая: все храмы похожи друг на друга, как родные братья. Тот же прямоугольник в плане, двускатная, крытая черепицей крыша с фронтоном. Со всех четырех (иногда с трех) сторон — колонны. Издали кажется, что отличаются они только размерами. Вторая особенность — множество огражденных портиками прямоугольных площадей: императорские форумы, парки или дворы, окружающие некоторые храмы и термы, участки, прилегающие к театрам, просто площадки для прогулок, наконец огромная площадь «Оград» Юлия Цезаря на Марсовом поле. Третья особенность — большие циркулярные постройки. Помимо овального Колизея, полукружия четырех театров и двух цирков, «барабан» Пантеона, мавзолей Августа, где-то слева за Тибром мавзолей Адриана и цирк Калигулы.
А теперь «пройдемся» по знакомым местам. Архитектурные детали издали не видны, да я и не собираюсь вновь описывать здания и сооружения, представленные ранее. Моя задача — собрать их вместе, чтобы помочь заинтересованному читателю разобраться в прилагаемом плане и фотографии макета императорского Рима.
Начнем с «начала координат» — триумфальных ворот, расположенных в центре полукруга ближнего к нам конца Большого Цирка. Сам цирк и конные состязания в нем описаны в начале 8 главы 1-го тома. Двинемся дальше в сторону Колизея. Перед нами застройка Палатинского холма. Вдоль Большого Цирка по направлению к Тибру располагается сначала великолепная резиденция последних императоров — дворец Флавиев (он описан в 6 главе этого тома), а за ней небольшие храмы Аполлона и Матери богов. Первый сравнительно недавно воздвигнут Августом, второй — времен Республики. В нем хранится черный камень из Пессинунта — символ Матери богов. За храмами — скромный дом Августа (его называют иногда «дом Ливии»). Глубже, до самого склона холма, обращенного к древнему Форуму, разместился еще один дворцовый комплекс — «дом Тиберия». Он занимает втрое меньше места, чем отстроенный Домицианом дворец Флавиев, и по сравнению с ним выглядит довольно убого. Обманчивое впечатление неустойчивости производит очень высокая (над долиной между двумя холмами) стена акведука, подающего воду к дворцам на Палатине. Она образована четырьмя рядами поставленных друг на друга арок. Наверное, именно для устойчивости древний архитектор сделал линию стены ломаной.
Теперь Колизей. Благодаря бесчисленным фотографиям неплохо сохранившихся остатков огромного амфитеатра читатель наверняка имеет представление о его внешнем виде. Три яруса по восемьдесят огромных арок в каждом создают впечатление ажурности всего сооружения. Мощные опорные столбы арок декорированы изящными полуколоннами дорического, ионического и коринфского ордеров. Гладкую стену четвертого яруса расчленяют коринфские пилястры. Стена и столбы арок сложены из крупных блоков. В арках второго и третьего ярусов были установлены статуи. Общая высота Колизея — 50 метров. Восемьдесят радиально расходящихся стен из туфа и бетона служили опорами бетонных сводов, которые поддерживали места зрителей. Под ними — три яруса кольцевых галерей. Рационально устроенная система входов и лестниц позволяла быстро заполнить и освободить амфитеатр, вмещавший 50 тысяч зрителей. В плане здание представляет собой овал с осями длиной в 188 и 156 метров. Площадку для представлений посыпали песком (песок по-латыни — арена). Под ареной находилось множество помещений для гладиаторов и диких зверей. Туда же подходили трубы от ближайшего водопровода. Арену окружала сплошная стена подиума высотой в 4 метра. Вместе с плотно пригнанным деревянным полом арены эта стена могла образовать резервуар, заполненный водой, где разыгрывались морские сражения. На подиуме располагались кресла для сенаторов и ложа императора. Выше поднимались три яруса каменных скамей, облицованных мрамором. Еще выше, под колоннадой — места для женщин. Колоннада поддерживала кольцевую террасу, с которой стоя могли наблюдать за представлениями рабы.
Гладиаторы входили через арку, расположенную в конце большой оси эллипса. Они совершали круг по арене, останавливались перед ложей императора и, подняв правую руку, произносили: «Здравствуй, император, идущие на смерть приветствуют тебя!»
Величественное здание Колизея вызывает почтительное изумление современных туристов. Но мало кто обращает внимание на одну деталь, заслуживающую, быть может, не меньшего удивления. Между каждой парой пилястров верхней стены наружного фасада можно заметить по три каменных кронштейна. На них опирались 240 мачт. Летом для защиты от солнца на мачты натягивали огромный тент. Эту операцию выполняли моряки. Трудно представить себе, как они с ней справлялись, особенно в ветреную погоду.
Неподалеку от Колизея, с левой стороны видим сверкающую золотом гигантскую статую Нерона-Солнца, перенесенную сюда Адрианом. Перед Колизеем, ближе к нам, замечаем квадрат большого портика. Внутри него — традиционный храм. Площадь внутри портика густо засажена правильными рядами деревьев. Это храм Божественного Клавдия. А в том же направлении, что привело нас от конца Большого Цирка к Колизею, метрах в двухстах за ним виден еще один большой портик. Его обращенная к амфитеатру сторона являет собой полукруг, за которым блестит вода огромного бассейна. За бассейном, в роскошном парке выстроен обширный комплекс высоких зданий. По причудливому сочетанию полуцилиндров и куполов, венчающих эти здания, легко узнаем термы. Это гигантские термы Траяна. Словно отпочковавшись от них, к одной стороне полукруга ограды, ближе к Колизею, прилепился еще один маленький прямоугольник портика. Внутри него тоже термы, но по сравнению с траяновыми совсем маленькие. Это термы Тита.
Попробуем теперь «пройти» на древний Форум. Первый раз мы его мысленно посетили четыре века назад, перед началом Первой Пунической войны (т. I, глава 4). Тогда он был еще полупустым. Что там находилось? Регия — в древности резиденция царей, потом дом Великого Понтифика. В нем жил Юлий Цезарь. Храм Весты — хранилище вечного огня и палладиума, дом весталок с бассейном и статуями Великих весталок на его берегах. Храм Кастора и Поллукса, воздвигнутый в честь победы римлян над латинянами в начале V века до Р.Х., когда божественные братья помогли римлянам. В нем хранятся эталоны мер и весов, с которыми торговцы обязаны сверять свои инструменты. Далее — храм Сатурна. В его подиуме хранится государственная казна. Помнится, оба храма стояли с левой стороны площади (если идти по Священной Дороге к Капитолию) и казались огромными. Справа, в конце Форума — сенатская курия и мощеная площадка комиция перед ней. У подножия Капитолийского холма — храм Согласия. Его построили в глубокой древности в честь примирения плебеев и патрициев. Затем, полуразрушенный, восстанавливали, как мы помним, после убийства Гая Гракха в конце II века до Р.Х. (т. I, глава 8). Вершину Капитолия уже тогда венчал величественный, огромный храм Юпитера Всеблагого и Всемогущего. Ему предстояло много раз гореть и отстраиваться вновь. Бесчисленное число раз на главном алтаре государства перед храмом Юпитера Капитолийского приносились жертвы и звучали моления по всем важнейшим поводам общественной жизни Рима. Сюда поднимались со своими трофеями триумфаторы. За оградой храма укрывались убийцы Цезаря. Здесь солдаты Вителлия осаждали брата Веспасиана, Флавия Сабина...
Второй раз мы оказались на форуме через полтора столетия, перед появлением на нем братьев Гракхов. Тогда мы с восхищением рассматривали великолепную базилику Эмилия, потеснившую площадь Форума с правой стороны. Оживленность этого места общения, торговли и судебных разбирательств произвела на нас большое впечатление. Тогда же мы заметили храм Юноны Монеты — подательницы добрых советов, расположенный на Капитолийском холме правее и ниже храма Юпитера. Эти два храма прекрасно видны с галереи, но нам надо отыскать вход на Форум. Священная Дорога должна начинаться у подножья Палатинского холма, недалеко от Колизея. Но что это за новое, огромное здание справа от дороги? Его мы не припомним. Ну, конечно, это храм Венеры и Ромы, построенный Адрианом. Минуя его, вступаем на Форум. Теперь площадь кажется очень тесной. Много новых построек. В I веке до Р.Х. Форум с левой стороны потеснила колоссальная базилика Юлия, которую начал строить Цезарь, а закончил Август. Она заняла все пространство между храмами Кастора и Сатурна. Тогда же Цицерон по поручению Цезаря начал строительство форума его имени. Для этого ему пришлось передвинуть сенатскую курию и еще стеснить древний Форум. Часть места заняла трибуна для ораторов — ростра. Ее Цицерон переместил в конец Форума, перед храмом Сатурна. Затем Август забрал часть площади под строительство храма Цезаря, который он поставил на месте его сожжения, перед храмом Весты. Наконец, у подножия Капитолия, рядом с древним храмом Согласия Тит воздвиг храм Веспасиана, где потом упокоился и сам. В результате древний Форум оказался так зажат всеми этими базиликами и храмами, что нам с трудом удается разглядеть на макете кусочек его площадки.
Зато на линии, идущей от храма Венеры и Ромы под углом в 20 градусов к оси древнего Форума (справа от него), нетрудно обнаружить цепочку императорских форумов. Сначала почти квадратный форум Веспасиана с храмом Мира, за ним узкий, как пенал, форум Нервы (начатый Домицианом), потом великолепный форум Августа с храмом Марса Мстителя и, наконец, грандиозный комплекс: форум Траяна, базилика его имени (на ней виднеется верхушка колонны Траяна) и храм, воздвигнутый Адрианом. Все императорские форумы описаны в этом томе. Форум Цезаря с храмом Венеры-прародительницы, оказался зажатым между древним Форумом и форумом Августа.
Теперь от храма Траяна переведем взгляд влево, на район Марсова поля. Первым перед нами предстанет огромный прямоугольник «Оград» Юлия Цезаря. Читатель может припомнить символическую заключительную сцену 1-й главы этого тома: здесь, в Оградах, Август был провозглашен Великим понтификом. Вдали за Оградами, против третьей излучины Тибра, нам удастся заметить круглый барабан и лесистый холм мавзолея Августа. Где-то неподалеку находится и Алтарь Мира (т. III, глава 1).
К продольной стороне Оград слева примыкает цепочка, образованная Пантеоном, базиликой Нептуна и скромными термами Агриппы. Пантеон, как мы знаем, был поставлен Агриппой и перестроен Адрианом. Портик и базилику Нептуна Агриппа посвятил победе над флотом Антония и Клеопатры при Акции (т. II, глава 9). Еще левее за Пантеоном — великолепные термы Нерона. Рядом, ближе к нам — сады Агриппы с искусственным озером, на котором Нерон устраивал свои оргии.
Следующий ряд величественных сооружений образует стадион (цирк) Домициана и выстроенный им же музыкальный театр Одеон. Этот ряд продолжает гигантская подкова театра Помпея. Он построен в 53-м году до Р.Х. по образцу театра в Митиленах, которые Помпей посетил, возвращаясь из Азии. В театре Помпея пел Нерон. К его сцене примыкает обширный портик Помпея, а за ним — курия Помпея, где был убит Цезарь. Расположенный у берега Тибра «театральный район» продолжают (если двигаться вниз по течению реки) театр Бальба и описанный в 1 главе этого тома театр Марцелла. Против театра мост Фабрициуса ведет на остров. В дальнем его конце стоит храм Эскулапа. Мост Цестия соединяет остров с заречьем. Ближе к нам всю ширину Тибра перекрывает мост Эмилия. Площадь перед мостом — «Бычий Форум». Здесь торговали мясом и скотом, здесь же в середине III века до Р.Х. состоялись первые бои гладиаторов. И, наконец, дальние (от нас) ворота Большого Цирка, через которые, как читатель может припомнить, в дни игр входила торжественная процессия. Наша экскурсия закончена. Кое-что мы попутно вспомнили. Прощаемся с древним Римом и благодарим сотрудников музея античности. Аривидерчи, Рома!..
Источники
Аврелий Виктор, Секст. История Рима. В книге «Властелины Рима». Пер. В. Соколова. М., 1992.
Аппиан. Гражданские войны. Под ред. С. Жебелева, О. Кригер. Л., 1935.
Аппиан. Римская история. Пер. С. Кондратьева. ВДИ, 1950, №№ 2—4.
Вергилий Марон, Публий. Буколики, Георгики, Энеида. Пер. С. Шервинского, С. Ошерова. М., 1971.
Гораций Флакк, Квинт. Оды, Эподы, Сатиры, Послания. Пер. М. Гаспарова. М., 1970. Иосиф Флавий. Иудейская война. Пер. Я. Чертка. Спб, 1900.
Капитолин, Юлий. Антонин Пий. В книге «Властелины Рима». Пер. В. Соколова. М., 1992.
Капитолин, Юлий. Жизнеописание Марка Антонина философа. В книге «Властелины Рима». Пер. В. Соколова. М., 1992.
Катон, Марк и др. О сельском хозяйстве. М., 1957.
Ливий, Тит. История Рима от основания города. Тт. 1—3. Под ред. М. Гаспарова, Г. Кнабе. М, 1989—1994.
Марк Аврелий, Антонин. Размышления. Пер. А. Гаврилова. Л., 1985.
Овидий Назон, Публий. Элегии и малые поэмы. Пер. С. Шервинского, С. Ошерова, М. Гаспарова, Ф. Петровского. М., 1973.
Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. Пер. Ф. Мищенко. М., 1890—1899.
Плиний младший. Письма. Пер. М. Сергеенко, А. Доватур. М., 1984.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Под ред. М. Грабарь-Пассек, С. Маркиша. М., 1962—1964.
Саллюстий Крисп, Гай. Сочинения. Пер. В. Горенштейна. М., 1981.
Светоний, Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Подг. Гаспаров М. Л., Штаерман Е. М. М., 1964.
Сенека, Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. Пер. С. Ошерова. М., 1977.
Спартиан, Элий. Жизнеописание Адриана. В книге «Властелины Рима». Пер. В. Соколова. М., 1992.
Тацит, Корнелий. Сочинения в двух томах. Пер. А. Бобович, Г. Кнабе. Л., 1970.
Цезарь, Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. Пер. М. Покровского. М., 1962.
Цицерон, Марк Туллий. Диалоги. Пер. В. Горенштейна. М., 1966.
Цицерон, Марк Туллий. Об обязанностях. Пер. В. Горенштейна. М., 1974.
Цицерон, Марк Туллий. Письма. Пер. В. Горенштейна. М,—Л., 1948.
Цицерон, Марк Туллий. Речи. Тт. 1, 2. Пер. М. Грабарь-Пассек. М., 1962.
Цицерон, Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. Ф. Петровского, И. Стрельниковой, М. Гаспарова. М., 1972.
Лев Остерман Расцвет и падение Афинской демократии (выдержки)
«...Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называют народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился, не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услугу государству.
...Добросердечность мы понимаем иначе, чем большинство других людей: друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них, а тем, что оказываем им проявления дружбы. Ведь оказавший услугу другому — более надежный друг, так как старается заслуженную благодарность поддержать и дальнейшими услугами. Напротив, человек облагодетельствованный менее ревностен: ведь он понимает, что совершает добрый поступок не из приязни, а по обязанности. Мы — единственные, кто не по расчету на собственную выгоду, а доверяясь свободному влечению, оказываем помощь другим.
Одним словом, я утверждаю, что город наш — школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях. И то, что мое утверждение — не пустая похвальба в сегодняшней обстановке, а подлинная правда, доказывается самим могуществом нашего города, достигнутым благодаря нашему жизненному укладу».
(Погребальная речь Перикла)
Жертвы и подношения придавали взаимоотношениям между людьми и богами характер некоторой сделки. Благочестие людей не отличалось бескорыстием, но и боги ничего не давали даром. В трагедии Эсхила «Жертвы у гроба» Орест, сын убитого царя Агамемнона, в минуту опасности недвусмысленно адресуется к вседержителю:
«Зевс, если ты погубишь и детей царя,
Тебя так щедро чтившего, из чьих же рук
Ты будешь дорогие получать дары?»
Свою волю и распоряжения людской судьбой боги сообщали через оракулов и знамения, которым древние греки верили почти безоговорочно. Гадания по полету птиц и по виду внутренностей животных были очень популярны. Ни одно важное мероприятие, ни одно сражение не начиналось до тех пор, пока боги результатом гадания не подтвердят свое одобрительное отношение к намеченному событию.
Во всей Элладе свято соблюдался обычай свершения погребальных обрядов для воинов, павших в бою. Сражение прерывали на день, противники уносили с поля битвы тела убитых, сжигали их, а потом останки доставляли в город для торжественного погребения. Но однажды...
«...случилось так, что афиняне оставили непогребенными трупы двух воинов. Как только Никий об этом узнал, он остановил флот и послал к врагам договориться о погребении. А между тем существовал закон и обычай, по которому тот, кому по договоренности выдавали тела убитых, тем самым как бы отказывался от победы и лишался права ставить трофей — ведь побеждает тот, кто сильнее, а просители, которые иначе, чем просьбами, не могут достигнуть своего, силой не обладают. И все же Никий предпочитал лишиться награды и славы победителя, чем оставить непохороненными двух своих сограждан». (Плутарх)
Ощущалась потребность в каких-то нравственных нормах божественного происхождения:
«Дай, Рок, всечасно мне блюсти
Во всем святую чистоту
И слов и дел, согласно мудрым
Законам, свыше порожденным!
Им единый отец — Олимп,
Породил их не смертных род
И вовеки не сможет в сон
Их повергнуть забвенье».
(трагедия Софокла «Эдип царь»)
В конце V века потребности в нормах достойной жизни будет отвечать учение и деятельность Сократа.
(Вера, обряды, оракулы, предначертания)
Сократ...
«...всегда рассуждал о человеческих делах, стараясь объяснить, в чем состоит благочестие и безбожие, в чем — прекрасное и бесчестное, что такое справедливость и несправедливость, что такое здравый ум и безумие, что такое мужество и малодушие, что называется государством и кто государственным человеком, в чем состоит власть над людьми и кто способен управлять ими, об этих и тому подобных предметах он был того мнения, что знание их дает право быть благородным человеком...
...раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видимо, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собой в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир».
(Сократ)
Примечания
1
Дардан по греческой мифологии — сын Зевса и плеяды Электры — родоначальник племени, обитавшего близ горы Иды, в месте расположения Трои. Отсюда название дарданцы стало у римлян синонимом слова троянцы. Мститель — Ганнибал.
(обратно)2
Первый царь Трои. Его дочь стала женой Дардана, а внук ее Трос дал имя городу. Ил, Лссарак (и Ганимед) — дети Троса.
(обратно)3
Души.
(обратно)4
Аквилон — северный ветер.
(обратно)5
Река в Апулии, откуда родом Гораций.
(обратно)6
Легендарный царь Апулии.
(обратно)7
Ныне — Тахо — золотоносная река Испании.
(обратно)8
Имеется в виду Юнона — сестра и супруга Юпитера.
(обратно)9
Пищу фракийского царя Финея пачкали своим пометом гарпии — духи бури, изображавшиеся в виде полуптиц-полуженщин.
(обратно)10
Адриатическое море.
(обратно)11
Острова в Эгейском море.
(обратно)12
Народы, жившие на северо-западных берегах Черного моря и низовьях Дуная.
(обратно)13
Антигона.
(обратно)
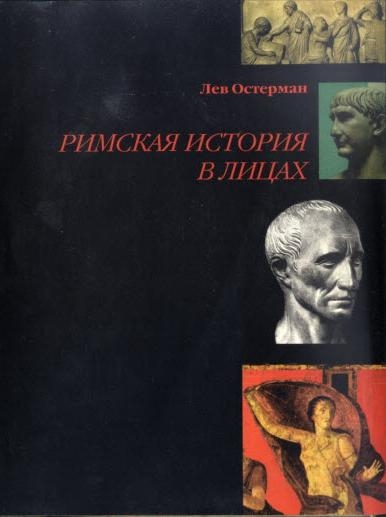


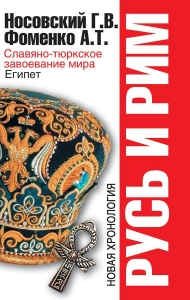
Комментарии к книге «Римская история в лицах», Лев Абрамович Остерман
Всего 0 комментариев