Огюстен Кошен МАЛЫЙ НАРОД И РЕВОЛЮЦИЯ
Шафаревич И.Р. Анатомия революции
В Природе существуют объекты, столь грандиозные, что люди их не сразу осознают. О них позже, чем о других, возникают вопросы: «как?», «почему?». Например: небо, земля. Такие же объекты существуют и в общественной жизни. К числу их относятся, по-моему, революции. Их описывают в воспоминаниях современники, ими восхищаются или им ужасаются, но попытки их понимания возникают гораздо позже.
А между тем феномен революций, казалось бы, прямо напрашивается на рациональное осмысление. Во-первых, потому, что они вовсе не являются неизменными спутниками человеческой истории — как, например, болезни и смерть, неизбежные для человека. Под революциями я подразумеваю перевороты, изменяющие весь политический и экономический уклад жизни. Было множество движений, направленных против власти, но на такой переворот не претендовавших. Типичным знаком подобных движений является столь распространенная в русской истории фигура Самозванца, как бы декларирующая, что на монархический строй это движение не замахивается. «Настоящие» революции мы видели в XX веке: Русская (Февральско-Октябрьская), Китайская, правление «красных кхмеров» в Камбодже и др. Конечно, и переворот 1989-93 гг. к этой категории революций относится. В прежние века таковыми были Английская и Французская революции. Можно относить к их предшественникам
5
разные движения XVI в., связанные с Реформацией в Германии. Может быть, гуситские войны в XV в. — но уж ничего в более раннее время. Античность, например, таких «революций» вообще не знала. Конечно, существовала жестокая борьба внутри одного государства. Кончалась она, в крайнем случае, казнями проигравших и захватом их имущества. Основной уклад жизни оставался тем же. Так что в историческом масштабе феномен революции является почти внезапно и дальше уже очень мало изменяется.
Вторым поразительным свойством революций и является эта их «одинаковость»: они все происходят как бы по одной схеме, словно одинаковые химические реакции или одна и та же болезнь у разных людей. Они все начинаются с разрушения «старого порядка», все участники испытывают восторг, льются прекрасные и длинные речи. Через некоторое время страна лежит в развалинах, наступает полный хаос, власти, собственно, нет. Тут наступает второй период, и власть, валяющуюся под ногами, подбирает самое радикальное меньшинство, способное на все для удержания и расширения этой, теперь уже своей власти. В частности, всех деятелей первого периода казнят, если они не успевают эмигрировать.
Еще одной общей чертой всех революций является претензия на всемирный характер. Про Октябрьскую революцию это всем известно. Во Французской — веяли те же идеи. Так, президент Конвента Грегуар говорил: «…все правительства нам враждебны, все народы — наши друзья и союзники; мы погибнем или все нации будут свободны». Более радикальные пуританские группы в Английской революции тоже требовали от Кромвеля объединиться с протестантами-голландцами, начать
6
войну с католическими странами Европы и «свергнуть папу с его престола». В нашем перевороте 1989-93 гг. ту же тенденцию можно видеть в несколько другом виде — «возвращения» или «включения» в «мировую цивилизацию». Нацеленные на преобразование мира, все революции ставят целью прежде всего преобразование человека, создание «нового человека». Революции совпадают даже в деталях. Для совершения их нужна война, от которой народ устал (на худой конец, хотя бы Афганская). Но Французская революция началась в мирный период — тогда революционеры сами объявили войну Европе. Как сказал Бриссо: «Война есть национальное благодеяние». В Англии парламент заставил короля объявить войну Шотландии, чтобы потом давить на него, отказывая во введении новых налогов. Даже такая, казалось бы, частная деталь: у главы государства жена — иностранка, которую обвиняют в измене и ненависть к которой внушают народу.
Именно для России, пережившей за один век две революции, осмысление этого явления — самая насущная задача. Конечно, написано множество работ по истории каждой из революций, есть и попытки их сопоставления. Но не видно, чтобы прояснялась сущность этого феномена, проявляющего себя в истории разных народов столь единообразно.
Работы французского историка Огюстена Кошена, в частности собранные в этой книге, как раз и относятся к числу тех, к сожалению, весьма редких исследований, которые пытаются осмыслить революции как единый феномен и выявить определенные закономерности в их зарождении и течении. Эти работы — самые первые шаги в создании будущей «анатомии революции». О. Кошен пишет
7
исключительно о Французской революции, но умеет увидеть в ней черты, которые мы сразу узнаем в других революционных переворотах.
Огюстен Кошен родился в Париже в 1876 г. в семье, принадлежащей к старинному французскому роду. Получил два образования — филологическое и философское. Свободный, благодаря состоятельности семьи, от всяких забот о заработке, он смог полностью отдаться увлекавшей его архивной работе и углубленно изучать документы, относящиеся к периоду Французской революции конца XVIII в. Работая в провинциальных архивах, Кошен предпринял кропотливое изучение предвыборной компании в Генеральные штаты 1789 г. В 1908 г. он стал известен просвещенной публике своей содержательной и ироничной статьей «Кризис революционной истории. Тэн и г-н Олар», а в дальнейшем, вплоть до своей гибели, занимался изучением деятельности революционного правительства. Кошен подготовил публикацию «Актов революционного правительства», но не успел издать их. Большинство его работ увидели свет уже после его смерти.
Когда было объявлено о начале Первой мировой войны, О. Кошен числился в запасе, но тотчас поспешил записаться добровольцем на фронт. «Мое место — там, где опасность, меня обязывает к этому мое имя», — писал он. Кошен был из той породы людей консервативного склада, которые ставили родину почти на вершину иерархии ценностей, после Бога и католической религии. В сентябре 1914 г. он участвует в битве при Сомме и получает тяжелое ранение; после десяти месяцев госпиталя возвращается в строй; еще четыре ранения, в том
8
числе под Верденом, периодически отдаляют его от фронта. Но 8 июля 1916 г. он снова оказывается на Сомме и погибает на поле сражения от тяжелого ранения в шею.
После смерти талантливого историка и по окончании войны, уже в 1920-25 гг. — его рукописи были подготовлены к печати при активном содействии его друга и сотрудника Шарля Шарпантье. Тогда были опубликованы, в частности, и статьи, впервые переведенные сейчас на русский язык и включенные в данный сборник. Был издан 1-й том «Актов революционного правительства» и двухтомное сочинение «Les Sociétés de pensée et Révolution en Bretagne (1788-89)». (Термин Sociétés de pensée буквально переводится как «общества мысли». Может быть, по смыслу ближе: «интеллектуальные кружки».) Последняя книга интересна тем, что основывается на провинциальных архивах, в то время как большинство историков Французской революции опирались на архивы столичные. Она дает очень выпуклую и конкретную картину начального периода революции, аналогичную нашему периоду Временного правительства. Второй том этой работы содержит исключительно публикацию документов.
Основное содержание работ и основное открытие Кошена, как мне кажется, — это анализ того слоя, из которого возникают будущие вожди революций, «генеалогия вождей». Если исходить из самого примитивного вопроса: «кому выгодно?», то вожди — это те, ради кого революции совершаются. Народ в целом в результате революций обрекается на гражданскую войну, разруху и голод. Но вожди революций, по крайней мере, добиваются
9
того, к чему стремятся десятилетиями. Что было бы, например, с вождями Октябрьской революции, если бы она не произошла? Ленин окончил юридический факультет, попробовал в суде вести одно дело и проиграл его. Троцкий явно не поднялся бы выше уровня мелкого журналиста. Сталин — и того менее. Это отнюдь не значит, что они были ничтожествами. Наоборот, среди них было много выдающихся людей, с редкими (редко встречающимися) способностями. Но чтобы эти способности реализовать, они должны были сначала создать ту среду, в которой их способности реализуемы. Такой средой и была сама революция.
Историю этого слоя, складывающегося на протяжении нескольких поколений, и анализирует Кошен. Иногда Кошена причисляют к сторонникам «концепции заговора» в истории революций. Мне кажется, с тем же основанием к сторонникам этой концепции можно причислить Роберта Коха, обнаружившего возбудителя туберкулеза (палочку Коха).
Возникновение слоя будущих вождей революции, согласно Кошену, — это длительный процесс, занимающий не одно поколение. Во Франции, например, сам слой уже сложился, по его мнению, лет за двадцать с лишком до революции. Суть процесса заключается в отделении этого слоя от остального народа, в интеллектуальном и духовном противостоянии ему, в ощущении ими себя как бы другими существами, может быть — другого вида. Этот особый слой внутри народа (Кошен называет его «Малый Народ»), чувствует себя не связанным никакими узами или ограничениями в отношении к остальному народу. «Малый Народ» выступает исторически в роли мастера, в руках которого остальной
10
народ — лишь материал. Это играет решающую роль во втором этапе революции, когда надо обуздать созданный самими революционерами хаос. Кошен сравнивает ситуацию этого момента со связанным Гулливером, которого лилипуты осыпают ядовитыми стрелами. Мы можем еще яснее представить себе эту психологию, например, по работе Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», в которой автор так определяет диктатуру пролетариата: «власть, осуществляемая партией, опирающейся на насилие и не связанной никакими законами». Позже Пятаков, комментируя это положение, видит его смысл именно в последних словах: «Закон — есть ограничение, есть запрещение, установление одного явления допустимым, другого недопустимым». Из людей, способных отказаться от подобных ограничений, образуется партия, «несущая идею претворения в жизнь того, что считалось невозможным, неосуществимым и недопустимым». «Для нее область возможного действия расширяется до гигантских размеров, а область невозможного сжимается до крайних пределов, до нуля». «Ради чести и счастья быть в ее рядах мы должны действительно пожертвовать и гордостью, и самолюбием, и всем прочим». Да сам Пятаков и пожертвовал «всем прочим». Кошен такого не мог прочесть. Но, мне кажется, — это самое яркое выражение психологии «Малого Народа», которое когда-либо было зафиксировано в истории. Отсюда можно почувствовать, чем же так была сладка эта идеология, почему революционеры безоглядно бросались в омут революции, где их скорее всего ожидал расстрел со стороны контрреволюционеров и гильотина — со стороны соратников по революции. А ведь деятели Русской революции прекрасно знали
11
пример Французской — и точно его повторили. Но все перевешивало страстное желание оказаться в положении людей, для которых «область невозможного сжимается до нуля».
Кошен анализирует процесс возникновения «Малого Народа». Смысл его заключается в постепенном разрыве со всякой исторической традицией: религиозной, этической, политической…. Это происходит под возгласы о всесилии Разума и неизбежной победе Просвещения. Дидро писал в «Энциклопедии»: «Разум для философа — это то же, что благодать для христианина». Но их лозунг — «вера в разум», т. е. разумом не пользуются для осмысления жизни, в него веруют. Он становится тем орудием, которое разрубает все, что связывает человека с традицией, все это объявляется глупым, нелогичным, отсталым. Замечательное наблюдение Кошена — образ «дикаря» или «иностранца», встречающийся постоянно в литературе XVIII в. Этот человек приезжает из заморских стран (например, персидский принц у Монтескье), и все, что он видит вокруг себя, кажется ему нелепым и просто смешным. Еще пример: в повести Вольтера мальчик-француз воспитан в Америке гуронами и молодым человеком возвращается во Францию. Он влюбляется в девушку и тут же пытается ею овладеть. Его оттаскивают силой, но он не понимает: ведь она сама призналась ему в любви. Ему объясняют, что сначала полагается пойти в церковь. Он удивляется, что между этими двумя действиями такая тесная связь, но не возражает. Оказывается, положение не такое простое — его возлюбленная приходится ему кузиной и на брак нужно разрешение папы. Он принимает папу за особого рода сводника … и т. д., и т. д. Как уверяет Кошен, все эти «ди-
12
кари» были отнюдь не литературной выдумкой, они водились не в Персии или среди гуронов, именно их и создавала идеология Просвещения, из них и состоял «Малый Народ». Это были люди с особым типом мышления, которое мы сейчас назвали бы утопическим. В их головах господствовало несколько простых идей, проверять которые жизнью казалось им смешным или даже кощунственным. Такие люди и действуют в каждой революции — идет ли речь о социалистических преобразованиях или рыночных реформах.
Кошен описывает и социальную структуру, способствовавшую формированию «Малого Народа». До революции Франция была покрыта сетью многообразных обществ, объединявших слой людей, аналогичный нашей дореволюционной «интеллигенции». Во всех больших городах были академии, всюду — философские и литературные общества, масонские ложи. Они формировали «общественное мнение»: унифицированный взгляд на жизнь, не подлежащий обсуждению. Орудием такого воспитания обычно бывали шумные, охватывавшие как по команде всю страну, кампании протеста против какого-то действия правительства или церкви.
Такой процесс воспитания длится многие годы: он осуществляется через «очищение от мертвого груза» (так созвучно знакомым нам чисткам!) всех этих обществ, т. е. от людей, все еще слишком связанных с реальной жизнью. Кошен называет это «социальной алхимией», мы бы скорее сравнили с выведением все более чистого штамма бактерий. Для воспитанника этой социальной структуры жизнь становится легкой: он знает ответы на все вопросы (мы и сейчас видим таких людей: даже не умея играть в шахматы, он знает, кто у нас лучший
13
шахматист; не интересуясь музыкой, знает, кто лучший дирижер; не разбираясь в политике, твердо знает, кто самый интеллигентный и дельный политик и т. д.).
Но процесс имеет и обратную сторону: тот, кто прошел полную школу воспитания, не способен жить вне структур, образующих «Малый Народ». И опять наиболее яркие подтверждения дает XX век. Так, Троцкий, разбитый на XIII партсъезде, говорит: «Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией, ибо других путей для реализации правоты история не создала». Пятаков даже заявляет, что будет считать черным то, что раньше считал белым, если так решила партия, «так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней».
На многих примерах Кошен показывает, что как психология, так и образ действий «Малого Народа» остается неизменным, в какой бы форме он ни проявлялся: «философов», руководителей правительства, основывающегося на терроре, или политиков в рамках парламентской демократии. В «философских обществах» и академиях господствует такая же нетерпимость, как и во времена террора, и репутации разрушаются с такой же легкостью, как позже летят головы. Когда торжествовала идея демократии и происходили выборы в Генеральные штаты, то часто неугодных лиц из числа выборщиков исключали, хотя они были избраны народом и господствовал принцип: «Воля народа — выше всего». Но в сомнительных случаях, если возникают колебания, то в зал заседаний врываются какие-то толпы людей, которые в революционных изданиях называются «любопытными» (а мы знаем, что в крайнем случае против парламента могут пойти в ход и танки).
14
Тот же принцип сохраняется, по мнению Кошена, и в парламентской демократии. Он высказывает мысль, достойную, как мне кажется, тщательного обдумывания: «Состоящий из избирателей народ не способен на инициативу, он может только выбирать между двумя или тремя программами, двумя или тремя кандидатами, он не может ни формулировать, ни назначать. Необходимо, чтобы профессиональные политики представляли ему формулировки или кандидатов. Партии формально не обязательны, однако без них народ остается свободным, но немым».
Как и всякое крупное явление, работы Кошена имели предшественников. Таким предшественником, несомненно, был И. Тэн. В фундаментальном труде «Происхождение современной Франции» Тэн предложил многогранную картину Французской революции, не скрывая ее жестокости, даже кровожадности, в частности непрекращавшейся игры с отрубленными головами и другими отрезанными членами. А чего стоит высказывание одного из руководящих деятелей: «Политическое избиение должно быть достаточно обильным, чтобы прекратиться только после уничтожения 12–15 миллионов французов» (а все-то население Франции тогда было 25–28 млн человек). И все это в сопровождении речей в духе сентиментализма Руссо. Робеспьер, например, постоянно объявлял, что он плачет, и призывал слушателей плакать вместе с ним (никто не дал ему более точной характеристики, чем Пушкин: «сентиментальный тигр»).
Но Тэн пошел и дальше, вглубь феномена революции. В конце раздела своей книги, посвященного эпохе террора, он поместил очень интересную главу о «якобинском духе», где высказывает взгляд,
15
что в основе революции были совершенно особенная психология, особый тип людей. Он подмечает ряд особенностей этой психологии и подчеркивает ее сходство с «пуританской психологией», лежавшей в основе Английской революции. Это уже была (хотя и не сформулированная явно) постановка вопроса о фундаментальных чертах, присущих различным проявлениям феномена революции. Против книги Тэна была двинута тяжелая артиллерия (люди моего поколения узнавали из учебников, что его книга есть «реакция буржуазии, напуганной Парижской Коммуной»). Против Тэна выступил вождь либерального течения в истории Французской революции — А. Олар. Два года он читал курс в Сорбонне, а в заключение опубликовал книгу, посвященную критике Тэна. При этом он не только выступал против взглядов Тэна, но и ставил под сомнение его квалифицированность как историка (до появления этой книги Тэн был известен как философ и литературовед, а не историк). Этой «дуэли живого Олара и уже умершего Тэна» посвящена статья Кошена «Кризис истории революции», входящая в настоящий сборник. В ней он формулирует (частично опираясь на Тэна) свои общие взгляды. Но сверх того, он демонстрирует и другую свою черту как историка — поразительное владение материалом, всеми архивами, на которые ссылался или в которых работал Тэн.
Кошен, как я уже говорил, писал исключительно о Французской революции. Но главной заслугой его, как мне кажется, является то, что он отметил в ней черты, типичные для любой революции — и прежде всего, феномен «Малого Народа». Параллели здесь поразительны. Например, отрицание своего прошлого, признание лишь иноземных авторитетов.
16
Так, перед Французской революцией идеологи «Просвещения» трактовали все французское прошлое как сплошной мрак, дикость, варварство — а истинный «свет просвещения» видели в Англии, особенно в ее политической системе. Но явно дело было не в Англии: важно, чтобы это было не свое. Вольтер даже в качестве примера терпимости и цивилизованности любил приводить Китай — Китай, с его закапыванием в землю ученых, уничтожением книг, круговой порукой, системой утонченных пыток! Позже, в преддверии революции 1848 г., «младогегельянцы» в Германии взирали с восхищением на Францию и писали, что в Германии еще нет литературы (это после Гёте, Шиллера и всего течения романтиков!); в свою очередь, в России в эпоху «революционной ситуации» русские «нигилисты» (например, Чернышевский и его окружение) писали столь же пренебрежительно о русской литературе, объявляли Пушкина и Лермонтова слабыми подражателями Байрона, признавали некоторое значение Гоголя как сатирика (хотя со Стерном, например, он в сравнение не идет). А настоящую литературу видели в Германии — причем в лице Гейне и Бере (кто теперь помнит Бере?). Ну, а уничтожающе-пренебрежительные суждения о русской культуре, истории, самой душе русского человека — как блины пеклись у нас в 80-е гг. XX в. в преддверии кризиса 90-х гг.
Эти очевидные параллели, я думаю, очень облегчат современному русскому читателю чтение книги Кошена. Книга написана иногда несколько абстрактно, автор излагает общие концепции, не всегда иллюстрируя их конкретными примерами, а иногда бегло ссылаясь на факты, известные историку (подробной публикации документов посвящены
17
другие книги Кошена). Но для русского читателя никаких ссылок и не нужно — примеры в обилии известны ему из нашей новейшей истории, их и сейчас можно видеть. Например, когда Кошен ссылается на то, что Вольтер подымает на смех героическое прошлое Франции, читателю не нужно перечитывать «Орлеанскую девственницу» — достаточно вспомнить, как совсем недавно старались втоптать в грязь память о Великой Отечественной войне — «и победы-то не было, просто завалили трупами». Такой «смешной» был анекдот о старике, вспоминающем, как он воевал: «Ну и дурак! Не воевал бы, так теперь пил бы баварское пиво!» Или когда Кошен говорит о кампаниях «возмущения», «осуждения», которые по всей Франции подымал «Малый Народ», то нет необходимости восстанавливать их в деталях, достаточно вспомнить хотя бы грохотавшие по всему миру кампании против общества «Память». Или «инцидент в ЦДЛ» — кто сейчас вспомнит, что это такое? — а ведь тогда казалось, что земля дрожит от возмущения. Или когда Кошен рассказывает, как Конвент, как будто это о нем написано:
…вертеться он судьбу принудить хочет барабаном,своими декретами разрушает хозяйственную жизнь Франции, то нам-то легче вспомнить, что писал в 1918 г. один из величайших экономистов XX в. Кондратьев сразу после захвата власти большевиками: «Всероссийский продовольственный съезд выделил из своего состава Совет десяти, чтобы он предложил Совету Народных Комиссаров оставить дело продовольствия вне политической борьбы, сохранить в этот
18
трудный момент уже налаженный аппарат продовольственных организаций», в результате чего 27 ноября этот Совет десяти был арестован, а затем, «когда всякая система продовольствия уже была смята, когда население сплошь да рядом, совершенно не получая хлеба, вынуждено было само доставать хлеб, большевики, в лице продовольственного диктатора на час Л. Троцкого (такого знатока в этой области!), издают жестокий приказ о расстреле на месте не подчиняющихся мешочников, которые виноваты разве только в том, что хотят есть, а им не дают». Еще мы можем вспомнить хотя бы серию реформ 90-х гг., которые за кратчайшее время, без войны или стихийных бедствий, разрушили экономику России.
Еще несколько десятилетий тому назад я открыл для себя работы Кошена — в те времена еще менее популярные среди историков, чем сейчас. Но до сих пор мне запомнилось чувство, испытанное при их чтении: как будто передо мной приоткрывалась какая-то тайна истории. Да собственно говоря, так оно и было; то, что произошло с тех пор в нашей стране, это вполне подтвердило. Надеюсь, что теперь, с появлением русского перевода, то же чувство сможет пережить более широкий круг любителей истории.
И. Р. Шафаревич
Философы
Доклад, сделанный на Шатобрианских чтениях 15 мая 1912 г.
Я хотел бы поговорить с вами о «философах» XVIII века; при этом я имею в виду именно их философию, а отнюдь не описание, как вы, возможно, думаете, их ужинов, очаровательных подруг, их ссор или успехов или перечень остроумных словечек. Что и говорить — это весьма неблагодарная работа, поскольку вся привлекательность и интерес для публики заключаются именно в этих аксессуарах. Чем была бы метафизика Вольтера без его острот, слава многих мыслителей без их переписки с женщинами, и чем были бы издания «Энциклопедии» без ее переплетов? Однако оставим переплет, эту красивую коричневую с золотом обложку, которую вы столько раз видели, и поговорим о самой книге, которую вы никогда не открывали; к тому же, благодарение Богу, это и не нужно, и вы заранее это знаете. За сто пятьдесят лет изменилось все, кроме философии, которая сменила лишь имя (теперь это называют свободомыслием) и восприятие которой изменяется так же мало от человека к человеку, как и от века к веку. Дидро-собеседник, Дидро-эрудит, бесспорно, был привлекателен и
21
своеобразен. Но Дидро-философ похож на всех своих «братьев», и я избавляю вас от описания подробностей.
Но если описывать излишне, то объяснить весьма трудно. Что такое наши философы? Обычно отвечают: это религиозная секта; и действительно? налицо все ее внешние признаки.
Первый признак — ортодоксальность. «Разум для философа, — пишет Дидро в „Энциклопедии“, — то же, что благодать для христианина». Это принцип наших вольнодумцев: «Наша вера — в разуме». Таким образом, от братьев требуется не столько служить разуму, сколько верить в него. Такое свойство присуще как этому культу, так и другим: спасение — в доброй воле. «Даже в хижинах ремесленников есть философы», — говорит Вольтер; это выражение соответствует нынешнему «слепая вера»[1]. А д'Аламбер пишет Фридриху II в 1776 г.: «Мы, подобно евангельскому отцу семейства, звавшему гостей на пир, заполняем как можем вакантные места во Французской Академии литературными хромыми и калеками». Итак, примут любого безмозглого тупицу, лишь бы он был «настоящим философом», а тот, у кого есть голова на плечах, будет исключен, если он мыслит независимо. Это предубеждение очень сильно и поощряет такой квиетизм разума, который более вреден для ума, чем квиетизм веры для воли. Ничто не наносит такого ущерба достижениям разума, как его культ: ведь получается, что больше нельзя пользоваться тем, что обожаешь.
22
В отношении дисциплины философия не менее требовательна, чем в вопросах правоверности. Вольтер не устает проповедовать братьям единение: «Я бы хотел, чтобы философы могли составить единый корпус посвященных; тогда я умру довольным», — пишет он д'Аламберу; и еще, в 1758 г.: «Собирайтесь, и будете хозяевами; я говорю вам это как республиканец, но речь идет также о словесной республике; о, бедная республика!» Эти чаяния «патриарха» осуществились и даже были превзойдены после 1770 г.: республика словесности основана, организована, вооружена и держит в страхе двор. У нее есть свои законодатели — энциклопедисты; свой парламент — два-три салона, своя трибуна — Французская Академия, куда Дюкло ввел и где д'Аламбер заставил царить философию, в результате пятнадцати лет упорной борьбы и последовательной политики. У нее есть к тому же во всех провинциях свои колонии и отделения. В больших городах — Академии, где, как во дворце Мазарини, идет постоянная борьба между философами и независимыми, причем последние всегда оказываются побежденными; в маленьких городах литературные общества и читальни; и из конца в конец этой обширной сети обществ идет постоянный обмен сообщениями, приветствиями, наказами, резолюциями — грандиозный концерт слов, разыгрываемый чудесным оркестром: ни одной фальшивой ноты. А армия философов, рассеянных по стране, где в каждом городе есть свой гарнизон мыслителей, свой «очаг просвещения», занимается повсюду одной и той же словесной работой — платоническими дискуссиями, в одном и том же духе, пользуясь одними и теми же методами. Время от времени, по сигналу из Парижа, там собираются на большие
23
маневры, «на дело», как это уже тогда называли, по судебным или политическим случаям; ополчаются то против Церкви, то против двора, даже против какого-нибудь неосторожного частного лица, как Палиссо, или Помпиньян, или Ленге, которые, думая, что задели один подобный кружок, с удивлением увидели, как разом, от Марселя до Арраса и от Ренна до Нанси, поднялся целый рой взбудораженных философов.
Ибо здесь, как и в сектах, практикуется преследование несогласных. Накануне кровавого террора 1793 г., с 1765 до 1780 г., в словесной республике проходил бескровный террор, в котором роль Комитета общественного спасения играла «Энциклопедия», а роль Робеспьера — Д'Аламбер. Этот террор косил репутации, как последующий революционный террор — головы; гильотиной тогда служила диффамация, позор, как тогда говорили; это слово, с легкой руки Вольтера, в 1775 г. в провинциальных обществах употребляется с юридической точностью. «Заклеймить позором» — это вполне определенная операция, подразумевающая целую процедуру: следствие, обсуждение, суд и, наконец, исполнение, то есть публичное приговорение к презрению — еще один термин философского права, значение которого мы теперь уже недооцениваем. И «головы» летят в большом количестве: Фрерон, Помпиньян, Палиссо, Жильбер, Ленге, аббат Вуазенон, аббат Бартелеми, Шабанон, Дора, Седэн, президент де Бросс, даже Руссо — и это только в среде писателей, поскольку в политической среде бойня была еще грандиозней.
Тут налицо, как вы видите, все внешние признаки мощной, крепкой секты, которой есть чем внушить уважение врагу, есть чем пробудить любопытство
24
публики вроде нас с вами, собравшихся здесь сегодня вечером. Мы могли бы ожидать, что за такими толстыми стенами нам откроется большой город или даже прекрасный собор; ведь, как правило, фанатизм не зарождается без веры, дисциплина — без лояльности, отлучение — без причащения, анафема — без могучих и живых убеждений, так же как и тело не зарождается без души.
Но вот чудо: здесь, и только здесь, наши ожидания не оправдываются: этот могущественный аппарат защиты ничего не защищает — ничего, кроме пустоты и отрицания. Там, за этой стеной, нечего любить, не за что приняться, не к чему привязаться. Этот догматический разум — всего лишь отрицание всякой веры, эта тираническая свобода — всего лишь отрицание всякого порядка. Я не настаиваю на упреке, который так часто делают философам: они сами признают и прославляют нигилизм своего идеала.
Ибо самое любопытное в том, что эти два противоречивых аспекта приняты как философами, так и профанами, непосвященными. Обсуждается оценка, но не факт. «Мы — ум человечества, сам разум», — объявляют первые и во имя этого разума устанавливают догматы и отлучают; это у них называется освобождением. Профаны доказывают: «Вы ничто, вы анархия, отрицание, утопия; вы не только ничто, но вы и не можете быть ничем, кроме раздора и распада», — и в следующий момент громко жалуются и созывают рать против этого фантома, который, если их послушать, даже не имеет права на существование, но, однако, держит их за горло. Это дуэль Мартины и Журдена. Она началась со времен Вольтера и все еще продолжается — вы знаете это.
25
Я вижу лишь один выход из дилеммы: перевернуть порядок рассуждения. Поскольку в этой странной церкви нет Credo, а есть лишь догмы отрицания, и нет души, но есть такое крепкое тело, попробуем и мы начать анализ с тела. Будем рассматривать эту философию не как некий смысл, определенный своей целью, даже не как тенденцию, объясняемую своим концом, но как вещь, как интеллектуальный феномен, неизбежный и бессознательный результат некоторых материальных объединительных условий.
Признаюсь, это дерзкий прием: есть что-то непочтительное в таком обращении с «современной мыслью» как с инертной и слепой вещью. Но она сама подает нам пример. Это она, в конце концов, от Ренана до г-на Луази, одарила нас новой теологией и новой экзегезой, это она, обращая в другую сторону индивидуалистическое наступление XVI века и помещая веру меж двух огней, ставит церковь выше Христа, Предание выше Евангелия, объясняет моральное социальным; и я не знаю, почему именно эта церковь должна избежать такой критики, которую она сама изобрела и беспощадно обратила против других.
Итак, рассмотрим факт: существование странного государства[2], которое, вопреки всем правилам,
26
рождается и живет тем, что убивает других. Как объяснить этот удивительный феномен?
Это я и хотел бы с вами выяснить. И не думайте, что я проведу вас на масонский шабаш, как отец Баррюэль, или что покажу вам голову Людовика XVI в котле колдуна, вслед за милейшим Казотом. Не то чтобы Баррюэль и Казот были не правы, но они ничего не объясняют, т. к. начинают с конца. Напротив, меня смущает то, что все эти ужасные, дьявольские последствия имеют истоком крошечный факт, который их объясняет, — такой банальный, такой незначительный факт — болтовню. Однако в ней-то и кроется главное.
27
Республика словесности — это мир, где беседуют, и только беседуют, где каждое умственное усилие направлено на получение отзыва, одобрения, как в реальной жизни оно направлено на воплощение в деле, на получение результата.
Вы скажете, что для таких больших последствий это слишком хилое основание, что это слишком тяжкое обвинение для столь невинной игры. Но, по крайней мере, не я зачинщик этого; началось с играющих (я говорю не о первых, бонвиванах 1730 г., а об энциклопедистах следующей эпохи). Они важны и степенны: как не быть таким, когда ты убежден, что пробуждение человеческого разума началось с твоего века, с твоего поколения, с тебя самого? Ирония замещает веселье, политика — удовольствия. Игра становится карьерой, салон — храмом, праздник — церемонией, кружок — страной, чей обширный горизонт я вам уже показал, — республикой словесности.
Что же делают в этой стране? В конечном счете ничего, кроме того, что и в салоне мадам Жоффрен: разговаривают. Собираются, чтобы говорить, но отнюдь не делать; все это умственное возбуждение, бесконечный поток речей, писаний, сообщений ни в малейшей мере не приводит к началу какого-либо созидания, реального усилия. Только и говорят что о «кооперации идей», о «союзе за истину», об «обществе мысли».
Важно, однако, что такой мир создается, организуется и сохраняется; ибо его обитатели силою вещей судят с иной точки зрения, имеют другие наклонности и цели, нежели в реальной жизни. Эта точка зрения — точка зрения общественного мнения, «нового владыки мира», как говорит Вольтер, приветствуя ее восшествие на престол в граде мысли.
28
В то время как в реальном мире мерилом всякой мысли является испытание, а целью — действие, то в этом новом мире мерило — мнение других, а цель — общественное признание. Достигается же цель выражением мысли, «говорением», как во внешнем мире — осуществлением, творением. Любая мысль, любое умственное усилие существуют лишь будучи одобренными. Только общественное мнение создает чье-либо существование. Реально то, что видят другие, верно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Таким образом, естественный порядок нарушен: мнение здесь является причиной, а не следствием, как в реальной жизни. «Казаться» — вместо «быть», «сказать» — вместо «сделать».
Не могу не вспомнить здесь очаровательный миф Аристофана[3]. Многие это делали, но, как мне кажется, толковали его превратно: говоря о городе туч, думают лишь о тучах, высмеивают желающих построить там город. Аристофан, живший в век философов и знавший толк в свободомыслии, воспринимает это не так: он видит именно город, бесспорно построенный в тучах, но из настоящего щебня и глины и населенный гражданами из мяса, костей и перьев. Основная мысль пьесы — город туч, а не памфлетное остроумие. Греческий автор пишет не об утопии, а о реальности.
Поступим так же, как и он. Констатируем факт: существование этого мира, такого пустого, как нам кажется; войдем и посмотрим. Едва шагнув за порог, вы увидите, что их принципы, эти «опасные химеры», становятся самыми очевидными и самыми живительными истинами. Вы знакомы с этими
29
философскими догмами: они все восходят к одной — «природа хороша»; и все правила сводятся к одному — «не мешать». Человек самодостаточен и в своем разуме, и в своей воле, и в своих инстинктах; вера, послушание, уважение — лишь они опасны, и это их Вольтер обозначает словом «гадина». Здесь, внизу, он ошибается, но «наверху» он прав, и вы сами с этим согласитесь — я разговариваю с «фанатиками» и «рабами» аудитории — если, конечно, хотите войти в град философов и почувствовать себя в их положении, вместо того чтобы кричать об утопии, не трогаясь с места.
Разум самодостаточен? Но это довольно ясно. Конечно, в реальном мире моралист без веры, политик без традиции, человек без опыта — это несчастные люди, обреченные на всяческие неудачи. Что может сделать лишь одна логика без этих трех творцов любого настоящего дела, без этого тройного руководства — личного, общественного и божественного? Но мы-то попали не в реальный мир, здесь не нужно работать, здесь только говорунам есть занятие — говорить. К чему тут, в этом мире, вера, уважение к традициям, житейский опыт? Это вещи, которые трудно выразить и которым не место в принципиальном споре. Нужные для того, чтобы судить честно и справедливо, эти советчики будут препятствовать ясности высказывания. Необходимые в реальной работе, в творчестве, они мешают словесной работе. Даже больше: неудобные для оратора, они неприятны и для аудитории, поскольку становятся здесь одиозными или смешными. Вы знаете, как трудно в обычной беседе говорить о вере и о чувстве. В нашем птичьем граде ирония и логика чувствуют себя как дома, и надо обладать незаурядным умом или талантом, чтобы обойтись без них.
30
Это понятно: есть ли что ненавистнее, чем вера, которую проповедуют без жертвы, патриотизм вдали от опасности, интерес без риска и работы? Но они оказываются именно в таком положении, попадая в мир, где уже по определению нет и речи о труде и об усилии. Там они могут называться лишь так: «клерикализм», «шовинизм», «эгоизм». Осторожность? Недоброжелательство? Нет — очевидные истины для того, кто смотрит оттуда. Человек волен не вступать в этот новый град. Но если уж он находится внутри, то он не властен рассуждать иначе как «философ» и как «гражданин».
Вы видите, что философия на верном пути, когда она утверждает право разума: здесь нет ничего утопического, буквально всем достаточно только разума. Потому что цель смещена: успехом отныне пользуются ясные, доступные идеи, легко претворяемые в слова, а не плодотворные идеи, претворяемые в жизнь и оправдывающие себя; или, вернее, критерием правды и справедливости является уже не опыт, но дискуссия, высказанное мнение.
Так целый ряд мотивов, выходящих за пределы ясной идеи и служащих реальному делу, в этом мире оказываются ненужными, поскольку там отсутствует деятельность, мешающими, поскольку так много надо сказать, наконец, смешными и отвратительными, карикатурами на самих себя. И что дальше? Их оставляют за порогом, что же тут дурного? Может быть, это отступничество, предательство, безрассудство? Великий Боже, конечно, нет; это всего лишь игра. Если человек развлекается тем, что каждый вечер на несколько часов становится философом и рассуждает, это еще не означает непочтительности к Богу, королю или небрежения к собственным делам и заботам. Так, человек, входящий
31
в салон, не швыряет свою шляпу, но заботливо кладет ее в передней, чтобы уходя забрать ее. Что с того, что этот посвященный — священник, военный или финансист? Раз в неделю у него будет день или час, когда он забудет соответственно о своей пастве, солдатах, делах, чтобы поиграть в философа и гражданина; а затем он волен вернуться в свое реальное существование, чтобы вновь приступить к своим обязанностям и обратиться к своим интересам.
Но как бы это ни было просто и естественно, такие занятия не проходят бесследно; ведь игра продолжается, и многие в нее играют лучше: по возрасту — молодежь, по положению — законники, писатели или ораторы, по убеждениям — скептики, по темпераменту — тщеславные, по культуре — поверхностные люди. Такие люди входят во вкус игры, находят в ней выгоду, так как перед ними открывается перспектива такой карьеры, какую низший мир им не предоставляет и в которой их недостатки становятся их сильными сторонами. Напротив, искренние и правдивые умы, склонные к прочному, надежному, к действительному результату более, чем к общественному мнению, чувствуют там себя чужими и мало-помалу отдаляются от мира, где им нечего делать. Так сами собой исключаются непокорные, то есть люди дела, в пользу более пригодных — людей слова; это механический отбор, такой же неизбежный, как и отсеивание тяжелых предметов от легких на вибрационной решетке; здесь и не нужно руководителя, который бы указывал, не нужно догмы, которая бы исключала; достаточно силы вещей. Более легкие сами собой окажутся вверху, а более тяжелые, приземленные опустятся. Выбор тут ни при чем.
32
И вы видите последствия этого механического очищения: вот наши друзья отгородились от непосвященных и укрылись от реалистических возражений и противодействия, и в то же время сблизились друг с другом; и по этим двум причинам они подчинились некоему вовлечению, которое набирает тем большую силу, чем больше «очищается» эта среда. И этот двойной социальный закон отбора и вовлечения не перестает действовать и толкать бессознательную толпу умников-братьев в направлении, обратном направлению реальной жизни, — к явлению некоего интеллектуального и морального типа, предвидеть который никто не может, который все готовы отвергнуть и который все подготавливают. Это и есть то, что называется «прогрессом просвещения».
Очевидно, что наша гипотеза подтверждается: доктрины, личные убеждения здесь — или ничто, или лишь эффекты; каждый этап философского прогресса производит свои, как в горах каждый высотный пояс — свои растения. Секрет этого союза, закон этого прогресса — в другом: в самом факте объединения. Тело, то есть общество мысли, объясняет душу, то есть общие убеждения. Именно здесь Церковь предшествует своему Евангелию и создает его; объединяет ради истины, но не истиной. «Регенерация», «прогресс просвещения» — это социальный, а не моральный или интеллектуальный, феномен.
Его первое свойство — бессознательность. Описанный нами закон отбора для своего функционирования не нуждается в том, чтобы его знали. Как любой естественный закон, он предполагает наличие силы, но силы слепой, импульсивной; субъект вступает в ложу, высказывается, спорит, волнуется. Этого довольно: остальное сделает общество, и
33
тем более надежно, чем больше он проявит страсти и меньше прозорливости. Работа, пусть так; это еще одно из тех словечек, которое наши масоны XVIII века пишут с прописной буквы и без прилагательного и которое на самом деле в их государстве приобретает, как и слова «философия», «справедливость», «истина» и многие другие, особый смысл, обычно обратный общепринятому. Эту работу надо понимать в пассивном, материальном смысле, как процесс брожения, а не в человеческом смысле, не как желаемое усилие. Мысль здесь работает, как сусло в чане или как дрова в огне. Именно действием среды, положения, своей исходной точкой, а не конечным пунктом, определяется эта работа. На ум приходит идея ориентации, противоположная идее направления так же, как закон, которому покоряются, противоположен закону, признаваемому добровольно, как рабство — отлично от послушания. Общество мысли не знает своего закона, и именно это позволяет ему объявлять себя свободным: оно, само того не зная, ориентировано, а не выбирает себе направление. Таков смысл названия, которое с 1775 г. принимает самое совершенное из философских обществ, столица мира туч — le Grand Orient[4].
А концом (я не говорю — целью) этой пассивной работы является разрушение. Оно, в конечном счете, состоит в устранении и сокращении, редукции. Мысль, которая этому подчиняется, вначале становится беспечной, потом мало-помалу теряет смысл, понятие о реальном; и именно благодаря этой потере она становится свободной. В свободе, в порядке, в ясности она выигрывает лишь то, что
34
теряет в своем реальном содержании, в связи с бытием. Она не становится сильнее, но ноша ее легче; главное в том, что мысль ориентирована в пустоту; и братья правы, когда говорят о регенерации и о новой эре. До сих пор разум в поисках свободы прилагал усилия для достижения победы, вел борьбу с действительностью, развивая науки и методы. Социальная работа переходит от нападения к защите: чтобы высвободить мысль, ее изолируют от мира, от жизни, вместо того чтобы подчинить их ей; реальное устраняют из сознания, вместо того чтобы сократить область непонятного в объекте; воспитывают «философов», вместо того чтобы создавать философские системы. Это упражнение мысли, видимая цель которого — поиск истины, но на самом деле — воспитание приверженцев.
В чем же состоит это отрицательное воспитание? Это так же трудно сказать, как показать, что теряет живое существо в момент смерти. Описать жизнь духа не легче, чем исследовать жизнь тела. И все же именно о ней, и только о ней, здесь идет речь, а не о каком-нибудь органе или внешнем свойстве. Можно представить себе «ориентированного» субъекта сколь угодно умным, а пораженный организм — сколь угодно целым и совершенным, но суть от этого не изменится.
Ничто так хорошо не иллюстрирует этот любопытный феномен, как концепция дикаря или наивного простачка, которая занимает такое большое место в литературе XVIII века. Нет ни одного автора, который не представил бы своего дикаря — от самых веселых до самых серьезных. Начал Монтескье со своим персидским принцем, Вольтер увековечил этот персонаж в образе Кандида; Бюффон исследовал его в своем пробуждении Адама;
35
Кондильяк исследовал его психологию в мифе о статуе; Руссо создал себе такую роль и провел старость, играя в дикаря в замковых парках. К 1770 г. не было ни одного новичка-философа, который не предпринял бы собственного пересмотра законов и обычаев своей страны, с собственным доверенным китайцем или ирокезом, подобно тому как сын богатых родителей путешествует со своим аббатом.
Этот философский дикарь — весьма своеобразная личность: вообразите себе француза XVIII века, который располагает всеми плодами цивилизации своего времени, всей ее материальной частью: культурой, воспитанием, познаниями и вкусом, но не имеет никаких живых побуждений — инстинктов, верований, которые все это создали, вдохнули жизнь в эти формы, дали основания этим обычаям, применение этим средствам; поставьте его внезапно перед этим миром, в котором ему доступно все, кроме главного — смысла; он будет все видеть и все знать, но не поймет ничего. Это и есть вольтеровский гурон.
Непосвященные кричат, что это абсурд — они ошибаются. Этот самый дикарь существует, и они даже встречают его каждый день. По правде говоря, он вовсе не из лесов Огайо, а из гораздо более близких мест — из ближайшей ложи, из ближайшего салона. Это и есть сам философ, такой, каким его сделала Работа: склонное к парадоксам существо, ориентированное на пустоту, в то время как другие ищут реального, — праздная, нетворческая, нелюбознательная мысль, занятая более упорядочиванием знаний, нежели их получением, больше определением, нежели изобретением, вечно озабоченная, как бы реализовать свое интеллектуальное имущество, вечно спешащая разменять его на слова, чтобы
36
оборвать его связи с реальной жизнью, где оно до тех пор работало, увеличивалось, росло, как хорошо вложенный капитал или как живое растение — на почве опыта, под лучами веры.
Отсюда и этот тон, и этот дух: ироническое удивление. Ибо ничто с таким трудом не поддается объяснению, как это сорванное растение, о корнях и о жизни которого хотят забыть. «Не понимаю» — вот постоянная присказка нашего дикаря. Все его шокирует, все кажется ему нелогичным и смешным. По степени этой непонятливости судят об умственных способностях дикарей: непонимание они называют умом, мужеством и искренностью; оно — движущая сила и смысл их эрудиции. Знать — хорошо, не понимать — лучше. Вот по чему судит о себе философ — дикари нашего времени, кантианцы, называют это «объективным разумом»; вот по чему можно отличить философа от заурядного компилятора, вот в чем душа «Энциклопедии».
Теперь вы видите, почему тело ее так велико: нет более легкой и лестной работы. Не каждый наделен способностью к «философскому непониманию» — нет, оно предполагает природные склонности, особенно к вовлечению в общественность облачного града. Только оно может справиться с «предрассудками», верой, лояльностью и т. д., чего логика никак не достигнет, ибо их корни — в практике и в жизни. Надо противопоставить государство государству, среду среде, жизнь жизни, заменить реального человека новым человеком — философом или гражданином. Вот оно — дело регенерации, которое одному человеку не под силу и в котором лишь закон социального отбора может достичь успеха: общество для философа — то же, что благодать для
37
христианина. Но когда дело наконец пошло, когда субъект полностью вверился социальной ориентации, занял свое место в государстве туч, сосредоточился на пустоте и чувствует, как вырастают у него философские перья, — как упоительно оставить тогда землю и взлететь над оградами и крепостными стенами, над шпицами соборов! Ничто перед ним не закрыто, потому что все открыто к небу. Как ребенок, который обрывает цветы с клумбы, чтобы воткнуть их у себя в песочнице, он влезает повсюду и косит подряд обычаи, верования и законы. Понятно, что он не упустил случая нарвать столько старых и почтенных цветов, что этот букет казался красивым в первый вечер, поскольку цветы не сразу умирают, и что на следующий день от этих писаний осталась лишь кучка бумаги.
Но если в положении дикаря-философа есть свои приятные стороны, то имеются также свои повинности, самая тяжелая из которых — общественное порабощение; адепт телом и душой принадлежит обществу, которое его воспитало, и он не может больше жить, как только выходит оттуда; его образ мыслей, такой свободный от реальности, разбивается от первого же контакта с практикой; ибо своей свободой он обязан лишь той изолированности, где он обитает, пустоте, в которой его держит Работа. Это тепличное растение, которое невозможно пересадить в открытый грунт. Философы всегда проигрывают, будучи увиденными поодиночке, вблизи и в деле: Вольтер почувствовал это на собственной шкуре с Фридрихом Великим, Дидро — с Екатериной II, мадам Жоффрен — со Станиславом.
Но, на их счастье, они инстинктивно чувствуют опасность, чувствуют тем более живо, чем более
38
они увлечены, чем более они «заблуждаются в пустоте», как говорил отец Мирабо о своем сыне; и именно всей этой своей слабостью, всем своим ничтожеством держатся они за это государство слов, которое одно придает им значение и вес.
Обычно говорят: партийный дух, сектантский фанатизм; это значит недооценивать их. Партийный дух — еще один способ веры в программу, в вождей, и он настолько же противоречит собственному сознанию, инстинкту самосохранения. У философа это сознание, этот инстинкт живут сами по себе: он не знает ни догм, ни вождя. Но общество от этого не проигрывает: как старая сова из басни, которая отрывает лапки своим мышам, оно его держит его же свободой, отрицательной свободой, которая помешает ему жить в другом месте; такая цепь прочнее любых законов.
Эту-то связь и называют гражданским чувством, и называли патриотизмом во Франции в течение нескольких лет революции, когда реальная родина и «общественная» родина имели одни границы и одних врагов, — вы знаете — это был недолговечный альянс; последняя (общественная родина) расширилась — она стала интернационализмом и не сохранила признательности к стране, давшей ей на какое-то время приют.
Нет более могущественных уз, нежели эти, — ибо они обладают блеском добродетели (служение обществу) и грубостью эгоизма (следование своему непосредственному интересу). И вот еще одна из ситуаций, которые порождаются общественным делом и в которых воля субъекта — ничто. Общество сориентировало его рассудок в другую сторону, нежели в реальности, и оно же связывает его с братьями всей силой своей заинтересованности;
39
поскольку оно сформировало его ум, оно распоряжается и его волей.
Этот факт надо отметить, так как он оправдывает принцип новой морали: что полезно — то хорошо, и что разумно — то истинно. Существует, точно существует некоторое государство, где основа привязанности — эгоизм, где личное благо неотделимо от общего блага. Раз так — то зачем учителя, авторитеты? Какая надобность навязывать их людям, которых так легко убедить? Зачем требовать жертвы там, где заинтересованность приведет прямо к цели? Вот так и осуществилась вторая из так называемых философских утопий — об общественной выгоде. Вот секрет странного братства, которое объединяет этих эпикурейцев и скептиков, Вольтера и д'Арженталя, д'Аламбера и Дидро, Гримма и Гольбаха или, скорее, привязывает самыми их изъянами к их интеллектуальной родине. Этот факт отражен в знаменитом философском мифе о возникновении общества в результате слабости людей, которая сближала их для совместной защиты. Нельзя придумать ничего более ложного о реальных обществах, рожденных энтузиазмом и силой, во вспышках огня на Синае, в крови мучеников и героев. Но зато и нельзя вернее сказать об интеллектуальном обществе, которое мы описали. Братья рассказывают нам только свою историю, подобно упомянутому дикарю — это только их портрет. Такова природа нового общества, что союз здесь основывается на том, что в другом месте его бы разрушило: на материальных силах, на силе эгоизма и бездеятельности.
Это замечательно выражают масонские символы: Соломонов храм, инструменты архитектора и прочее. Град облаков — это здание, а не живой
40
организм; его материалы инертны, сбалансированы, сложены по определенным правилам, по объективным законам. XVIII век еще допускал вмешательство великого архитектора, вольтеровского «часовщика», некоего законодателя, располагающего по определенным законам человеческий материал. Современное масонство упраздняет этот персонаж и правильно делает: социальный закон — это закон имманентности, он самодостаточен, и этой пародии на Бога здесь уже нечего делать.
Мне не нужно говорить вам, как этот могучий союз открылся миру, как малое государство вступило в борьбу с большим, так как в этом случае я бы вышел за пределы моей темы: здесь мы касаемся второго этапа прогресса просвещения, того момента, когда философия становится политикой, ложа — клубом, а философ — гражданином.
Я расскажу вам лишь об одном из последствий, о том, которое более всего приводит в замешательство, когда о нем не знают: завоевание непосвященной публики, ее общественного мнения, философизмом. Последний для этого располагает более мощным оружием, нежели обычные средства пропаганды: благодаря отсутствию в союзе учителей и общественных догм, он в силах привести в движение ложное общественное мнение, более шумное, единодушное, всеобщее, нежели истинное общественное мнение, и поэтому, как заключает публика, — более правильное. Действуя не сам, как демагогия, а за счет увлеченности и согласованности клаки, дешевых декораций и игры актеров, философизм срывает аплодисменты за дурной спектакль. Эта клака, этот персонал обществ так хорошо выдрессирован, что от этого даже становится искренним; все так хорошо рассеяны по залу, что сами друг
41
друга не знают, а каждый из зрителей и их принимает за публику. Клака имитирует размах и единство большого движения мысли, не теряя при этом спаянности и повадок шайки.
Да, никакие доводы или соблазны не действуют на общественное мнение так, как его же собственный фантом. Каждый подчиняется тому, что считает одобренным всеми. Общественное мнение подражает своей подделке, и из иллюзии рождается реальность. Так без таланта, без риска, без опасных и грубых интриг, благодаря одному лишь свойству своего союза, малое государство заставляет говорить по своей указке общественность большого, губит добрые имена и заставляет рукоплескать скучным авторам и книгам, если они принадлежат к нему, к малому государству. Оно не упускает случая сделать это. Сегодня трудно понять, как мораль Мабли, политика Кондорсе, история Рейналя, философия Гельвеция — эти пустыни бесцветной прозы — могли выдержать издание и найти хоть десяток читателей; но, однако, их все читали, по крайней мере, покупали книги и говорили о них. Скажут: мода. Легко сказать. Как понять это пристрастие к ложному пафосу и к тяжеловесности в век изящества и утонченного вкуса?
Я считаю, что разгадка в другом. Все эти авторы — философы, а философия царствует над общественным мнением по праву победителя; общественное мнение — это ее собственность, ее настоящий раб; она заставляет его вздыхать, жаловаться, восхищаться или молчать, в зависимости от своих целей. Вот где источник заблуждений, в которых историки, а тем более современники, быть может, не совсем разобрались. Он набрасывает тень скепсиса на славу многих философов, даже на гений
42
некоторых «законодателей», на умы некоторых эрудитов и даже на репутацию последних салонов.
Я рассказывал вам об энциклопедистах не будучи их почитателем, и вы не очень удивитесь, если я закончу кощунством. Речь идет не об эшафоте Людовика XVI, не о разоренной Франции, не об уничтоженной вере — это старые, безобидные, избитые фразы. Моя дерзость идет дальше: я не раз был близок к тому, чтобы спросить себя: было ли в конце концов такое расхождение между остроумием последних салонов и напыщенностью первых лож, не царило ли в очаровательном маленьком королевстве вкуса уже больше одного болвана-республиканца и не хотелось ли подчас зевать, начиная с 1770 г., даже в салоне мадам Неккер, даже у мадам Жоффрен?
43
Предвыборная кампания 1789 года в Бургундии
I
Можно ли назвать предвыборной кампанией те усилия, которые третье сословие предприняло с ноября 1788 г. по март 1789 г., чтобы получить вначале избирательный закон, а затем избранников по своему выбору? На первый взгляд кажется, что нельзя: предвыборная кампания ведется какой-либо партией, а у партии есть члены, вожди, программа и имя. Да, ничего такого мы не видим в 89 году: нация будто бы подымается сама собой, действует по своему собственному побуждению, не будучи ничем обязана ни талантам, ни авторитету кого бы то ни было. В этот золотой век всеобщего избирательного права народ будто бы обходится без совета, любая инициатива, как и любые проявления власти, исходят от него. У него есть глашатаи, но никогда не видно явных, признанных вождей. Он собирается, не будучи созванным, подписывает наказы, неизвестно откуда пришедшие, назначает депутатов, не выслушав предвыборных речей кандидатов, выступает, никем не возглавляемый.
И тем не менее эта армия без командования маневрирует с удивительной слаженностью: мы видим,
44
как одни и те же действия производятся одновременно во многих провинциях, отделенных друг от друга разностью нравов, интересов, укладов, даже диалектов, не говоря уже о таможнях и плохих дорогах. В ноябре 1788 г. вся Франция потребовала удвоения числа мест для третьего сословия; в январе — поголовного голосования; в марте вся Франция посылает в Генеральные штаты до того похожие друг на друга наказы, что можно подумать, будто их составлял по одному плану один и тот же памфлетист-философ; ибо и крестьяне в своих наказах рассуждают о философии, стараясь не отставать. В середине июля, во время «Великого Страха», вся Франция испугалась разбойников и взялась за оружие; в конце месяца вся Франция в этом разуверилась: разбойников не было. Но зато за пять дней образовалась национальная гвардия: она подчинялась лозунгам клубов, и общины остались вооруженными.
И это только крупные этапы этого движения: та же слаженность наблюдается в деталях. Если какая-нибудь община подписывает ходатайство королю, «новому Генриху IV», и Неккеру, «нашему Сюлли», то можно быть уверенным, что где-нибудь на другом конце королевства жители другой общины составляют такое же ходатайство, предпосылая ему такой же комплимент. Французы того времени словно подчиняются некоторой предустановленной гармонии, которая заставляет их совершать одни и те же поступки и произносить одни и те же речи везде и одновременно; и тот, кто знает дела и поступки таких-то буржуа из Дофинэ или Оверни, тот знает историю всех городов Франции в тот момент.
Итак, в этой странной кампании все происходит так, как если бы вся Франция подчинялась
45
слову наилучшим образом организованной партии, — но никакой партии не видно.
Здесь перед нами странный феномен, который, возможно, недостаточно объяснен. Потому что нельзя же просто сказать, что Франция того времени была единодушной, а все французы были революционерами: общность идей не объясняет согласованности действий. Эта согласованность предполагает некий сговор, хоть какую-то организацию: все французы были в заговоре, пусть, но как и кем этот заговор был задуман? Мы попытаемся составить себе представление об этом, исследуя шаг за шагом развитие революции в Дижоне и Бургундии за шесть месяцев, предшествовавших созыву Генеральных штатов[5].
Вначале несколько слов о положении правительства и о состоянии общественного мнения к концу осени 1788 г.
После бурной кампании парламент достиг своей цели: король отослал Бриенна, разрешил Штаты;
46
члены парламента, изгнанные пять месяцев назад, с триумфом возвращались во дворец. Их желания дальше не простирались; на этом также кончилась их роль. Тогда стало видно, что эти гордые представители политической власти сами по себе ничего не представляли и что они, сами того не ведая, служили орудием достижения гораздо более смелых целей, нежели их собственные. Действительно, когда эти мнимые предводители сложили оружие, их войска продолжали действовать с той же согласованностью и с тем же пылом. Созыва Генеральных штатов добились; теперь надо было издать закон о них — и буря анонимных памфлетов забушевала с новой силой.
Выборы с голосованием, удвоение числа представителей третьего сословия, поголовная подача голосов — таковы новые требования третьего сословия. Как видно, Революция снимала маску: парламент, внезапно остепенившийся, затрепетал от негодования: требования третьего сословия были направлены на уничтожение его политического существования, в первую очередь на разрушение государственного равновесия и расшатывание основ монархии. Какими бы они, впрочем, ни были трезвыми и благоразумными, король не должен был их и слушать: форма Штатов установлена вековыми законами. Король не должен был допускать не только их изменения, но даже обсуждения.
Эта позиция была почти неуязвимой; но король, по настоятельным просьбам Неккера, сам ее оставил, спросив у нотаблей их мнение. Советоваться с нотаблями — значило признать недостаточность старых форм и, что еще опаснее, признать за народом право изменять их. Как только этот принцип был признан, революционная партия позаботилась
47
о том, чтобы сделать для себя соответствующие выводы.
Странное это было зрелище: в конце ноября 1788 г. вокруг решения нотаблей, проголосовавших против удвоения представителей третьего сословия в Генеральных штатах, поползли тревожные слухи. Тотчас же третье сословие собирается в сотнях городов и местечек; и из всех уголков королевства в Версаль приходят сотни прошений, изложенных одними и теми же словами и требующих одного и того же: выборов голосованием, удвоения, поголовного голосования. Это первый эпизод кампании, не давшей больше правительству ни дня передышки до самого триумфа третьего сословия — взятия Бастилии.
К этому времени в городе Дижоне выделилась своей большой заботой об интересах третьего сословия некая группа, человек в двадцать. В отличие от многих выборных комитетов наших дней, эта группа была очень скромной; она стала известной лишь благодаря своим делам. У нее нет названия, нет общественного положения, она не сообщает никогда ни о своих собраниях, ни о своих проектах, никогда не выдвигается и не отваживается на какой-либо публичный демарш, не прикрывшись авторитетом какого-либо законного учреждения. Но поскольку она так активна, что фактически ничто не обходится без нее, что все идеи исходят от нее и что она всегда берется довести их до благополучного завершения, поскольку она, наконец, имеет сношения с многими другими группами того же рода в провинциальных городах, — мы можем без особого труда проследить ее путь.
Она состоит из врачей, хирургов и, главным образом, юристов — адвокатов, прокуроров, нотари-
48
усов, безвестных мелких буржуа, многие из которых добились того, чтобы называться депутатами от третьего сословия, но ни один не стал известным. Самые активные из них — врач Дюранд, хирург Уан, прокурор Жильот, адвокаты Дюранд, Навье, Воль-фиус, Минар, Морелле, Ларше, Гуже, Арну, городской прокурор-синдик Трюллар[6].
Как и все подобные группы, эта группа начинает свою кампанию в первых числах декабря 1788 г. Ее задача — заставить мэра предложить корпорациям и затем послать королю от имени третьего сословия города наказ, о котором мы говорили. Первое же условие, чтобы быть услышанным властями и общественным мнением, — говорить от имени законного учреждения: частные лица в те времена были ничем, выслушивались лишь объединения, корпорации.
Адвокаты из этой шайки с помощью Морена, старшины адвокатского сословия, собирают свое сословие 3 декабря. Слово берет один из заправил, Вольфиус: между третьим сословием и привилегированными сословиями, говорит он, начинается большой процесс; в нем принимают участие все провинции; адвокатская корпорация Дижона не может остаться безучастной. Довольно разговоров: надо действовать по примеру Меца и Дофинэ, будоражить и направлять общественность. «Судьба не
49
только нынешнего поколения, но и всего простого народа зависит от того, что будет решено. Если отступиться, предоставить народ самому себе, то это навсегда или на многие века. Он падет под натиском аристократии двух сословий, объединившихся против него, чтобы держать его в повиновении, и его цепи невозможно будет разорвать…» — и в заключение оратор предлагает план действий, который и принимается[7].
Были ли противники? Можно считать, что да, поскольку четыре месяца спустя около 40 адвокатов из 130 воздержались от голосования со своей корпорацией — впрочем, это было совершенно неважно: план был принят, а Вольфиус и другие вожаки назначены его исполнителями; отныне полномочия сословия были в их руках. Противники теперь — всего лишь «некоторые отдельные личности», их «забывают» приглашать на собрания сословия, и если они будут жаловаться, то страх перед пасквилями, анонимными письмами и насмешками юных клерков заставит их замолчать.
Тем временем план Вольфиуса начал приводиться в исполнение: комитетом адвокатов были разработаны, во-первых, проект ходатайства королю, во-вторых, краткий перечень мероприятий, которые нужно провести, чтобы получить одобрение жителей провинции.
Это ходатайство по форме и по сути подобно тем, которые таким же способом составлялись в других городах королевства; это изящное литературное произведение, написанное якобы по желанию короля и следующее воле всей Франции, полное нежности к королю, более шумной, нежели почтитель-
50
ной, полное похвал Неккеру и искусно сдерживаемой ненависти к дворянству и духовенству, полное бьющего через край восхищения третьим сословием — «этим драгоценным сословием» — и высокопарной жалости к его несчастьям. И эти общие идеи, как и везде, ведут к четырем конкретным требованиям: удвоить количество представителей третьего сословия; ввести поголовное голосование в Генеральных штатах; провести те же реформы Штатов в провинциях; и при выборах депутатов третьего сословия запретить назначать сеньора или даже работника или уполномоченного сеньора.
Что касается средств достижения этих целей, то было решено: заставить эшевенов[8] и виконта-мэра поддержать это ходатайство; послать его от их имени королю, Неккеру, интенданту, военному коменданту — и, с другой стороны, в города своей провинции и всего королевства, с просьбой написать подобное ходатайство и распространить его аналогичным образом.
Уладив эти проблемы, принимаются за другие корпорации; план и ходатайство были приняты врачами и хирургами 5 декабря; прокурорами окружного суда — 6-го; нотариусами — 8-го; 9-го — прокурорами в парламенте, прокурорами счетной палаты, кожевниками и писцами; 10-го — аптекарями, часовщиками, лавочниками, парикмахерами[9]. Как проголосовали эти маленькие ассамблеи? С восторгом, сразу или после хоть какой-то дискуссии? Были они единодушны или расходились во мнениях? Мы знаем лишь даты этих собраний; но и они представляют определенный интерес. По ним
51
видно, как тактически умело действовала партия с первых своих шагов: любой неискушенный попросил бы мэра собрать представителей всех городских корпораций и предложить им проект ходатайства. Но мэр мог отказать, тем более многочисленное собрание чревато непредвиденными оборотами и трудно поддается управлению. Комитет адвокатов предпочитает созывать корпорации одну за другой, без лишнего шума, начиная с тех, где у них больше всего друзей — с врачей и судейских; таким образом можно незаметно застигнуть врасплох и устранить важные меньшинства, пока они не познакомятся друг с другом и не объединятся. Потом, по мере того как количество завербованных возрастает, увеличивается и надежность: созываются корпорации, не столь близкие к судейским, и в большем количестве; им предъявляют уже совсем готовое ходатайство — cut and dried[10], как говорят английские агитаторы, — за которое уже проголосовали влиятельные структуры; некоторые состоят в сговоре с адвокатами; на решение других давит вся тяжесть достигнутых соглашений, и они голосуют: это тактика снежного кома.
10 декабря присоединились 13 цехов. Для города, где их насчитывалось свыше 50, это было мало. Но парламент, как мы далее увидим, был начеку: адвокаты сочли, что настало время приступить ко второй части их плана. До сих пор предполагалось, что собрания корпораций носят частный и самопроизвольный характер. Конечно, они провоцировались адвокатами, но в официозном порядке; они вовсе не хотели, предлагая свой план сами, придавать себе нелегальную значимость, которая бы породи-
52
ла завистников и обеспокоила власти. Только мэр и эшевены могут провести такой опрос всех корпораций города.
Но у шайки есть свой человек в муниципалитете: это Трюллар, прокурор-синдик города, один из вожаков. Виконт-мэр г. Мунье душою с парламентом, но боится адвокатов и решает заболеть. Что касается эшевенов, то Трюллар собирает их в ратуше в воскресенье 11 декабря и представляет на их рассмотрение проект ходатайства, во всем схожий с адвокатским, кроме одного небольшого отличия: снят самый главный пункт; нет ни слова о поголовном голосовании. Эшевены принимают. Вдруг в дверях появляются депутаты от корпорации адвокатов, сопровождаемые делегатами тринадцати сословий, проинструктированными за несколько дней до того, и делегаты еще семи, завербованные прямо этим утром. Они не были приглашены, и мэр отсутствовал; однако их принимают, вперемежку с полусотней пылких граждан. Трюллар поднимается и представляет от имени городского управления укороченное ходатайство, которое только что заставил подписать старшин. Тогда слово берет Арну, синдик адвокатов, и от имени своего сословия заявляет, что присоединяется к проекту эшевенов и, под предлогом перечитывания проекта, дополняет его во время чтения пропущенным ранее пунктом о поголовном голосовании. Этот номер удается: присутствующие принимают единодушно, без голосования, с восторгом. Комитет адвокатов получает полную возможность привести в исполнение решения ассамблеи, а старшины ничего не осмеливаются сказать.
Ни один пункт ходатайства, ни один член комитета не был заменен; но это ходатайство, с грехом
53
пополам утвержденное эшевенами и корпорациями, стало «свободным волеизъявлением третьего сословия города Дижона», и комитет адвокатов под этим внушительным названием разослал его по другим городам провинции, приглашая их, от имени виконта-мэра[11], последовать примеру главного города: не было ничего законнее и пристойнее.
II
Тактика дижонских адвокатов, или, говоря их словами, «их план», или «их способы, которые они опробовали столь же четко, сколь и энергично»[12], — они, как видно, скомбинированы более искусно, чем простые или естественные. Не так представляешь себе первые усилия исступленного народа, решившего порвать свои цепи. И тем не менее эти самые «способы», такие сложные, были применены в одно и то же время и с одной целью, по совету дижонского комитета, другими подобными группами адвокатов и врачей, в пятнадцати городах Бургундии.
54
Действительно, завоевав третье сословие Дижона, надо было добиться присоединения всей остальной провинции: попытали счастья в большом масштабе с городами, потом с провинцией — то, что делали в небольшом масштабе с корпорациями, а потом с городом Дижоном. Как была проведена эта кампания? откуда был первый толчок? как воспринял это народ? Это более всего необходимо знать; и именно это в протоколах собраний и в текстах, направляемых королю, — в единственном нашем источнике сведений — должно было замалчиваться самым тщательным образом: ибо главным достоинством этих ходатайств было их кажущееся единодушие и непосредственность, спонтанность, то есть в некотором роде закономерность; все же свидетельства, в которых можно было усмотреть либо заговор, либо разногласия, надо было оставлять в тени.
Тем временем события развивались повсюду одинаково; протоколов много, и некоторые из них кое о чем «проговариваются»: так что можно дополнить одни другими и проследить за разными этапами этой кампании.
Вот какую секретную работу позволяют разгадать протоколы собраний: революционная группа предпринимает поочередное завоевание корпораций по методу дижонского комитета и договаривается с ним о последующих действиях. Вероятно, говорит один из вожаков группы города Отена, имеется намерение «призвать третье сословие судебного округа как можно более правильным и обычным образом». Но необходимо заблаговременно «согласовать с третьим сословием Дижона основные цели наших ходатайств и способы собрать голосующих в этой части провинции». А эти способы, как видно
55
из отенского протокола[13], более определенного и ясного, нежели другие, весьма здраво изучены: по поводу самого ходатайства было решено не слишком развивать требования и придерживаться наиболее близких целей: удвоения представителей третьего сословия, поголовного голосования, исключения дворян из выборов третьего сословия; конечно, со стороны короля бояться нечего, но следует быть осторожными и не волновать дворян и духовенство. И к тому же стоит только добиться этих реформ, а остальное придет само.
Другой непростой вопрос: следует ли требовать незамедлительного проведения этих реформ, к ближайшим Штатам Бургундии, — в таком случае третьему сословию этой провинции надо было бы открыто объединиться и сообща составить петицию, — или лишь на неопределенное будущее, и тогда было бы достаточно отдельных ходатайств от городов. Кажется, в какой-то момент они колебались. С одной стороны, пример Визилля был соблазнителен. Но, с другой стороны, какая-то часть бургундской знати, встревоженная этими интригами, в свою очередь договаривалась и, чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение, тоже предлагала план реформы Штатов, очень даже приемлемый для той части общества, которая еще колебалась; однако компромисс был хуже, чем поражение. Поэтому решено было ограничиться самым кратким и самым осторожным: просто попросить короля отсрочить созыв Штатов и дать каждому городу составить ходатайство отдельно.
Но эти переговоры требовали времени: Генеральная ассамблея третьего сословия могла быть
56
созвана в Отене лишь 24 декабря, после двух недель беготни из комитета в комитет.
Что касается «способов собрать голосующих» и способов обрабатывать корпорации, они повсюду те же, что и в Дижоне. В крупных городах сначала собирается корпорация адвокатов, затем другие группы судейских по ее инициативе, и, как правило, одна за другой; затем другие корпорации. В маленьких городах заручились личной поддержкой нескольких нотаблей. Ассамблея была повсюду подготовлена, поскольку ходатайство было составлено заранее на собраниях группы.
Когда ходатайство было готово, а корпорации настроены, было решено смело выступить против Генеральной ассамблеи; тут-то и начинаются легальные, признанные выступления, и тут мы переходим от кулис к сцене. Прокурор-синдик, адвокат, одновременно состоявший членом шайки[14], очень кстати получил ходатайство и протокол Дижонской ассамблеи, отправленные все теми же дижонскими адвокатами, но от имени третьего сословия города. Он сообщил об этом городским властям и требует созыва Генеральной ассамблеи, чтобы, по примеру Дижона, принять решение по такому важному предмету. Как он был принят мэром и эшевенами? Без сомнения, не везде гладко, поскольку список примкнувших городов достаточно короток, — почти нигде не было теплого приема: в общем, эшевены ограничились тем, что не мешали событиям развиваться так же, как в Дижоне.
57
Тем временем Генеральная ассамблея цехов и корпораций созывается на следующий день или в ближайшие к нему дни: это первая Ассамблея, которая имела действительно революционный характер, несмотря на платоническую форму ходатайств. Надо познакомиться с ней поближе.
Прокурор-синдик велит созвать жителей как можно скорее: действительно, если понадобилось несколько дней, чтобы объединить друзей и собрать примкнувших, то надо ускорить ход дела, когда речь идет о посторонней публике. Нельзя допустить, чтобы противная партия успела сформироваться.
Численность и состав этих аудиторий весьма разнообразны; партия впервые оказывается вне своей среды, перед толпой. Приходится лавировать и применяться к обстоятельствам. Однако можно сделать несколько общих замечаний.
Удивляет, во-первых, небольшое количество присутствующих: 160 в Боне, 170 в Сен-Жан-де-Лон, около тридцати в Нюи, 200 в Шатильон-сюр-Сен, 200 в Арнэ-ле-Дюк, 15 в Мон-Сен-Венсен, 90 в Тулон-сюр-Арру, 24 в Витто, 51, по крайней мере подписавших, в Бурбон-Ланси. Скажут, что какая-то часть этих примкнувших — депутаты от корпораций и что каждый из них представляет какую-то группу жителей. Однако везде, кроме, может быть, Нюи, состав ассамблеи сомнителен: допускаются, участвуют в обсуждении и принимают решения все, кто хочет, частные лица вперемежку с депутатами, комитенты и комиссионеры, поденщики и нотабли. В Боне, Бурбоне, Шатильоне, Арнэ, Тулоне, Сен-Жан-де-Лон залы наводняют рабочие и крестьяне — там около трети присутствующих не умели поставить свою подпись. Этот неопределенный характер ассамблеи вполне отвечал целям партии;
58
в принципе, это ассамблея нотаблей; значит, под таким предлогом можно будет не трудиться приглашать туда массу безразличных или враждебно настроенных людей. Но ее не настолько серьезно воспринимают, чтобы особо усердные лица, в том числе и из самых низов общества, не могли нарушить запрет. Поэтому мы можем рассматривать ее как открытую и всеобщую, и, по крайней мере, вся революционная партия должна была фигурировать там в полном составе.
Что касается зажиточных классов, то два первых сословия, редко приглашаемые, почти нигде не представлены: ни дворяне, ни новые дворяне, ни представители королевской власти, то есть вся верхушка буржуазии, не присутствуют. Духовенство появляется лишь в Сен-Жан-де-Лон, где священник Тисье произносит речь, впрочем, весьма умеренную, ни слова не говоря о поголовном голосовании. В рядах третьего сословия буржуа, торговцы и купцы редки: какое-то количество их есть в Арнэ-ле-Дюк и в Бурбоне, но лишь 12 в Боне, 8 в Сен-Жан-де-Лон, и из них двое слывут самыми рьяными «судейскими крючками»; ни одного в Нюи, 5 или 6 в Шати-льон-сюр-Сен. Нерв партии — в судейском сословии и в тех корпорациях, которые от него зависят, а вожаки все из судейских и из врачей, почти всегда в большинстве и всегда на первом плане. Их 14 в Сен-Жан-де-Лон, 6 в Нюи, 23 в Шатильоне, 33 в Арнэ, 30 в Монсени. Главари повсюду адвокаты: Удри и Эрну в Сен-Жан, Жоли и Жильот в Нюи, Клери в Шатильоне, Гюйо и Тевено в Арнэ, Серпильон и Делатуазон в Отене, Гаршери в Монсени.
В итоге, мы видим, с одной стороны, повязанных между собою людей, большей частью «судейских
59
крючков», с родственниками и друзьями; с другой стороны, публику из простонародья, уже тайно обработанную, которую так легко увлечь такой простой логикой революционных идей; и между ними — мэр, эшевены и несколько нерешительных и растерянных нотаблей.
Когда ассамблея была открыта небольшим вступительным словом мэра, прокурор-синдик задал депутатам цехов следующий вопрос, такой неожиданный и внезапный, если только они не были предупреждены и задействованы в этом деле: как будет представлена нация в Генеральных штатах? Поскольку крестьянам и ремесленникам нечего ответить, встает какой-то адвокат и почтительнейше представляет ассамблее наказ своего сословия, который уже принят первыми инстанциями, то есть полутора десятком нотариусов, прокуроров и врачей, иногда и священниками, которые здесь, в зале, и аплодируют, где надо. Вступлением к наказу служит рассуждение о том, что нация состоит из двух, а не из трех сословий: из сословия привилегированных, которое имеет все почести, все блага и все вольности, и из третьего сословия, которое ничего не имеет, но за все платит. Привилегированных 200 тысяч — представителей третьего сословия 24 миллиона. Вывод: третье сословие требует равных избирательных прав на ассамблеях, то есть поголовного голосования в Генеральных штатах, удвоенного представительства и выборов депутатов третьего сословия равными им представителями этого же сословия. В провинциальных Штатах — те же реформы; решено послать этот наказ королю и Неккеру и ознакомить с ним другие города. Такова неизменная канва, по которой вышивает партийный оратор с большим или меньшим красноречием. Если присутствует
60
священник, то добавляют пункт с просьбой, чтобы были представлены и священники. Если город слишком мал, чтобы рассчитывать на собственную отдельную депутацию, требуют, чтобы и большие города были лишены права на нее; но все это побочные пожелания, маневры партии для достижения согласия по пяти пунктам и для привлечения на свою сторону местного населения.
Наконец, нерешительных убеждают, зачитывая им наказы, переданные из других городов, «чтобы нельзя было усомниться в том, какова общая воля». Ассамблея уступает столь веским доводам, одобряет единодушно, без обсуждения, без голосования, и наказ возвращается в Дижон таким же, каким две недели назад оттуда пришел, но украшенный титулом «Воля города такого-то».
В местечках режиссура еще проще: местный прокурор ограничивается тем, что объявляет, что некоторые города уведомили его о своих наказах, и потом зачитывает дижонский наказ, а затем зачастую в безапелляционной манере требует от присутствующих принять аналогичный документ.
Таковы были усилия и успехи тех, кого называли «партией адвокатов» в пятнадцати[15] городах и местечках в окрестностях Дижона, Отена и Шалона в конце декабря 1788 г.
Вот эти города: в районе Отена — Монсени, принявший наказы 4 января, Бурбон-Ланси — 27 декабря; Тулон-сюр-Арру — 23-го, Мон-Сен-
61
Венсен — 26-го; Отен — 25-го. В окрестностях Дижона — Ис-сюр-Виль и Понтайе принимают в последних числах декабря; Сен-Жан-сюр-Лон, Бане-ле-Жюиф и Витто — 29-го, Шатилъон-сюр-Сен — 21-го, Арнэ-ле-Дюк — 4 января. Между Дижоном и Шалоном: Нюи — 31 декабря; Бон — только 12 января; но ассамблея готовилась по крайней мере с 22 декабря; наконец, Шалон — 12 января.
III
11 декабря адвокатам Дижона пришлось ускорить события, рискуя задеть общественное мнение. Они собрали корпорации беспорядочно, не во всех успев заручиться поддержкой; дело в том, что начала создаваться противная партия, которая и подняла их по тревоге и чуть не расстроила их козни.
13 декабря собираются 19 дворян Дижона, назначают президента, графа де Вьенн, двух секретарей — барона Мервиля и графа де Батай-Мандло — и тайно договариваются любой ценой воспрепятствовать деятельности революционеров. Страх и отчаянные усилия этой горстки людей, прозорливость, с которой они говорили о грядущих катастрофах, тем более поразительны, что никто вокруг них, казалось, не понимал даже, чего они опасаются. Действительно, происки адвокатов никак не нарушали спокойствия высших классов: какое зло могли причинить не очень осторожные ходатайства каких-то судейских? Нотабли высказались против удвоения представительства третьего сословия; и к тому же господином был король, а его популярность, казалось, росла день ото дня. Что касается интенданта г-на Амело, протеже Неккера, то он был
62
другом философов и смотрел на деятельность адвокатов со снисходительной благосклонностью.
Откуда же взялась эта новая партия, одна из всего этого задремавшего мира пробудившаяся и восставшая? Какое представление надо о ней составить?
Эта партия утверждала, что является частью дворянства; однако уже с первых ее шагов нас поражает, до какой степени ее тактика и средства похожи на тактику и средства адвокатов. Она пользуется тем же оружием, говорит тем же языком и, похоже, прошла ту же школу.
Как и адвокаты, дворяне немногочисленны: вначале их было 19, но никогда не было больше 60; хотя в бургундских Штатах заседало 300 дворян. Как и адвокаты, они немедленно откликаются на все побуждения комитета, душой которого является некий маркиз де Дигуан, личность бойкая и подозрительная, весьма мало подходящая для того, чтобы представлять цвет богатой провинции[16]. Как и адвокаты, они берутся за обработку народа, в ту пору еще такого неискушенного, наивного, и используют те же самые средства: предвыборное заискивание, хвастовство гражданской доблестью, сложные маневры, захват мандатов и полномочий: ибо они претендуют на то, чтобы представлять второе сословие провинции, как адвокаты — третье, и с таким
63
же малым правом; постоянная комиссия Бургундского дворянства тогда заседала там же, в Дижоне, между двумя сессиями Штатов; и ни разу ее председатель, виконт де Бурбон-Бюссе, даже не соизволил ответить на предложения де Дигуана[17]. Так же сдержанно относились к ним епископ и духовенство. Только парламент и счетная палата не скрывали своих симпатий к этой партии, тайный комитет которой собирался в особняке самого де Беви — первого председателя. И действительно, кроме нескольких сбитых с толку личностей, к которым старались привлечь внимание, эта группа заговорщиков, как и адвокаты, вышла из суда[18]. Почти вся она набиралась из семей, получивших дворянство на гражданской службе, как противная группа — из адвокатов и судей. Эта группировка парламентской и «философской» партии, еще недавно такая шумная, а затем обойденная и образумившаяся, сохранила от своего революционного прошлого лишь высокопарный слог, привычку к скрытности и очень отчетливое видение той пропасти, в которую катилось королевство.
Одна фраза, произнесенная неким членом революционной группы 23 января, вслед за собранием должностных лиц Шалонского бальяжа, проливает свет на взаимное положение двух заговорщических групп адвокатов и парламентариев: чтобы склонить собравшихся к подписанию наказа дижон-
64
ских адвокатов, оратор-адвокат выступил перед ними с замечательной речью: «Вспомните 28 мая прошлого года; то, что вы делали в течение прошедшего года, предвещает то, что вы будете делать сегодня»[19]. Поэтому движение в декабре 1788 г., с точки зрения партии, конечно, является естественным следствием майского движения: это две фазы одной и той же кампании. Да, в мае во главе партии был штаб, который затем был утерян или устранен: это и было то самое «дворянство мантии», те самые парламентарии, так сильно помятые спустя полгода, в ту пору идол адвокатского сословия, пьяные от популярности и для расшатывания королевской власти пользующиеся теми же людьми, кадрами, теми же тайными и мощными «средствами», которые в декабре они сочли такими опасными. Так, парламентарии были в заговоре вместе с адвокатами; прежде чем начать борьбу против них, они сражались бок о бок с ними. Вот почему у обеих партий одна и та же организация и тактика: они одного происхождения; вот почему парламентарии так хорошо разбирались в игре адвокатов и так их боялись: они полгода назад играли в те же игры, знали их замысловатые тайные правила, первое из которых — никогда не говорить, куда идет дело, — и они подозревают, что адвокаты собираются зайти очень далеко; вот почему, наконец, народ, духовенство, наиболее здоровая часть дворян, сам король ничего не боятся и ничего не видят: они — непосвященные.
65
Таким образом, у борьбы, за которой мы будем наблюдать, есть особое свойство и даже особое имя: перед нами одна из тех чисток, которые знаменуют собой различные этапы Революции. В ноябре 1788 г. партия решает выбросить за борт парламентариев, как позднее она поступила с друзьями Малуэ и Мунье, затем с Мирабо и его кружком, затем с группировкой Дюпора-Ламета и так, мало-помалу, до воцарения Террора.
С 15 по 25 января парламентарии готовят свою кампанию в секретном комитете. 20-го приезжают из провинции тридцать их единомышленников, приглашенных 17-го. 22-го они заставляют какого-то сельского мэра послать им список жалоб третьего сословия. Озаглавливают эту бумагу «наказами третьего сословия бургундских Штатов»; обсуждают ее, подписываются под всеми ее пунктами, кроме одного, конечно, ради правдоподобия, и публикуют протокол этого незабываемого заседания. Это театральный прием, но, надо признать, уступки сделаны серьезные: отказ от денежных привилегий, свободное избрание всех депутатов третьего сословия в Генеральные штаты, где до того по праву заседали мэры некоторых городов, — одним словом, все, на что дворянство могло согласиться, кроме удвоения представительства третьего сословия и поголовного голосования, то есть своего собственного уничтожения: как экипаж тонущего судна, оно сбрасывало груз в море, чтобы спасти корабль. Затем обсуждается проект административных реформ для представления третьему сословию, в случае необходимости. Наконец, составляется план действий, очень похожий на план адвокатов: ходатайство из пяти пунктов, требующее равенства
66
налогов и поддержки конституции, будет предложено трем сословиям Дижона, затем от их лица всем городам провинции и, наконец, положено к ногам короля от имени бургундских Штатов.
Когда 25 декабря, после 10 дней тайных совещаний у председателя де Беви и у кордельеров, были приняты эти меры, парламентарии вступают в борьбу и бросают перчатку адвокатам: они торжественно призывают духовенство, окружных судей и городские корпорации, чтобы сообщить им «решения, которые приняло дворянство во имя союза и счастья трех сословий провинции и призвать их совместно добиваться различными необходимыми средствами достижения этой цели»[20].
Ассамблея состоялась 27 декабря у кордельеров. Уже с первого взгляда парламентарии могли понять, что им нечего надеяться даже на малейшую помощь со стороны их прежних врагов: от дворян не пришел никто, от духовенства — один лишь каноник, и тот на следующий день был осужден своим капитулом.
Оставались цеха и корпорации: все их депутаты были здесь, человек 60–80 ремесленников и мелких торговцев, собранных под бдительным оком десятка адвокатов и прокуроров. Кому они окажут свою милость? Какая из двух заговорщических группировок сумеет привлечь в свои ряды и подчинить своим лозунгам стихийную массу панурговых баранов? Никто тогда не мог этого сказать, шансы были равны.
На самом деле нельзя с уверенностью утверждать, что народ был вполне убежден в необходимости политической революции. Декабрьские ходатайства, даже
67
мартовские, говорят об административных, особенно налоговых реформах больше, чем о революции.
Общий, равный налог для всех, то есть менее тяжелый для себя — вот чего требовал народ; и ему было совершенно безразлично, от кого произойдет это благо: от сторонников или от противников поголовного голосования в Штатах. Дворянство, которое само вызвалось отказаться от своих привилегий, имело преимущество перед адвокатами, которые могли лишь требовать этого: и если бы согласились в этом вопросе, следовало бы опасаться, как бы не сошлись и в остальных; провинциальные Штаты были бы поддержаны либеральными реформами, денежными привилегиями, и дело революции было бы проиграно.
И здесь самое надежное средство помешать людям договориться — это помешать им объясниться: и в этом адвокаты преуспели с чрезвычайным искусством.
В первую очередь, не переставая восхвалять дворянство и его благородные намерения, они воспользовались своим влиянием в корпорациях, чтобы возбудить их недоверие, и посоветовали им запретить своим депутатам отвечать дворянам и что-либо подписывать прежде, чем те доложат об этом своим доверителям. Могут сказать: просто меры предосторожности; на самом деле — капитальный маневр, который должен был решить исход баталии.
Ассамблея 27 декабря прошла очень «благопристойно», как тогда говорили. Граф де Вьенн, председатель, проповедовал союз сословий и уважение к старым законам. Маркиз де Дигуан, секретарь бюро, особо отметил жертвы дворянства, затем наконец зачитал пять пунктов, предложенных третьему
68
сословию, и потребовал их немедленного обсуждения. Но тут оратор из адвокатов, охваченный каким-то сомнением, чего с ним не было в подобном случае 11 декабря в городской ратуше, заявил, что не может ответить, не посоветовавшись со своим сословием. Депутаты от других цехов поступили так же, как и он: они-де не уполномочены. Разочарованные и озадаченные дворяне не смогли больше вытянуть ни слова, и в этот день ничего не получили за свое красноречие и гражданскую доблесть. Пришлось смириться, и ассамблею назначили на послезавтра.
Этого было более чем достаточно для каждого из делегатов, чтобы посоветоваться со своими доверителями; тем не менее один прокурор попросил еще три дня; в действительности адвокатам нужно было не более четырех дней, чтобы завершить задуманный маневр. Граф де Вьенн имел слабость согласиться и на этот новый срок.
Самая большая опасность миновала; адвокаты могли вновь обрести надежду и с уверенностью приняться за работу; действительно, дворяне открыли свои батареи, не захватив новых позиций. Их позиция стала известна, их предложения должны были подвергнуться обсуждению, обесцениванию, искажению, не склонив на их сторону никого, не дав им ни одной зацепки, которая могла бы принести им власть над общественным мнением.
Эти четыре дня, так ловко выигранные, были в полной мере использованы революционной партией.
Едва кончилось заседание, как срочно созывается адвокатское сословие. Они назначают комитет действия, все тот же — за исключением, однако, трех имен, ибо первая забота комиссаров — назначить себе в помощники отсутствующих от их лица.
69
Затем, после того как шайка еще раз собралась полностью и вооружилась новыми полномочиями, все они заперлись у старшины сословия адвокатов, Морена, где по четырнадцать часов в день беспрерывно и лихорадочно работали. 29-го в 10 часов вечера заключение по пяти пунктам дворянской программы и проект ответа были готовы.
Тогда возобновляется точь-в-точь такая же любопытная серия маневров, как та, за которой мы проследили, с 3 по 11 декабря. Вначале, 30-го утром, созывается сословие адвокатов; им представляют ответ и заключение, они их утверждают.
Затем переходят к другим организациям, но с бесконечными предосторожностями, чтобы, держась в тени, щадя людское самолюбие, вести людей куда надо, но так, чтобы они не видели, кто их ведет. От имени своей корпорации и нескольких других[21] перед вновь собранным адвокатским сословием выступил один прокурор с просьбой сообща обсудить пять пунктов дворянства: нет нужды говорить, что его приняли хорошо. В тот же вечер, в 4 часа, ассамблея заседала в большом зале
70
университета. Она выслушивает и утверждает ответ и, отпечатав его, рассылает каждой из отсутствующих корпораций с просьбой присоединиться к нему. Этот ответ составлен с той вкрадчиво-хитрой недобросовестностью, которая с тех пор была свойственна якобинской манере. Как мы видели, большой опасностью для адвокатов было позволить дворянству отнять их лучший и единственный способ воздействия на общественное мнение: равенство налогов. Обе партии оспаривали друг у друга один и тот же предвыборный трамплин. Адвокаты ищут любого повода для самой пустячной ссоры с дворянами: дворяне, мол, предлагают разделить лишь денежный налог, подати, двадцатины и т. п. — Но есть еще налоги натурой: барщина, расквартирование войска и милиции? — Да, но барщина как раз с этого года выплачивалась деньгами, и дворяне приняли ее в этой форме. Милиция и войско — это не налоги, но обязанности, очевидно несовместимые с дворянским достоинством и к тому же необременительные. Другая придирка: дворяне соглашались платить «все налоги, которые будут согласованы Штатами королевства». Осторожно! (отвечают адвокаты) вам говорят лишь о налогах, «согласованных Штатами»; а если Штаты не согласуют новых? Если они ограничатся тем, что утвердят старые? Короче, народу ненавязчиво давали понять, что дворянство, «это почтенное сословие», говорит обиняками и дурачит народ, — инсинуация эта, во-первых, ложная (дворяне по этому пункту объяснялись с самими адвокатами за два дня до того по их же просьбе[22]), а во-вторых, ее
71
можно весьма легко разоблачить, что, впрочем, и было с негодованием сделано, но, увы, слишком поздно: ложь просуществовала полдня, необходимые агентам адвокатов для сбора последних подписей, — и 31 декабря, в день, назначенный для ассамблеи, ответ их комитета стал ответом третьего сословия города.
Ассамблея состоялась, но обсуждения не было: ответы цехов были все подписаны, и их депутатам оставалось лишь положить их на стол, проходя мимо него один за другим вслед за депутатом от адвокатов, на глазах у пораженных дворян: еще раз их обвели вокруг пальца, увильнув от обсуждения, которого они добивались; еще раз адвокаты оказались между ними и корпорациями. 27-го обсуждение было невозможным, потому что у депутатов не было полномочий; 31-го оно было бесполезным: их ответ уже был составлен. О дворянах вынесли решение, не выслушав их. Их предложения, конечно, были вполне представлены и обсуждены в третьем сословии, но не в их присутствии, умышленно искаженные и фальсифицированные их противниками, а их собственные ассамблеи сгодились лишь для того, чтобы констатировать свое поражение.
Отчаявшись завоевать корпорации, дворяне унижаются до того, чтобы испросить у торжествующих адвокатов их условия: Дигуан пишет Морелле, председателю комитета, предлагая заключить соглашение и прося о проведении конференций. Ответ Морелле замечательно логичен, корректен и для тех, кто знает подоплеку дела, беспощадно ироничен: ответ, пишет он Дигуану, получил одобрение цехов. Поэтому он не должен «рассматриваться как произведение одних только адвокатов»: его
72
подписало третье сословие, и только оно, собравшись всем составом, может его изменить. Комитет даже не имеет права собирать для этого адвокатское сословие. Невозможно более жестоко насмеяться над поверженным врагом. Возмущенных дворян наконец прорвало, и они доставляют себе хотя бы удовольствие высказать адвокатам все, что о них думают. «Те из корпораций, — пишет Дигуан Морелле, — которые ссылаются на адвокатское сословие, знают, что именно господа адвокаты решают, быть или не быть союзу дворянства с третьим сословием, и что если из предложений дворянства не выйдет ничего хорошего, то в этом будут виновны члены сословия адвокатов, которые склонили целое сословие к отказу. Что к тому же г.г. дворяне спрашивают мнения именно адвокатского корпуса, с тем чтобы добиться соглашения цехов и корпораций; и в том случае, если они не захотят сегодня же вечером дать их ультиматум и велеть их депутатам перестать, г.г. дворяне заявляют им, что они решили протестовать против всего, что может пойти во вред порядку и общественному благу»[23].
Парламентарии не смогли не то что убедить третье сословие, но даже выступить перед ним. Они попытались, по крайней мере, перед тем как разойтись, встряхнуть оцепеневшее правительство и открыть ему глаза. Граф де Гиш и маркиз де Леви были отправлены в Версаль с протестом против упразднения сословий[24]. Но король на все их усилия смотрел
73
глазами своего интенданта Амело, смертельного врага дижонского парламента со времен дела больших бальяжей[25]. Г-н де ла Тур дю Пен-Гуверне, комендант провинции, об аресте которого несколько месяцев назад издал постановление тот же самый парламент, не служил им лучше. Их предупреждения не достигли цели. 5 января они учредили постоянный комитет в Дижоне и расстались, пав духом.
IV
Едва одержав верх над парламентским дворянством, дижонские адвокаты были приятно удивлены, увидев, что их успех подтвержден самим королем. 1 января появилось знаменитое решение Совета от 27 декабря 1788 г.: король, вопреки всеобщим ожиданиям, вопреки мнению нотаблей, разрешил удвоить представительство третьего сословия. Этот безумный поступок поверг в недоумение всех, у кого
74
еще оставалась доля здравого смысла и проницательности: к чему удваивать голоса третьему сословию, если ему отказывали в поголовном голосовании? И как в этом отказать после такой уступки, когда отмахнулись от двух единственных причин того отказа — от уважения к законам и от решения нотаблей? Этот неожиданный подарок партия революционеров получила благодаря личным стараниям г-на Неккера. Вновь, на этот раз Неккер, открывал перед партией двери «за просто так». Впрочем, как всегда, когда двери достаточно открылись, его крупная и спокойная персона преградила путь. И, как всегда, поток захватчиков возложил на него лавровый венок и почтительнейше отставил в сторону; и он отступил перед силой с чувством выполненного долга. Понятно, почему королева в конце концов возненавидела этого почтенного человека.
Тем временем дижонские адвокаты, полные новой веры в свои силы, возобновили с того места, где остановились, кампанию, прерванную тремя неделями раньше атакой парламентариев.
План в основных чертах не изменился: в нем по-прежнему речь идет о наказе, который надо заставить подписать, и об ассамблеях, которые надо спровоцировать по всей провинции. Но насколько же продвинулась Революция за эти три недели, и к какому шагу побудило ее роковое решение короля!
Во-первых, наказ; для него составляют новую канву, более четкую, ясную, позволяющую лучше видеть истинную цель, состоящую в том, чтобы любой ценой помешать созвать, представить и проконсультировать третье сословие провинции в обычном порядке, до Генеральных штатов. Если депутаты от Бургундии в Национальную ассамблею будут
75
назначены штатами провинции, как этого требует закон страны, — все будет потеряно: дворяне и верхушка буржуазии окажутся в своих естественных условиях, им удастся вновь прибрать к рукам все движение, они проведут обширные реформы, которые уже предлагают, а партия, оказавшаяся в меньшинстве, опустится до положения группы заговорщиков, не имея ни сил, ни средств воздействия на толпу. Поэтому нужно добиться у короля либо отсрочки бургундских Штатов и выборов через окружной судебный округ, как это делается в странах с выборной системой, либо срочной реформы этих Штатов по модели новой Ассамблеи в Дофинэ, то есть обеспечивающей третьему сословию выборы с голосованием, удвоение и поголовное голосование.
А раз наказ стал более определенным, то и средства теперь более смелые: в декабре нельзя было представить себе, как можно обойтись без муниципальных чиновников — официального начальства, притом мешающего делу; они редко были членами группы заправил, не проявляли особого рвения, подчас даже сопротивлялись, например, в Дижоне. В январе их решено отстранить: наказ будет распространен от имени самих корпораций, а не от имени мэра и эшевенов; они (корпорации) соберутся явочным порядком. Наконец, в случае если король поддержит, пусть даже только в этот раз, Штаты в их настоящей форме, «корпорации явятся к господам муниципальным чиновникам, чтобы просить ассамблею третьего сословия города, с целью быть ею избранными, свободно и путем голосования, дать представителей, которых оно имеет право послать в Штаты, и что в случае отказа господ чиновников пойти навстречу этой просьбе корпорации будут
76
протестовать против проведения названных Штатов». Иначе говоря, мятеж и восстание.
Таковы были новые резолюции, под которыми 18 января подписалось третье сословие Дижона. Нет нужды говорить, что оно только подписалось, ничего не обсуждая, ничего не изменяя (поскольку адвокатский оратор Морелле попросил принять «немедленно»), и что ни наказ, ни план не исходили от сословия.
Ассамблея 18 января была лишь завершением ряда мероприятий и подготовительных собраний, которые, как мы видели, начались за десять дней до того.
8 января, едва избавившись от дворян, комитет адвокатов, дав своему сословию наделить себя новыми полномочиями, наметил в основных чертах новый план. 11-го он дал утвердить этот проект немногочисленному собранию — не более 30 человек, где большинство составляли юристы; тем не менее позаботились о том, чтобы пригласить нескольких торговцев, депутатов от их гильдий; но эти вновь пришедшие не мешали; они явились лишь затем, чтобы передать свои полномочия одному из членов — прокурору Саволю, который принял титул «выборного прокурора корпораций».
Приняв эти меры предосторожности, составили план и наказ, которые были отпечатаны и разосланы от имени корпораций, присутствовавших 11-го, многим другим корпорациям, которые утверждали наказ отдельно.
Только тогда ассамблея 18-го числа была созвана и состоялась — как видно, лишь для официального утверждения уже принятых решений.
И когда третье сословие Дижона было завоевано, кампания продолжилась в провинции, как в
77
прошлом месяце. Та же работа дочерних групп в городах и местечках ведет к тем же результатам. Но здесь также тон более приподнятый: «Третье сословие простерло свои намерения дальше»[26]. Теперь, если мэр не желает прийти, обходятся без него, как в Бар-сюр-Сен; больше никто не скрывает своей признательности комитету дижонских адвокатов[27]. Ассамблеи, впрочем, все похожие на декабрьские, состоялись в большем количестве городов[28].
78
Наконец, не останавливаясь на достигнутом, партия принимается за деревни.
Верные своей тактике, адвокаты, чтобы запустить свое ходатайство, нанимают подставных лиц; для этого выбраны эшевены Жанлиса, деревни в двух лье от Дижона, где наверняка у кого-то из группы имелись кое-какие связи. Они подписывают циркуляр, который от их имени рассылается по местечкам[29], с просьбой присутствовать на Генеральной ассамблее, назначенной на следующее воскресенье.
Через пять дней, 25 января, в Жанлис приезжают депутаты 32 общин[30] из судебных округов Дижона, Оксона и Сен-Жан-де-Лон. Собираются в «общем доме»[31]. В этот момент появляются два главных члена счетной палаты, представляются и пытаются с помощью угроз сорвать собрание. Но крестьяне,
79
вместо того чтобы испугаться, раздражаются, грозят бросить этих должностных лиц в реку и объявляют, что «не надо было разыскивать того, кто принимает их решения». И эта скромная личность, не названная в протоколе, выполнила свою задачу без дальнейших происшествий. Председательствуют, как полагается, эшевены Жанлиса; но труд обратиться с речью к присутствующим взял на себя какой-то «местный житель», еще одна безымянная личность; речь была примерно такая: мои сограждане, король отеческим взором взирает на свои верные общины, он хочет, чтобы их проконсультировали; чтобы они назначили депутатов в Генеральные штаты в количестве, равном числу депутатов от дворянства и духовенства, вместе взятых. Только таким путем нам можно избавиться от гнета, в который мы ввергнуты неравным распределением налогов, которые давят на сельских жителей еще больше, чем на горожан (следует устрашающая сводка этих налогов). В том, что они так тяжелы, повинны чиновники, духовенство и дворяне. После решения совета 27 декабря можно было подумать, что два первых сословия примут надлежащую форму Штатов: ничего подобного, они желают сохранить старые. Значит, необходимо, чтобы вы огласили ваши намерения.
После этой речи было решено, что короля надо поблагодарить за разрешение удвоить представительство и просить довести дело до конца, разрешив поголовное голосование и те же реформы в провинциальных Штатах. Кроме того, просят, чтобы священники были представлены в Штатах «в зависимости от важности их сана, поскольку лишь они в совершенстве знают несчастья, постигающие их приходы, и нужды деревни».
80
За крестьянской ассамблеей в Жанлисе последовали и другие, например в Шоссене, где все хлопоты взял на себя местный священник: 6 февраля он дал подписать решение шести общинам[32]. Чиновник из Сен-Сена 4 февраля пишет министру о каких-то собраниях, которые происходят «во многих очень крупных деревнях провинции, где какой-нибудь нотариус или кто другой, пользующийся доверием у местных жителей, предлагает подписывать какое-то решение, непонятное большинству этих крестьян»[33].
Надо отметить последний пункт жанлисского ходатайства, касающийся священников; он встречается во всех подобных наказах; он еще раз свидетельствует о великолепном тактическом чутье этой партии, которая действует всегда по расчету и никогда по побуждению. Мало было людей, менее способных понять друг друга, нежели судейские «катончики» — люди книжные, педантичные и кичащиеся своим «просвещением» — и деревенские священники, сами наполовину крестьяне; ибо эти священники не были даже «философами» на манер многих других религиозных людей того времени, которые разъезжали по злачным местам и по масонским ложам; их вера, подчас грубая, была безупречной, и, несмотря на кое-какие вспышки беспокойства, они сохраняли уважение к своим епископам: это стало видно через три года, когда они во множестве отказались от присяги ценой потери своего имущества, спокойствия и даже жизни. И тем не менее адвокаты в январе 1789 г. подступают к ним со своими предложениями: ведь священники — хозяева деревень, без них нечего надеяться подчинить
81
себе умы крестьян; значит, надо любой ценой заполучить священников, и вся партия решает использовать это «средство», так мало отвечающее ее вкусам. Это, возможно, был лучший ее ход, по крайней мере один из ходов, которые лучше всего свидетельствуют о дисциплине в ее рядах.
Кюре невежественны и бедны: их опьяняют логикой равенства под предлогом возврата к первоначальному христианству; их жалобы, впрочем, справедливые, преувеличивают. По счастливому совпадению, г-н Неккер, хотя сам был женевским протестантом, воспылал нежностью к этим «смиренным пастырям» и дал каждому из них по голосу на выборах среди духовенства, в то время как каноники имели один голос на 10 избирателей, а монахи один на общину: это значило обеспечение большинства низшему духовенству и разжигание гражданской войны в первом сословии. Партия берет на себя остальное: адвокаты входят в контакт с епархиальными смутьянами, организуют ассамблеи, помогают священникам разных епархий сноситься и договариваться друг с другом[34]. Успех был полным, выборы среди духовенства превратились в скандал из-за мошенничества и интриг, так как кюре, неопытные в этом деле, несмотря на советы адвокатов, которые велели держать все в тайне, плохо скрывали свой сговор. Высшее духовенство было побеждено, и сословие оказалось представленным почти исключительно сельскими священниками, причем наиболее шумными, то есть наименее уважаемыми из всех. Без сомнения, этих несчастных, революционеров лишь
82
снаружи, быстро отрезвили: мы видим, как уже с 1790 г. они один за другим возвращаются в свои провинции, покидая ассамблею, где скоро остались лишь одни полурасстриги. Этот противоестественный альянс длился не более полугода; но этого было достаточно для того, чтобы раскачать деревни.
Тем временем такая тщательная, осмотрительная игра адвокатов и молчание власти, которое принималось за одобрение, начинали давать свои плоды. Ожидание бунта носилось в воздухе в течение февраля месяца. В Дижоне вывешенные ночью или распространяемые по кафе анонимные афишки обвиняют в бедствиях народа всех, кто не принадлежит к адвокатской партии: мэра, дворян старых и новых, членов парламента, университета, отколовшиеся корпорации[35]. Их освистывают
83
в театре, оскорбляют на карнавалах во время Масленицы, так что парламент даже подумывает, не запретить ли праздники.
В деревнях священники начинают проповедовать, что «все, что явилось необработанным, луга или леса, принадлежит занявшему место первым»[36]. Адвокаты распространяют листовки, подстрекающие крестьян отказаться платить налог, и сборщики податей больше не отваживаются появляться в деревнях[37].
Так анархия постепенно охватывает города, затем села, следуя детально продуманному и столь методично выполненному адвокатами плану. И их
84
дерзость возрастает вместе с успехом. Бургундские Штаты в их настоящем виде могут помешать пропаганде — значит, их надо изменить или отменить, причем немедленно; и адвокаты просят об этом самого короля; и их депутатов принимают в Версале; и король медлит с созывом Штатов. Собирался ли он принять всерьез ходатайство третьего сословия, отсрочить sine die[38] бургундские Штаты? А г-н Неккер, бессильный перед мятежными ассамблеями, собирался ли он найти в себе силы запретить регулярную ассамблею, последнюю надежду партии порядка?
Одна лишь мысль о подобной опасности придает отчаянную энергию парламентскому дворянству. Оно находит неосмотрительным ждать созыва Штатов, пытается напрячь все свои силы и вновь незамедлительно вступает в бой.
При первом же слухе об ассамблее в Жанлисе оставшаяся в Дижоне комиссия спешит разослать по деревням циркуляр, в котором в четвертый раз заявляет об отказе от денежных привилегий; деревни не внемлют. В день ассамблеи председатель де Веврот, как мы видим, подвергнется брани и поношениям со стороны крестьян Жанлиса, прямо как «дворянский Дон-Кихот», как говорится в одном памфлете. На следующий день, 26 января, дворяне пишут министру протест: «Дозволяется, уполномочивается, подстрекается ассамблея последних корпораций, которые кто-то хочет обмануть и подкупить всеми возможными способами». Они изобличают адвокатов, которые, «действуя, как шайка, строя козни и гонясь за личной выгодой, стараются посеять смуту не только в городах, но и в деревнях…, дворянство
85
считает своим долгом предупредить такого справедливого и просвещенного министра, как Вы, что одна искра может вызвать большой пожар»[39]. Они угрожают, что будут жаловаться всем сословием, если к их советам будут относиться все так же пренебрежительно. Наконец, 27 января дворяне принимают отчаянное решение, до сих пор откладывавшееся, которое показывает степень их испуга. Множество королевских секретарей и чиновников всех сортов, которым их должность давала право носить шпагу, объявляются членами второго сословия и приглашаются в его ряды для обсуждения на 15 февраля. Это значило разом увеличить число дворян в Штатах с 300 до 2000[40] и потопить старинную знать в массе «облагороженных».
Новых дворян Дижона созывают немедленно, и они в первых числах февраля соглашаются с планом дворянства. Эта ассамблея умоляет короля назначить Штаты на 30 марта; и по ее поручению маркиз де Дигуан ездит из города в город, возбуждая рвение парламентских групп и давая им на подпись подобные наказы; мы видим его в Шалоне, Оксере, Отене, Шатильоне, Шароле, Боне и т. д., где дворяне и «облагороженные» собираются тайно, как и в Дижоне, и везде, кроме Шароля, признают лозунг дижонского комитета.
Тем временем дворянские депутаты в Версале, г-н де Вьенн и г-н де Леви, поддержанные принцем де Конде, умножили свои настойчивые просьбы. Наконец 3 февраля г-н Неккер прервал свое молчание — для того чтобы запретить дворянству
86
собираться 15 февраля. Возмущенный г-н де Леви в тот же вечер ответил, что дворянство подчинится, если то же запретят третьему сословию. Тогда министр велит интенданту Амело «помешать, если бы было возможно, приходским ассамблеям… и приложить все усилия, чтобы успокоить третье сословие». Вот как был исполнен этот приказ, столь мягко отданный: интендант велел разослать анонимный циркуляр в форме письма к некоему священнику, в котором третьему сословию деликатно рекомендовалось подражать дворянам и отказаться от своих ассамблей. И это было все. «Это был, — пишет он одному министру, — единственный способ, какой я мог употребить, ибо мне никоим образом не удалось бы использовать власть по отношению к общинам».
Можно представить себе радость адвокатов: даже явное одобрение не сослужило бы им большую службу. Дворяне поднимают крик, посылают министру циркуляр интенданта Амело с комментарием, подчеркивающим его коварную и умышленную неумелость, требуют, чтобы его уличили во лжи. Но им не отвечают. И с этого момента Амело не упускает случая навредить им в Версале. С 10 февраля он пишет министру, что все будет потеряно, если состоятся бургундские Штаты. Он ставит его в известность о малейших движениях дворян, которые, если ему верить, собираются разжечь в провинции пожар, доведя третье сословие до отчаяния; что же касается ассамблей самого этого третьего сословия, все более многочисленных и грозных, он старается говорить о них как можно меньше; послушать его, так вреда тут никакого нет, а козни адвокатов — детские игры; опасаться же следует противодействия; единственная опасность для установленного порядка
87
исходит от партии, которая хвалится тем, что его защищает[41].
Эти старания увенчались полным успехом. Вначале, вероятно, дворяне могли бы поверить посланиям г-на Неккера о том, что об отсрочке Штатов даже нет речи, и король с некоторым удивлением отвечает г-ну де Леви, что и не думал никогда им препятствовать. Но г-н Неккер откладывает их с недели на неделю. Потом возникают непредвиденные трудности созыва Генеральных штатов, выборные волнения: они проходят в Бургундии по судебным округам, как того и хотели адвокаты. Тем временем вопрос о Генеральных штатах откладывается: еще 20 марта король обещает их созвать.
Наконец, лишь 9 апреля, когда кончились выборы, за три недели до Генеральных штатов, король собственноручно пишет коменданту провинции смущенное письмо, в котором благодарит дворян за верность и выражает им всяческое свое огорчение по поводу того, что он решительно не может созвать
88
бургундские Штаты раньше мая месяца: нет времени. Но в этом нет прецедента для будущего, и принцип будет сохранен[42].
Революционная партия добилась своего: мешая Штатам собраться, ломая старые рамки, они лишили два первых сословия каких-либо возможностей сопротивления и воздействия на третье сословие; ибо эти два сословия и не имели иных возможностей, кроме как в традиционных и законных формах, и не были организованы в партии, кроме мятежной парламентской группировки. И не только провинция была настроена в установленном порядке, но этот самый порядок адвокаты сумели — мы видели, как искусно и как незаметно, — подменить другим, по своему выбору, более сложным, по крайней мере, таким же искусственным, но гораздо более подходящим для их целей. И обученное по их методу третье сословие ответило так, как они хотели: оно потребовало поголовного голосования в Генеральных штатах и направило туда партийных вожаков.
Нам не нужно рассказывать ни о самих выборах, ни о том, как ловко партия сумела манипулировать наивной и невежественной толпой избирателей. Скажем лишь, что уведомления о созыве застали ее, как всегда, в полной готовности; эти повестки опубликованы 26 февраля; а 22-го адвокаты собирают третье сословие. Объявляется, что, ввиду большого количества одобривших решение 18 января, оно стало волей третьего сословия всей провинции. Затем думают и о будущем; необходимо составить проект наказа, «не ожидая того момента, когда граждане будут собраны, чтобы завершить их написание». И эта работа поручена комиссии, в
89
которой заседают наши старые знакомые: врач Дюранд, прокурор Жильот, адвокаты Дюранд, Вольфиус, Минар, Ларше.
Когда избиратели собрались спустя две недели, некие услужливые личности, чтобы облегчить им дело, представили им готовый наказ, в котором содержались частные ходатайства, которые они собирались подать, и многие другие, общественно значимые, против которых они не возражали. Наказ был принят, а его услужливые авторы — назначены в комиссию, которая должна была составить наказ от бальяжа. И именно среди них к тому же третье сословие выбрало своих депутатов. Вольфиус был назначен в первую очередь, Рено — во вторую, Навье, а затем Дюранд — заместителями. Эрну, третий депутат, был из примкнувшей группы из Сен-Жан-де-Лон. Четвертый депутат был земледелец: пришлось сделать такую уступку деревне. В Шалоне, Отене, Оксере успех был таким же.
Какие выводы можно сделать из всего этого? Первый и самый очевидный — то, что, несмотря на множество документов, мы довольно слабо осведомлены о таком обширном и таком недавнем движении, которое имело так много последствий и оставило столько следов. Действительно, наш главный источник — это ряд протоколов третьего сословия; и эти протоколы в конечном счете оказываются составленными в одинаковом духе людьми, сговорившимися ради достижения одной и той же цели. Они неискренни. Они сами себе противоречат, если всмотреться попристальней. Они стараются ввести вас в заблуждение относительно истинных причин этого движения, выдать результаты за причины, и молчат о самом интересном.
90
История предвыборной кампании должна пролить свет на два обстоятельства: 1) истинное, без обработки, состояние народного мнения; 2) механизм, средства действия партий, старавшихся перетянуть его на свою сторону. Мы вынуждены ограничиваться догадками и в отношении первого, и в отношении второго из этих пунктов.
Вначале о состоянии общественного мнения; мы имеем лишь отрицательные сведения; вот основные из них.
Ни в одном городе Бургундии ни городские чиновники в декабре, ни сами корпорации в январе не решали, проводить ли ассамблею третьего сословия и не назначали дату ее проведения; эта ассамблея созывается в тот момент, когда небольшая группа юристов, примыкающая к дижонской группе, сочтет нужным потребовать этого, и откладывается, когда эта задержка покажется группе полезной. Во время самой ассамблеи вовсе не красноречие кого-либо из присутствующих увлекает остальных в прекрасном и искреннем порыве воодушевления: значительная часть их предуведомлена о том, что будет говорить оратор; этот оратор намечен заранее, и клака его готова. И наконец, вовсе не ассамблея сама обсуждает и утверждает пункты наказа; все уже обсуждено и решено. До нее уже добрая часть присутствующих корпораций проголосовала за эти пункты; причем до цехов ремесленников — судейские, а до судейских — сословие адвокатов; а до этого сословия — еще более узкая группа, уже организованная и действующая и которая сама только и делала, что следовала инструкциям и принимала наказ из дижонского комитета — альфы и омеги всей этой кампании. Но на каждой из этих ассамблей этот наказ представлялся как
91
результат работы предыдущей; и согласием этой ассамблеи пользовались, чтобы получить согласие следующей; и каждый из этих этапов был отмечен маневрами и интригами, до того одновременными во всем королевстве, что можно подумать, что их заранее согласовали.
Таким образом, городская ассамблея, пространно описанная протоколами, есть всего лишь результат длительной работы, которую эти протоколы скрывают: когда здание построено, леса убирают. Поэтому очевидно, что нужно изучить именно эту подготовительную работу. Сама по себе ассамблея — только парад; речь о том, чтобы узнать, где, кем и как этот парад был подготовлен, откуда исходила инициатива, почему нам этого не говорят, к чему такие сложные маневры, такая последовательность ассамблей, что там говорили и делали, от кого исходили решения и как они принимались.
Это здесь, в этих собраниях корпораций, созванных и направляемых без их ведома так последовательно и так искусно горсткой «судейских крючков», происходила обработка третьего сословия или фабриковалось то, что заняло его место. Вот где можно было бы судить о силе этого движения, о его истинном характере, о мере его искренности, самопроизвольности, народности. Вот где можно было бы очутиться на подлинной почве истории, перед лицом естественной работы интересов и устремлений.
Не вдаваясь в подробности этих ассамблей, мы можем сделать лишь одно замечание: странно, что такое сильное, по словам адвокатов, движение никогда не проявлялось помимо них и вне их формул. Вполне естественно, что они дали форму и образ гневу корпораций нескольких городов. Но разве не
92
было бы столь же естественно, если бы другие города действовали по собственному побуждению? Однако таких примеров у нас нет.
Если заметить, кроме того, что им не везде это удавалось, что приверженцы их «плана» редко бывают многочисленны, что вожаков примыкающих групп всегда набирается какая-то горстка, если вспомнить, скольких трудов и времени стоил этот посредственный успех, и, с другой стороны, вспомнить о безразличии властей и зажиточных классов, то будет видно, что успех новых идей происходил не столько от их собственной ценности, сколько от искусно построенной пропаганды их сторонников, и что эта столь незаметная партия сыграла большую роль, нежели она позволяла говорить.
К несчастью, как она обманывает нас относительно истинных чувств народа, так и скрывает от нас собственные маневры. И здесь нам приходится двигаться ощупью.
Что мы знаем о самой партии и о ее кампании? Во-первых, и главным образом то, что партия ее скрывала, что она создавалась незаметно, тайно, в кафе и в «обществах». Что она сложна и направляется очень последовательно и методично людьми, весьма искушенными в таком новом деле, как руководство ассамблеями, — взять хотя бы, как ловко они их проводят, как умеют застать врасплох, как вовлекают их одну за другой в свое дело; что эти люди — все те же во время всей кампании — немногочисленны, что они знают, чего хотят и что эта цель, очень дерзкая, с самого начала намечена, если не признана: это уничтожение двух первых сословий, которые они ненавидят лютой ненавистью, гораздо больше, чем ненавидит народ; наконец, что они образуют группы, единые и
93
согласованные, по всей провинции, идущие рука об руку, с такой слаженностью, которая показывает, что их соглашение началось уже давно: никакая партия не может организоваться ни за несколько дней, ни за несколько месяцев в эпоху дилижансов, пограничных застав между провинциями и соперничающих городов.
Одним словом, то, что мы знаем об этой партии и о ее агитационной системе, скорее способно возбудить наше любопытство, нежели удовлетворить его.
Тэн в начале своей книги о революции цитирует любопытный отрывок из Монжуа: «Современники не знают, что и думать о таком бедствии; они не могут понять, откуда взялось это бесчисленное множество злоумышленников, которые, без видимых руководителей, как будто сговорившись, предаются повсюду одним и тем же бесчинствам, и именно в тот момент, когда должны начаться заседания Генеральных штатов».
Этот автор отвечает на вопрос такой красивой метафорой: «Это потому, что при старом режиме пожар тлел тайно, при закрытых дверях; вдруг распахивается дверь на улицу, воздух проникает внутрь, и тотчас же вспыхивает пламя». Должны ли мы довольствоваться таким объяснением?
94
Как были избраны депутаты в Генеральные штаты
Прочитано на XXII общем собрании Общества современной истории 20 июня 1912 г.
В настоящее время, когда так остро встал вопрос о реформе избирательной системы, я бы хотел поговорить с вами о старейшем из наших положений о выборах — о постановлении от 24 января 1789 г., которому Конституанта обязана своими полномочиями. Это, как ни удивительно, совсем новая тема: не то чтобы текст этого знаменитого закона не издавался, а об исполнении его ничего не рассказывали и результаты не анализировались самым тщательным образом; но никто не задавался вопросом, чего он стоил сам по себе, каков был его смысл и шансы на успех.
Без сомнения этот вопрос заслуживает изучения, и вы убедитесь в этом, ибо первый из наших выборных опытов был, возможно, самым смелым и самым показательным из всех. Я попытаюсь дать вам о нем представление, сделав краткий обзор этого положения и приведя несколько примеров из выборов третьего сословия в Бретани.
95
Чтобы верно понять смысл этого постановления, надо вспомнить о двух концепциях народного права, таких различных, из которых выбирало тогда королевское правительство: старые французские свободы Генеральных штатов и новая, английская свобода общин и парламента.
Французская концепция позитивна, реалистична и органична. Здесь король обращается именно к целой нации в том виде, в каком она на данный момент сложилась и организовалась — со своими кадрами, с разнообразными иерархиями, с естественными подразделениями, с нынешними руководителями, какова бы ни была природа или источники их власти; тут и раса, и избирательный голос, и церковь, и государственные налоги, одним словом, все социальные силы, взятые реально, в деле, как они есть. Говорить о выборах здесь было бы бессмыслицей: речь идет только о созыве. Парламент выбирают, Штаты созывают.
Демократия и свобода «вообще» — не принимаются в расчет. Говорят «свободы», как говорят «народы»; они были разных масштабов и разной природы, у каждой своя история и свои права, столь же многочисленные и разнообразные, как и те корпорации, чьей собственностью они были.
Напротив, естественно, что эта целиком организованная нация ведет себя иначе, нежели неорганическая масса голосующих. Король признает за ней активную, положительную роль, какую наши демократии и не думали отводить массам избирателей. Она способна проявить инициативу, сама составляет свои наказы, назначает, если это нужно, своих глашатаев и следит за каждым их шагом: наказ избирателей здесь обязателен к исполнению. Здесь не знают, что такое представители с общими
96
полномочиями, что такое профессиональный политический состав, обязанный быть посредником между королем и нацией. Взаимоотношения одного с другим прямые, нация говорит сама за себя, без толмача-парламентария; и с этой стороны старое народное право далеко превосходит наши нынешние демократии.
Совсем иной является английская парламентская концепция народа, состоящего из избирателей: здесь власть обращается к индивидуальному существу, то есть к определенно выраженному и актуальному сознанию каждого, оставляя без внимания среду, обстановку, реальные обязанности и потребности, — по крайней мере, все это сохраняет от своей ценности и своего веса лишь то, что каждый знает или просто хочет сохранить, — то есть весьма немного. Отсюда необходимость выборов, голосования, единственного обстоятельства и единственного действия, которые позволяют этому новому абстрактному, нереальному существу — гражданину — утвердить свое существование. Отсюда необходимость специальной почвы — политики, которая позволит ему выделиться, специального органа — парламента, который был бы хранителем его мыслей и его полномочий; наконец, необходимость догмы — свободы, которая узаконивает превосходство гражданина над реальным существом, над конкретным человеком, связанным путами реальной жизни.
Но эта пыль политических атомов самим фактом их освобождения не могла бы справиться с активной, позитивной ролью организованного народа. Толпа избирателей не способна более к инициативе; самое большее, на что она годится, — одобрение; она может выбирать из двух-трех программ, из двух-трех кандидатов, она уже ничего не может
97
ни составлять, ни назначать. Нужно, чтобы профессиональные политики предоставили ей для этого формулы и людей. Такова роль партий, роль, конечно, официозная, но необходимая при таком режиме: без нее, без этого «сверхзаконного» средства, суверен остался бы свободным, но немым.
Короче говоря, французская свобода уделяет самое большое место народной самостоятельности, поскольку признает за ней активную, положительную, прямую роль, но при условии игнорирования отдельной личности и обращения лишь к организациям; английская свобода изолирует и освобождает отдельную личность, но оставляет ей лишь пассивную и отрицательную роль и к тому же ограничивается организацией партии. Первая признает правовой авторитет корпораций, вторая подменяет фактическую дисциплину партиями.
Надо было выбирать. Неккер не выбрал, а предпочел сохранить и то и другое: французскую свободу, которая осуждает любую кампанию, связанную с общественным мнением как крамолу, и английскую, которая отбрасывает любой социальный догматизм как помеху. Отсюда странный характер этого выборного эксперимента, не имеющего, возможно, аналогов в истории демократии.
Во-первых, речь идет, конечно, о выборах по-английски: обширное, почти всеобщее избирательное право: все внесенные в податной список имеют голос. Затем, конечно, социальная агитация, выбор политических представителей, намеченных для данных условий, согласно новому способу выборов, позволяющему устранить факторы влияния и известности, которые Штаты по старинке поставили бы на первый план, — такие, например, как городские цеха: это постановление лишает их ка-
98
кой бы то ни было возможности влиять на ход событий, призывая на городскую ассамблею различные категории жителей, на окружную — деревни, которым там даже покровительствуют, поскольку они делегируют туда горожан со стороны. Впрочем, воскрешение бальяжей, с просроченной юрисдикцией, указывает на то же намерение, как позже — создание департаментов, нового подразделения, и служит той же цели: устранить влиятельных лиц в административной или профессиональной сфере, расчистить место для нового, специального персонала, отобранного по политическим соображениям, вырыть пропасть между политической и реальной жизнью нации.
Это была позиция, которую можно было защищать, хотя и не без риска, поскольку не было к этому никакой подготовки; но, по крайней мере, нужно было на этом остановиться, подкрепить свободу личности партийной дисциплиной, поставлять во что бы то ни стало этой раздробленной толпе готовые кадры, формулы, людей. Это то, чего требовал Малуэ, самый умный из политиков английской школы.
Но Неккер отказал: он хотел, чтобы с этим корпусом избирателей «английского типа» (то есть с двумя миллионами крестьян и ремесленников) обходились, как со Штатами «французского типа» (то есть как с несколькими сотнями нотаблей и должностных лиц, сведущих во всех делах), и чтобы для них сохранили все права и исключительные преимущества прямого суверенитета.
И вот совершилось неслыханное: выборы без кандидатов, без изложения убеждений, без того открытого столкновения людей и идей, которое позволяет сформироваться общественному мнению
99
наших демократий. Никто не «представляется», не выносит заблаговременно свои качества и принципы на рассмотрение публике, как продавец свой товар, чтобы дать возможность составить о нем суждение. И это не шокирует, напротив: такого кандидата обозвали бы интриганом, а такую партию — шайкой.
Даже лучше: именно самих избирателей король просит составлять эти наказы, назначать тех людей, в праве предлагать которых избирателям он себе отказывал; он созывает их ради этого маленькими коллегиями от 100 до 200 голосующих, максимум — приходами, корпорациями, городами, — которые передают свои полномочия и волю другим, а те третьим; и на каждом этапе надо составлять наказ, избирать депутатов и делать сначала всю эту невозможную работу. Но ведь подразумевается, что народ обладает всеми необходимыми знаниями, как и правами. Власть заботится лишь о том, как бы защитить его свободу, но никогда — о том, чтобы укрепить его силы; и ради забавы воздвигает все больше и больше препятствий и все больше запутывает этого несчастного беззащитного суверена, не имеющего ни руководителя, ни советника, сбившегося с пути в результате своего освобождения.
Отсюда общее голосование, более предпочтительное, чем индивидуальное: первое подвластно всем движениям толпы, второе еще допускает минимум размышления и независимости; отсюда многоступенчатые выборы (от двух до пяти ступеней). Отсюда сложность некоторых видов голосования, когда надо указать не одного или двух депутатов, а 10, 20, 50: ассамблее города Ренна надо дать 16 голосов, Бреста — 30, Нанта — 50, ассамблее
100
нантского бальяжа — 25, Ренна — 200: это так называемое «сокращение»: вся ассамблея бальяжа, в которой более 200 человек, должна «сократиться» до этого числа; конечно, она тогда разделяется и голосует по фракциям, но списки все еще очень длинные, от 25 до 50 имен. И эффект удивителен: вообразите несколько сотен набившихся в какую-нибудь церковь незнакомых друг с другом крестьян, многие из которых приехали за 20–30 лье и которых попросили за неделю составить докладную записку о реформе королевства и назначить две-три дюжины депутатов. Им запрещено заранее писать эти имена, из страха перед крамолой; надо проходить цепочкой перед сенешалем и громко называть выбранные имена. Представляете себе подобную операцию? выработку списков, голосование, подсчет, итог? и какую степень здравого смысла допускает подобная работа? Бывали смешные случаи, например, в Нанте, где крестьяне потребовали отпечатать список членов ассамблеи: большинство не смогли бы назвать и десяти имен присутствующих, а надо было назначить 25 депутатов.
Итак, благодаря странному смешению двух разнородных систем, английской, которая разбивает социальные рамки, и французской, которая исключает всякое личное влияние, положение о выборах от 24 января приводило избирателей не к свободе, а к пустоте. Крайняя степень свободы здесь смыкается с деспотизмом: под предлогом освобождения поля зрения все объекты убираются с поля зрения; посредством обрывания всех уз и привязанностей лишают всех точек опоры. Было невозможно в подобных условиях, чтобы голосующие смогли бы сойтись на одном выборе, на одной идее.
101
Но что же произошло в действительности? Эта работа была повсюду проведена самым что ни на есть легким образом. Наказы были составлены, депутаты назначены как по волшебству: все потому, что рядом с настоящим народом, который был нем, находился другой, за него говоривший и назначавший, народ, конечно, немногочисленный, но очень сплоченный и повсюду рассеянный философскими обществами. Не было ни одного мало-мальски значимого городка, который не имел бы своего кружка вольнодумцев, ложи, литературного салона, патриотического общества, объединенных и вдохновляемых одним и тем же духом и вместе служащих одной и той же «великой работе». Я не стану описывать эту любопытную республику, но я должен немного сказать о ее политических методах, так хорошо приспособленных к условиям, которые нас занимают.
Это, как часто говорят, — великая школа демократии, и ничто так не верно: это идеальное государство — единственное, которое нашло секрет, как поддерживать порядок и союз без ущемления свободы мысли, не прибегая не то что к почитанию владыки, но даже к популярности лидера. Дело в том, что имеются иные способы управлять людьми, кроме главенства и фактического превосходства, называемые на масонский лад «способами ордена, или внутренних кружков», само имя которых в достаточной мере определяет их роль. У внутреннего кружка нет органа власти, то есть нет признанной власти, подобной власти какого-нибудь партийного штаба. Его сила в другом: всякий раз, как братья собираются, он уже успел до этого собраться, наметить план, дать лозунг, возбудить безразличных, нажать на неуверенных и робких. На за-
102
седании у него уже полностью готов пакет резолюций, готова к делу клака, и поскольку он начал работать заблаговременно и запасся хорошими картами, то он устранил мешающих посетителей, усмирил бюро, утвердил распорядок дня. Обсуждение, конечно, свободное, так как о существовании кружка не подозревают, но риск этой свободы сильно уменьшен, и можно почти не опасаться безрассудных поступков со стороны «суверена»: всеобщая воля свободна, как локомотив на рельсах.
Таков, в двух словах, принцип этой системы. Он базируется на том основном правиле социальной практики, когда любому официальному общественному голосованию предшествует (и определяет его) закрытое обсуждение во внутреннем кружке, что любая общественная группа — это «непосвященные», «профаны» по отношению к группе «посвященных», более узкой, более сплоченной, более активной и более ясно видящей. Отсюда целый набор приемов и методов — «королевское искусство», как говорили тогдашние масоны, «наука предвыборных махинаций», как менее изящно выражаются нынешние профессионалы. Их объединяет то, что они управляют голосующими только без их ведома, пользуясь их слабостями, глупостью, вялостью, робостью, стадным чувством — одним словом, инертностью. Только силу инерции и могут использовать тайные лидеры, поскольку она не знает, чему подчиняется, и поскольку только ее использование согласовывается с принципиальной свободой: она служит, не зная этого, служит, не подчиняясь. Таков великий прием «королевского искусства»: против независимых, своенравных, недисциплинированных людей, угрожающих союзу, этот внутренний кружок держит в запасе то, что тогда называли «мертвым грузом», то
103
есть груз отрицательных голосований, вызванный бессознательностью, слабостью голосующих, — это механическая, инертная сила. Отсюда словечки политического арго: партийцы говорят о своре, о доезжачих, о пастушьих собаках, о голосующем стаде; а тайные кружки говорят о скрытых пружинах, о машине, о машинизме. Мы спускаемся на одну метафорическую ступень и переходим от страстей к инерции, от животного к автомату.
Таким образом, в граде мысли и свободы условиями порядка являются бессознательность и инертность. Инертность нужна чистой демократии, как нужна лояльность авторитаризму, как страсть — народной власти. Что же требуется для развития этого необходимого фактора? Ничего, кроме этой самой свободы, разлагающей и разобщающей, которую, превзойдя все ожидания, осуществил королевский указ. Под таким углом зрения предписания этого положения, внешне такие абсурдные, обретают смысл и практическое значение: ибо, защищая избирателей от всякого признанного, явного влияния, они тем самым облегчают задачу скрытого воздействия и служат работе «механизма», «способам» братьев и друзей.
Взгляните еще: отсутствие кандидатов и программы? Но машине опасно появление какого-либо интереса, человека, веры, которые могли бы сгруппировать голосующих не вокруг машины и дали бы им какую-то собственную волю; и машина только выиграет от безразличного равновесия, в котором принципиально царствует отрицательная «всеобщая воля», так хорошо определенная Руссо, а фактически — силы машины.
Публичное голосование на ассамблеях не индивидуально? Тем легче управлять им посредством
104
разных предложений и махинаций на заседании, тем легче наблюдать за ним.
Многоступенчатость выборов? Но для братьев каждая ступень — лишний случай взять вперед десятину в пользу машинизма с невежества, инертности, со стадного инстинкта голосующих, новую мостовую пошлину в пользу машины, которая всякий раз получает часть мандатов и мест, и в конце концов целиком направляет по своим каналам и подчиняет своим людям огромный поток народных полномочий.
Редукция? Это триумф: потому что только машина, благодаря союзу братьев, способна удачно провести столь трудную операцию, собирая голоса по данному списку. Для нее даже нет ничего легче: и успех прочен, как бы ни многочисленны были непосвященные, разумеется, при условии, что они остаются рассеянными, изолированными друг от друга, одним словом, «свободными».
Теперь видно, какую роль должно было играть, по замыслу братьев, положение о выборах: это та же самая роль, которую в большой общественной работе играют «принципы», которыми, впрочем, руководствуется это положение. Отрицательная роль, работа разобщения. Предстоит расчистить почву, разложить это голосующее вещество и свести его к состоянию неорганическому — свободе — и однородному — равенству, которое является условием работы машины. Королевский указ, сверх всяких ожиданий, так помогал достижению этой цели, что, казалось, сам ее преследовал. По произволу избирательных группировок, не соответствующих ни реальным чувствам, ни реальным интересам; по абстрактному характеру дискуссий, обреченных на универсальность, по выбору, который может касаться
105
лишь исповедуемых принципов, но не известных качеств, который определяется лишь логикой, но не опытом избирателя; наконец, по числу и сложности голосований, являющихся переизданиями этих пороков, — по всему этому можно сказать, что этот указ силой навязывает избирателям философскую социальную ориентацию и точку зрения.
Но, в конце концов, это была лишь первая половина большой выборной работы, ее отрицательная часть. После того как материал собран и подготовлен, нужно воздвигнуть здание; после того как расстроился порядок духовный, надо, чтобы утвердился механический порядок. В обществе мысли этот второй этап происходит сам собой, с течением времени, силою вещей, благодаря автоматической и постоянной работе по отбору и вовлечению, которая вытесняет непокорных, замещая их «чистыми». Но не так дело обстоит в ассамблеях избирателей. Чтобы за несколько недель обратить к Справедливости и Просвещению целую шумную толпу непосвященных избирателей, нужно сознательное и активное вмешательство братьев, нужны цель, план, интрига. Да, это очень тяжкий труд. Общество здесь находится в положении только что разведенного огня, в который кто-то неуклюже свалил разом целую повозку дров: как бы хорошо эти дрова ни были поколоты, сухи и готовы для горения, они, того гляди, своей массой задушат огонь, который должны поддержать; и как раз это не замедлило произойти в некоторых сенешальствах, например в Бресте, где 30 избранников обществ потонули в потоке крестьян, то же произошло и в Морлэ.
Но главное препятствие в другом: это положительное, открытое вмешательство, как мы говорили,
106
не в обычаях и не в духе этого общества. Ему не позволено выходить на сцену, выставлять вперед своих людей; это скорее прием партии, отзывающийся личным интересом, столь же противным духу обществ, признающих лишь всеобщее, как и интересам машины, которая будет испорчена, если покажется на глаза. И даже если бы она на это согласилась, то не смогла бы: ведь посвященный, агент внутреннего кружка — это не лидер, не тот человек, которого можно выставлять напоказ, который может нравиться и увлекать. Таков прокурор Ренна, который полгода вел напряженную борьбу, опубликовал 20 памфлетов, составлял наказы, провоцировал волнения, руководил ассамблеями, и чьего имени не знал никто в Бретани.
Но что же делать? Время торопит. Без сомнения, есть все основания надеяться, что народ-суверен, настроенный соответствующим образом, потеряет из виду своих обычных руководителей, свои подлинные интересы и положение, а это уже много. Остается лишь помешать тому, чтобы он голосовал наугад, оградить его от частных происков, одним словом, увериться в том, что процесс идет в заданном направлении, как говорил один из свидетелей этой работы. И эта задача не из тех, которые машина может взять на себя, по крайней мере, непосредственно. Она не может противопоставить свое влияние чужому, свою программу чужой.
Однако она выбралась из тупика изящно как никто, благодаря одному приему, впрочем, классическому в «королевском искусстве», аналоги которому можно найти во всех великих кризисах: методу исключения. Вот его механизм.
Когда общество не может прямо заставить назначить своих людей, ему остается лишь один выход:
107
заставить исключить всех других. Такова цель кампании, затеянной за полгода до того. Основной тезис соответствует самым чистым принципам: у народа, мол, есть прирожденные враги, которых он должен запретить себе брать в защитники: это люди, которым невыгодно его освобождение, то есть в первую очередь привилегированные, но также и те, кто от них зависит, — судейские чиновники, десятинные арендаторы или цензитарии, какие-либо агенты. Этот тезис, выдвинутый с ноября 1788 г., вызвал бурю: какой адвокат, прокурор, практикующий врач не имеет хоть одной повинности перед сеньором? Сколько торговцев пожалованы дворянством? И кто, кроме них, в состоянии представлять третье сословие, и особенно деревни? Лучше уж тогда отказать ему в праве избирать, нежели исключать всех избираемых.
Но общество, как и следовало ожидать, крепко держалось и достигло своих целей: что касается принципов, то здесь оно было в своей сфере; здесь не было ничего, что не соответствовало бы разуму и свободе, не было бы неопровержимо, как настоящая логика. Кампания была проведена братьями с энтузиазмом, какого требовало общественное благо и не расхолаживало личное благо; не то чтобы, конечно, большая часть их не попала под исключение — почти все они судейские и чиновники сеньоров — но каждый знает, что общество воздаст должное его заслугам. Если естественно, что оно исключает профанов, в чьих чувствах оно не уверено, то столь же справедливо, что оно избавляет от исключения тех братьев, патриотизм которых ему известен; и оно может себе это позволить без упрека в пристрастности: ибо никто вне его не будет иметь желания или даже средства разоблачить эти исключения.
108
Так и случилось: закон об исключении, изданный обществом и примененный машиной, послужил — простите за тривиальное сравнение — ситом для просеивания толпы избираемых: в него отправили всех, во имя принципиальной свободы, но оставили лишь братьев — тех, кого знали по внутренним кружкам и в ком были абсолютно уверены.
Я не могу здесь вдаваться в подробности этой операции, очень тонкой и сложной, и приведу вам из нее лишь один типичный пример, пример предвыборной работы в Ренне, который позволит проиллюстрировать кое-какими фактами несколько абстрактное рассуждение.
После полугода политической агитации победа «коммуны», то есть философской группы в Ренне сначала обеспокоила власти[43]. Приезд делегатов от приходов успокоил их. Все эти крестьяне, пишет граф де Тиар, военный комендант провинции, — «добрые люди, очень преданные королю, и если в их наказах и есть нелепые вещи, то это дело рук единственно священников и судейских». Да, их более 800, то есть на одного философа приходится по 20 крестьян или профанов[44]. Что может сделать за несколько дней щепотка патриотских дрожжей в этой огромной массе аморфного вещества?
109
Это неправильный расчет, как мы уже говорили. Машина не боится толпы, наоборот. Ей нужно лишь, чтобы толпа была свободной, то есть разобщенной, неорганической, и это для нее как нельзя лучше. Реннское сенешальство было в Бретани самым обширным и разношерстным. Кроме трех епархий — Доля, Сен-Мало и Ренна, оно захватывало также епархии Ванна, Нанта, Сен-Бриек и даже Трегье. Многие избиратели приезжали за 40–50 лье. Большей частью крестьяне, они являлись туда без руководителей, без наставлений, даже не зная друг друга, сбитые с толку и ошеломленные. Нет ничего странного в том, что Тиар находит ассамблею «шумной, неумной и часто пьяной».
Было ли более податливое тесто для этой машины, чем это народное месиво? И тем не менее братья считают, что оно еще не вполне готово. Потому что сквозь сито местного надзора прошло значительное количество сеньориальных чиновников[45], людей достаточно осмотрительных, чтобы расстроить план, оспорить решение, даже заручиться каким-то количеством голосов[46], и которые, однако, находились здесь без согласия — то есть против воли — Израиля. Нужно было в первую очередь и любой ценой устранить эти инородные тела, которые могли лишь испортить механизм; и братья занялись этим сразу же, классическим способом: блокировать ассамблею своим собственным малым народом, этим штабом бунтов и петиций, закаленным
110
и проверенным за полгода социальной работы[47]; затем снова и снова пропустить голосующую массу сквозь решето исключений, пока просеивание не станет безупречным.
Операция эта завершается, согласно обычному порядку, в два приема.
Утром 8 апреля один из шестнадцати жителей Ренна выдвигает предложение исключить сеньориальных чиновников; другой, Дефермон, предлагает исключить Друэна, королевского прокурора. Это первый акт, официальный: утверждение принципа. Он вызвал, как всегда, бурное сопротивление.
А как же наши доверители! — кричат исключенные; а воля короля! — настаивает сенешаль Бори; ему возражают: воля народа, она одна — закон; несчастный так и не оправился от этого. Что до исключенных, то их доверителей тут нет, а их коллегам крестьянам нет никакого смысла поддерживать их. И если они в большинстве против патриотов-депутатов, то не против патриотического народа, который тоже здесь и который не привык сдерживать ни свой язык, ни кулаки. К тому же речь идет не о том, чтобы голосовать, но чтобы только обсудить предложение.
После трехчасового волнения сопротивление ослабевает. Некоторые исключенные во главе с сенешалем заявляют, что отказываются от того, что-
111
бы быть избранными, с тем чтобы им разрешили голосовать. Это означает поражение; и самые смелые идут на переговоры. Но патриоты ничего не слушают: они терпят Бори, и только его; остальные должны выйти сейчас же, особенно Друэн, королевский прокурор: он стесняет свободу собрания. Друэн, как и другие, отказывается от своего избрания, но делает вид, что остается. Сразу же оскорбления превращаются в смертельные угрозы. Его окружают, толкают; сенешаль и несколько депутатов защищают его своими телами и с большим трудом провожают до дверей. В тот же вечер он пишет министру, что подает в отставку. Тем временем исключенные напуганы и покидают партию, большинство безусловно. Только тогда состоялось голосование, и закон об исключении был ратифицирован «почти единогласно свободными и компетентными членами», комментирует Ланжюинэ несколько дней спустя, что на языке непосвященных означает «патриотическим меньшинством». Но в конце концов этого голосования оказалось достаточно, чтобы ответить в следующие дни на легальные демарши и предупреждения исключенных[48].
Когда непосвященных с треском выгнали во имя принципов, оставалось потихоньку вернуть братьев — т. е. провести вторую часть операции, более
112
трудную, чем первая, и не менее нужную, ведь среди исключенных были «очень хорошие граждане», как пишет «Вестник нации», ссылаясь на Бертена, фискального прокурора из Шатожирона. И, как всегда, шайка аристократов, едва выставленная за дверь, хочет приложить к этим добрым братьям закон, направленный только против нее. Но и в этот раз дух восторжествовал над буквой, добродетель над происками. Бертен остался и даже стал одним из восьми членов первого бюро и одним из двенадцати членов генерального бюро, которое составило наказы и провело выборы.
Дело было очень нелегким; но его результат — достаточно очевидный — драгоценен: это последнее фильтрование, завершив очистку голосующего материала, оставило лицом к лицу с патриотской фалангой, единой, обученной, активной, лишь невежественную, аморфную толпу крестьян — конечно, живую силу, и здоровую, и могучую, но оторванную от своей естественной среды и предоставленную философизму, которому она была необходима для того, чтобы обрести тело и голос, как горячая кровь одиссеевых овец была отдана для утоления жажды теням умерших в стране киммерийцев.
Теперь машина могла работать беспрепятственно; и скоро началась собственно предвыборная работа, которая была завершена через неделю, столь же изящно, как и совершенно. Вот, вкратце, ее этапы.
С вечера 8 апреля кто-то предлагает, а ассамблея решает, что надо разделиться по епархиям, чтобы назначить 90 комиссаров, которые будут контролировать власти и составят наказы; странная это
113
операция — сокращение с 884 до 90, но прошла она за несколько часов без сучка без задоринки. Разумеется, надо заменить уже готовые списки, принятые во время заседания и проголосованные без обсуждения: и откуда они могли взяться?
Следуют четыре свободных для ассамблеи дня, в течение которых комиссары работают, — мучительные дни для крестьян, которые приехали и живут за свой счет. Многие уже жаловались на нужду.
Тем временем комиссары распределились по десяти бюро, подконтрольным одиннадцатому, — «генеральной комиссии», которой руководит Ланжюинэ и в которой составляется наказ от сенешальства. В понедельник после Пасхи, 13 апреля, когда работы были закончены, эти комиссии составляют свои рапорты о раздорах между патриотами и независимыми в Монконтуре и в Шатобриане, обрисованных можно угадать в каком духе, о деле исключения, о генеральном наказе. «Суверен» похлопал в ладоши, проголосовал, продефилировал, присягнул без всякого сопротивления.
Затем началась та необычайная выборная операция, о которой мы говорили: редукция до 200. Конечно, разделились по епархиям и назначили эти 200 по пропорциональным фракциям. Но если видимость от этого выиграла, то машина ничего не потеряла. Обеим группам из Реннской епархии (всего 398 голосующих) надо было назвать одной 48, другой 42 избирателя; 166 голосующим из Сен-Мало — 34; 128 из Сен-Бриек — 31; 111 голосующих из Доля — 27; 73 из Трегье — 22. Это задача, которую поползновения к независимости делали невозможной, но успех которой был обеспечен отбором последних дней. Чтобы избежать случайных
114
накладок и упорядочить образ действия, в каждой группе голосующих были назначены бюро — разумеется, патриотские. Это, по крайней мере, тот случай из двух единственных, когда мы знаем членов. Избрание 211 было проведено быстро и легко.
Тогда наконец начался последний акт, и на выходе из перегонного аппарата появился продукт, даже чересчур красивый: все три счетчика голосов оказались из числа шестнадцати избирателей из Ренна: Ланжюинэ, Глезен, Може. Для приличия двоих заменили нездешними патриотами — Юаром из Сен-Мало и Кербрианом из Гуинкампа. И выборы оказались достойными этого счастливого дебюта: назначенными депутатами стали Глезен из коммуны Ренна, Ланжюинэ из коммуны Ренна, почтенный Юар из Triple-Essence[49] в Сен-Мало, Арди де ла Ларжер, начальник коммуны Витре; Ле Шапелье, из коммуны Ренна, исключенный как пожалованный дворянством 1 апреля, возвращенный как патриот не знаю когда и как, Жерар, знаменитый «папаша Жерар», ставший куклой якобинцев, какой-то «папаша Дюшен», предназначенный для крестьян; Дефермон, из коммуны Ренна; и в качестве заместителей: Варен де Ла Брюнельер из коммуны Ренна и Бодинье из Сен-Мало, зять Юара.
Из девяти избранных только из Ренна было пять; три города (38 избирателей из 880) получили 8 депутатов, а деревни — одного.
Как только депутатов назначили, их тут же поместили под опеку бюро докладов из 20 членов (все — жители Ренна, кроме, насколько мне известно, двоих, членов коммуны или каких-либо
115
обществ — все, наконец, согласно обычному установленному порядку, обладающие, благодаря сомнительному мандату, очень определенными полномочиями). Опека была весьма стеснительна, если судить по письму заместителя Бодинье, добивавшегося разрешения вернуться в Сен-Мало помочь сестре после смерти его зятя Юара, убитого на дуэли.
Так же было в других местах. Успех обществ был полным, братья взапуски прославляли его, и я хочу напоследок предоставить слово оратору совершенного Реннского Союза, который 23 июля 1789 г. выражает чувства ложи в следующих словах: «Мои самые дорогие братья, триумф свободы и патриотизма есть самый полный триумф истинного масона. Это из ваших храмов и из храмов, возведенных в настоящей философии, возгорелись первые искры священного огня, который, быстро распространяясь от Востока к Западу, от полудня к полуночи Франции, воспламенил сердца всех ее граждан.
Магическая революция, которая на наших глазах происходит за такое короткое время, должна быть прославлена верными учениками истинного Учителя со священным вдохновением, сладость которого непосвященные не могут разделить. Те гимны, которые истинные дети Вдовы теперь поют на священной горе, в тени акации, отзываются в глубине наших сердец, и мы должны, подняв руки к великому архитектору Вселенной, поклясться нашему Учителю принести на алтарь всех благ выражения чувства живейшей признательности…
Как прекрасен, мои дорогие братья, будет тот день, когда король-гражданин объявит, что хочет управлять свободным народом и образовать из своей
116
империи обширную ложу, в которой все добрые французы будут по-настоящему братьями!..»
Лучше и нельзя было сказать; и положение о выборах от 24 января 1789 г. буквально поместило всех французов в ложу[50].
117
Кризис революционной истории. Тэн и г-н Олар
1. Проблема
Прошлой весной[51] небольшой мирок революционных историков стал свидетелем новой и весьма любопытной полемики. На их глазах крупнейшему из наших историков революции — его личности, его методу и его трудам — устроил разнос самый работящий его последователь; эта ожесточенная дуэль «врукопашную», по выражению г-на Олара, — дуэль живого и мертвого, до сих пор, насколько хватает памяти, беспримерна; ибо это и не презрительное опровержение, которое рубит сплеча, не называя противника, и не скромное удушение внизу страницы, в примечаниях — это прямой вызов: г-н Олар прерывает свои собственные дела, спускается со своей башни, чтобы пойти на приступ башни Тэна. Это настоящий поход, с оружием и с обозами. Два года лекций в Сорбонне и работы в архивах и, наконец, 350 страниц в ⅛ листа — вот его наличность; и сила нападения соответствует ей: г-н Олар игнорирует философа, приветствует писате-
118
ля, но хватает за шиворот историка. Он обрушивается на примечания, на ссылки. Он все их видел, сообщает он нам, проверил все, которые можно было проверить[52]. Вывод получается ошеломляющий: ученость Тэна ничего не стоит; его построения лишены оснований; поэтому все рушится. Тэн ничего не прибавил к роялистским памфлетам Реставрации, кроме «изящества своего стиля и авторитета архивных шифров». Его книга «почти бесполезна для истории». Это суровый приговор, если он подписан таким ученым эрудитом, как г-н Олар: он не осудил бы более строго и блестящих страниц Мишле, где нет даже и «авторитета архивных шифров».
Такого рода атака должна была привлечь к себе внимание, и не только из-за имени ее жертвы, но особенно, в более широком плане, из-за проблемы, которую она затрагивает, ибо она сталкивает две историко-революционные школы. Именно с такой точки зрения я и хотел бы ее рассмотреть.
Как следует писать историю Революции и прогресса демократии вообще? Нет никакого сомнения, что новое правление — правление народа, общественного мнения, законно возведенного в ранг высшей власти, относится к историкам не так, как старое. Но могут ли они остаться верными старым методам? Новый суверен ничего не имеет общего со старым, кроме места, которое он занимает.
Что такое официальное царствование общественности, свободного народа, народа-правителя? Для теоретиков этого строя, «философов» и политиков, начиная с Руссо и Мабли и кончая Бриссо и Робеспьером, настоящий народ — это
119
идеальное существо. Всеобщая воля, гражданская воля намного превосходит актуальную волю, как божественная благодать господствует и возвышается над природой в христианской жизни. Как сказал Руссо: всеобщая воля — это не воля большинства, и она права перед ней; свобода гражданина — это не свобода человека, и она исключает ее. Настоящий народ в 1789 г. существует лишь предположительно, в сознании или воображении «свободных людей», «патриотов», как тогда говорили, «сознательных граждан», как сказали бы мы, то есть в сознании небольшого количества посвященных, завербованных с юности, беспрерывно приучаемых и всю жизнь воспитываемых в философских обществах — мы называем их обществами мысли — по науке свободы.
Ибо это действительно наука, дисциплина: эта свобода уже потому, что она теоретическая и абсолютная, несоизмерима с актуальным, реальным положением наших желаний и нужд. Вольнодумцем не рождаются, еще менее им становятся на свежем воздухе реальной жизни, полном религиозных и других веяний, кастовым, корпоративным, сословным духом, духом землячества и семейственности. Плоть слаба: большинству людей нужна помощь извне, превосходящая их силы, которая избавляет их от всего этого, спасает, против их воли, от «фанатизма» (религиозного духа), от «аристократии» (лояльности), от «эгоизма» (духа независимости) и ставит их на безличную точку зрения «человека и гражданина». Отсюда необходимость методической, то есть «философской» (мы говорим — «вольнодумной») подготовки, необходимость особой среды, то есть обществ мысли, где под колпаком, укрытая от контакта с реальной жизнью, в
120
некотором граде равных, исключительно умственном и идеальном, формируется душа философа и гражданина. Отсюда также необходимость употреблять силу и хитрость против большинства людей, не относящихся к этим привилегированным носителям сознания и разума. Это обязанность посвященных. «Надо заставить людей быть свободными»[53], — сказал Руссо. Якобинцы 1793 г., имевшие дело со взрослыми людьми, принимались за это с помощью террора; якобинцы 1909 г., у которых есть время позаботиться о детях, — вводя принудительное преподавание и узаконивая раскрепощение умов. Навязанная таким образом свобода — это догма, которая превосходит и подчиняет действительную волю народа в одном смысле, как политическая или религиозная власть — в другом. «Свободный народ» якобинцев не существует и никогда не будет существовать, он сам себя творит, как ренановский бог. Это предельный закон, ведущая мысль глубокого религиозного значения: это не фактическая реальность, какие историк встречает на своем пути.
Напротив, для всех, для непосвященных, свободный народ — это масса, разнузданная толпа, предоставленная самой себе, инстинктам, сиюминутным внушениям, не знающая ни узды, ни власти, ни закона; такая, какой она явилась в июле 1789 г. изумленным взорам «философов»: огромное чудовище, бессознательное, орущее, в течение пяти лет наводившее ужас на Францию и оставившее в душе тех, кто это видел, неискоренимый страх — кошмар, который витал над двумя третями XIX века и у трех поколений заменял исчезнувшую лояльность; но как исторический феномен он был плохо понят
121
и никогда не изучался непосредственно и сам по себе до Токвиля и Тэна.
Все историки говорят о народе — это, конечно, нужно, поскольку он действует всюду, — но говорят всегда о его делах, о его героях, о его жертвах и никогда о нем самом. Все уделяют место в своих повествованиях этому огромному анонимному персонажу, который смешивается с реальными лицами, подобно тому как высокие аллегорические фигуры соседствуют с портретами конкретных людей на картинах Мантеньи. Вот под июльским солнцем, под каштанами Тюильри, желчная физиономия Демулена — и народ; вот 6 октября, Ассамблея, у барьера — Майяр, в засаленном воротнике, со злыми глазами и обнаженной саблей — и народ; вот 4 сентября 1792 г. в калитку Аббатства входит в красновато-бурой одежде элегантный Бийо, шагая через лужи крови, чтобы не испачкать чулок, вон толстая шея Дантона — и народ. Подробно известно, до мельчайших деталей, кто такие Дантон, Демулен, Майяр, Бийо — детали сами по себе неинтересные, поскольку это достаточно заурядные люди; о народе же не известно ничего — и тем не менее это он все сделал: увез короля и членов Ассамблеи, перерезал пленников. Речь идет лишь о его поступках, никогда о нем самом. Он просто есть, но не объясняется и не рассматривается.
Оказывается, что такая лень непосвященных весьма на руку нынешней идее посвященных: вместо «народа» г-на Тьера, который является лишь словом, Мишле ставит «якобинский народ», который является идеей. Из невежества одних, из мистицизма других рождается странный политический миф о народе как коллективном и в то же время индивидуальном существе, кочующая через всю историю начиная с Минье и кончая г-ном Оларом. Мишле храбро
122
делает народ героем своей книги: «Я увидел…, что эти блистательные, могущественные говоруны, которые выразили мнение масс, несправедливо считаются единственными действующими лицами. Они получили такой импульс, какого сами не дали. Главный участник — народ. Чтобы его снова найти и поместить на его законное место, мне пришлось восстановить истинное значение честолюбивых марионеток, за чьи веревочки народ тянул и в которых до сих пор видели и искали скрытый ход истории»[54]. И вот чудо: Мишле прав. По мере того как открываются факты, они, кажется, подтверждают эту фикцию; факт налицо: эта безначальная и беззаконная толпа, настоящий образ хаоса, управляет и командует, говорит и действует в течение пяти лет, определенно, последовательно и замечательно слаженно. Анархия дает уроки дисциплины обращенной в бегство партии порядка. Став «патриотской», масса французов будто бы обрела единую и невидимую систему, которую мельчайшее происшествие заставляет всюду разом всколыхнуться и которая превращает всех французов в одно большое тело. Одинаковые наказы в ноябре 1788 г., от Ренна до Экса, от Меца до Бордо; одинаковые наказы в апреле 1789; одинаковое беспричинное смятение к 10 июля, одинаковые волнения 20-го, вооружение 25-го; один и тот же «патриотический» государственный переворот, в виде попытки или удавшийся, во всех коммунах королевства, с 1 по 15 августа — и так далее до самого Термидора. 25 миллионов человек на пространстве в 30 000 кв. лье действуют как один. «Патриотизм» произвел нечто большее, чем общность идей —
123
моментальную согласованность действий; общественное мнение, в нормальном состоянии являющее собой критическую силу, становится силой инициативной и действенной.
Даже лучше: чем дальше продвижение вперед в Революцию, тем больше обостряется разница между патриотическим и нормальным общественным мнением; различные в 1789 г., они противоположны друг другу в 1793 г. Чем больше разгорается патриотизм, тем меньше голосуют; чем больше народ становится хозяином, тем больше становится изгнанников и запрещенных — классов, городов, целых областей; чем больше отречений от власти, тем больше тирания, — до того дня, когда было провозглашено революционное правительство, то есть непосредственное управление народа народом, постоянно собранным в свои народные общества. В тот день были официально упразднены выборы и пресса, фактически отмененные много месяцев назад, то есть отменено все нормальное информирование страны. Обращение к избирателям карается смертной казнью как в высшей степени контрреволюционное преступление: это потому, что враги этого народа слишком многочисленны, более многочисленны, чем он сам, и могли бы оставить его в меньшинстве. Так якобинский народ укрощал толпу, а «всеобщая воля» поработила «большинство». Этого факта теоретики не предвидели. Руссо хорошо сказал, что всеобщая воля права перед большинством; практика показала, что всеобщая воля может подчинять себе большинство и царить не только по праву, но фактически, силой.
Но тут профаны возмущаются, отказываются признавать этот народ, который они смело приветствовали четыре года назад. Кричат, что это заговор, секта,
124
тираны. Они не правы. «Патриотический» народ 1793 г., конечно, тот же самый, что и в 1789 г. Ни в какой из моментов сила Революции не заключалась в людях, в вожаках, в партии или в заговоре. Она всегда была в коллективном существе, всегда похожем само на себя. Что же такое этот Малый Народ философов, тиран большого народа, этот исторический незнакомец?
К славе Тэна послужит то, что он первый осмелился взглянуть на него прямо и потребовать у него документы. Он первый захотел определить, понять этот революционный феномен, познакомиться с «народом-сувереном», с «патриотским общественным мнением» 1789–1794 гг. — пяти лет царствования философской свободы. Одно это усилие должно было вызвать революцию в исторической науке, ускорить рождение нового метода. В какой мере ему это удалось? Это мы и хотели бы увидеть; к тому же нет более удобного случая, чем этот спор, который сводит лицом к лицу предшественника новой исторической школы и одного из самых видных ныне живущих представителей старой школы. Поговорим немного об этом.
2. Эмпирическая критика
Я сразу перехожу к личным нападкам. Тэн ищет рекламы, считает г-н Олар, поскольку очень хочет, чтобы его читали; он презренный мещанин, консерватор по трусости своей, поскольку Коммуна внушает ему ужас; он сноб, поскольку ему рукоплещет «высший свет». Надо закончить этот портрет: по словам г-на Олара, это был неловкий, «бестактный
125
человек»; он нашел способ напечатать свой «Старый Порядок» при герцоге де Брогли, свою «Конституанту» при Ферри, сказать правду всем правящим партиям, и он за это заплатил: он никогда не стал признанным историографом и не получил кафедры в Сорбонне.
Перейдем к серьезному выпаду Олара, который составляет предмет этой книги: эрудиция Тэна якобы недоброкачественна, это обширное нагромождение фактов и свидетельств — лишь обманчивая внешность. Проверьте: шифры не те, цитаты искажены, свидетельства недействительны, подлинные источники оставлены без внимания.
Могут сказать: мелочный труд, труд термита против гиганта. Я так не думаю. Так, г-н Олар написал единственный труд, который оказался убедительным для критики, — который оказался даже, как мы увидим, полезным для Тэна — ибо он написал сочинение точное и полное. Нам в этом порукой, во-первых, его ученость — общепризнанная; затем, его труд, занявший два года работы; наконец, его страстность, вспыхивающая на каждой странице: «сногсшибательная фантазия» (с. 267), «фантасмагория» (с. 138), «философский роман» (с. 64), «антиисторический парадокс» (с. 58), «образчик клеветы» (с. 159), «тенденциозные ошибки» (с. 86) — таковы его эпитеты. Тэн — это лихорадочный импровизатор и, так сказать, «иллюзионист» (с. 63), «одержимый педант» (с. 254), «у него дар неаккуратности», «он все время в состоянии какого-то болезненного и страстного упорства» (с. 117). Короче говоря: это больной. «Следует говорить, скорее всего, о своего рода патологии» (с. 328).
Не будем сетовать на эту ядовитую злобу: наука, труд и недоброжелательство — это три условия
126
полезной критики, которая ничего не прощает своей жертве и ошибается лишь перед ней. Перед ней ничто не устоит, что не звучит громко. Посмотрим же, что устоит.
Ошибки и пропуски — такова, по мнению г-на Олара, в итоге ученость Тэна. Рассмотрим вначале ошибки. Я бы хотел подражать г-ну Олару, конечно, не в пространности, но в точности его критики, и представить образчик этой критики, отдельный, несомненно, но исследованный пункт за пунктом: боюсь, это самый нудный способ судить о ней, но единственно убедительный. Возьмем для примера 1-ю книгу «Революции» Тэна — «Стихийная анархия», которой г-н Олар посвящает с. 78–90 своей главы III.
Первая часть исследования г-на Олара (с. 78–85) — это пародийный пересказ Тэна, из которого, на мой взгляд, надо кратко отметить лишь несколько замечаний о методе, особенно «фантастические обобщения». Справедливость этого каждый может оценить, имея под рукой книгу Тэна. Можно увидеть, например, что Тэн называет (с. 13 и 14) 14 провинций, где были волнения, а не 3, как говорит г-н Олар (с. 79), в подтверждение той мысли, что во Франции нет больше безопасности[55]; увидим также, что фраза о дворянах, повсюду попавших под подозрение (с. 96), есть лишь тезис всего отрывка (раздел VII главы III), а не, как говорит г-н Олар, вывод из четырех примеров, три из которых, впрочем, идут вслед за этой фразой. А подкрепляется эта мысль далее 40 перечисленными случаями насилия и 150 предполагаемыми.
127
А теперь — фактические ошибки по семи основным пунктам:
1. Случаи недословного переписывания: шесть. Тэн, переписывая у Байи (Mem., I, p. 336), пишет outre вместо et и sont вместо ont été[56]. Такие же ошибки в пяти других отрывках. Это, впрочем, простая небрежность, а не желание подправить стиль, а тем более смысл текстов. Это, конечно, ошибка, и постоянная у Тэна, но простительная для его времени, когда многие тоже плохо цитируют, но так плохо — никто.
2. Ошибки в датах: две. Письмо г-на Баллэнвилье (Arch, nat., H 1453, р. 195), конечно, от 3 апреля, а не от 15; в начале его стоит «доставлено 15 апреля 1789», откуда и оплошность Тэна. Что же касается письма г-на Жюльена, алансонского интенданта (Arch, nat., H 1453, р. 162), то Тэн неправильно датировал его 18 июля, а оно от 24; но г-н Олар неправильно отсылает его к стр. 34 у Тэна, тогда как оно приведено на с. 74.
3. «Маленький ляпсус»: один. Тэн насчитывает на одной карточке (Н 1453) 36 комитетов или муниципалитетов, которые «отказываются поддерживать взимание налогов». А ведь их всего 16, говорит г-н Олар. Однако карточка 270, очевидно, та же, что и у Тэна, поскольку он повторяет ее заголовок, содержит 35 названий коммун[57]. Но г-н Олар судит лишь по карточке 245…
4. Ошибочные ссылки: тринадцать. Г-н Олар не нашел писем, процитированных Тэном на с. 71: одно
128
от бургундского интенданта (24 июля), из Н 1453, и которое тем не менее благополучно там находится, в досье Бургундии (документ 211); три от графа де Тиара (4 сент., 7 и 30 окт.), из реестра КК 1105, и которые там тоже стоят под своими датами (f-os 6 v-o, 33 v-o и 47 r-о). Он напрасно искал в «Истории Революции» Пужула (с. 100) отрывок, процитированный Тэном, о Фуллоне (с. 62) и который находится именно на указанной странице, но во втором издании, в одном томе 1857 г., а не в первом из двух 1848 г. Добавим, что легко заметить, что Тэн цитирует второе издание, так как он не называет том, и так же легко найти упомянутый отрывок в первом издании, где г-н Олар, по его словам, напрасно его искал: он выделен в заголовке главы III: «Убийство Фуллона, реабилитация его памяти».
«Найдутся, — пишет г-н Олар, — и другие подобные просчеты в других ссылках, в примечаниях на с. 46, 48, 49, 62, 99, 104, 118, 139». Это несколько неопределенно, поскольку как раз на с. 46 не менее 14 ссылок, — и несколько неточно, т. к. на с. 118 их нет вообще. Я все проверил. Есть одна ошибка: отрывок из Мармонтеля, приведенный на стр. 46, причем точно (изд. 1804 г., том IV, с. 141), ни в одном издании не находится на указанных Тэном страницах, — и три опечатки: на с. 62 надо читать: la Fayette II вместо I; на с. 99: Sauzay, I, p. 130, а не 180; с. 139: correspondances de Mirabeau, I, p. 119, а не 116. Остальное (с. 48, 49 и 104), я считаю, точно.
5. «Тенденциозные ошибки»: одна. В апреле 1789 г. мэр Амьена под впечатлением мятежа заставляет продать с убытком весь хлеб четырех булочников, разместившихся на территории монастыря якобинцев. Так вот, Тэн пишет просто «хлеб
129
якобинцев», не говоря о булочниках. Это, думает г-н Олар, из-за того, что он хочет внушить, будто амьенцы сердиты на монахов — клеветническое обвинение в антиклерикализме. Пусть перечитают эту страницу (15-ю) у Тэна: будет видно, что он очень далек от антиклерикализма и приводит факты в подтверждение той мысли, что при господстве анархии «власти подчиняются народу». Он сказал «хлеб якобинцев» для краткости, как, несомненно, выражались тогда и амьенцы и как сам г-н Олар говорит о «клубе якобинцев».
6. «Легковерность и легковесность»: один случай. Тэн выдвигает предположение (с. 103), что после 14 июля восстание обрушивается не только на замки и аббатства, но и на дома буржуа; не только на хартии, на феодальные права, но и «на каждого, кто владеет». Он ссылается на пять свидетельств, все ничтожные или противоречивые, по мнению г-на Олара (с. 87–89):
1) «Le Mercure de France» (12 сент. 1789): в замке рядом с «Баскон ан Бос» (Bascon en Beauce)[58] сын сеньора, г-н Тассен, спас себе жизнь, лишь заплатив 1200 ливров и открыв погреба. То есть дело было не в его логовище, но в его экю и вине: питают неприязнь к богатым, не к сеньорам — покушаются на дом буржуа, не на феодальный замок. Тэн больше ничего и не говорит.
2) и 3) Две брошюры того времени об опустошениях в Маконнэ; свидетельства негодны, говорит г-н Олар, поскольку не дают подробностей — и поскольку автор одной из них пользовался позднее
130
особым расположением Людовика XVIII: значит, это контрреволюционер. Увы! Сколько же тогда безупречных, если так считать?
4) Артур Юнг (25 июня 1789): г-н Олар приводит одну его фразу, в которой на самом деле говорится только о разграбленных замках. Но он не приводит того, что находится тремя строчками выше: «Этот крестьянин, богатый собственник в деревне, где случается много грабежей и пожаров, пришел искать защиты» (возле ополчения)[59]; и не приводит того, что тремя строчками ниже: «Эти безобразия не коснулись лишь видных персон, которых их поведение или принципы сделали одиозными, но слепая ярость простерла их на всех, чтобы удовлетворить жажду грабежа». Так что грабят сельские дома, богатого крестьянина, всех; вот, почти дословно, идея Тэна.
5) Бюше и Ру, IV, с. 211–214: ссылка неверная, читай: I, р. 437 (изд. 1846), где я нахожу вот что: «Г-н Саломон, от имени комитета докладов, сообщает некоторые подробности о своих первых действиях. По письмам из всех провинций явствует, что собственность любого происхождения стала добычей самого преступного разбоя; повсюду замки сожжены, монастыри разрушены, хутора отданы на разграбление» (заседание Конституанты 3 августа). Вот еще одно очень ясное и весомое свидетельство.
Видно, что все в итоге сводится к ошибке в странице.
7. «Фантастические утверждения» — три:
131
1) Тэн без доказательств выдвигает предположение, что 4 су в 1789 г. стоили 8 нынешних (с. 6). Он его выдвигает также и без каких-либо притязаний, и я не знаю, что тут можно сказать: это обычное суждение, высказанное как таковое.
2) Что декларация прав была отвергнута на тайном заседании, прежде чем перейти на публичное заседание (с. 123). Если проверить ссылки, то будет видно, что в этом отрывке только этот один факт не имеет подтверждения, но что одна и единственная ссылка (Буйе, с. 207) не имеет предмета. Из этого заключается, что есть одна неверная, а именно — эта.
3) Что через неделю после октябрьских событий 500 или 600 депутатов дают на подпись свои паспорта (с. 139). Свидетельства этому существуют, и Тэн с ними познакомился в продолжении рассказа Малуэ (Mem., 2e ed., p. 346–348), в примечании, взятом из «Исследований причин…» Мунье, но он поставил Ферьер вместо Малуэ; вот и еще один «маленький ляпсус».
Я добавлю, чтобы восстановить полную картину, ошибку, замеченную, по Колани, на с. X предисловия, еще один незначительный недосмотр[60]. Это все.
Подведем итог этому списку: из более 550 ссылок на 140 страницах «Стихийной анархии» Тэна г-н Олар выделяет 28 существенных ошибок, которые
132
нужно свести к 15, 6 ошибок в переписывании, 4 ошибки в страницах, 2 в датах и 3 типографских опечатки — в общем, приличное среднее арифметическое, до которого самому г-ну Олару, по крайней мере, в его книге о Тэне, очень далеко, поскольку он в своих поправках ошибается примерно в каждом третьем случае.
Вот, если и не все, то по крайней мере самые грубые ошибки Тэна. Поверим в этом хотя бы учености г-на Олара, которая должна была все заметить, его пристрастности, которой нечего замалчивать, а также его честности как критика: когда на человека, притом на умершего, нападают так сурово, то по отношению к нему надо хотя бы быть честным.
Теперь видно, какую услугу книга г-на Олара оказала даже Тэну. Другие, до Тэна, занимались историей Революции, но как теоретики, занятые историей Прав Человека, абстрактного Народа, некоей идеи — работа выполнимая. Тэн захотел сохранить эти рамки, заменив предмет, впустить фактическую реальность на эту большую пустую сцену, где до него преспокойно действовало несколько политиков-философов рядом с условным народом, — a это уже нечеловеческое предприятие. Он первый открыл архивные папки и оказался в девственном лесу, брал охапками факты и тексты. Ему некогда было быть ни педантичным, ни полным. Было ли у него время быть точным? Его сторонники старались лишний раз об этом не говорить, его противники усердно это отрицали, как, например, г-н Сеньобос. «Тэн, — говорит он, — вероятно, самый неточный из историков этого века».[61]
133
Книга г-на Олара опровергает г-на Сеньобоса. Труду Тэна выпало редкое счастье получить боевое крещение в стычке с противником столь же пристрастным, сколь и ученым. Он приобретает здесь то единственное признание, которого ему не хватает: признание тридцатилетней учености г-на Олара. Каждый приведенный Тэном факт отныне будет иметь два ручательства: ученость автора, который его утверждает, и страсть критика, который его не оспаривает. И самые ревностные сторонники Тэна не рассердятся на меня, если я скажу, что второе не мешает первому.
Таким образом, в целом блок фактов и свидетельств, собранных Тэном, остается нетронутым. То, что он рассказывает, — верно. Скажем ли мы, вместе с г-ном Оларом (с. 84), что это не представляет интереса? Что Тэн набрал наугад разных «мелких фактов» о беспорядках и сделал неправильный вывод, что вся Франция была охвачена волнениями? «Его метод социальной статистики 1789 г., — говорит г-н Олар, — примерно так же справедлив, как если бы кто-нибудь, желая дать представление о Франции 1907 г., ограничился бы подбором ужасных происшествий, напечатанных в „Petit Journal“ или „Petit Parisien“». Итак, возьмем несколько таких «происшествий» из рассказов Тэна и поместим их в «Petit Journal» 1909 г.
С марта по сентябрь волнения прокатились по всей Франции; Тэн приводит приблизительно 120 случаев поджогов, убийств, грабежей и т. п.; Руан в течение четырех дней был предоставлен разбою (11–14 июля, с. 20); в Лионе — два дня волнений, когда были сожжены заставы и город наводнили крестьяне, приехавшие продать свои товары
134
без ввозной пошлины (с. 21–22); в Страсбурге была взята и разграблена 600 босяками ратуша, причем стулья, столы, архив были выброшены из окон на площадь; должностные лица сбежали, а 36 из их домов были назначены к грабежу; вход в Марсель был закрыт для солдат, посланных для усмирения мятежа, потом для судей, которым было поручено вести расследование; в городе Труа мэра, убеленного сединами чиновника, протащили по улицам с веревкой на шее, пучком сена во рту, с выколотыми ножницами глазами, в кровь разбитым ударами ног лицом и, наконец, после многих часов мучений, прикончили, а его дом и два или три других разграбили (с. 88–89).
Генерал-комендант Ренна бежит из Бретани и арестован в Нормандии (с. 72); генерал-комендант Дижона арестован у себя (с. 71); генерал-комендант Бордо вынужден отдать мятежникам оружейный склад и Шато-Тромпет (с. 72); генерал-комендант Кана осажден и сдался; драгунский полковник (Бельзанс) зарезан, или, скорее, разрезан на куски, а его сердце таскают по городу (с. 89).
В Париже республиканская гвардия охвачена мятежом и каждый вечер собирается на Бирже труда; CGT (Всеобщая конфедерация труда. — Перев.), королева улицы, руководит восстанием и публикует списки объявленных вне закона; г-н Бриан, министр юстиции (Барантен), приговорен к смерти и освистан 23 июля «до смерти от стыда и ярости», так что сопровождавший его г-н Мандель (Пассере) умер от нервного потрясения в тот же вечер (с. 46). Г-н Лепин, префект полиции (Крон), приговорен к смерти и бежал; г-н де Сельв, префект Сены (Бертье), приговорен к смерти и казнен: его протащили по улицам, избивая и унижая бранью, после чего вспороли
135
ему живот, отрубили голову, вырвали сердце и пронесли и голову и сердце через весь город в букете белых гвоздик (с. 60 и далее); так же поступили с его тестем, и с г-ном Шериу, председателем муниципального совета, и со многими многими другими.
Крики и угрозы нескольких сотен личностей, завербованных CGT, с г-ном Пато во главе клаки, с пятнадцатью объединившимися в качестве патронов и названных «Народом» вынуждают палату депутатов голосовать большинством прямо во время заседания (гл. II, с. 45 и далее).
Вот некоторые из этих «мелких фактов»; я не говорю о крупных — о Ревельоне[62], о Бастилии, об октябрьских событиях. Вы согласитесь, что происшествия такого масштаба заставят померкнуть первоначальный философский Париж, дебаты в Ассамблее; Тэн счел возможным поместить их в самом начале. Г-н Олар более принципиален: он ни слова не говорит об этом в своей «Политической истории…», даже в четвертой части. Как философы того времени, он закрывает двери храма, чтобы не слышать воплей снаружи, закрывает окна, чтобы не видеть зарева горящих замков и парада отрубленных голов: это все происшествия, случайности; он работает при «свете» философии, но не при дневном свете реального мира; и это его право. Здесь скорее предвзятость суждения, нежели какой-то метод и выбор темы, которые, конечно, заслуживают того, чтобы иметь своего историка; и в интересах истории — мы скажем потом почему, — установить официальную версию якобинизма.
136
Но из этого не следует, что его реальная история должна остаться без внимания; и эту историю надо изучать по случайностям и фактам, как понял это Тэн.
3. Метод Тэна
В эрудиции Тэна есть огромные пробелы, собирая материал как придется и без метода, он часто пропускал самое лучшее — таков второй упрек г-на Олара. Он подает его, касаясь архивных источников, в очень доходчивой форме — подсчитывая архивные папки, которые цитирует Тэн, в каждой серии списка, и вычитает это количество из общего количества папок в серии: разница и есть мера (я хотел сказать — коэффициент) нерадивости Тэна. Так, в томе I «Революции» Тэн рассмотрел лишь 3 папки из серии D XIX из 103! 3 из D XXIX, из 94! 37[63] из F7 из 92 имеющихся!
Это, конечно, очень простой и впечатляющий прием. Однако мы от него откажемся по нескольким причинам: во-первых, при этом предполагается, что Тэн знаком лишь с тем, что цитирует, а это неверно: так и сам г-н Олар говорит нам (с. 38), что он в «Старом Порядке» использует 8 папок из D XIX: значит, когда он писал «Революцию», он знал больше тех трех документов, что процитировал в этой книге. Да простит меня читатель, что я говорю о таких пустяках: содержание папок очень неоднородно,
137
редко удается охватить все. Например: если Тэн в «Стихийной анархии» цитирует главным образом Н 1453 и 274, а остальные 1800 папок серии Н не цитирует, то это потому, что в первой он нашел списки восстаний 1789 г., составленные интендантом по приказу министерства, т. е. весьма полезное досье для систематической работы, и к тому же не имеющее аналогов; во втором — досье волнений в Провансе, о которых он подробно рассказывает, в качестве примера, — это другой уникальный случай.
Кто бы осмелился, — великий Боже! — пересечь двор отеля Субиз, если бы невозможно было работать с такой-то серией, не открывая всех числящихся в ней папок, даже не упоминая их? Как если бы был такой ресторан, где нужно было бы или съесть все дежурные блюда, или же уйти натощак. Такие крупные едоки, как Тэн, — 50 папок, процитированных более 200 раз в одной лишь книге «Конституанты», — заняли бы еще видное положение; но что будет с малоежками вроде г-на Олара, который цитирует в своей «Политической истории…» за такой же период лишь 9[64], 2 из серии С — из 563! 4 из серии D IV — из 72! одну из D XIXX bis — из 44! 2 из Т — из 982! и ничего из F 1С III (за которую упрекает Тэна, что тот ее не цитирует), ничего из Н, из F 7, из D XIX (за которые упрекает, что цитирует слишком мало…).
Не будем настаивать: ни Тэн, ни г-н Олар не исчерпали своих источников; как это сделать, если тема так обширна? И зачем это делать в Париже, если неизвестны провинциальные фонды? Речь может идти лишь о выборе. Посмотрим, в каком
138
направлении каждый из них сделает свой выбор, попытаемся лучше понять их намерения, чем подсчитывать ссылки. К тому же это противопоставление не составит труда и будет весьма показательным: разрабатывая одну и ту же тему — историю общественного мнения — Тэн и г-н Олар как будто сговорились черпать из разных источников.
В целом можно сказать, что Тэн ищет личных и частных свидетельств, устраняя, насколько возможно, официальные описания и пропагандистские листки, все то, что написано для публики[65]. Г-н Олар — наоборот.
Возьмем, например, период Конституанты (Тэн, «Революция», т. I; Олар, «Политическая история…», гл. I–VII). Тэн приводит около пятидесяти мемуаров — почти все, что появилось к его времени, — и около тридцати сочинений из вторых рук; он просмотрел в архивах 49 папок и один реестр: корреспонденцию администраторов — старого, королевского строя — интендантов, военных комендантов (Н, F 7, КК 1105) — и нового — администраторов департаментов, округов (F 7); материалы судебного следствия (Y); кое-какие документы комитетов Конституанты (D XIX, XXIX); что касается газет, только две, обе умеренного направления, одна правого, другая левого, «Меркурий» и «Монитор» — скорее, информационные, нежели идеологические, в которых Тэн ищет прежде всего факты, а не доктрины. Он отбрасывает целиком все патриотические газеты и объясняет почему: историк тут ничего для себя не найдет — «едва ли он найдет там ценный факт или деталь, документ, который воссоздаст перед его глазами индивидуальное лицо…» —
139
ничего, кроме «бессодержательных общих мест»[66]. Он также не обращает внимания на массу памфлетов (Bibl. nat., Lb 27, 39, 40 и др.) и вообще на все, что рассчитано на общественное мнение, что старается повлиять на него — официальные или официозные протоколы с их намеренными умолчаниями (серии С, выборы, F 1С III, окружные заседания и т. д.[67], Барэр и Ле Одей), наказы, петиции, адреса с их манерным энтузиазмом.
Таковы методы расследования, и отсюда его результаты. Тэн понимает свою роль историка как роль следователя. Он выбирает, расспрашивает, сводит свидетелей на очной ставке; заново проводит следствие по великому процессу, из которого до него были известны лишь защита или обвинение. Это ново; никто не приводил столько свидетелей, и никто не допрашивал так пристально. И в этом прогресс: ибо авторы мемуаров или корреспонденты министров обычно являются надежными свидетелями, поскольку пишут либо сами для себя, либо ради осведомления своего начальства, а не ради возбуждения публики; поскольку большинство их — люди опытные, благовоспитанные и здравомыслящие, которые умеют рассказать, ничего не преувеличивая с испуга и не искажая преднамеренно.
140
Отсюда такой точный и живой протокол, тем более поразительный, что он составлен с той очевидной добросовестностью, которая является выдающейся чертой характера Тэна.
И все же это отлично проведенное следствие заходит в тупик в одном пункте: преступление доказано, убийство признано — но мотивы, даже средства остаются неизвестными. Фигуры, сцены восстановлены с большой точностью, с блеском деталей и доказательств, с подобающей строгостью комментариев; и, однако, вопреки правилам, это еще больше сбивает с толку и дезориентирует. С самого начала Революция предстает как какой-то беспримерный и бесцельный приступ помешательства; никакого соответствия между причинами общего порядка, довольно-таки банальными, которые открывают главы, и фактами, странными и точными, которые идут дальше: взрыв дикости в 1789 г. — гнусные убийства г.г. Бертье, Бельзанса, Юэ и стольких других — непостижимая тирания Пале-Рояля — великое помутнение разума Конституанты — и позднее ад 1792–1795 гг. Тэн рисует душераздирающую картину: это прекрасное королевство, достигшее такого культурного совершенства; это поколение, так превосходящее нас в том, что касается вкуса, культуры, учтивости в широком, старинном смысле слова; этот век, о чьих останках спорит наш век и чьи мельчайшие реликвии неловко копирует, как варвары копировали остатки римской античной культуры, — все это вдруг за несколько месяцев потонуло в крови и жестокости под тупой тиранией якобинского Калибана. Не знаешь, что и думать об этом; сомневаться не приходится, поскольку факты в конце концов налицо — точные, многочисленные, бесспорные. Но — непонятные.
141
Отсюда и критика: она касается не столько фактов, сколько объяснений, и придирается больше к правдоподобию, чем к доказательствам: «„Революция“ Тэна, — говорит г-н Сеньобос, — это изображение дуэли, в котором стерли одного из противников, отчего другой стал казаться сумасшедшим»[68], или еще, подхватывает г-н Олар (с. 179, 304), это как описание осады Парижа без пруссаков.
Разумное замечание, я считаю, но приложимое ко многим, кроме Тэна, и которое зависит от предмета, к которому относится, — политической истории революционной демократии. Действительно, эта тема представляет трудности особого рода, что надо учитывать.
Можно сказать, что история режима общественного мнения дает материал для двух видов расследования.
Первое будет заниматься легальным состоянием, признанными принципами, объявленными программами, историей официальной — слово, родившееся вместе с демократией и для ее пользования. Нет более легкого исследования, понятно, почему: тут мы как бы перед сценой, в этаком политическом театре, где все подготовлено, чтобы было хорошо видно и понятно «новому владыке мира», как в 1789 г. называли общественное мнение, и чтобы оно одобрило все это. Цель каждого политического деятеля — заставить себе аплодировать, и его первая забота — показать себя, извлечь больше пользы из взятой на себя роли. Теперь нет ничего удобнее, как описать эту роль, отметить слова и позы персонажа. Вот почему о революции пишет столько
142
людей, не имеющих даже элементарных понятий о специальности историка. Официальная версия демократии в истории — то же, что студийные модели или гипсы в живописи: модель хорошо задрапирована, освещена, вышколена, перед ней любой пришедший может сесть и упражняться. Лишь мастера могут уловить в движении жест, походку и силуэт прохожего, который о них не думает: и поэтому политическая история королевского строя — эпохи, когда еще не царило общественное мнение и источник власти был другой, — гораздо тоньше. Лишь здесь мы в сфере обычной критики, в кругу тем, которые ей соответствуют.
Но есть и третий вид политического исследования, третий род изысканий, еще более трудный: тот, кто работает не с внешней стороной событий, не с официальной историей, но с практикой и с реальной историей демократии. Эта работа выше сил обычной критики, как первый способ был, напротив, ниже ее, по той же причине: речь идет все о театре, построенном перед общественным мнением, но уже о его кулисах, а не о сцене; и как ранее мы видели упорное выставление напоказ, так теперь мы сталкиваемся с упорным молчанием. Только что у нас было слишком много документов — теперь их больше нет. Это естественный результат некоего общего положения дел (никоим образом не заговора), не знаю какой условленной и заклятой тайны. Если хочешь узнать демократическую власть как она есть, а не такой, какой она хочет казаться, то не у нее надо об этом спрашивать; будучи всем обязана общественному мнению, она, естественно, имеет свои тайные средства, жизнь и работу, которые от общественного мнения скрывает, тем более от непосвященных и от противников. В расследовании такого рода
143
не существует постоянных способов, непосредственных источников. Между «братьями и друзьями», которые ничего не говорят, и непосвященными, которые ничего не знают, история сводится к выводам и к догадкам.
И вот чего не увидел Тэн. Конечно, он не такой человек, чтобы удовольствоваться официальной историей, но он счел себя в силах написать другую обычными средствами: выбирая честных гидов и следуя за ними. Но здесь этого уже мало. Когда дело касается истории общественного мнения, честные гиды всегда оказываются несведущими гидами. В работе демократического механизма есть целый разряд фактов, которые по самой своей природе остаются неизвестными хроникерам и скрытыми от искушенных подозревающих[69].
Взгляните лучше на свидетелей Тэна, на всех этих интендантов, комендантов провинций, епископов, нотаблей всех степеней; они присутствуют при Революции, они в ней ничего не понимают. Они отмечают факты, а движущие силы, средства ускользают от их глаз. Послушать их, так причина беспорядков — «возбуждение», творец их — «народ», цель — «всеобщее разрушение». Тэн вслед за ними будет говорить о «стихийной анархии», и это то же самое, что признаться в неведении. Из подобных источников можно составить хорошую фактическую историю, показав внешние действия демократии и их результаты, но ничего сверх этого. Несмотря на большое количество свидетелей и на точность деталей, эта история, такая точная материально, является
144
загадкой идейно, и критика г-на Олара остается справедливой.
Она, как видно, зависит от общих причин: тогда нет ничего удивительного ни в том, что г-н Олар не первый пишет такую критику, ни в том, что Тэн не один дает к этому повод. За десять лет до «Происхождения современной Франции» Кине уже жалуется на авторов, придающих Революции вид сражения без вражеской армии: «Представьте себе в открытом поле одну армию, которая бросалась бы с яростью на облака пыли; сколько трупов будет после этой схватки! Это как помешательство Аякса»[70]. Это та же мысль и даже тот же образ, что у г-на Олара. Она приложима, действительно, к целому классу историков, от которых Тэн, в итоге, воспринял в большом масштабе метод и чьи произведения он резюмировал, — это класс историков фактов, историков-эмпириков, если можно так сказать, таких как Созэ, Мортимер-Терно, позже Виктор Пьер, Сиу, и за ними множество провинциальных эрудитов, людей ученых и любящих точность, немного робких, которые прежде всего доискиваются материальной правды, не беспокоясь о правдоподобии общей картины. С ними дело обстоит так же, как и с очевидцами того времени. Они добросовестно изучали, честно рассказывали. Но они не поняли.
Таким образом, Тэн не один в этом повинен. И тем не менее только на него и должны были напасть, и вот почему: как и историки широкого обзора школы Мишле, он охватывает Революцию в целом, рассматривает революционный феномен как он есть и в то же время собирает факты, источники,
145
называет, считает и цитирует, как и историки-эмпирики, — это колоссальная работа, и он первый попытался ее осуществить. Поэтому естественно, что это чудовище предстало ему в новом обличье. Он первый видел его целиком и в то же время отчетливо, ясно, взором, не затуманенным ни незнанием, ни снисходительностью, видел его в неожиданных формах, в странных размерах, не поддающихся философской истории и выходящих за рамки местной истории. Он первый раскопал в архивных завалах и монографиях и извлек на свет тайну того времени: я имею в виду появление, победу и царствование якобинской нации (или «философской», «санкюлотской», «патриотической» — неважно, какое имя носит этот «политический народ», по его удачному выражению). Это нация, которая не есть ни заговор, ни партия, ни элита, ни большинство, ни даже, собственно говоря, секта: в противном случае где же ее вера? Этот народ как раз заявляет, что обойдется без нее, и каждые полгода меняет своих верховных жрецов и свои догмы.
Тэн ставит своей целью изучение якобинского общества, этого Малого Государства, которое рождается внутри большого, растет там и, наконец, там же господствует, но тем не менее не имеет ничего общего ни с его нравами, ни с законами, ни с интересами, ни с верованиями. Он прослеживает шаг за шагом путь Малого Народа, рассказывает о его боевом крещении весной 1789 г., о его первых битвах — 14 июля, 6 октября, о его победе над королем, о подчинении Ассамблеи, затем о его беспрерывной борьбе 1791 и 1792 гг., направленной к тому, чтобы подавить и подчинить себе нормальное общество и общественное мнение — большой народ, который весь прошлый год методично сбивали с
146
толку, и разъединяли, и насильно удерживали в этом состоянии разложения Конституцией 1791 г., большой абстрактной машиной, тормозящей любые нормальные процессы, но неспособной функционировать самостоятельно. Это завоевание большого народа малым — любопытная и требующая большого искусства операция, сто раз предпринимавшаяся и проваливавшаяся и, наконец, увенчавшаяся успехом, что напоминает работу лилипутов, связывающих спящего Гулливера. Нет ничего более затейливого и сложного, чем эта расстановка вокруг ничего не подозревающих масс того, что г-н Олар так удачно назвал «сетью»[71], то есть централизованной системы народных обществ, прежде всего обществ мысли — главного двигателя и нерва этого режима; затем, наряду с ними, целого арсенала диковинных инструментов, придуманных и созданных специально для этих обществ; прежде всего, это предвыборные органы: общинные управления, секции и секционные общества, центральные комитеты секций; административные: комитеты надзора, национальные агенты; судебные: революционные трибуналы; военные: национальная гвардия, революционная армия; и наконец, законы, самый знаменитый из которых — о подозрительных, кодекс о патриотических доносах, так хорошо сделанный нарочно для обществ, что общественность, когда она ожила после Термидора, не отделяет своей судьбы от их судьбы.
Время от времени зверь инстинктивно, наугад, начинает брыкаться и биться, грозя все разрушить; здесь требуется умение действовать так, чтобы каждое усилие только крепче затягивало узлы. И этого
147
удается достичь. «Великая работа», как говорил Малый Народ в 1789 г., совершилась. Жертва наконец повержена, связана по рукам и ногам, с кляпом во рту, не в состоянии ни двигаться, ни даже стонать. Тогда Малый Народ садится господином на это лежащее огромное тело, и кровопускание начинается. Начинает действовать революционное правительство — официальное, объявленное правление обществ мысли, Философии, Человечества, Свободных Людей, нового Града.
Если посмотреть на Малый Народ при свете дня — неприкрытый, без анонимной маски, которой он до сих пор не снимал, — то это будет самое странное явление. У него есть свое лицо, язык, даже вооруженные силы, и костюм, и культ, и идолы, наконец, политические обычаи, только его, его собственные, не имеющие себе подобных в человеческой практике. Тэн наблюдает и отмечает все это в жизни, с точностью и удивлением путешественника, высадившегося на необитаемом острове. Он показал нам Малый Народ, чего никто до него не смог сделать, одни — по неспособности увидеть целое, другие — потому что не рассматривали вблизи; и поэтому его труд стал откровением и знаменует собой большой этап в изучении революции.
Но, конечно, это все лишь этап, и мы не можем ограничиться удивлением. Как Малый Народ явился на свет и пришел к власти? Как возникло такое умственное чудо, как Шалье, Лебон, Сен-Жюст? Такое политическое чудо, как режим 1793 г., этот «деспотизм свободы», по замечательному выражению Марата? Вот что остается узнать, и о чем не говорит ни один из источников Тэна, ни даже проницательный Малле дю Пан, ни ученый Мортимер-Терно (мы видели почему). Пошел ли сам Тэн
148
дальше их, решил ли он эту проблему? В этом можно сомневаться. Признаем по крайней мере, что он первый ее поставил, этим самым отбросив решения, найденные до него, которые скорее отрицали эту проблему, вместо того чтобы ее решать. Они все разделяют один из двух основных тезисов, первый из которых можно назвать тезисом обстоятельств — это тезис сторонников Революции, а другой — тезисом заговора, к которому склонны ее противники. Рассмотрим их.
4. Тезис обстоятельств
Не Революция «начала первая» — никогда она не действовала иначе как под давлением внешних обстоятельств, которые она даже не могла предвидеть; таков тезис всех ее защитников. При помощи его пытаются доказать: 1) что ни в идеях, ни в чувствах людей 1793 г. нет ничего ненормального; что если их поступки нас шокируют, то это из-за того, что мы забываем о грозивших им опасностях, об «обстоятельствах»; и что на их месте любой человек с умом и сердцем поступил бы так же, как они; 2) что такие естественные чувства не могут не быть широко распространенными и что терроризм — это дело рук не какого-то меньшинства, но всей Франции.
А Тэн ничего не говорит об этих все объясняющих обстоятельствах: что же удивительного в том, что его книга — загадка? Г-н Олар, напротив, продвинул этот важный тезис дальше, чем кто-либо, развил его, добавив слово «военные» (обстоятельства), что позволяет защитникам оправдывать действия
149
Революции вплоть до последних актов Террора. Так, получается, что убийство священников в Аббатстве было вызвано вторжением пруссаков; что из-за побед Ларошжаклена пришлось гильотинировать жирондистов; что из-за предательства Дюмурье пришлось узаконить доносы и основать комитеты надзора, и т. д. Короче, почитаешь г-на Олара, так революционное правительство оказывается лишь рулем, за который случайно ухватились в бурю, «военной уловкой».
Считать так, значит недооценивать революционное правительство — забывать, что у него есть свой принцип, как у самой законной монархии, у самого легального парламента — более того, это как раз по преимуществу режим принципов, и последний его агент цитирует их по всякому поводу, как добрый мусульманин — свой Коран. Напомним вкратце это «Кредо» свободы.
Революция — это освобождение, а затем победа и восшествие на престол настоящего суверена — народа. Раб при королевском строе, он разбивает свои оковы 14 июля 1789 г.; затем он «просвещается», осознает свои права, вначале утвержденные Декларацией, потом искаженные буржуазной и монархической конституцией; наконец, он торжествует и царствует, фактически с 10 августа 1792 г., а юридически с 10 октября 1793 г.[72]. Тогда было официально учреждено так называемое революционное правительство: отсрочка государства «конституционного», «учрежденного», поддержка государства «учреждающего», то есть прямого господства народа над народом в ожидании «конституции», учреждения легальных государственных органов. Характерной
150
чертой этого режима, как верно замечает г-н Олар, является слияние властей; а причина этого слияния, которой он не называет, та, что все они остаются в руках общего господина — народа. Таков, в двух словах, принцип революционного правительства. Это, как видно, принцип нового режима — истинной, прямой, по выражению Тэна, демократии, которая сохраняет народу право пользования его суверенностью, в отличие от представительного правления, которое берет его у народа в аренду, и от авторитарного режима, отнимающего у народа эту суверенность.
А вот каков принцип Террора, который является продолжением первого: такая простая в теории, чистая демократия далеко не так проста на деле. Ибо народ не может ни руководить, ни управлять в конкретных, частных делах. Поэтому, разумеется, нужно что-то оставить, хотя бы материальный костяк, если не дух, конституционного режима — депутатов, чиновников, чтобы пустить в ход административную машину. Но если народ не может обойтись без управляющих, то он, по крайней мере, может не спускать с них глаз, держать их в руках, в любой момент сменить их и бесконечно «терроризировать».
Такова как раз роль народных обществ. Они — «глаз народа»[73]. Их функция — надзор, их средство — террор. «С самого своего основания народные общества были надзирателями за конституционными властями и даже за правительством; и этот-то надзор и представляет собою свободу; ибо народ, не имея возможности быть все время собранным на съездах избирателей, рассеян по отдельным обществам, чтобы не упускать из виду носителей власти.
151
Вот основное свойство народных обществ»[74] и на этом основан принцип Террора.
В глазах сторонников нового режима названные общества — это сам народ. «Суверен находится непосредственно в народных обществах», — говорят якобинцы Лиона[75]; «атаковать вас вместе — значит атаковать народ»[76], — говорят парижские якобинцы. В них по преимуществу заключается «учреждающая власть», и именно поэтому Ле Шапелье требует их отмены в сентябре 1791 г. Да, говорит он, они сделали Революцию, свергли деспотизм, но, после того как они проголосовали за конституцию и учредили власть закона, для их существования больше нет оснований, их задача выполнена. «Факты показывают, — говорит г-н Олар, — что якобинская организация — это организация не какой-то партии, но всей революционной Франции»[77]. Это показывают не только факты, но и просто здравый смысл: если раз признано, что народ должен править сам, как он будет это делать, если он беспрерывно не обсуждает и не голосует? И вот уже вместо предвыборных временных ассамблей созданы постоянные обсуждающие общества и все, что за этим следует: переписка, сообщающая о состоянии общественного мнения, Центр, который все это собирает, — главное общество. Это якобинская организация, или, если хотите, бирмингемский «Caucus», или американская «Машина», наш «Великий Восток», наши кружки Республиканского Союза, наша CGT [Все-
152
общая конфедерация труда], или другое подобное общество равных, рабочий орган философов, который применяет к своему народу — своим адептам — принципы чистой демократии, как якобинское общество хотело применить их к целой Франции в 1793 г. Это само собой разумеется, и эта организация так естественно вырастает из этих принципов, что ее даже не трудятся описывать. Ни Тэн, ни г-н Олар об этом даже не думали. Кто говорит: «прямой суверенитет народа», «чистая демократия», тот говорит «сеть постоянных обществ». Невозможно представить себе не то что правление, но даже существование, даже самосознание такого суверена без них. Откровенно говоря, кроме как в них, «народа-суверена» и не существует. Настоящая демократия — это правление обществ, как парламентская демократия — это правление ассамблей.
Таковы «принципы», не зависящие, как видно, от любых обстоятельств, от войны и прочего. И это от них, а не от обстоятельств, происходят ужасные атрибуты нового строя: безграничное право на чужие жизни и имущество, совмещение всех полномочий в одних и тех же руках. Каким образом — видно: благодаря деятельному надзору обществ, сам суверен «стоит» — есть такое выражение — за своими избранниками, вместо того чтобы отказаться от власти в их руках, под гарантией закона, как он это делает при конституционном режиме. Отсюда следует, что эти избранники — уже не «представители» с утвержденными, но ограниченными законом полномочиями; это непосредственные агенты, «председатели народа», за каждым шагом которых следят, которых завтра могут сместить, но поэтому сегодня они — подобны богам, сильные всем правом своего народа, не имеющим границ. Их власть
153
над другими беспредельна и не подлежит обжалованию именно потому, что она не дает гарантий им самим и не отличается даже от власти того народа, который держит их за помочи. Они остаются в руках хозяина; теперь их приговорам не противопоставить ни законов, ни принципов: это приговоры самого народа; а народ — это живой закон, судья правосудия[78].
Отсюда очень определенный смысл слова революционер, слова, «более рокового для человечества, чем „Троица“ или „Евхаристия“», как говорит Риуф[79], слова, наделенного «магической силой», как говорит Малле дю Пан[80]. Любой поступок, любой приговор, исходящий от суверена, называется революционным, и все акты социального[81] режима имеют такое свойство. Уже поэтому они выше всяких законов, всякой справедливости, всякой принятой морали.
Так, есть революционные законы, которые нарушают важнейшие правила юриспруденции, например, об обратной силе, нарушают самые элементарные права и свободы; есть убийства революционные и потому законные; есть революционные армии, имеющие право вламываться в дома к частным лицам и делать и брать там все, что захочется; есть революционная полиция, которая вскрывает чужие
154
письма, предписывает доносить и оплачивает доносы; есть революционная война, которая выше международного права, революционное правосудие, обходящееся без защиты, без свидетелей, без следствия, без обжалования: к чему все это, если судит народ — по крайней мере, следит за судьями — значит, все хорошо. Вначале суверен действовал сам. После сентябрьских убийств он нанимает исполнителей; таков смысл существования революционного трибунала, по мнению его инициатора Дантона; он должен «заменить верховный трибунал Народной мести», и если бы он существовал, то не было бы резни в тюрьмах: Майяр напрасно скопировал Фукье[82].
Короче, революционное правительство, то есть социальный режим, учреждает личное правление бога-народа. И это воплощение имеет следствием создание новой морали, которой важно не то, плох или хорош поступок, а то, революционен он или нет, то есть соответствует ли он нынешней и действующей воле этого бога. Эту-то социальную ортодоксальность наши якобинцы называют в 1793 г. «патриотизмом», английские Caucusmen’ы — «Conformité» [согласованность, соответствие], американцы — «Régularité» [порядок, система][83].
Таким образом, во Франции в 1793 и 1794 гг. была несколько месяцев политическая теократия, официально узаконенная декретом Конвента, который поставил очередной целью Добродетель (читай: новую Добродетель, то есть культ Всеобщей Воли, социальной ортодоксии). Но публика, недостаточно «просвещенная», понимала плохо; и ничто так
155
не любопытно, как ошибки профанов в отношении этой добродетели и усилия новых законоучителей исправить свою паству. Можно прочесть, например, возмущенную речь Робеспьера к якобинцам 9 июля 1794 г.: можно ли было себе представить, что революционный комитет использует этот декрет Конвента о заключении в тюрьму за пьянство в праздничный день? Результат этой морали наизнанку свидетельствует и о ее глупости: ибо в этот день добрые республиканцы оказались за решеткой, а плохие — на воле. И так-то, продолжает оратор, «преступники видят в дворянах лишь мирных земледельцев и добрых мужей, и они не справляются о том, являются ли те друзьями справедливости и народа». Как будто эти «личные добродетели», так бурно расхваливаемые реакцией, имели сами по себе хоть какое-нибудь значение! Как будто даже они могли существовать без «общественных добродетелей», то есть без якобинской ортодоксальности! «Человек, у которого нет общественных добродетелей, не может иметь и личных». И, взаимно, «преступления не может быть там, где есть любовь к Республике»[84], — писал Бернар де Сент. Так противоположность между двумя моралями становилась полной. Кто служит новому богу — якобинскому Народу — тот добродетелен уже поэтому; кто борется против этого народа, тот преступник.
Термидор нанес сокрушающий удар новой мистике в самом зените ее подъема; это стало ясно в тот день, когда Тальен осмелился бросить с трибуны Конвента такое богохульство: «Какое мне дело до того, что человек родился дворянином, если он хорошо себя ведет? Какое имеет значение, что че-
156
ловек из плебеев, если он мошенник?»[85] Две морали — революционная и старая — начали странную борьбу с процесса над террористами: по какой же их судить? Это поставило судей в большое затруднение: несколько раз социальная мораль брала верх, например, в процессе Каррье; все его пособники, кроме двух, были оправданы: они воровали, грабили, убивали, но по-революционному, а значит, невинно. Самому Фукье едва не повезло так же: виновный с точки зрения морали, перед революцией он невинен. Но собрание возмутилось, президент Лиже де Вердиньи доложил об этом Комитету общественного спасения, который в ответе сказал что-то о «дурных» намерениях (вместо «контрреволюционных») — это означало признание прав старой морали и подписание смертного приговора обвиняемому[86].
Видно ли теперь, какое ужасное оружие социальный режим вложил в руки своим агентам? Оно есть произведение одних лишь принципов. Верно ли то, как думает г-н Олар, что обстоятельства оправдывают любые законы, любые действия революционеров? Это можно утверждать, но это уже другой вопрос. Мы же здесь утверждаем, что сама идея революционного закона и действия в точном смысле 1793 г., то есть идея закона и законного действия, в то же время нарушающих все самые элементарные нормы права и морали, не родилась бы без принципа прямого суверенитета и без вытекающего из него режима — социального режима. К тому же результат доказывает это: правители 1793 г. не единственные, кому пришлось вести и гражданскую,
157
и внешнюю войны; но только они поставили очередной задачей террор и пустили в постоянную работу гильотину.
Здесь неуместно говорить о «перегибах»: если принять его же принцип, то терроризм законен и нормален, и первый незаконный акт Революции — это 9 термидора; неуместно говорить тем более об «обстоятельствах»: обстоятельства дают отчет об акте, о случае, а не о догме, вере и новой морали.
А перед нами как раз догма: пришествие нового Мессии, ощутимое, актуальное вмешательство в наш случайный мир некоего абсолютного существа, воля которого выше всякого правосудия, защита которого оправдывает любой обман и любую жестокость, — Народа, или, как говорили наши вольнодумцы, Демократии. Это явление — не интеллектуальная химера (владычество Терроризма подтвердило это), не измышление, практически ограниченное законом: это конкретная, действующая реальность, и именно на этом самом факте «реального присутствия» бога основаны новая мораль и право. При этом режиме полномочия не ограничены и слиты вместе, поскольку воплощение бога — действительное и полное; а полное оно потому, что правят постоянные общества.
Вот ответ на вопрос о целесообразности рассмотрения этих принципов и этого режима. Приверженцы тезиса обстоятельств обходят его стороной, как бы не замечая: быть может, это потому, что они сами граждане Малого Государства, члены обществ мысли — семинарий этой новой религии, где принцип прямого господства привычен и ни для кого не является проблемой. Как и все верующие, они принимают основы своей веры как необходимое и достигнутое.
158
Надо ли говорить, что такой профан, как Тэн, не мог судить об этом так же, и что в буре 1793 г. его внимание должны были больше привлекать корабль и его странные маневры, нежели волны и рифы? Нельзя его за это порицать, ибо ни к чему, исходящему от Малого Града, не применимы наши обычные мерки. Это особый, отдельный мир, со своими собственными принципами, моралью, историей; и нет никаких оснований думать, будто режим и законы этого мира годятся и для нашего; опыт 1793 г. — до сих пор единственная попытка — вроде бы даже говорит об обратном.
5. Тезис заговора
Есть один факт, который столь же достоверен, сколь этот принцип ясен: это существование различия, переходящего в расхождение, разногласие, затем даже в конфликт между «Народом-сувереном» обществ и просто народом, между «революционной Францией» г-на Олара и просто Францией. Народные общества, этот основной орган истинной демократии, — это не народ. Такова истина, громко прозвучавшая в Термидоре. Несмотря на хитрые уловки якобинского общества, оказалось, что это особая, посторонняя власть, и что эта власть с одной стороны, угнетает избранников народа — Конвент, с другой — сам народ.
Конвент: он осуждает Террор. Он за него проголосовал, но он его не хотел: уже четырнадцать месяцев он не волен распоряжаться сам собой и слушается Гору, то есть якобинского меньшинства. Террор — не его [Конвента] деяние, как и жестокие
159
чистки, как и диктатура комитетов. Рядом с ним есть другая власть, другой «центр», как тогда говорили, которым все это сделано от его [Конвента] имени, — и это социальный центр, замковый кирпич свода нового строя. Термидор стал отчаянным броском, борьбой, которая последовала за попыткой освободиться. Конвент в это время все более открыто нападает на врага, которого в течение долгих месяцев не осмеливался назвать и который был единственным и настоящим врагом — социальную машину. Возгласы «Да здравствует Конвент!», раздающиеся как на улицах, так и с трибуны, означают: «Долой якобинцев!»[87] Всем стало видно, что побежденным в Термидоре стал не Робеспьер — имя, не Парижская Коммуна — орудие, и орудие, используемое со времени падения Эбера; побежденным стал Террор, целый режим, строй обществ, прямая демократия.
К тому же главное общество скоро увидело, как поднимается новый враг: сами парижские секции, избавившиеся наконец от своих комитетов надзора (19 сентября); ибо уже полтора года, как любая самая мелкая коммуна была, по примеру Конвента, «украшена» собственным маленьким Комитетом общественного спасения и общественной безопасности, Комитетом надзора, организованным, поддерживаемым и направляемым местным обществом, как большие комитеты — главным обществом. Отмена этих комитетов была Термидором мелких коммун, сигналом к войне с якобинскими обществами.
Тут-то и приходит кощунственная мысль: у народных обществ — органов прямой демократии — свои собственные стремления, интересы, которые не
160
являются интересами народа. Действительно, где тут народ — в избирательной ассамблее, куда все входят и голосуют, или в обществах, закрытых кружках, которые фактически и по праву всегда комплектовались сами, начиная с первого философского общества, первой ложи и до последнего якобинского клуба? Разве общество не издевалось над ассамблеей, не притесняло ее с самого начала под предлогом исключения предателей, которых оно само указывало? И, наконец, не закрыло ли оно ее официально? Не осудило ли оно тех, кто хотел ее снова открыть, не превратило ли само словосочетание «член секции» (иначе говоря, избиратель) — в обвинение, а призыв к народу — в тягчайшее преступление? И действительно, восстание жирондистов в июне 1793 г. — это лишь бунт секции против клуба, избирательной ассамблеи, еще доступной публике, против Общества мысли, очищенного и замкнутого.
По правде говоря, тирания Малого Народа над большим стала столь очевидной, что он сам [Малый Народ] больше не отрицает ее. «Нехватка подданных» — его большая забота, она составляет существенную часть его переписки: Кутон пишет из Лиона якобинцам, прося «40 хороших республиканцев, умных и честных», «колонию патриотов… на эту чужую землю», где патриоты находятся «в таком пугающем меньшинстве»[88]; такая же жалоба из Страсбурга, где их всего лишь четверо, как пишет Лакост, — зато есть 6000 аристократов, которых надо изгнать[89]; и из Труа, где, по словам одного «чистого», их не насчитывается и 20[90]; и из Безансона, где
161
Бернар де Сент не находит достаточного их количества[91]; и из Макона, Марселя, Гренобля и т. д.[92]. Нет ни одного города, который его местным клубом не был бы изображен как некий Содом и на который этот клуб не призывал бы кары небесной — революционную армию и гильотину. Наказывают какое-нибудь село, как человека: Лего, посланный Мэнье наказать деревню Бедуэн за то, что там ночью кто-то срубил местное дерево свободы, пишет своему начальнику: «…В этой коммуне нет ни искры сознания гражданского долга». И вслед за тем, поскольку виновник не нашелся, расплачивается вся община: 63 жителя деревни были гильотинированы или расстреляны, а сама деревня сожжена дотла[93].
К тому же «чистые», вероятно, были бы раздражены, если бы большинство было за них; они считали бы себя в таком случае менее чистыми. Известно знаменитое высказывание Робеспьера: «Добродетель на земле в меньшинстве» — и какую бурю вызвало оно после Термидора[94]. «Кто не якобинец, тот еще не вполне добродетелен»[95], — поясняет Лано. Тэн приводит и другие высказывания подобного рода, которые не являются исключениями, что бы ни говорил об этом г-н Олар. Напротив, это положение о небольшом количестве избранных — как раз подспудная идея всякого благонадежного якобинца, и она даже проявляется среди бела дня весной 1794 г., после большой речи Робеспьера о Добродетели 5 февраля. В обществах только и разговору что о чистках и об исключениях; и тогда
162
главное общество, которому, как всегда, стали подражать многочисленные дочерние общества, отказалось присоединить к себе общества, основанные после 31 мая. Якобинская знать замыкается, якобинская набожность переходит от внешнего апостольства к внутренней работе над собой. Это период якобинского янсенизма, как будут говорить в Термидоре. Тогда Малым Народом было признано, что многочисленное общество не может быть усердным обществом. Комиссары Турнанского общества, посланные очистить клуб в Озуэ-ла-Ферьер, в Бри, только в этом его и упрекают: он слишком многолюден, чтобы быть чистым[96].
И действительно, длинный перечень похвал, которыми осыпают себя якобинцы, — не идет ли он в том же направлении? Они — гусары, стражи, гренадеры, саперы Революции, ее опора, авангард свободы, часовые народа, пьедестал бронзовых статуй Свободы и Равенства, трибунал общественного мнения, — короче, правящая элита, по их собственному признанию, горстка тиранов, — предадут своих подданных после освобождения, они, патриотическая знать, своего рода аристократия, монашеский и аристократический орден, подборка людей, похожих на монахов[97], сама себя фильтрующая — «членская каста»[98].
Но тогда является проницательный свидетель и за ним историк-эмпирик, которые констатируют захват власти меньшинством и кричат о мошенничестве. К тому же с 1792 г. это стало легко. Фикция теряет позиции, по мере того как увеличивается
163
разрыв между народом-сувереном и просто народом. Угнетение уже слишком очевидно, Малый Народ уже слишком «очищен», то есть слишком сократился количественно и отличается качественно, слишком явно сведен в бригады и подчинен руководству центра. И отсюда это величайшее негодование термидорианцев, которое отзывалось еще в продолжение всего того века, против «заговорщиков» и «тиранов». Это вопль всех жертв Малого Народа, и вполне естественный: они видят только руку, которая их бьет, и дают собственное имя каждому из актов и винтиков-исполнителей якобинской машины. Дантон — это виновник резни в тюрьмах, Кутон — в Лионе, Мэнье — в Оранже, Фукье поплатится за революционное правосудие, Марат — за прессу, Робеспьер — за всех.
Отсюда также и тезис о заговоре. Этот тезис принимал много разных форм, от наивной версии отца Баррюэля, который прослеживает мелодраматический заговор от Вольтера до Бабефа, до научной версии, которая рассуждает об опасности перегибов и о равновесии партий, — эти формы целиком сходны в том, что ставят людей, личные расчеты и таланты на первый план и из факта тирании делают вывод о тиранах.
И этот тезис надо отбросить после расследования Тэна. Здесь тоже не принимается в расчет природа социального строя и тех новых связей, которые он создает, как в принципе, так и фактически. В принципе: при прямом правлении народа больше нет никакой власти, ни по праву, как власть сеньора, ни фактической и личной, как власть представителя, которая еще в некотором роде «феодальная», как замечательно говорит Руссо. Чистая демократия идет еще дальше и
164
основывает царство «комиссара» (мы бы сказали «делегата»), просто глашатая Народа, который по отношению к представителю является тем, чем этот последний — по отношению к сеньору. Послушаем Робеспьера. «Поймите, — говорит он, — что я вовсе не защитник народа: я никогда не претендовал на этот пышный титул; я из народа, и никогда никем иным не был; я презираю тех, кто мнит себя чем-то большим»[99]. Вот как говорят истинные демократы. Эта идея принадлежит, разумеется, не старому режиму, но и не нашему. Это голос английских Caucusmen'ов: никаких спасителей![100]
Вот каков точный и новый смысл «войны с тиранами», объявленной Революцией. Она не обещает свободу в обычном смысле слова, то есть независимость, но в том смысле, в каком ее понимает Руссо, то есть как анархию, освобождение от всякой личной власти, от почитания сеньора до авторитета последнего из демагогов. Если кому-то подчиняются, то никак не человеку, а всегда безличному существу, некоей всеобщей воле.
И этот факт находится в согласии с принципом; Революция сдержала слово: она — тирания, это верно, но тирания без тиранов, «управление Алжиром без бея», как говорил Малуэ, «диктатура без диктатора», как говорят сами якобинцы[101]. Как можно называть тиранами, даже главарями, людей, до такой степени неспособных, я уж не говорю — обернуть в свою пользу силу, которая их держит, но даже понять ее тайну? Найдется ли хоть одна из революционных команд, которая не
165
пыталась бы остановить на себе эту силу, перед тем использовав ее против предыдущей команды, и которая не оказалась бы в тот же миг «вычищенной», ничему не помешав и ничего не предвидя? Г-н Олар говорит обо всем, чего «не понял» король в новых идеях[102]. Но что сказать о самих поборниках этих идей? Разве д'Эпремениль «понял» после собрания нотаблей в 1788 г., а Мунье после 6 октября? Лафайет после 20 июня? Бриссо после 21 января? Дантон после своего возвращения из Арси? Всякий раз, как кого-либо из них настигает волна, — они высказывают все то же искреннее изумление: «Но ведь это на мне заканчивается эта славная Революция! народ — это я! здесь свобода, там анархия!» Следуют одни и те же невразумительные жалобы против тех приемов и доводов, которым они же обязаны своей властью, — та же короткая и жалкая песня — и затем погружение в небытие, гильотина или забвение. Некоторые — их немного — умерли достойно; ни один не боролся за свое положение и за свою жизнь как мужчина — ни жирондистское большинство, ни даже колосс Дантон. Это потому, что ни один из них и не был мужчиной, то есть волевым человеком, черпающим силы в себе самом. Это лишь некие темпераменты, слепые силы, подчиненные неведомому закону. Мишле нашел для них верное выражение: марионетки, которых ничто не сломит, пока нитка их держит, и которые падают, лишь только она порвется: не на своих ногах они держатся.
Таков грубый факт, который вернее было бы принять как закон этого режима, чем высмеивать как его порок. Разве он не действует постоянно,
166
разве не утвержден самими якобинцами на их лад? Взгляните на последних, самых «чистых», на тех, кто гильотинировал всех остальных, перед их судьями: у них нет другой защиты. «Мне было приказано», — повторяет Фукье при каждом новом обвинении. «Я был топором, разве топор наказывают?» — говорит другой; ничего, кроме перепуганных людишек, не остается от этих мнимых неронов, которые ябедничают, придираются к мелочам, оговаривают своих братьев, затем, наконец, припертые к стенке, уличенные, ропщут: «Но ведь не я один? Почему меня?» Это крик отчаяния разоблаченного якобинца, и вполне справедливый: адепт обществ, гражданин Малого Града никогда не бывает одинок: над ним витает коллективная сила, этот таинственный «суверен», который лишь там обретает облик и голос. Как видите, мы далеки от плутарховой манеры рассказа, которая превозносит человеческую личность и делает великих людей королями истории. При новом режиме люди исчезают, и в самой морали открывается эра бессознательных сил и человеческой механики.
Так общественное мнение ошибается в отношении якобинцев. При социальном режиме, несомненно, существует угнетение, причем угнетенных большинство, здесь нет обмана, нет использования общей силы во благо одному человеку или одной партии. Неверно, что все угнетающее меньшинство — это фракция или заговор. Террор не есть дело чьего-то «частного интереса». Якобинцы не лгут, когда отрицают фракции: они — не фракция. Они правят не для себя, не сами, но движимые безличной силой, которой они служат, не понимая ее, и которая так же легко разобьет их, как их же и возвысила.
167
Такова самая сокровенная истина, истина озадачивающая, которую заставляют признать сами факты и которую осознает Мишле, когда ставит народ выше отдельных людей, и г-н Олар, когда отрицает то, что Гора (фракция монтаньяров) была партией. Но Мишле — поэт и мистик, и он возводит храм там, где следовало бы быть лаборатории; а г-н Олар ничего не строит. Тэн до сих пор остается единственным, кто подошел к этой проблеме со свойственной ему рассудительностью и вооруженный современными знаниями и сделал ее центральной в своей книге. Его любознательный и активный ум исследует ее со всех сторон; он изучает господство толпы, отмечает роль статистов. Если он выделяет какую-нибудь фигуру — Дантона, Марата, — то это для того, чтобы на их примере описать социальный тип, но не личный характер; если он и говорит о якобинской партии, то это лишь потому, что не находит другого слова; но основная мысль исправляет это, и он будет также говорить о «болезни», о «вирусе» — о бессознательных силах.
Мало того, именно на этой идее он строит план своей книги. Если он отклоняется от повествования и от порядка дат и принимает этот методический, а не хронологический план, этот метод сводок и разбора, который так возмущает г-на Олара, то как раз потому, что он видит истинные причины не во внешних фактах — не в согласии воль и не в стечении обстоятельств — и ищет их в развитии некоего социального прогресса, который должен подчиняться своему собственному закону. И так, методически, составляя сводки, будут действовать историки, занимающиеся различными обществами: г-н Алье в своей истории Общества Евхаристии, этого благочестивого предтечи якобин-
168
ского клуба; г-н Острогорский в своих исследованиях предвыборных английских и американских обществ и даже г-н Озер в своем труде о товариществе в Дижоне.
Этот новый способ постановки проблемы более точен, но также и менее ясен. Первые два решения проблемы сводились в итоге к известным элементам: одно — к внешним обстоятельствам, другое — к обычным страстям и интригам. Следствие Тэна отбрасывает и то и другое, чтобы поставить на их место новую и неизвестную силу. Идеи, история Малого Народа и наши идеи и история — явления разного порядка; у Малого Града свой собственный закон, свой собственный прогресс, которого не знают даже его собственные граждане, — вот основная мысль книги.
Этот закон заставляет задуматься: в 1789 г. появляется какой-то народ, который угнетает большинство, какая-то принципиальная свобода, которая разрушает фактические свободы, какая-то «философия», которая убивает за убеждения, какое-то правосудие, которое убивает без суда. Осуществилось нечто абсурдное: деспотизм свободы, фанатизм разума. Таково революционное противоречие. Разрешил ли его Тэн, раскрыл ли природу этих странных идей? Не думаю. Но он устанавливает это, принимает как необходимый факт, как закон чистой демократии, вместо того чтобы лишний раз бросить этот камень в демократов, как не устают делать это уже больше ста лет почтенные либералы. Он первый перестает шутить, чтобы попытаться понять, и требует отчета о новой религии у закона этого режима, а не у тех несчастных, которые сегодня служат ему, и которых завтра он уничтожает, и которые ничего и никогда в этом не понимают.
169
6. Социология якобинизма
Критика Тэна позволила нам если не решить, то по крайней мере четче поставить революционную проблему. Гуманность, которая убивает, — это сестра свободы, которая сажает в тюрьмы, братства, которое шпионит, и разума, который отлучает, — и все вместе они создают этот странный социальный феномен, называемый якобинизмом. Г-н Олар позволит мне подсказать ему это определение, которое он, мне кажется, несколько затрудняется найти[103]. Тэн ему его уже подсказал; все нынешние французы поймут его, каким бы парадоксальным оно ни казалось; и я считаю его подходящим: этот предмет хорошо известен, формула достаточно ясна — самый термин «якобинизм» выбран удачно: ведь если фанатизм, о котором идет речь, — произведение обществ мысли вообще, то вполне естественно, если он будет носить имя самого знаменитого из них и к тому же единственного общества, которое сумело держать в подчинении большой народ в течение двух лет.
Но, в конце концов, обозначить — это еще не значит понять: и если все попробовали якобинского фанатизма, то никто не отдает себе как следует отчета в его средствах правления и в его главном моральном двигателе. Это феномен особого порядка, выходящий из обычного течения жизни и из обычной истории. У Тэна было на это чутье: он чувствует, что нужно нечто другое, нежели эрудит-философ, чтобы сначала отделить от обычных
170
факторов — политических, экономических, религиозных, — а затем описать, затем объяснить действие этой неизвестной силы: якобинского фанатизма. «Надо, — говорит он, — изучить психологию якобинца, чтобы понять революцию 1789 г. во Франции»[104]. «Происхождение…», как верно заметил г-н Виктор Жиро, — это «произведение психологической истории»[105].
И здесь в игру вступает знаменитый «психологический метод», которому Тэн придавал такое большое значение, и придавал с полным правом. Этот метод поддерживает и направляет усилия его колоссального расследования, он позволяет ему извлечь из груды источников, как металл из руды, «знаменательные факты», относящиеся к этому феномену и проливающие на него свет, и затем сблизить черты этого монстра в их странной связи и составить свой портрет якобинца, свою картину режима 1793 г. Тэн сделал это мастерски и первым. Пошел ли он дальше? Годится ли его метод, замечательное орудие исследования и изложения, не только для описательной истории, но и для дальнейшей работы, вплоть до решения проблемы?
Я так не думаю. Превосходный для отбора и оценки фактов, психологический метод Тэна не в силах их объяснить; и тут-то эти самые качества оборачиваются против него и дают новый повод к возражениям насчет дуэли без противника: когда предмет так странен, его лучше видно, но он менее понятен; и недоброжелательные читатели получают повод, чтобы упрекать автора в неправдоподобии, там, где им, возможно, было бы трудно доказать ошибку.
171
Еще раз усилия Тэна не достигают цели. Его психология на этом последнем этапе уклоняется от ответа, как и его эрудиция.
Г-н Олар объявляет об этом без любезности — это его право; но и без малейшего усилия разобрать и объяснить эту проблему; и в этом он не прав, потому что такого рода исследование, быть может, трудное еще двадцать пять лет назад, в наше время уже возможно, благодаря известным работам, доступным любому осведомленному ученому. Элементы такого исследования он мог бы найти, например, как указывает г-н Матьез[106], в книге г-на Дюркгейма «Законы социологического метода»[107].
Известно начинание г-на Дюркгейма, столь оригинальное и отважное; он снова подхватывает и применяет к частному случаю социальных наук тезис, выдвинутый г-ном Бугру в одной его известной небольшой книжке[108]: более сложные и близкие по своему предмету к человеку и одновременно менее абстрактные науки появляются позднее; каждая наука, прежде чем стать самостоятельной, некоторое время пребывает в зависимости от «старшей сестры»: так Паскаль освободил физику от опеки механики, Лавуазье — химию от опеки физики, Пастер — биологию от опеки химических наук. Известно, с каким трудом психология мало-помалу высвобождается из-под влияния наук о жизни вообще. Эти размежевания происходят как бы насильно и нехотя, ибо ум человеческий ищет единства, а они увеличивают число специфических законов; поэтому они — результат скорее опыта, нежели умозритель-
172
ных построений, дело рук не философов, а ученых — по крайней мере, так происходит в наше время, когда новая философия объясняет их и приспосабливается к ним.
Вот что вдохновило г-на Дюркгейма продолжать это движение, стать Пастером социологии — последней из возникших, самой сложной, но и наименее продвинутой из всех гуманитарных наук, основатели которой — Конт, Милль, Спенсер — положили начало этому особому виду науки о душе.
По правде говоря, это какой-то «философский» Пастер, который исходит прежде из теории, чем из фактов, и устанавливает правила метода до того, как сделает открытия. Но, по крайней мере, эта аналогия придает особую силу критике Тэна и приводит его если не к основанию новой науки, то хотя бы к полному разоблачению недостатков старой. Эти недостатки происходят от того подчиненного положения, в котором ее еще держит опека старшей сестры — психологии. Поэтому в наши дни явилась психосоциология, как в свое время была химико-биология д-ра Пуше: это несовершеннолетняя наука, она не определила своих законов, своего метода, который отличен от метода психологии; отсюда неизбежные недостатки: неясность, неполнота, неспособность точно указать поле своих наблюдений, отбросить нелепые гипотезы первого встречного.
Г-н Дюркгейм не говорит ни о Тэне, ни о якобинизме. Но его критика будто создана для них: ведь Тэн в истории — мастер психологического метода, а якобинская проблема — образец социальной проблемы. Это орудие не подходит для затеянной работы — вот секрет неудач этого труда. К тому же именно в книге г-на Дюркгейма мы найдем их список; взгляните.
173
Психологическая школа, говорит нам г-н Дюркгейм (с. 110 и далее), уделяет слишком много внимания намерениям, когда хочет объяснить социальные факты, но недостаточно внимания — обстановке. Она видит лишь корыстные побуждения там, где действует более могущественная причина, медленная и глубинная работа социальных институтов, отношений. Точно также и Тэн говорит, например, что в 1790 г. стихийно создавались народные общества, потому что чувствовалась необходимость объединения в условиях анархии, — как будто такой значительный факт мог быть сиюминутным делом и делом расчета и как будто уже в течение тридцати и более лет сотни масонских, философских, литературных и т. п. кружков не приучали целый класс и публику к политическим нравам обществ и к догме прямого суверенитета.
Наши психологи, продолжает г-н Дюркгейм (с. 123, 131), сводят значительные социальные явления к индивидуальным инстинктам, например религию — к некоему «минимуму религиозности», как врожденному свойству каждого; также и Тэн считает, что в каждом абстрактном мечтателе дремлет Марат, и все молодые люди в восемнадцать лет — якобинцы[109]; как будто можно проследить эволюционную связь между резонерским духом какого-нибудь юнца или мечтаниями престарелого поклонника просвещения и яростным и вполне определенным фанатизмом убийцы. Здесь трудно удержаться от мысли о наивном дарвинисте, который полностью счастлив знанием, что хобот — это тот же нос, копыто — ноготь, плавник — рука, а обезьяна — человек.
174
Психологи, продолжает г-н Дюркгейм, часто принимают результат за причину, когда объясняют социальные факты, ставя сознательное побуждение впереди действия; но ведь обычно все происходит наоборот: сначала действие, вызванное неосознанными причинами, а потом — доводы, чтобы оправдать это действие. Точно также Тэн постоянно смешивает якобинскую логику с якобинским духом и не видит больше затруднений в одном, чем в другом, как будто чувства всегда шли вслед за принципами, как будто достаточно было показать логику последних, чтобы объяснить наличие первых; и будто бы революционные акты в самой их логике не предполагали бессознательного вовлечения в гораздо большей степени, чем следование чистой теории.
И так далее. Заблуждение одно и то же и состоит оно в том, что неслыханные поступки и бесчеловечные, извращенные чувства приписываются личной испорченности, хотя они подчиняются гораздо более могущественным и глубоким причинам. Если верить Тэну, то каждый якобинец — творец собственного фанатизма; конечно, ему в этом помогали и обстоятельства, но не напрямую, устраняя препятствия, разрушая всяческими злоупотреблениями моральные авторитеты и анархией — установленный порядок; а вся положительная работа шла от него [якобинца].
Если этот метод верен, то он ведет к самому революционному учению из всех, более революционному, чем у г-на Олара, который довольствуется тем, что предает забвению, как и якобинцы 1793 года, всякие гнусности. Тэн, напротив, принимает их, выпячивает — и в итоге отрицает, поскольку сводит их к естественным причинам. Если у фанатизма
175
1793 г. не было других общих причин, кроме заурядных факторов — поколение, момент, среда, — а все остальное было личным делом, — то Шалье лишь племянник г-на Журдена, дядя г-на Перришона, двоюродный брат стольких честных буржуа, которых те же самые причины не сделали кровожадными. Таким родством, конечно, нечего гордиться, но в конце концов вся его порочность — свойство его самого: из этого следует не только то, что она заслуживает всяческого презрения (а Тэн ей этим и не угрожает), но также и то, что она не могла бы завести слишком далеко — а это было бы уже неправдоподобно. Видно, что если так рассуждать, то в конце концов суровость Тэна к якобинцам обернется своего рода индульгенцией по отношению к якобинизму, в сравнении с которой хорошо известная нежность г-на Олара покажется очень даже суровой.
Но этот метод плох, недостаточен; и именно здравый смысл г-на Олара предупреждает нас об опасности. То, что эта испорченность повела очень даже далеко — это факт, и согласно Тэну тоже; она слишком распространена, чтобы быть случайной, слишком глубока, чтобы быть личной. В анализе Тэна бросается в глаза явное несоответствие между причинами, в общем, нормального порядка и неслыханными результатами. Тэн-историк опровергает и озадачивает Тэна-психолога. Если доводы второго — единственно верные, то первому остается лишь одна гипотеза: что якобинцы все сумасшедшие. Вот что повторяет г-н Олар на каждой странице своей книги, и он имеет на это полное право. Он выводит из этого, что факты, столь плохо объясненные, — это невозможные факты, следовательно, ложные, невзирая на все доказательства и все тексты, а значит приводящие к неправильным выво-
176
дам. Можно хорошо видеть, но плохо понимать; это как раз случай Тэна.
Теперь мы знаем почему: его метод не неверен и даже не бесполезен; ибо рассматриваемые факты безусловно психического порядка: якобинец — это человек, как растение — это комплекс химических элементов. Можно заниматься психологией одного, как химическим анализом другого. Но это фактическое описание не прояснит дела. Мне недостаточно знать, что растение разлагается в таком-то соотношении на кислород, водород, углерод и азот, что якобинец — это соединение абстрактной «добродетели» и практического «карьеризма». Самый союз этих элементов, их синтез, характер их взаимодействия — не химического и не психического порядка. Чтобы его объяснить, нужно обратиться к причинам иного рода: к живым людям, с одной стороны, и к социальному вовлечению — с другой.
Эту аналогию можно провести еще дальше: доподлинно известно, какое место отводится в теории абиогенеза разложившейся материи: зародыш рождается всегда в гниении, лягушки — в стоячей, гнилой воде, крысы — из старого сыра. И та же методическая ошибка привела Тэна к фактической: он тоже делает из общественного разложения — в данном случае, из социальной и духовной анархии — единственный специфический фактор нового порядка. Именно благодаря анархии, которая порвала необходимые узы, стихийно растет «смертоносная идея». Якобинизм является на свет после нескольких месяцев анархии, как грибы после ночного дождя; народные общества рождаются из анархии; а якобинская орда выходит из трупа старой Франции, как пчелы Аристеи из нутра мертвого быка.
177
Как совместить такую неопределенную и негативную причину с таким положительным и точным фактом? Вы плохо смотрели. Вглядитесь получше: крысы были и до сыра, а якобинцы — и до Революции. Не 1789-м, а 1770-м и ранее датируются эти странные нравы и принципы. Задумайтесь над этим крупным историческим событием XVIII века: приходом в мир и к власти обществ мысли; исследуйте, например, социальный кризис, из которого родилась ложа «Великий Восток», с 1773 по 1780 г.: вы вновь обнаружите весь механизм революционной чистки. Работа, которая сократила состав «Большой Ложи» Франции, — та же, что исключила фельянское большинство в 1790 г., жирондистское в 1793 г. Это автоматическая работа, формулу которой можно было бы вывести и закон которой — раскрыть. В философских обществах 1785 г. обнаружились бы те же духовные и умственные наклонности, тот же механизм, те же приемы, те же политические нравы, что и в народных обществах 1794 г. Без сомнения, форма — моральный уровень, качество персонала, природа актов, словесное оформление доктрин — изменились. Но закон остается тот же, и учтивые и напудренные «братья» 1789 г. повинуются ему так же беспрекословно и бессознательно, как и грубые и засаленные «братья» 1793 г. Даже лучше: этот же закон отбора и механического вовлечения действует везде, где является этот социальный феномен: в Обществе Евхаристии в 1660 г., как и в роялистских обществах 1815 г.[110], или в «Caucus'e» в Бирмингеме в 1880 г.
178
Но Тэн не раскрыл этого закона. Он видит в социальных отношениях «братьев и друзей» лишь частный эффект, а не общую причину, а в социальном фанатизме — лишь индивидуально-психологические случаи. А значит дает одновременно слишком частную и слишком незначительную причину этого закона, которая не объясняет ни его размаха, ни его могущества. В то же время Тэн чувствовал эту всеобщность и силу — чутье у него вернее, чем его теория; и поэтому он остановился на своеобразном компромиссе: его книга по своей методической форме — это общий обзор, а по содержанию — история фактов. Это трактат об обществах равных, построенный на материалах монографии о якобинцах, — несомненно, это грубая ошибка: надо было выбрать или, скорее, отделить, показать сначала этот закон, а затем представить факты; но это больше ошибка времени и метода, нежели человека, — и этого не поняли г.г. Олар и Сеньобос. Снисходительность г-на Матьеза представляется мне гораздо более «просвещенной»: вместе с ним мы признаем, что неудача Тэна происходит от его «инструмента» — от психологического метода, и что этот инструмент был единственно известным тогда, да и в наше время только он и применяется большинством социологов[111]. Не его вина, что он плох.
Напротив, если какое-то произведение открыло дорогу новому методу, то это, конечно, достаточно искреннее произведение, чтобы показать без прикрас недостатки старого метода: и даже неправдоподобие, бессвязность картин Тэна лучше служат истине, нежели связный, но условный рассказ; ведь
179
они, по крайней мере, ставят проблему и требуют ее разрешения.
В наше время новый инструмент мало-помалу совершенствуется — и решение вырисовывается. Прекрасные работы по постоянным обществам выявили кое-какие законы, открыли новый путь. Начали составлять методическую карту той страны, которую узнал бы г-н Дюркгейм и по поводу которой г-н Олар, никогда не ступавший на ее землю, упрекал Тэна (открывшего ее) в слепых блужданиях: с тем же успехом можно было бы упрекать Христофора Колумба за то, что он отважился переплыть Атлантический океан на каравелле, вместо того чтобы воспользоваться услугами Ллойда в Гамбурге. Напротив, мы должны похвалить его за отвагу, принесшую удачу, и даже за ошибки и промахи этого открытия: неважно, что Тэн, ступив на эту неизвестную землю, решил, что все еще имеет дело с обычной историей, со случаями индивидуальной психологии, — что он принял Антильские острова за Индию. Без него, без этого путешествия первооткрывателя и без несколько прямолинейного анализа, проведенного им в «Происхождении современной Франции» мы бы даже и не подозревали о существовании Малого Града. Мы бы до сих пор оперировали терминами вроде «благородных иллюзий» 1789 г., «крайностей» 1793 г., оставались бы на уровне этой несерьезной, умеренной, рассудительной, либеральной исторической литературы, которая в течение ста лет понемногу подправляет, приукрашивает, приглушает страшное воспоминание и затягивает Революцию, как мох развалины.
Задача новой школы будет в том, чтобы возобновить методическое изучение этого социального феномена, который был представлен истории гением
180
Тэна. У нее есть свои, в пределах досягаемости, материалы — в течение 10 лет классифицированные умелой и терпеливой работой наших архивистов, которыми пользовались уже три поколения историков-эмпириков; у нее есть конкретная тема — странное явление, завесу которого Тэн приподнял, не показав его смысла; у нее есть свой инструмент — метод, например, Брайса или Острогорского. Она сможет доказать, что у нее есть свои собственные направление и область исследований, благодаря критике, основные черты которой наметил г-н Бугру и попытался применить г-н Дюркгейм в плане социальных исследований. Ее делом будет, с одной стороны, естественная история обществ мысли, их законов, основных и постоянных стремлений, а с другой — подробное рассмотрение неизбежных конфликтов между этими обществами и нормальным обществом, между Малым Государством и большим.
Ей к тому же придется давать сражения, выдерживать борьбу — борьбу, начатую прямо на наших глазах г-ном Оларом, борьбу, первые удары которой пришлось принять на себя трудам и памяти Тэна; мы уже говорили почему: Малый Град, целиком отделанный с фасада и с фасада же открытый для общественного мнения, обязательно хранит в тайне свою истинную работу, механизм действия «машины», как говорят профессиональные политики в Америке, и не дает себя так просто исследовать с тыла. Ему не так страшны удары врага, как взгляды непосвященного, и он не разрешает ни увидеть ничего, кроме того, что сам показывает, ни узнать ничего, кроме того, что предает гласности. Но, начиная с Тэна, любопытство историков и даже широкой публики не дремлет; как прожекторы броненосца,
181
наведенные на миноносец, оно направлено на якобинство, на мирок обществ. Его еще не понимают, но видят и наблюдают; и никакие маневры, уловки и доводы этого мирка — тезис обстоятельств, аргумент общественного спасения и т. п. — не обманут эту критику и не заставят отклонить в сторону луч прожектора.
Действительно, как видно, нападки г-на Олара внушены ему каким-то инстинктом общественного самосохранения, — и поэтому на этом новом участке сражения не будет недостатка ни в солдатах, ни в критике принципиальных противников.
И теперь, когда мы знаем объект, способы и результаты этой атаки, мы попытаемся получше понять ее основания, разглядеть то, что она защищает. Тем более что представление об этом мы можем составить все по той же книге г-на Олара «Политическая история французской революции»: мы найдем в ней действительно если не шедевр, то по меньшей мере полноправный и очень удовлетворительный образец такого метода и такого духа, о которых обычно судят слишком обобщенно.
7. История республиканской защиты
Тэн, как мы говорили, поставил революционную проблему, но не решил ее. Как раз один вариант решения преподносит нам г-н Олар в своей «Политической истории…»; и здесь снова выбор источников ставит нас на путь заключений.
Этот выбор, весьма ограниченный, является почти противоположным выбору Тэна. Г-н Олар в
182
принципе отвергает мемуары[112], в сущности, он отвергает и переписку. Мне не известно, чтобы он использовал для периода Конституанты[113] ни ту переписку, какую смотрел Тэн в архивах (Н, F7, КК I105, ВIII), ни ту, которой Тэн не видел (Ва, FIC III), ни ту, которая была опубликована с тех пор (письма члена Учредительного собрания Тибодо, депутатов от Страсбурга, от Кот-дю-Нор, например). Я говорю лишь, чтобы напомнить его работу в архивах: 29 справок, из которых три — из провинции.
Как и Тэн, г-н Олар работает только в Париже. Но Тэн, по крайней мере, пользовался местными историческими сочинениями, причем лучшими из них — трудами Бабо, Созэ — постоянно; г-н Олар — почти ни разу. Из тринадцати произведений этого рода, использованных в трех книгах Тэна, я насчитал четыре процитированных — причем помалу — в шести главах у г-на Олара. И в то же время от одной книги до другой прошло более четверти века (с 1878 до 1908 г.), более богатой работами этого рода, чем остальные три четверти века, вместе взятые.
Вот такая ужасная «чистка»; здесь это самое подходящее слово, поскольку никого, кроме «чистых», в том значении, в каком говорили в 1793 г., не остается: авторы и источники «патриотические» — протоколы революционных ассамблей, акты и сообщения патриотического правительства, патриотическая пропаганда, памфлеты, речи, циркуляры, петиции, вначале некоторые из Национального архива (D IV, С), большая часть из Библиотеки (Lb 39, 40 и т. д.); затем, и в основном, газеты; г-н Олар немного пользуется теми же умеренными газетками,
183
что и Тэн — «Монитор» и «Меркурий», один из которых процитирован всего 9 раз, а другой — ни разу. Он предпочитает им патриотические листки: Лустало, процитированный 57 раз; Барера — 32 раза; Фоше — 29; Робера — 29; Ле Оде — 26; затем Горса, Демулена, Бриссо, Марата, Мирабо и т. д.
К документам этого разряда он присоединит (для эпохи террора) акты Парижской Коммуны, опубликованные Сижизмондом Лакруа, и письма командированных представителей; после Термидора — официальные рапорты полиции; все это, в конечном счете, публичные акты патриотов.
Вот такие две подборки. Г-н Олар не более, чем Тэн, является изобретателем своего метода: это метод еще Мишле, главы большой историко-революционной школы, и Олар — один из ее последних учеников. У Мишле[114] то же недоверие к мемуарам и к личным свидетельствам, то же презрение к тому, что он называет «разрозненными бумажками» — к архивным карточкам и особенно к письмам. Если, мол, он не цитирует, то это потому, что пользуется только указателями, где все находится под своими датами: реестры Коммуны, больших комитетов, секций, протоколы Конвента, и, самое большее, кроме этих официальных «больших коллекций», «рассказы, сотнями приходившие из стольких городов и деревень» при федерациях: документы, созданные или вдохновленные местными обществами, то есть все те же патриотические акты. Короче, мы не выходим из одного и того же очень четко очерченного круга.
Этот круг вначале кажется узким, рядом с обширным полем расследования Тэна. Но это про-
184
тивопоставление было бы столь же несправедливым, сколько и легким: ведь точка зрения не одна и та же, и задача поставлена совсем другая. Как и Тэн, г-н Олар занимается революционным феноменом как таковым, оставляя в стороне религиозную, экономическую, военную и т. п. историю; он об этом говорит в тех же выражениях[115]. Но в то время как Тэн рассматривает революцию на практике, в деле, с изнанки, г-н Олар останавливает свой выбор как раз на принципах, на официальной, лицевой стороне. Тэн хочет добраться до души настоящего народа; г-н Олар отмечает деяния народной партии. Тэн пишет историю общественности на основании того, что происходит; г-н Олар — на основании того, что публикуется. Один ставит своей задачей изучение реальных существ, французов 1789 г.; другой — изучение абстракции — Прав Человека, фикции — Народа-суверена, Всеобщей Воли. Предприятие первого, несомненно, обширнее, увлекательнее, но также и труднее; работа второго — более законченная, более полная, менее непосильная. Боже меня упаси сказать, что она напрасна: но она ведет к другому.
К чему же ведет подобная работа? Это легко предвидеть, уже по самим источникам; я не нахожу лучшего слова, чем выражение, вошедшее в последние годы в обиход наших политиков: это будет работа Республиканской Защиты. Г-н Олар простит мне, что я обозначаю так, частным случаем, всем известным, общее правило демократической деятельности, которое пришлось бы слишком долго изучать в принципе.
185
Отметим лишь, что если великие предки из 1793 г. и не пользовались этим выражением, то они отлично справлялись с этим делом. Когда действия народной власти достигали определенной степени произвола и становились гнетом, их тут же представляли действиями общественной обороны, общественного спасения. Это понятно: ведь народ должен будет взвалить на себя эти действия, даже если он их не хотел и не выполнял; так хочет режим: уважающая себя народная власть действует только от имени народа, она и есть народ. Что ж, если народ ничего не требует, приходится говорить, что он «не может не требовать» — это расхожее выражение в 1789 г., — ссылаться на его «подразумеваемую волю» (как великолепно выражаются наши современные теоретики) — то есть на необходимость его спасения. «Общественное спасение» есть необходимая фикция при демократии, как «божественное право» — при авторитарном режиме.
И это средство себя оправдывает: разве не первое условие спасения Республики (в 1789 г. в том же смысле говорят «родины»), то есть дела Справедливости и Свободы — защита ее сторонников, «добрых республиканцев», «хороших патриотов», и уничтожение ее врагов, «реакционеров», «аристократов»? И не все ли средства хороши против врагов принципов, начиная с забвения этих самых принципов? Разве есть какая-то справедливость для врагов справедливости, какая-то свобода для «рабов»? Если в 1794 г. «окутывают покрывалом статую Справедливости и Свободы», то это для того, чтобы лучше защитить эти божества от нечестивцев, которые на них нападают.
Таков тезис защиты. Он появляется вместе с самой демократией. С 28 июля 1789 г. один из
186
руководителей партии свободы, Дюпор, предлагал основать следственный комитет — позже его назовут Комитетом общественной безопасности, — который мог бы вскрывать письма и сажать людей за решетку без допроса. Это означало восстановление королевского указа о заточении без суда и следствия, менее чем через две недели после взятия Бастилии, но во имя общественного спасения и против врагов свободы. И в этом нет ничего неестественного, на взгляд «философов», за тридцать лет натренированных в такого рода диалектике. Это предложение было вотировано и, как известно, имело успех. И вот, таким образом, когда авторитарный гнет был изгнан через парадные двери, гнет общественного спасения сразу же возвратился с черного хода, в силу обстоятельств.
В итоге, именно в этой разнице между вывеской и подходом коренится больший успех нового произвола в сравнении со старым. Авторитарный гнет — гнет принципиальный, основанный на праве; гнет общественного спасения — фактический. Законы защиты — а все революционные законы имеют такой характер — являются, как указывает даже их имя, приуроченными к случаю. Г-н Олар настаивает на этом в своей «Политической истории…» и, я считаю, имеет для этого все основания. Это теоретическое различие, впрочем, — опыт показал это — практически может быть отброшено: ибо если принципиальный деспотизм основывается на Божьей воле, то обстоятельственный деспотизм оправдывает себя тем, что находит «злых», как говорили в 1793 г., которые угрожают принципам, и «рабов», которые не знают этих принципов. Несомненно, второй вид гнета выказывает больше уважения к самолюбию гражданина, к его «человеческому
187
достоинству», но меньше, как подтверждают это факты, уважения к его голове; и кажется, что фактическая безопасность теряет, с одной стороны, все то, чего правовая свобода добивается, — с другой. Этот «деспотизм свободы», как говорит Марат, — общепринятым термином в 1793 г. была «общественная свобода» — разрушил больше личных свобод, усадил в тюрьму, ограбил и убил больше невинных людей, чем все божественные права мира. Даже знаменитый закон о большинстве их не останавливает: ведь в конце концов нет никакой уверенности, что большинство будет свободно, то есть что народ будет демократичен. А если случайно так оно и есть, если народ не демократичен, то разве не нужно вырвать его у фанатизма и у аристократии, вопреки его воле? Это положение продвинуто еще дальше в июле 1794 г., когда, чтобы спасти идеальный народ, общественную волю, гильотинируют реальный народ, частных лиц. Оно дало повод Конвенту, после Термидора, к своеобразным дискуссиям, по десять раз возобновляемым в одних и тех же выражениях: «Свобода печати, свобода мнений! — кричат термидорианцы, — это главные из прав человека!» — «Верно, но они у вас есть, — отвечают террористы, — назовите закон, который их отменяет? И разве, напротив, не для них все сделано?» — «А что законы? Посмотрите на факты: есть ли где-нибудь, даже в Конвенте, хоть атом свободы? Где еще слово, взгляд, злоба не приводят человека на эшафот?» Для тех дней это были отважные слова, от которых дрожь пробегала по рядам аудитории, еще одурманенной Террором, как дуновение свежего ветра по тюремным казематам. Собрались уже аплодировать, но террористы одним словом заставляют всех замолчать: «Я спрашиваю, —
188
говорит якобинец Караф, — для патриотов или для аристократов тут требуют свободы печати?»[116] Вот наших храбрецов и проучили. Что на это сказать? Это решающий аргумент, со времен Дюпоров и Тарже. С этим самым аргументом и совершалась Революция. Нет ни одного члена Ассамблеи, который не был бы обязан ему своей карьерой, прощением мошенничеств, приведших его к власти, жестокостей, которые удерживали его у этой власти. И вот все опускают головы, переходят к повестке дня, чтобы снова начать на следующий день. Эта знаменитая ассамблея, не отличавшаяся ни тонкостью ума, ни чувством юмора, теряла в этих спорах целые дни и не выходила из дилеммы.
А в действительности эта дилемма ставит в затруднение «патриотов»; это выбор между двумя моралями — личной и социальной, о чем мы уже говорили; а принципы говорят за Карафа. Отбросить тезис защиты, законы исключения, аргумент общественного спасения — значит отказаться от самой Революции. Фактическая тирания на службе у принципиальной свободы — вот вся Революция. Откажитесь от первого — тотчас погибнет и второе. А причина в том, что свобода — принципиальная, не от мира сего, и потому может в нем царить лишь с помощью обмана и насилия. Она родилась в особом, чужом мире, в мире обществ мысли, лож, клубов, народных обществ, — названия тут не важны. Этот Малый Град, маленькая республика, совершенно демократическая, но изолированная и закрытая, где занимаются политикой вдали от дел, моралью — вдали от поступков; туда весь багаж реальной жизни — опыт, вера, интересы и обязанности, все, что
189
обращено к действию и к результату, — не входит: там ему нечего было бы делать, и он лишь загромождал бы без пользы пространство. Предполагается, что туда приходят лишь затем, чтобы мыслить, чтобы «просвещаться», а не действовать и жить; и именно поэтому так уютно там чувствуют себя химеры Жан-Жака, чистые равенство и свобода. Это их родная страна. За неимением «божественного народа», для которого составляет законы Руссо, они прекрасно приспосабливаются к обществу идеологов. Искать их надо не на Корсике, не в Польше, не в Риме или Спарте, не у гуронов или таитян, а в граде философов, везде, где в определенные дни собираются человек двадцать со своими председателями, секретарями, со своей корреспонденцией и с филиалами, собираются, чтобы обсуждать и вотировать «принципиально» «общественное благо». Вот эта новая «родина».
Однако случилось так, что они вышли за пределы своей родной страны, что Малый Народ завоевал, поработил большой народ, и навязал ему свои законы. И тотчас же начались изгнания, грабежи и убийства; ибо законы Малого Государства не годятся для большого. Кодекс Прав Человека подходит лишь гражданам мира мысли, а не обитателям реального мира. В реальном мире якобинская партия всегда будет в опасности и, следовательно, вынуждена будет прибегать к насилию, чтобы удержаться: при малейшем ослаблении надзора и принуждения толпа сама собой вернется к «личным интересам», то есть к интересам реальной жизни.
Вот что чувствует весь Малый Народ, начиная с самого видного своего «оратора» и до самого безвестного из своих «агентов»; и вот почему он так
190
дорожит тезисом защиты. Это само условие, основа существования его царства. Нет ни одной патриотической петиции, памфлета, речи, которые бы не были внушены этим тезисом. Это обычный предмет всей революционной литературы.
8. Новое общественное мнение
Итак, источники, которыми пользуется г-н Олар, — патриотические протоколы, газеты, памфлеты — это подлинные документы патриотизма, составленные патриотами, и в большинстве своем предназначенные для публики. Он, конечно, обнаруживал в них тезис защиты, везде проходящий красной нитью; прямо под рукой у него была целиком написанная история Революции, представляющая рядом с каждым актом «Народа», от сентябрьских убийств до прериальского закона, его совсем готовое объяснение, укладывающееся в систему республиканской защиты.
Именно такую историю он и написал. Она не является пропуском в истории Тэна, так как уже по определению она является неким объяснением. Здесь нет никакой опасности неправдоподобия, несоответствия между результатами и причинами; нет никакого соблазна оставить хронологический порядок и нить повествования, чтобы ухватиться за это крайнее средство — сводки, что равноценно признанию в невежестве, упорному констатированию без понимания. Каждое действие «Народа» имеет свой четко определенный повод: причина штурма Бастилии? — волнения в массах; октябрьских событий? — обед лейб-гвардии; сентябрьских
191
убийств? — наступление пруссаков на Верден; резни 31 мая? — речь Инара; войны со священниками и дворянами? — их заговор. Предательство двора, интриги дворян, эгоизм буржуа, затем «военные условия»: вот, в общих чертах, тот противник, которого «стер» Тэн в сцене большой дуэли, о которой говорит г-н Сеньобос.
Восстановить, воздвигнуть против республиканской защиты такого врага, масштаб которого оправдывал бы ее действия, — такова задача якобинской пропаганды, задача, на первый взгляд, тяжелая, предполагающая большую и постоянную работу по подтягиванию этого необходимого противника, часто такого хилого и далекого, до размеров, сопоставимых с его могущественной жертвой.
Такая работа была бы выше сил одного человека или одной партии: но она происходит сама собой, в отлично слаженной социальной машине. Это результат, можно сказать, автоматический, результат устойчивых, налаженных сообщений между «материнским обществом» и его «дочерьми» по поводу «общественного блага»; сначала «дочки» воздействуют на «мать»: каждая уведомляет ее о том, что знает нужного по этому делу; и отсюда появляется первый отбор фактов, нужных защите. Затем — действие центра на «окружность»: общество-мать черпает из писем «дочек» материал для циркуляров, которые оно им посылает регулярно, чтобы «воспитывать» или «создавать» общественное мнение, как тогда говорили, то есть устанавливать дежурный уровень благонадежности, «соответствие» — второй отбор. Можно себе представить, во что превратится фактическая правда после этих последовательных отмываний в очень обширном обществе, где объем переписки огромен и выбор примеров оби-
192
лен, и очень натренированном, где «забота об общем благе» заставляет лгать без зазрения совести и верить не рассуждая.
Именно это в 1793 г. называют «народным просвещением», первым долгом и заботой настоящего патриота. Первоклассный инструмент для этой работы — якобинское общество, а его первая цель — утвердить и распространить тезис защиты.
А оно не замедлило, сначала посредством мятежа, потом — закона, создать себе монополию на это «народное просвещение». Никаких больше газет, даже памфлетов, помимо него. Один закон (от 23 марта 1793 г.) приговаривает еретика к смерти; другой (от 25 июля 1793 г.), давая привилегии клубам, дает правоверному карт-бланш на диффамацию и клевету. Таким образом, хозяин свободен и не имеет конкурентов. Кроме того, у него хорошая розга: ученик (публика) знает, что надо внимательно слушать урок, потому что речь идет о его голове: если его изобличит клуб, то за клубом стоит революционный комитет, который издаст постановление об аресте, революционная армия, которая его арестует, и революционный трибунал, который его гильотинирует, «энергичные меры», как говорили тогда: это просто, быстро, законно — и имеет решающее значение, как видно, для вольнодумца, который бы потребовал точных сведений относительно грозящей родине опасности, или для эгоиста, который бы некстати успокоился.
Видно, что если этот тезис необходим режиму, то режим, чтобы его поддержать, располагает особыми средствами: и историк тут оказывается перед беспримерным случаем заблуждения общественного мнения; речь идет не о естественных причинах — невежестве, беспокойстве, страданиях масс: они не
193
могли бы, кстати, породить столь значительное заблуждение; но еще менее об искусственной причине — о лжи, которую распространяла какая-нибудь партия, чтобы оправдать свои действия: она не могла бы распространить ее так далеко и поддерживать ее так долго. Лишь социальная машина, управляющая мнением Малого Народа и навязывающая себя мнению большого, способна совершить это чудо; известно, какие сложные дела она умеет провернуть, идет ли речь о том, чтобы заглушить или раздуть новость, или о молчании, или о пропаганде.
Молчание по поводу столь значительных действий — не наименее любопытная черта той странной эпохи. Франция могла страдать от Террора — можно сказать, что она о нем не знала; и Термидор сначала стал освобождением, но затем — открытием: в следующие месяцы сюрприз следовал за сюрпризом. Вначале это был процесс и оправдание (14 сентября) «132 нантцев», арестованных лишь за то, что они были нотаблями своего города, которых десять месяцев таскали из тюрьмы в тюрьму, где 38 умерли от истощения. Затем — представление с трибуны Конвента Мерленом из Тионвиля вещественных доказательств потопления возле Бурнефа 41 человека — 2 мужчин, из которых один слепой 78 лет, 12 женщин, 12 девушек, 15 детей, из которых 10 были в возрасте от шести до десяти лет, а 5 грудных; захваченных в повстанческом краю, их погрузили на судно «Судьба», капитаном которого был Масе, и бросили в море в районе Пьер-Муан по приказу генерал-адъютанта Лефевра[117], — новое откровение для публики; и так далее… Известно, что процессы Каррье, Фукье, Бийо, Лебона, Лакомб и
194
т. п. тоже таили в себе подобные сюрпризы, они обнародовали странные действия, рядом с которыми бледнеют даже самые знаменитые бойни минувших времен: они совершаются хладнокровно, легально, по всей стране, в течение многих месяцев. Это «перманентная Варфоломеевская ночь».
И, однако, можно сказать, что общество не знает о них: оно как будто потеряло чувствительность, словно находится под наркозом. Никогда, ни при каком режиме, оно не доходило до такого состояния. А тут о законах знали, а о действиях — нет. Арест 132 нантцев был девятимесячной давности, потопление у Пьер-Муан — десятимесячной и т. д. Это происходит, во-первых, от того, что ничто более не публикуется, не пишется, не говорится под страхом изобличения и смерти, без визы «патриотов», то есть якобинцев; а во-вторых, среди самих якобинцев эти факты устраняются в процессе переписки.
Зато машина допускает и преувеличивает полезные ей новости так же уверенно, как замалчивает другие, и теми же способами. Францию 1793 г. не следует представлять как Рим времен Нерона, vasta silentio[118]. Напротив, в ней есть общественное мнение, и причем самое шумное из тех, что когда-либо утруждало слух правителей: мнение обществ. Если в Париже в мае 1794 г. ни слова не говорилось о потоплениях, то в июле 1789 г. в самой глухой деревушке было известно из верных источников — «людская молва» повторяет это повсюду, — что королева велела заложить мину под залом Ассамблеи[119]; известно было также, что дворянство топит зерно в
195
море, чтобы уморить третье сословие. «Беспокойство о средствах к существованию», столь полезное демократической партии с 1789 г., фигурирует в 1794 г. среди «принципов», исповедуемых каждым настоящим якобинцем[120]. К тому же вообще беспокойство — это даже признак патриотизма. Настоящий патриот — человек «беспокойный» по положению, а тот, кто успокаивается, подозрителен. Циркуляры якобинцев — это всего лишь серия сигналов тревоги: именно по степени беспокойства они оценивают силу общественного мнения. Вот несколько строк из отчета Сен-Жюста, которые дадут представление о чудесах, совершенных в том же роде: «В 1788 г. Людовик XVI велел умертвить 8000 человек всех возрастов и обоих полов в Париже, на улице Меле и на Новом Мосту. Суд повторил это на Марсовом Поле; суд вешал в тюрьмах; утопленники, которых вытаскивали из Сены, были его жертвами; было 4000 заключенных; в год вешали 15 000 контрабандистов; колесовали 3000 человек», «в Париже было больше узников, чем теперь» (26 февраля 1794 г.)[121]. Это сказано с трибуны Конвента, одобрено, отпечатано и разослано в меньшие коммуны; а общества истолковывают и приукрашивают; а братья всему верят; и никто с сомнением не пожмет плечами: это значило бы рисковать головой.
После Термидора именно это постоянное беспокойство в первую очередь ставили в упрек якобинцам. «Отчего все зло? — спрашивает Клозель в Конвенте 19 сентября 1794 г. — Оттого, что в этом собрании нашлись люди, чей показной патриотизм
196
преувеличивал все грозившие нам опасности». Известно, как невероятно живучи такие чудовищные и знаменитые обвинения, как нищенский пакт или пытки в Бастилии, так сильно «раскрученные», что до сих пор существуют, не имея ни малейшего основания. Никогда бы такие сложные дела не удались ни человеку, ни партии, ни газете: но для социальной машины это просто игрушки.
Самым выдающимся результатом «беспокойства» является «Великий Страх», заставивший вооружиться за неделю, в июле 1789 г., все общины Франции, чтобы отразить разбойников, которых не существовало. Спровоцированная Центром паника, ложь, пущенная Центром для забавы? Несомненно, и надо думать, что толчок исходил оттуда. Но настоящее чудо — в форсированном натаскивании обществ, которое поддерживает в рабочем состоянии и в подчинении Центру целый народ приверженцев, относительно немногочисленный, но зато отборный, подогретый, покорный малейшим указаниям, верящий самой грубой лжи, готовый на любые дела и действующий везде одинаково. Эмиссары герцога Орлеанского или кого другого, которым те заплатили за сеяние паники в деревнях, напрасно тратили бы силы, если бы не встречали повсюду группы «патриотов», надлежащим образом возбужденные, готовые им верить во всем и бежать за ними, как того от них и ждали.
Другой результат от тех же причин: голод 1788 г., обычное проявление общественного мнения: его причиной не был ни неурожай, ни угроза неурожая, но ненормальная настойчивость ложных слухов, которая в конце концов взволновала рынок и привела в полную растерянность покупателей и продавцов среди полного изобилия.
197
Но излюбленные средства беспокойства — это всякие натянутые доводы, достоверность которых трудно оценить: могущество — не действует; планы реакции — предполагаемые; ярость народа по отношению к изменникам или, когда она слишком очевидно отсутствует, подразумеваемый народный интерес — вот что уж точно подлежит обсуждению; все это входит в известную категорию интриг. Известно, какое место они занимают в тезисе защиты.
Гонения на священников в Оше[122]? Но ведь они в заговоре, говорит «глас народа». А в Шартре их не преследуют? Потому что там они ведут себя смирно. А как в действительности? Сколько раз этот тезис меняется на полностью противоположный? Говорят (то есть якобинцы, единственные хозяева гласности, общественного мнения, говорят), что в Оше священники в заговоре. Это потому, что их преследуют (якобинцы преследуют). В Шартре этого не говорят? Потому что там их не трогают. Поместите какого-нибудь настоящего якобинца 1794 года, Лебона, например, в Кан, и умеренного, вроде Ленде, в Аррас: будьте уверены, что на следующий день в Кане местная аристократия, до тех пор мирная, «подымет свою надменную голову», а в Аррасе успокоится. Где она представляет опасность после Термидора? Везде, где остаются террористические общества.
Такова работа защиты. Это труд не человека и не партии, это естественный результат процесса социальных сообщений, которому свойственно производить народное мнение нового типа: искусственное народное мнение, в том смысле, что оно устанавливается принципиальными обсуждениями,
198
фиксируется голосованиями, то есть совершенно иначе, чем настоящее общественное мнение, формирующееся медленно, в контакте с фактами; отсюда особые черты: странные ясность, сила, согласованность, чудовищные ошибки, порожденные либо замалчиванием, либо искажениями; естественное, самопроизвольное, в том смысле, что подчиняется только своим собственным законам, и никогда — чьим-то личным указаниям, и остается коллективным, безличным, как настоящее общественное мнение; и в этом его сила, я хотел сказать — его искренность.
И именно так, без всякого невероятного заговора, без неправдоподобной извращенности, благодаря одному лишь функционированию социальной переписки, внутри Малого Града вырабатывается целая система лжи, в которой нуждается политика защиты, чтобы удержаться.
В системе защиты есть две роли, принесенные в жертву, два патриота, достойных сожаления, ибо их ремесло — точность и правда: это судья и историк.
Мы знаем, по опыту этих последних лет, каким испытанием является процесс республиканской защиты для судьи, которому приходится иметь дело с пустыми досье и тяжкими обвинениями, с криками невинно заключенных и приказами «владыки». Его предшественники в ту великую эпоху знавали и другие тревоги. По правде говоря, закон много для них делал при так называемом режиме «судебных убийств», который отменял обжалование (17 авг. 1792 г.), доказательство (17 сент. 1793 г.) и защиту (22 прериаля II года). Однако, несмотря на такие большие поблажки, задача все еще трудна. У Малого
199
Народа это общее место — высмеивать скрупулезность и медлительность своих судей. Действительно, какая разница между желаниями, ожиданиями и реальностью! Марат требует 170 000 голов; Колло — от 12 до 15 миллионов; Гюфруа считает, что во Франции было бы достаточно 5 миллионов жителей[123] и т. д., — это, честно говоря, шутки газетчиков; но государственные деятели тоже требовательны: Мэнье оценивает число арестованных провансальцев в 9—15 тысяч, его секретарь Лавинь число тех, кому надо отрубить голову, — в 9—10 тысяч, и оба они представляют в Комитет общественного спасения одно и то же основание для введения революционного трибунала на местах: ведь чтобы привести в Париж 15 000 пленников, понадобится целая армия, масса продовольствия, придется организовать этапы, а это большая и ненужная трата людей и денег[124].
Комитет соглашается с этими доводами и назначает комиссию Оранжа. Но вот беда: ей удается казнить лишь по 40 человек в день самое большее, всего же получилось 332, за 44 сеанса. Даже в Париже Фукье преуспел не больше: он рад, что достиг цифры в 450 голов за декаду.
Судей и присяжных уже не хватает. Среди них есть такие, которых гильотинируют как умеренных; другие сходят с ума; третьи перед судебным заседанием напиваются; даже Фукье нервничает, ему кажется, что воды Сены стали красного цвета; и,
200
однако, крайне необходимо поддерживать тяжелый труд защиты.
Тогда в помощь себе придумывают разные любопытные приемы, например «наседку»[125]: «наседка» — это агент, постоянно живущий среди узников, чтобы схватывать на лету и при необходимости провоцировать их на слова, жесты, которые приведут их на эшафот. Есть также «прививка», заключающаяся в том, что в какую-либо тюрьму переводят узника из другой, где уже был заговор: и с этого момента малейшая жалоба, мельчайший симптом становятся сигналом бунта, ответвлением того заговора, а самый маленький перочинный ножик — вещественным доказательством. Имеются и другие средства — например, усердие какого-нибудь патриота-надзирателя, как Берне в Люксембурге, который умеет всяческими издевательствами вывести из себя заключенных, — а остальное берет на себя «наседка».
Однако есть и такие безнадежно терпеливые тюрьмы, где не желают составлять заговоры, например Сен-Лазар. Тогда патриоты забегают вперед, «наседка» перепиливает прут решетки, предлагает план бегства и составляет список. В его доносе, конечно, имеются кое-какие неувязки: например, получается, что в числе прочих беглецов, перебравшихся по одной доске, перекинутой над проулком, на высоте 25 футов над землей, была настоятельница Монмартрского монастыря, семидесяти двух лет, и мадам де Мерсен, у которой обе ноги были разбиты параличом. Но это не имеет никакого значения: обе они были приговорены и отправлены на эшафот. Этот заговор дал три партии
201
жертв, в 25, 26 и 27 голов: так погибли Шенье, Руше, первый председатель парламента Гренобля г-н де Берюль; жена председателя парламента Тулузы, мадам де Камбон, за то, что отказалась ответить, где скрывался ее муж; какой-то малыш Мейе, 16 лет: «За преступление все восемьдесят!» — сказал председатель трибунала. Его преступление состояло в том, что он запустил в надзирателя Берне тухлой селедкой[126].
Таковы последние усилия защиты, тогда как парадокс доведен до последнего предела.
Задача историка — сочинителя пасквилей или оратора — такая же трудная, как и у судьи, но иная. Судья добивается минимума доказательств, необходимых для осведомленной, но хорошо вышколенной, отобранной и сговорчивой общественности Малого Народа — социального общественного мнения; историк же ищет объяснения, которого требует широкая публика, менее сговорчивая, плохо обученная, несведущая и судящая издалека; отсюда и разница в средствах: для судьи это липовые доводы, для историка — умолчание. Но невозможно умолчать обо всем; и тогда вводят «Народ»: слухи — ложны, действия — достойны сожаления, но народ поверил этим слухам и совершил эти действия. Это уже классический прием пропаганды; у него есть свои неудобства, уже отмечавшиеся: ибо, в конце концов, что это за народ, на который взваливают все тяжкие преступления Революции, народ 10 августа? Можно ли вообще говорить о народе, о народном мнении в 1794 г., при режиме «сети» г-на Олара? не все ли это равно, что рассуждать о
202
склонности узника к сидячему образу жизни, сосчитав его решетки и затворы?
Но у этого метода есть и хорошие стороны: во-первых, он кажется объективным, а его позиция одновременно скромна и тверда, что весьма удовлетворительно; затем, она практически достигает той же цели, что и прямое оправдание: ведь если народ верит во что-то и хочет этого, то здравый смысл говорит нам, что по крайней мере естественно в это верить и хотеть этого. Здравый смысл тут ошибается, мы уже сказали почему: между естественной причиной и личными происками существуют, в истории общественного мнения, причины третьего порядка, порожденные работой машины: социальные причины. Но до сих пор, по крайней мере, эти последние не берутся в расчет; а потому, раз тезис «заговора» не выдерживает критики, место остается свободным для почтенных естественных причин, которые так любят находить: пылкий патриотизм, непомерные страдания и т. п.
Таков метод г-на Олара. Он точно скопировал обширную фреску во вкусе Давида, которую общества ежедневно выставляли на обозрение своим адептам. Там изображен Народ — большая обнаженная фигура, совершенно безликая и несколько банальная, выступающая с мечом в руке против разбушевавшихся фурий — Фанатизма и Аристократии. Он воссоздает перед нами, от начала до конца Революции, тезис защиты — результат огромной и бессознательной работы переписки обществ: молчит о стеснительных победах, Ондскоте, Ваттиньи; молчит о массовых убийствах, расстрелах, потоплениях, всякого рода гонениях. Лион восстает? — Федерализм, зависть в провинции к Парижу — но Шалье не в счет. Вандея? — Фанатизм, роялизм, восстание против
203
набора в армию — но ни слова о жестоких религиозных гонениях предыдущих месяцев. Знаменитые комитеты надзора, поставщики для гильотины? Я вижу лишь один факт, который можно поставить им в вину: кажется, в некоторые деревенские комитеты обманным путем проникали священники и были так нечестны, что пользовались своим положением, чтобы заставить людей посещать мессу[127]. Сентябрьские убийства? Говорится, что наступают пруссаки или, скорее, что народ верит этому и взволновался, что верно относительно Малого Народа, который очень опасается большого; не говорится, что половина зарезанных — безобидные женщины, дети, старики, что убийцы — это 300 наемных головорезов — и вот равновесие защиты и восстановлено.
Наконец, и самое главное, персонификация «Народа»; он появляется при всех переломных моментах: 5 октября король отказывается подписать Декларацию прав. «Тогда вмешался Париж» (с. 58). 28 февраля 1791 г. «Народу» приходит в голову, что донжон Венсенского замка сообщается подземным ходом с Тюильри и что король убежит через этот ход. К счастью, Лафайет бежит вслед за ним и задерживает его в пути (с. 108). Король собирается уехать в Сен-Клу 18 апреля 1791 г. «„Народ“ помешал ему сделать это» (с. 115); и так далее. Эта эпопея великого безличного «On»[128] замечательно изложена в книге г-на Олара против Тэна (с. 169–177).
204
В сентябре 1792 г. «увидели, что королевская власть бессильна, возмутились…» и ее свергли. Спустя полгода, снова «беспокоятся, боятся, что у жирондистов не будет необходимой энергии…», и их исключают.
Очевидно, что историк-эмпирик будет останавливаться на каждом этом «on», чтобы спросить: кто — «оn»? Сколько? По какому принципу объединенные? Кем представленные? и т. д. Критике известно, что такое 500 или 2000 ремесленников, крестьян или горожан, но неизвестно, что такое «on», «Народ», «Париж» или «Нация». Она не терпит анонимности и неопределенности; как только образуется скопление народа, она желает увидеть, сосчитать и назвать; она вопрошает, что такое этот безымянный «хороший патриот», который выдвигает уместное предложение? Кто это там снизу рукоплещет каждому его слову? Кто этот третий, неожиданно ставший оратором «Народа»?
Разумеется, г-н Олар никогда не задает таких вопросов. Будем ли мы упрекать его за это? Это было бы столь же несправедливо, как упрекать его за небольшое количество и ограниченный выбор источников. Г-н Олар — не историк-эмпирик. Он историк республиканской защиты, то есть реставратор фикции, созданной по особым законам и в особом духе: по законам социальной пропаганды, общественного мнения Малого Народа.
9. Миф о народе
Если вышеизложенное понятно, то теперь можно судить о важности и интересе такой работы.
205
Очень легко — и даже несколько наивно — критиковать тезис защиты как объективную истину. Действительно, ясно, что он навязан ситуацией, что он в манере писаний или речей патриотов, что он — первое правило их пропаганды, само условие народной фикции, на которой и держится этот режим. И поэтому Тэн и историки-эмпирики целиком отбросили, инстинктивно, все то, что исходит от тезиса защиты. Г-н Олар в своей «Политической истории…» поступил в точности наоборот. Он вплотную занимался исключительно защитительной литературой и воссоздал перед нами ее тезис во всей его полноте и безупречности.
Надо быть благодарным ему за это, ведь этот тезис, как мы уже говорили, не есть целенаправленный результат происков группы или одного человека, но неосознанное и естественное произведение якобинской машины, то есть определенного режима и определенного духа; и это было очевидно с первого взгляда: сил одного человека не хватило бы на действия такого большого размаха. Система, фикция, шумиха, если угодно; не будем забывать, что эта система продержалась несколько лет, что она распространяла чудовищную ложь, что она совершала неслыханные дела, что ей следовали тысячи людей, не знакомых друг с другом, и что ее признавали, волей или неволей, миллионы других; наконец, что она породила некий мистицизм нового типа: это мистицизм народа, который был если не объяснен, то описан Тэном; тезис такой силы, даже абсурдный — именно абсурдный — не простая ложь. Он сам по себе уже исторический факт, социальный факт, как мы говорили, и заслуживает объяснения и, для начала, представления.
206
Г-н Олар сделал это, можно сказать, первым; не то чтобы, конечно, защитительная история начинается с него, — она ровесница демократии. Однако его предшественники, Мишле и другие, написали ее от своего имени, дошли своим умом — Мишле, впрочем, с некоторым оттенком якобинского духа, что напоминает угадывание; но, в конце концов, они переписали на свой лад ту защитительную речь, которую актеры этой драмы произнесли раньше их. Г-н Олар более критичен: он обращается к писаниям того времени, к тогдашним якобинцам; и в этом новизна и ценность его книги.
Предприятие такого рода имело свои преимущества и свои опасности. Вначале о преимуществах: хороший метод г-на Олара должен был принести хорошие плоды. И действительно, следует заметить, что если он и не один пишет защитительную историю, то именно он доводит ее до конца. Все другие остановились на полпути: один — на 10 августа, другой на 31 мая, третий — на смерти Дантона, исходя из собственных представлений. В революционном прогрессе всегда находится какой-то пункт, после которого историк резко переходит к реакции и заявляет, что «нация» существовала вот до таких-то пор, но не далее; остальное было делом одержимых громил, заговорщиков и тиранов. «Нет, — восклицает Кине, — возникновение системы Террора не было в порядке вещей, это ошибочное представление»[129].
Один лишь г-н Олар, за исключением быть может только Луи Блана, принимает целиком всю Революцию — даже Робеспьера, Лебона, Каррье, даже три последних месяца Террора. Но если Луи
207
Блан занимает эту позицию лишь в силу свирепости своих убеждений, то г-н Олар — благодаря надежности своего метода. Действительно, для того, кто судит на основании текстов, а не чувств, ясно, что перед нами, с 1788 по 1795 г., единый, все один и тот же исторический феномен. Это от начала и до конца одни и те же принципы, тот же язык, те же средства. Невозможно было бы отделить, с одной стороны, «патриотизм» 1789 г., как голос народа, а с другой стороны, «патриотизм» 1793 г. как измышление интриганов. «Теория 1789 г.», быть может, и благоразумная в политике, не выдерживает критики в истории; и это очень хорошо увидел г-н Олар, соглашаясь здесь с Тэном.
Но при написании защитительной истории есть одна очень серьезная опасность: дело в том, что ее принимают всерьез, как объективную истину, — и нет ничего досаднее этого: ведь в таком случае историк перед защитительной литературой находится в таком же положении, как и хорошо обученный адепт, «хороший патриот» перед дежурной социальной линией поведения; исчезает всякая критика; и в результате этой пассивной правоверности в историю введено новое политическое божество социального режима: Народ.
Сегодня в нашей официальной истории свирепствует как раз это мистическое понятие.
Я не смогу найти более удачного сравнения места, занимаемого этой идеей в истории, нежели то, которое занимает Провидение в учебниках иезуитских коллежей эпохи Роллена. И тут и там речь идет о понятиях, о существах, взятых отнюдь не из исторической области: одно — из теологии, другое — из абстрактной политики; очеловеченные, хотя это вовсе не люди; наконец, введенные на-
208
сильно, для забавы, вместо естественных причин, в ткань событий.
Однако Провидение настолько выше народа, что в конечном счете оно остается тем, что есть, а именно явлением сверхъестественного порядка: нет лже-Провидения. Если историку угодно приписывать неудачи великого короля, например Хохштедт и Рамилли, гневу свыше, читатель может просто пожать плечами и найти свое объяснение: в истории это благочестивый способ ничего не сказать; и это не ложь.
Не так обстоит дело с Народом: ибо существует подделка под народ, под общественное мнение — народ обществ мысли, Малый Народ, действие которого непосредственно, постоянно и ощутимо. Приписывать действительному принципы и поступки мнимого, например, народу Парижа — сентябрьские убийства — это больше, нежели признание в невежестве: это историческая бессмыслица, в подтверждение политического миража; это не умолчание об истинной причине, а подмена ее ложной причиной. Вот почему новый антропоморфизм бога-народа гораздо вреднее для здравой критики и, что касается образования, гораздо опаснее для молодых умов, чем старый антропоморфизм.
Боюсь, не принадлежит ли отчасти и г-н Олар к этой самой религии; по крайней мере, его книга против Тэна наводит на такие мысли. Действительно, ему разрешалось строить защитительную историю по защитительной литературе; это — предмет его «Политической истории…» и большая услуга этой критике. Он не имел права запретить ни Тэну, ни кому другому писать историю фактов; или, по крайней мере, если он и пытается это сделать, то не в качестве критика: тогда в нем говорит уже не ученый, сторонник тезиса защиты; нам
209
является верующий, почитатель народа как такового, ортодокс свободомыслия. Его краткое credo, которое он так отважно бросает в лицо критике, в этом отношении весьма знаменательно. В этой отваге верующего чувствуется дыхание какого-то другого века; словно читаешь «Слово о всемирной истории» нового Провидения.
Оцениваете ли вы теперь в полной мере тяжесть преступления Тэна? Оно из тех, что не прощаются: это святотатство. Тэн ниспроверг кумира, разбил вдребезги великий фетиш Революции — Народ. Он сделал это грубо, наивно, скорее как здравомыслящий человек, нежели как критик, не поняв ни глубины, ни значения этого культа, не докопавшись до его корней. Он для этой религии не Ренан; это ее Вольтер, Вольтер, обладающий большими знаниями, большей честью, но меньшим остроумием. А вслед за Тэном в оскверненный храм ворвалась толпа ученых, переворошили, собрали и описали кусочки божества с такой же непочтительностью; но и они тоже ничего не поняли.
Но кумир остался на земле. Тезис защиты выпутывается из официозных актов «патриотизма». Он приспосабливается еще к официальным актам, по крайней мере, при правлении патриотов. Но фактические вопросы, правда факта, эти «происшествия», эти случайности, для которых г-ну Олару не хватает презрения, убивают его. Он слишком хрупок, чтобы выдержать такую тяжесть, и доказательством тому служит то усердие, с каким г-н Олар пытается его от этой тяжести освободить.
И именно вся работа Тэна, огромная и озадачивающая правда факта, была направлена на то, чтобы взвалить на тезис защиты это обвинение. Факты, извлеченные из местных историй, которые
210
не читаны; из мемуаров, где есть столько других фактов; из монографий, написанных о другом; из архивных карточек, наконец, где они дремали в течение ста лет; Тэн собирает их повсюду — вот и весь его метод; классифицирует их по «психологическим» семействам — вот и вся его система; сжато и энергично излагает их, и это, в основном, за исключением нескольких ослепительных вспышек ярости, — все его красноречие; и бросает их публике такими, какие они есть в истории, к изумлению читателей и к великому прискорбию сторонников защитительной истории, которую они поражают, как булыжники — хрупкий прибор.
В подобном случае остается лишь одно: любой ценой извлечь и раздробить этот камень. Это нельзя стерпеть, как патетические проклятия, как горестные оговорки какого-нибудь либерального историка, это нельзя незаметно отправить в мусорную корзину, как находки какого-нибудь провинциального ученого. Надо прибегнуть к крутым мерам — и г-н Олар посвящает себя этому. Он взял мотыгу и заступ и принялся за дело, проверяя и опровергая факт за фактом, — и само это отчаянное решение уже доказывает значительность затронутых интересов: ибо надо признать, что сам по себе этот прием достоин сожаления и как будто пытается привить у нас, после трехсотлетней эпохи учтивости, несколько грубые нравы немецких гуманистов XV века. Если бы ему стали подражать, он бы мог попытаться остановить исторический прогресс. Надо ли говорить, что эта исключительно негативная критика абсолютно бесплодна, что историческая истина ничего не выигрывает от подсчета ошибок историков и что единственный способ успешно опровергнуть чужое творение — это написать лучше?
211
Но, в конце концов, эта книга не есть, как часто говорят, проявление чьей-то единичной злобы; это не случай, не «происшествие» в историко-революционной науке. Это работа скорее некоей школы и некоей позиции, чем одного человека; она должна была появиться и появилась в свое время, означая апогей кризиса, который средние дарования продлили бы еще на долгое время и который гений Тэна ускорил, разрушив возведенное с таким трудом здание защиты и одновременно похоронив под ним старый психологический метод. Вот что — какова бы ни была, впрочем, ценность книги г-на Олара, — придает интерес и важность его начинанию.
10. Дилемма
Таким образом, вопрос остается открытым, а проблема — нерешенной: с одной стороны, объяснение, которое держится лишь на умолчаниях и преуменьшениях; с другой стороны, факты, тем менее поддающиеся объяснению, чем больше их узнают. Надо выбирать между правдоподобием и правдой — такова дилемма, которую работы последних двадцати лет довели до крайности.
С одной стороны, действительно, школа защиты, со своими последними приверженцами, г.г. Оларом, Сеньобосом, Шассеном, Робине и т. д., наконец, решилась работать с текстами — это полезная работа, которая открывает нам подлинное содержание этого направления, но тем самым лишает его последних признаков объективности. С другой стороны, эрудиция соизволила выйти за пределы
212
своей обычной области — средневековья, чтобы заняться Революцией, с большой пользой для эмпирической истории и, нужно сказать, к чести Тэна: ибо если она многое добавила к его доказательствам, то не изменила его рамок. Они противостоят лавине новых фактов, которую обрушила на них работа конца века. Их сводки, их исследования остаются верными в общих чертах, и, как в какой-нибудь настоящей естественнонаучной классификации, новые экземпляры сами занимают в ней положенные места. Но, в конце концов, если эти рамки и не устарели, то они все же недостаточны и не выходят за пределы описательной истории; и это накопление доказательств и фактов только больше сгущает тайну, остающуюся в глубинах труда Тэна и вообще любого добросовестного эмпирического труда по истории.
Увидим ли мы конец этого кризиса? Я думаю, что да, но с двумя условиями: первое состоит в том, что нужно остерегаться бича всякой предвзятости — негодования. Обычная история ведет к объяснению, а история Революции, в девяти случаях из десяти, — к приговору. Она, без сомнения, честная — я говорю, по крайней мере, лишь о первой, — но нет и менее любопытных историй, более охотно останавливающихся на абсурде: не понимать — это еще один способ осуждать. Революционные акты — это камни позора, которые одни прикрывают с сыновней почтительностью, а другие выставляют с суровостью судей, но которые никто и не думает рассмотреть с точки зрения ученого.
И это очень жаль, потому что они заслуживают такого труда. Очевидно, что если бы три последних месяца Террора, например май, июнь и июль, 1794 г. не были, к несчастью, самыми отвратительными в
213
нашей истории, они в ней были бы самыми интересными. Тогда, действительно, был предпринят нравственный, политический и социальный эксперимент, поистине уникальный за многие века. Таинственные глубины человеческой души, под действием мало известных пока причин, произвели тогда на свет беспримерные до той поры поступки, чувства и типы. За те семь тысяч лет, что существуют люди, воюют и убивают друг друга, я не думаю, чтобы за это принимались таким образом. Я говорю не столько о вдохновителях «перманентной Варфоломеевской ночи», что важно само по себе, — сколько об образе их действий. Но, чтобы удивляться, надо сохранять хладнокровие; а как не потерять его при виде таких гнусных дел, как процесс над королевой, таких извращенных, как судебные убийства, повсеместное доносительство, и все позорные обычаи периода Великого страха? Однако в этом можно преуспеть, если понять автоматизм законов социальной машины, если увидеть, какому отбору, какой усиленной обработке подвергается «голосующий материал», который туда входит, и что эти нечеловеческие существа, всякие Шалье, Мараты, Каррье — лишь механические произведения коллективной работы. Тогда и нельзя будет допустить этой ошибки и мерить одной мерой социальный продукт и человеческое существо; тогда будет видно, что здесь можно понять больше, чем кажется, о большем также сожалеть — и меньше проклинать.
Второе условие — критика должна наконец избавить нас от революционного фетиша — Народа; она должна вернуть его политике, как Провидение — теологии, и отвести защитительной истории подобающее ей место в музее религиозных мифов, откуда ей не стоит выходить. Если наши историки
214
еще не сделали этого, то потому, что антропоморфический народ по сравнению с антропоморфическим Провидением моложе и кажется более правдоподобным. Он внушал почтение еще с тех времен, когда плохо различали, с изнанки «принципов», работу социальной машины и законы практической демократии. Тэн и г-н Олар — историки именно того времени, историки старого режима.
Но для нашего поколения это уже не оправдание. В течение десяти лет оно видело, как создавался новый режим, фактически и юридически; оно видело, при правлении «блока», как вслед за борьбой партий последовала тирания одного общества, как парламентские обычаи были заменены работой политической машины. Оно видело, как показная, на словах, мораль прессы и философских трибун — Справедливость, Правда, Совесть и т. д. — вступала в противоборство с реальной моралью. И теперь большая работа приближается к концу. На место отживающих сил морали приходит, чтобы поддержать государственное тело, один лишь социальный механизм, который его сжимает и чей роковой закон ему теперь придется испытать. Мы одной ногой уже попали в колеса. Первая социальная генерация — коренное масонство — уже попадает в немилость, между лояльностью, на которую оно больше не имеет права ссылаться, и предвыборными обещаниями следующей генерации — политическим синдикализмом, которому оно не имеет права противоречить. Это первый этап; их будет еще очень много.
Будем, по крайней мере, надеяться, что это поколение воспользуется дорого приобретенным опытом, чтобы понять наконец то, чему оно не может помешать. Тогда кончится кризис революционной истории.
215
И тогда обоим нашим историкам воздадут должное (можно даже предсказать, как мне кажется, в каком направлении) и каждый из них будет оценен завтрашними учеными, и именно за то, за что порицают сегодняшние.
Тэну будут благодарны за неуступчивую искренность, которая заставила его держать это пари: утверждать неправдоподобное, разрушать уже принятые объяснения, не имея возможности найти им замену, отказаться от ложных доводов, не располагая истинными, — вызов правды здравому смыслу, чьи недавние нападки в достаточной мере подтверждают его отвагу. А она, конечно, была нужна, чтобы так рисковать, в одиночку и наугад, доверившись текстам и фактам, в таком удалении от основной массы общепринятых идей. Но в конце концов Тэн удержал свои позиции; он даже оказался не одинок: появилось исследование Острогорского, мощно утверждающее свою позицию. Более того, скачок в развитии социальных теорий придает работе Тэна такой смысл и такую важность, о которых он сам почти не подозревал. Если он и не основал нового метода, то, в конечном счете, проложил для него дорогу. Ведь было гораздо труднее порвать с общепринятыми правдоподобными объяснениями; чем объяснить фактическое неправдоподобие, труднее поставить эту проблему, чем решить ее. Его усилие останется примером свободы духа и интеллектуальной порядочности, а его труд — образцом искренней истории.
Заслуга г-на Олара является прямо противоположной. Известно, какой репутацией радикальной ортодоксии, «чистоты принципов», как выразился бы какой-нибудь якобинец 1793 г., пользуется его творчество. Не думаю, чтобы нашим внукам надо
216
было что-то менять в этом решении, таком прочном, устоявшемся, хотя бы в том, что касается буквы. Но они изменят его дух, и из хулы сделают хвалу: ибо сама эта узость приличествует историку защиты и оборачивается если не к славе автора, то, по крайней мере, к пользе книги. Как говорят, г-н Олар ни слова не напишет, ни текста не процитирует, если они не служат его цели — успеху этой обширной системы лжи, которую называют республиканской защитой: это действительно так. Но сама эта чрезмерная забота — это уже что-то: во-первых, потому что этот вымысел — коллективное и автоматическое произведение машины, потому что у него есть интерес и социальная роль, объективная реальность; затем, потому что лишь истинный якобинец может нам достойно воссоздать его. Самый умный из непосвященных здесь уступит самому тупому из «братьев», ибо у него постоянно будет искушение вернуться к реальности, судить о вещах самих по себе — следовательно, будет риск потерять нужную точку зрения. Кажется даже, что и в самой школе предшественники г-на Олара сохранили что-то от этой несносной свободы поведения и суждения. Г-н Олар тут уступает им во многих отношениях. У него нет изящества Минье или полета Мишле, нет огня Кине или чьего-либо еще красноречия. Но он их общий учитель в том, что касается якобинской правоверности. Читая его, можно быть уверенным, что имеешь дело с «патриотической» версией, которую не всегда легко уловить даже с такими надежными гидами, как Фоше, Бриссо, Марат, Сен-Жюст; и, конечно, поэтому его труд останется полезным и к нему всегда будут обращаться.
217
Таким образом, Тэн и г-н Олар, каждый по-своему, послужат завтрашней истории, социальной истории Революции: усилия первого будут для нее примером, а книга второго — документом.
218
Общечеловеческий патриотизм[130]
Революция — это не результат стечения внешних обстоятельств и тем более не личное произведение каких-то честолюбцев. Значит, остается лишь один путь объяснений: обратиться к причинам одновременно внутреннего и высшего по отношению к человеку порядка, которые исходят из самых глубин человека и в то же время господствуют над ним: это будет феномен религиозного порядка. Энтузиазм, «фанатизм» — это последняя соломинка для историка, исчерпавшего все средства, но пытающегося объяснить причину революционных актов. И не является ли, на самом деле, этот энтузиазм, если судить только по словам, самым естественным из всех — любовью к родине? Патриотизм — это орудие Революции; игнорирование его, видение лишь
219
отрицательной, «патологической» стороны — таков, на взгляд г-на Альбера Сореля, недостаток «Происхождения современной Франции»[131] Тэна, и, напротив, «отчаянный патриотизм» будет, под пером г-на Олара, соответствовать «военным обстоятельствам».
Однако обычно к этому патриотизму относятся с подозрением; он озадачивает и смущает; с одной стороны, нет патриотизма более кровожадного и грубого — если отбросить самый упорный шовинизм. И в то же время самые нежные наши пацифисты, самые чувствительные наши гуманисты-человеколюбцы приветствуют его. За что такое исключение? И если Дантон такой же патриот, как и другие, почему бы не взять примеры «национальной бойни» в Аббатстве в сентябре 1792 г., совсем по-иному показательные, нежели битвы Империи?
А потому, объясняет нам сам г-н Олар, что Дантон — патриот не в обычном смысле слова: «Революция соединила разные народы, составляющие французское королевство, в один народ, французский народ, и слила эти малые родины в одну родину, во французскую нацию, единую и неделимую. Едва возникнув, эта новая нация прониклась идеей федерации всех наций мира в единую человеческую семью, где каждая национальная группа сохранит свою индивидуальность. И тогда-то начали популярно говорить, что все народы — братья, что они должны любить друг друга, помогать друг другу, а не ненавидеть и убивать друг друга. Вот что такое патриот в 1789 и 1790 гг.»[132].
220
Это как раз тот, которого в 1908 г. называют гуманитарием. Вы, конечно, узнали этот знакомый силуэт, немного напыщенный и во фраке а-ля Жорес. Но, в конце концов, это именно он — и идея та же самая.
У слова «патриотизм» в конце XVIII века два значения. С 1788, нет, с 1770 г. существует некий патриотизм — а именно Патриотизм обществ мысли, не имеющий ничего общего с нашим, кроме имени. Чтобы в этом убедиться, достаточно поглядеть на него в деле. Это он в 1789 и 1790 гг. убивал «из принципов», согласно максимам Руссо, все живые организмы старой Франции, начиная с провинций, корпораций, сословий и кончая последними ремесленными цехами, это он «лишил нацию скелета», как говорил Талейран, раздробил ее достаточно полно, чтобы заставить ее безропотно нести чудовищное административное ярмо, которое она тащит уже сто лет и которое дает такой удобный повод к кесарским или сектантским тираниям. Он уничтожил маленькие патриотизмы во имя большого, во имя национального единства — единственной ныне существующей связи из тех многих, что раньше связывали француза с его страной. Отсюда и название «патриотизм», значение которого здесь только отрицательное: речь идет скорее о том, чтобы уничтожить малые родины, нежели о том, чтобы заставить жить большую; и большая ничего не выигрывает от этого разгрома, напротив: излишне говорить, что во Франции такое единство возникло до 1789 г. — и даже слишком хорошо прививалось уже в провинциальной жизни — и банально повторять, что с тех пор оно стало бедствием, первой причиной прилива крови к голове и отлива от конечностей.
221
И в самом деле, этот патриотизм заботится вовсе не об интересах Франции. Нет ничего поучительнее его короткой истории: он рождается в 1770 г. во время парламентских смут, в философских обществах. Тогда, до ноября 1788 г., он был главным образом провинциальным. Действительно именно в провинциях вокруг взбунтовавшихся парламентов и Штатов, образуются «союзы», «Союзные пакты», которые «заставляют говорить» волей-неволей против «министерского деспотизма» «Нацию» — бретонцев, жителей Дофинэ или провансальцев. Никогда вокруг этих маленьких народностей не поднимали такого шума; и это доходит до такой степени, что у некоторых пробуждается провинциальный дух, дремавший со времен Фронды, попадается на эту приманку и принимает за вторую молодость философское движение, которое должно было его прикончить. Нет ничего любопытнее, чем, например, союз (в июле 1788 г.) дворянства Бретани с адвокатами-философами Ренна, Договора герцогини Анны и «Общественного Договора». В течение трех месяцев они боролись бок о бок; на четвертый месяц герцогиня Анна решила, что уже заняла свой трон; на пятый она погибла, не сопротивляясь, задушенная своими новыми солдатами. Ибо патриотизм сменил вывеску: парламентский в 1788 г., чтобы вербовать города, в 1789 г. он стал Национальным, чтобы разъединить провинции и корпорации. И этот расширяющийся патриотизм тем не ограничивается. Как верно говорит г-н Олар, в 1791 г., накануне войны, это уже европейский патриотизм: якобинцы тогда видели себя во главе Европейской республики. Если их патриотизм остановился на полпути, то это по непредвиденным причинам: потому что французские провинции покорились — а нации других стран сопро-
222
тивлялись — якобинскому единству. Если он защищал французские границы, то это потому, что они тогда совпадали с границами Всемирной Революции; это, впрочем, чисто случайное совпадение: достаточно почитать обращения и циркуляры якобинцев, написанные за полгода до войны, чтобы это понять.
В Главном обществе — две партии: одни хотят войны, потому что это война. Беспрецедентная война, «война народов против королей»[133] — то есть «Философия», «Принципы», их учение и их секта подымают войска, командуют армиями и силою воцаряются среди соседних народов. Другие войны не хотят из соображений предосторожности: «Или вы ни во что не ставите, — говорит Робеспьер 2 января 1792 г., — неограниченное право карать и миловать, которым закон наделит наших военных патрициев с того момента, когда нация вступит в войну? Или вы ни во что не ставите власть полиции, которую она вверит военачальникам во всех наших пограничных городах?» — и если победят, «то именно тогда будет объявлена гораздо более серьезная война истинным друзьям свободы, и именно тогда восторжествует коварная система эгоизма и интриг»[134]. Опасайтесь «милитаризма», пробуждения прежней дисциплины и старых чувств по отношению к врагу! — вот, в двух словах, суть его возражений.
И ответ в том же духе; сторонники войны говорят, что надо рассчитывать на «патриотизм» солдат — видите новый смысл слова? — и, чтобы поддержать
223
его, на союз с национальной гвардией: «В наших армиях будет царить такое общественное мнение, которому предатели будут вынуждены подчиняться и которому они не осмелятся противиться открыто» — читайте: будут такие общества, чтобы изобличать еретиков и возбуждать вялых, как в национальной гвардии, и такими же средствами. Наконец, рассчитывают на зарубежных братьев: «Верьте, братья и друзья, что за границей у Французской революции больше сторонников, чем кажется, они просто не отваживаются показаться»[135]. Превосходные доводы, мы видим, и с той и с другой стороны; но где тут интересы Франции? Я вижу только интересы секты.
Этот самый патриотизм с тех пор сменил убеждения и имя, но не принципы; сегодня он называется гуманитаризмом[136] и работает над разложением этой самой Франции, которая в какой-то момент послужила ему орудием и укрытием.
Но ведь эти два патриотизма, общечеловеческий и французский, боролись бок о бок в 1792 г.? Во время войны в Европе второй ведь был на службе у первого? — несомненно, и он не в первый и не в последний раз поработал на чужака. Он воевал в 1792 г. в пользу гуманитарной секты, как за сто лет до того — во славу великого короля, и как воевал спустя пятнадцать лет за сумасбродства Наполеона: героически, со славой и глупо.
Впрочем, если они и соединились по случайному стечению обстоятельств, то уж во всяком случае никогда не были друзьями. Они с самого нача-
224
ла не доверяют друг другу. Патриот обществ, который все время кого-то изобличает, разглагольствует и не сражается, ни в чем не похож на патриота из военного лагеря, и не совсем симпатичен ему, который никого не гильотинирует и — сражается. Они работают, каждый на своем месте, один — своими фразами и пиками, против несчастных французов, которыми набиты тюрьмы, другой — своим ружьем, против пруссаков и англичан. И даже, когда второй выполнил свою задачу и победителем вернулся к родному очагу, он увидел на лице у собрата такую скверную мину, что отправил его разглагольствовать в Кайенну[137].
У каждого из них, с самого их возникновения, свои приемы, свой собственный облик, и потому попытки слияния провалились. В 1792 г. хотели якобинизировать армию волонтерами, военными клубами, доносами, организованными и вдохновляемыми руководителями, — Камиль Руссе показал, насколько это было успешно. Напротив, когда якобинцы хотели воевать с Вандеей, известно, чем это кончилось: якобинские генералы Лешель, Россиньоль, Ронсен и другие герои наткнулись на косы крестьян Ларошжаклена и были отправлены назад, к своим клубам и трибунам. Пришлось вызывать настоящих солдат, тех, что сражались при Майнце. Каждый принял это к сведению и отныне оставался в своей сфере; один воюет с врагами Франции, как и всегда это делал. Другой изобретает особую войну, войну с врагами человечества, беспрецедентную войну. У нее свое оружие — пики,
225
свои бои — заседания, свои поля битвы — тюрьмы, свой специальный корпус — революционная армия, свои противники — «внутренние враги»: Фанатизм, Умеренность, Федерализм, Деспотизм и другие страшные «измы». Именно это называют «войной свободы», «войной на войне», той, что должна утвердить всеобщие мир и счастье. Это будет последняя война из всех: «Если еще льется кровь, — говорит Бийо, — она по крайней мере послужит в последний раз тому, чтобы скрепить навсегда права человечества. Это будет последняя смертельная жертва, которую ему придется оплакать, потому что она принесена для того, чтобы упрочить возвращение на землю той оценки и того уважения, которого заслуживают люди, того доверия, которое оно внушает… и гражданской гармонии, которая тесно связывает всех граждан очарованием такого прекрасного бытия».
Было бы, конечно, весьма интересно изучить поближе эту новую войну, ибо она — единственная в своем роде, и потому что только тогда был виден в действии, во всей красе этот Общечеловеческий Патриотизм, который в наши дни показывается лишь в сюртуке конферансье, за зеленым столом со стаканом подсахаренной воды.
Отметим лишь его выдающуюся черту: жестокость. Этого и следовало ожидать: можно помиловать врага страны, даже врага партии — но что делать с врагами человеческого рода, кроме как истребить их? Истребить — самое точное слово — любыми средствами: «Речь идет не о том, чтобы наказать их, но скорее о том, чтобы их уничтожить»[138], — говорит Кутон. «Не надо никого ссылать, надо истребить всех
226
заговорщиков»[139], — говорит Колло. В этой войне нет никакого закона — ни справедливости, ни чести, ни жалости. Признать хоть один из них — значит «юридически убить родину и человечество»[140]. «Что общего, — говорит Робеспьер, — между свободой и деспотизмом, между преступлением и добродетелью? Можно еще себе представить, что солдаты, сражающиеся за деспотов, протянут руку побежденным солдатам, чтобы отвести их в госпиталь; но сопоставить свободного человека с тираном или его приспешником, храбрость с трусостью, добродетель с преступлением — этого нельзя себе вообразить, это невозможно… между солдатами свободы и рабами тирании должна быть дистанция»[141].
И, чтобы как следует подчеркнуть эту дистанцию, постановляют расстреливать пленных. Новая война, по словам одного якобинского оратора, — это война «Нации с разбойниками»; разбойники — этим словом отныне будут обозначать врагов человечества; это, собственно говоря, уже больше и не люди.
И с ними соответственно обращаются. Отсюда эти грубые оскорбления, такие шокирующие для настоящих солдат, и, однако, естественные: новая война зверски груба, не столько из чувства, сколько из принципа. Она возводит в принцип низость противника, в то время как раньше признавались его воинская честь и достоинство. Враги — это «монстры», «свирепые животные, стремящиеся пожрать человеческий род»[142]; Питт объявлен «врагом человечества»[143].
227
Отсюда это презрение к человеческим правам, эти убийства парламентеров, военнопленных. Поэтому истребляют мужчин, женщин, даже детей — детей в Бисетре, в сентябре 1793 г., 300 несчастных малышей в нантском пакгаузе, — и ужас обычно мешает заметить это странное свойство. Мы видели крестьянские войны, гибель людей в огне во время штурмов, жестокости проконсула. Мы никогда, кроме как в ту эпоху, не видали таких группировок людей — республиканские власти и патриотические клубы, — которые настолько привыкли к убийствам, что могли хладнокровно заниматься этим в течение многих месяцев, оптом и в розницу, словно уборкой мусора.
И тем не менее это не сумасшедшие и вовсе не звери; среди них немало мелких буржуа, очень похожих на других. Но что за удивительная у них выучка? В Нанте «чистые» — их около двадцати, с Каррье, кроме 80 пик из «армии Марата» — это люди, которые раздели догола 100 девушек и молодых женщин, от шестнадцати до тридцати лет, среди которых были беременные и кормящие, привязали их к знаменитым габарам[144] и затем, открыв клапаны, смотрели, как они погружаются в воду, и отрубали саблями руки, которые те умоляюще протягивали через отверстия в борту судна. В Нанте расстреливают от 150 до 200 вандейских крестьян в день, — спокойно сообщает Каррье. А топят их до 800 человек зараз. В Лионе патриотам пришлось отказаться от картечных обстрелов, потому что драгуны, чьей обязанностью было добивать саблями
228
уцелевших, восставали из-за отвращения, и потому что мертвых бросали в Рону, поскольку не хватало рук закапывать их, и потому что жители прибрежных селений ниже по течению жаловались на заразу и смрад: по завершении первой недели на отмели возле Ивура было обнаружено 150 трупов. Та же жалоба в Аррасе, где кровь с гильотины наполняла смрадом квартал. Генерал Тюрро в Вандее распорядился «мужчин, женщин и детей колоть штыками, и все сжигать»[145], и т. д.
Такова работа Общечеловеческого Патриотизма. Эти кровавые оргии возмущают нас, потому что мы судим о них с позиций обычного патриотизма, а это неверно. Какой-нибудь «гуманист» мог бы нам объяснить, что они законны: гуманитарная [во имя человечества вообще. — Перев.] война — единственная, которая убивает, чтобы убивать, — у нее есть на это право, и именно этим она отличается от национальной войны. «Бей без жалости, гражданин, все, что связано с монархией, — говорит молодому солдату председатель якобинцев. — Не клади ружья, пока не ступишь на могилу всех наших врагов, — это веление человечества»[146]. Это из человечности Марат требует 260 000 голов[147]. «Какое имеет значение, что меня назовут кровопийцей! — восклицает Дантон. — Что ж! Если это нужно, будем пить кровь врагов человечества!»[148] Каррье пишет Конвенту, что «разбойники потерпели столь полное поражение, что сотнями подходят к нашим аванпостам. Я принимаю решение расстрелять их. Столько же приходит
229
из Анжера; я готовлю им ту же участь и приглашаю Франкастеля сделать то же…»[149] Не ужасно ли это? Представьте себе, как бы возопил г-н Жорес при чтении подобного письма от генерала Д'Амада?[150] Однако Конвент рукоплещет и велит распечатать это письмо, и г-н Жорес нисколько не негодует, насколько мне известно, в своей «Социалистической истории»; а почему — видно из заключения, которое делает Каррье: «Я очищаю землю свободы от этих чудовищ из принципа человечности». Вот ответ; Конвент, Каррье и г-н Жорес правы: генерал Д'Амад не может совершить ничего подобного, потому что он сражается только за Францию. Каррье — это гуманист, который гильотинирует, расстреливает и топит во имя человеческого рода, добродетели, всеобщего счастья, народа как такового и т. п. Каждому свое.
Так постараемся же различать два патриотизма — общечеловеческий, или социальный, и национальный; первый легко узнать по его жестокости, а второй по его самоотверженности. Путать их — значит оскорблять второй, который не производит массовых избиений, и ошибаться в первом, который имеет право их производить. Они случайно смешались в 1793 г. По сути же они всегда принципиально противоположны.
Можно ли сказать, по крайней мере, что это два родственных чувства, две разновидности политического энтузиазма? Не думаю. У энтузиазма вообще два вида: самопожертвование ради идеи, которую
230
пламенно принимаешь, — это вера; и принесение в жертву этой идее других людей — это фанатизм.
Якобинский патриотизм — только второго вида. Никогда и никакое политическое рвение не ценило так мало человеческие жизни — и в то же время веры не становилось соответственно больше: напротив, ее нет. Взгляните на этих великих убийц перед их судьями. Ни у кого не хватает духа сказать им в лицо: «Что ж! Да, я грабил, мучил, убивал беспорядочно, безжалостно, без меры, за идею, которую я считаю правой. Я ни о чем не жалею, ничего не беру обратно, ничего не отрицаю. Делайте со мной что хотите». Ни один так не говорит — потому что ни у кого из них в сердце нет положительной стороны фанатизма — веры, потому что ни один из них не любит и даже не знает того, чему служил. Они защищаются, как обычные убийцы: лгут, отпираются, оговаривают своих братьев. Их главный аргумент, законный, но жалкий, если смотреть с точки зрения обычной морали, — что они не могли щадить других, не погубив при этом самих себя, что они действовали по приказанию, что к тому же все говорили тогда, как они, — одним словом, это полная противоположность свободной вере: они ссылаются на то, что их принудили. Какой контраст с теми тысячами священников и верующих, которые никого не убивали за свою веру и которые скорее умрут, нежели примут присягу, которую их вера запрещает.
Что же, наши патриоты — трусы? — конечно, и можно ли к ним по-другому относиться? Ведь если за идею пролил кровь других людей, ты уже не имеешь права жалеть своей крови. И, однако, у этой трусости есть одно основание: их Патриотизм — отнюдь не вера, потому что он отрицательного свойства.
231
Якобинская Родина — это Общество по Руссо, то есть, в конце концов, федерация эгоистов — там нет ничего прекрасного, ничего достойного любви, ничего для сердца. Якобинский патриотизм — это лишь ветвь философской морали, взятой у Юма и Гоббса и основанной, по признанию самих этих верховных жрецов, на великом принципе «Самолюбия». Выгода, говорит политик; жадность, говорит экономист; страсти, говорит моралист; природа, повторяет в унисон хор философов, — таковы движущие силы; а цель — более счастливое, а не более совершенное состояние; средство — разрушать, а не строить; и за все это не умирают.
Но тогда почему же убивают? Откуда рождается, как поддерживается этот голый фанатизм, у которого есть только скорлупа ненависти, а ядра — любви и самопожертвования — нет, у которого есть лишь инквизиторы и нет мучеников? Здесь история оказывается бессильной и отваживается констатировать, не понимая. Она отчетливо видит факты, признает их логическую связь с принципами, признает, что это Человечество должно убивать, а эта Свобода — принуждать. Она не замечает истоков, природы тех чувств, которые могут подчинить сердце человека, целого народа, этой страшной логике. Объяснять 1793 год якобинским «Патриотизмом», значит снова объяснять тайну загадкой.
232
Приложение. Об источниках и о методе изучения актов революционного правительства Первая часть предисловия к книге «Les Actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793-27 juillet 1794)»
Предмет. Революционное правительство
1. Народ
Цель этого сборника — сделать доступными для исследования главные акты революционного правительства (август 1793 — август 1794). Чтобы обосновать эти рамки и привлекательность этой темы, нам нужно отдавать себе отчет о природе и духе этого своеобразного режима — потребуется суммарное изложение, необходимое для самого изучения наших источников, к которому мы еще вернемся и которое дополним в последнем томе.
Выбранная нами начальная дата — 23 августа 1793 г. — это дата принятия декрета об ополчении, который обрекает всех французов на постоянную реквизицию людей и имущества ради общественного
234
спасения, то есть осуществляет социальную фикцию единой коллективной воли, подменяющей не только юридически, но и фактически каждую личную волю. Это основной акт нового правления, акт социализации, лишь продолжением которого будут законы Террора и лишь средством — революционное правительство. Оно устраивает политический и экономический эксперимент, подобного которому не было до сих пор. На уровне политики это самоуправление народа, прямая демократия: раб при короле в 1789 г., свободный при законе 1791 г., народ становится хозяином в 1793 г. Управляя самостоятельно, он отменяет общественные свободы, которые были лишь гарантиями для него против тех, кто управлял раньше: если отменено право голоса, то это потому, что он уже царствует; отменено право на защиту, потому что он судит, отменена свобода печати, потому что он говорит. Мы не настаиваем на этой прозрачной теории, к которой прокламации и законы террористов будут лишь пространными комментариями. Политика революционного правительства имеет эквивалент в экономике — это социализм. Коллектив отныне занимается своими собственными делами и обходится без частных лиц. Запретив торговлю зерном (3—11 сентября 1793 г.), он обобществляет сельскохозяйственные запасы; установив частичный (29 сентября 1793 г.), а затем полный максимум[151] (24 февраля 1794 г.), — коммерческую деятельность; всеобщей мобилизацией рук и талантов (16 апреля 1794 г.) обобществляет сам процесс производства: это конец единоличной деятельности для народа в полях, цехах и конторах, как для короля — в Лувре.
235
Этот режим сам себя характеризовал как «революционный порядок», «догматизм разума», «деспотизм свободы»; можно добавить: «казнь благополучия». Так нужно было ради «спасения Франции», говорят его апологеты, по примеру его инициаторов; без этих энергичных мер неприятель захватил бы Париж — не будем оспаривать эту гипотезу. Но французы тогда, очевидно, были другого мнения, поскольку эта система потребовала столь чрезвычайного развития средств принуждения, что получила имя — Террор. Мы придерживаемся именно этого достаточно очевидного факта и изучаем проблему, которую он ставит, и это единственное, что должно нас занимать, если признать верным, что роль исторической науки заключается в объяснении того, что было, а не в гадании, что могло бы быть. Царство безличного — ад; демократия — безличный владыка — управляет «наоборот»; государство — безличный народ — работает в убыток: вот две большие истины, которые отрицает учение революции и которые демонстрирует ее история. Как мог этот парадокс заставить себя признать вопреки здравому смыслу, затем вопреки правам и интересам людей — и растянуться на два года?
А потому, что это не везде и не для всех было парадоксом. В этом есть своя правда, которую надо уметь различать, иначе ничего нельзя будет понять в демократическом феномене. Если хорошенько присмотреться, борьба начинается с 1789 г., с 1750 г., и скорее между двумя социальными сословиями, нежели между двумя учениями или двумя партиями. Прежде чем стать идеалом, демократия была фактом: рождение, развитие союзов особого рода — «философских обществ», как говорили тогда, «обществ мысли», как сказали бы сегодня; их суть —
236
это, действительно, словесные дискуссии, а не реальные дела, а их цель — мнение, а не результат. Из этого принципиального положения вытекает по отношению к обществу обратная ориентация, основные законы которой мы указывали в другом месте[152]. В последнем томе мы вернемся к любопытному феномену «философии», «свободомыслия», который заслуживает внимания социологов, ибо это, возможно, единственный из находящихся в их ведении фактов, который свободен от всяких религиозных, экономических, этнических и т. п. влияний: свободомыслие одинаково в Париже в 1750 и в Пекине в 1914 гг.; и эта идентичность сущности в таких разных средах происходит от определенных условий объединения и коллективной работы, чью формулу которых дает «Общественный договор» Руссо, и образчиком которых может служить любая ложа 1780 г. или народное общество 1793 г.
Мы здесь настаиваем лишь на крайних последствиях этого феномена: создании, путем интеллектуальной тренировки и социального отбора, во-первых, некоторого нравственного состояния, затем совокупности политических направлений, которые, будучи по своей природе неподвластными условиям реальной жизни и общества, от этого не перестают быть делом некоей группы, результатом некоей коллективной работы, такой же бессознательной и объективной, как обычаи или фольклор. Террористическое законодательство в столь малой мере есть дело отдельных теоретиков или сговорившихся политиков, что основные декреты Конвента очень часто лишь узаконивают уже совершенные поступки: так случилось с законом о подозрительных (17 сентября
237
1793 г.), который общества применяли в Понтарлье уже 10 сентября, в Лиможе в тот же день, в Монпелье 17-го и которого общества Баланса и Кастра настойчиво требовали 3-го и 17-го, и т. д.[153]; так случилось с законами о максимуме, за которые проголосовали во всех обществах за год до этого и которые были применены большинством этих обществ; с законом об обобществлении продовольствия, чей план, набросанный вчерне 9 октября 1793 г. южными обществами[154], скопировал Конвент в ноябре 1793 г., и т. д. На все большие общественно значимые проблемы у «социального» общественного мнения готов ответ — такой же спонтанный, такой же естественный, как и ответ реального общественного мнения, но гораздо более ясный и быстрый — однако всегда противоположный, как противоположны условия, в которых формируются одно и другое.
Вопрос в конечном счете заключается в том, чтобы узнать, которое из двух будет повелевать. Но это конфликт, не имеющий аналогов, его нельзя смешивать с борьбой учений или партий — революция против реакции, разум против догмы, свобода против власти. Здесь речь идет не столько о том, кто победит, сколько о том, на каких позициях будут биться. Общества мысли — это не социализм, но это та среда, где социализм может в безопасности взойти, вырасти и воцариться, когда ничто этого не предвещает, как в ложах 1750 г. Реальное общество — это не контрреволюция, но та позиция, где революция проиграет, где власть, иерархии выиграют, даже если все будет революционизировано,
238
люди и законы, как во Франции в термидоре II года, как только было сброшено якобинское иго.
Часто говорят, что общественное мнение бывает разным в зависимости от условий, в которых оно формируется, от способа проведения опроса. Одни и те же люди будут судить по-разному: находясь в обществе мысли, то есть вне контакта с реальностью, не имея другой ближайшей цели, кроме лишнего голоса, который надо завоевать, аудитории, которую надо убедить, — или каждый отдельно, будучи при своем деле, в своей семье, со своими задачами: это вопрос ситуации, а не учения или убеждения.
Но обычно ограничиваются этим избитым замечанием; то есть вопреки собирательным выражениям — «народ», «общественное мнение» и т. п., желают рассматривать лишь один миг и одного человека, никогда группу и продолжительность. Конечно, этот момент, этот человек — случайные, ничем не отличающиеся от других: значит, это общий факт. Но они от этого не становятся менее уникальными в своем роде, отдельными: значит, это не коллективный факт. Не надо смешивать всех и первого встречного, всегда и все равно когда.
Чтобы разглядеть социальный закон, надо понять, что этот бессознательный фактор общественного мнения — положение участника обсуждения — сохраняется: общество постоянно; что он устраняет все другие: общество закрыто; что он укрепляется: общество вербует людей и «очищается», ассимилирует и исключает людей и идеи, и все время в одной заданной им плоскости. И тогда незаметная для одного случая, в одном пункте разница становится пропастью; точка зрения одного момента становится ориентацией, законом особого мира и особой среды. Развивается такое умонастроение, устанавливаются такие
239
отношения, создается такая духовная и умственная жизнь, которые являются просто загадкой для реального мира и в итоге сводятся к изначальной противоположности между обществом мысли и реальным обществом. В первом преуспеет лишь то, о чем говорят как о таковом, что сообщают как таковое, даже если это ничто; во втором, в мире труда и старания, нужно только то, что есть как таковое, даже если оно и не выражается словами.
По какой дороге пойдет общественное мнение, или, вернее, какая из видов общественности — социальная (кружковая) или реальная — будет признана сувереном, объявлена Народом, или Нацией? Таков вопрос, поставленный в 1789 г., на который был дан решительный ответ осенью 1793 г.
Большое политическое событие этой осени — официальное воцарение социальной, кружковой общественности. Новая сила, которая была тайной в ложах 1789 г., официозной в клубах 1792 г., больше не допускает никакого раздела; нет больше ни народа, ни общественного мнения вне, помимо ее. Общества присваивают и бесконтрольно осуществляют все права, которые новый режим только что отнял у массы избирателей. Народ потерял право избирать своих магистратов в законные сроки и в законных формах; общества же приобретают право очищать их как вздумается и сколько угодно[155].
240
Народ систематически обезоруживали, вплоть до последнего охотничьего ружья; общества же вооружаются. Даже больше: формируя специальные корпуса, «революционные армии», которые они очищают, направляют, за кем надзирают в войне с «внутренним врагом»[156]. Верно и то, что они никогда не были ни такими многочисленными — около 1900 в январе 1794 г., согласно переписи министерства внутренних дел[157], — ни такими дисциплинированными, «объединенными», как с поражения жирондистской ереси, ни столь посещаемыми, как после сентябрьского «страха»[158], сразу же после ареста подозрительных. В них укрываются, как в церкви во времена права убежища, — все остальное может быть в любой момент реквизировано, конфисковано, арестовано.
Так, прежде чем сменить правительство в 1794 г., Франция поменяла в 1793 г. народ. Правит такая сила, которая, конечно, была коллективной идеей
241
и волей, — следовательно, общественностью и народом, а не группой и не партией, — но которая не есть общественность. Место народа занял такой народ, который более чужд его инстинктам, интересам и духу, чем англичане из Йорка или пруссаки из Брауншвейга. Что же тут удивительного, если законодательство, сделанное по меркам одного, оказывается для другого смирительной рубашкой, что счастье одного — это террор для другого, что законы, необходимые одному, невозможны для другого?
2. Власть
Но тут-то и возникает главное затруднение: применить эти невозможные законы; эту опасную задачу возлагает на Малый Народ сама его победа. Действительно, теперь речь идет уже не о том, чтобы, как в золотой век масонских лож, добиваться одобрения «республики словесности», града облаков, путем безобидных умственных построений; но уже о том, чтобы править людьми, распоряжаться интересами: и совсем не для этого созданы общественное мнение и его литература. При первом же контакте с этим миром расчет законодателей опровергается, причем опровержения не заставляют себя ждать и неделю.
Например: плохо снабжаются рынки; Конвент декретом от 11 сентября 1793 г. запрещает торговлю зерном вне рынков: рынки тотчас же пустеют. Когда стали дефицитными и дорогими продовольственные товары, Конвент декретом от 29 сентября снижает розничные цены в расчете на то, что снизятся и оптовые, поскольку продавцы испугаются, что не смогут сбыть товар; но оптовые цены оста-
242
лись на прежнем уровне, и менее чем через неделю лавки были пусты, а мелкая торговля осталась ни с чем. Тот же закон, устанавливая предельные цены на мясо, «доводит до предела» скот: тотчас же начинается массовый убой скотины, даже двухмесячных телят, даже быков-производителей, даже скота немясных пород, поскольку откорм животных больше не приносит никакой выгоды; и Конвент спешно отменяет этот декрет, чтобы спасти скотоводство (23 октября). Но тогда мясники, на которых действие максимума продолжало распространяться, не могут больше покупать и прекращают забивать; все это влечет за собой кризис кожевенной промышленности, затем сапожных мастерских, затем мастерских по пошиву обмундирования, не говоря уже о кризисе в мясной торговле, даже более остром, нежели в хлебной (февраль 1794 г.). 11 апреля 1794 г. Комитет общественного спасения объявляет, что по всей территории подлежит реквизиции в пользу Парижа и армии каждая восьмая годовалая свинья, которую он поручает ее хозяину в ожидании выдачи по максимуму. Это большая операция: нужно отобрать, взять на учет, пометить, затем организовать оплату, сбор, транспортировку, содержание, убой, засолку, на что требуется много циркуляров, инспекторов и агентов. А когда спустя несколько месяцев комиссар появляется, свинья уже мертва или умирает: хозяин, вынужденный продавать ее по низкой цене, был бы только в убытке, если бы кормил ее, и, конечно, ни за что бы не стал этого делать. Республике доставались скелеты, впрочем, солить их было уже слишком поздно: наступила жара.
И так далее: все мероприятия по обобществлению ведут в подобный тупик. Если бы эти грубые
243
уроки получали люди, то они заставили бы их призадуматься; но социальный феномен не размышляет. Он прокладывает себе дорогу от катастрофы к катастрофе, воздвигая целый лес противоестественных законов, успех которых в обществах и в Конвенте столь же предопределен, как абсурдно или невозможно их применение в реальной жизни.
Старое министерское правительство не было готово к подобной задаче и пало перед этими двумя противоположными необходимостями. Это был анархический кризис лета 1793 г., когда каждый департамент, каждый город, каждое заинтересованное лицо и т. п. тянет в свою сторону и смеется над властью, не являющейся уже моральным авторитетом, но еще не ставшей социальным деспотизмом.
Но наконец федерализм был побежден. Ведь у нового государства свои способы правления, свое правительство — как и свой народ — тоже, однако, странный, на свой лад: ибо революционный порядок держится не чем иным, как разрушением реального порядка. Сила, царящая в Комитете общественного спасения во II году, не больше является «государем», чем та, что восстала в 1789 г., являлась «народом».
Обычно считается, что хаос царит там, где царит анархия в прямом смысле слова — отсутствие всякой власти, власти человека или учения. Это ошибка: анархия может соединяться с порядком в двух формах: единстве руководства и единстве общественного мнения; и самое маленькое общество мысли совершает это чудо. Действительно, закон отбора и вовлечения, о котором мы уже говорили, действует только постепенно: «прогресс просвеще-
244
ния», завоевание реального человека социальным человеком проходит ряд ступеней и этапов, начиная с умственной социализации «философа» в 1789 г., моральной — «патриота» в 1792 г. и до материальной социализации «гражданина» в 1793 г.
Отсюда и разница среди братьев в усердии и пригодности: на 100 записанных не наберется и 30 соблюдающих правила, и пяти деятельных, и как раз эти являются хозяевами общества; они выбирают новых членов, достигая таким образом нужного им большинства, они назначают заседания бюро, составляют резолюции, руководят голосованием, без перебоев, без ущемления принципов, без упреков собратьев, потому что отсутствующие считаются присоединившимися, да к тому же разве нет в запасе массы способов убрать того, кто мешает? Небольшого сговора достаточно, чтобы его устранить. Худшее, что может сделать отдельный индепендент, — это с достоинством удалиться.
Так в большом обществе как бы само собою образуется другое — малое, но более активное и сплоченное, которому не составит труда управлять большим без его ведома. Оно состоит из самых пламенных, самых усердных и активных деятелей избирательной кухни. Всякий раз, как общество собирается, они уже собирались до того, утром, повидали своих друзей, составили план, дали лозунг, возбудили вялых, нажали на неуверенных. Поскольку их соглашение достигнуто уже давно, у них в руках все лучшие карты: они усмирили бюро, утвердили дату и распорядок дня. Обсуждение свободно, конечно, но риск этой свободы сильно уменьшен, и со стороны «суверена» можно почти не бояться безрассудных поступков: общественная воля свободна, как локомотив на рельсах.
245
У этой системы есть имя. У нас в XVIII веке масоны называли ее системой внутренних орденов, а современные английские политики — системой внутренних кружков (inner circles). Она базируется на том законе социальной практики, что любому официальному голосованию предшествует (и определяет его) подготовительное, официозное обсуждение, что любая постоянная общественная группа, любой «народ» — это «непосвященные» в отличие от группы «посвященных», более узкой, сплоченной и все ясно видящей.
Таково происхождение новой власти и всей совокупности политических методов, перечень которых имеется во многих известных работах[159]: это «королевское искусство» наших франкмасонов, «наука предвыборных махинаций» американских демократов — методы, схожие в том, что они воздействуют на электорат бессознательным, механическим образом: отсюда названия — «машина», «механизм», данные этой системе и ее приемам, и «кукловоды» (wirepullers) — агентам внутренних кружков, секретарям, руководителям комитетов. Именно благодаря этим методам осуществилось это чудо: обеспечение общественного порядка без нарушения анархических принципов; правоверность, основанная без веры; дисциплина, установленная без лояльности.
Чтобы обеспечить единство мысли без догмы и без кредо, надо соблюдать правило: приступать к субъекту лишь во имя уже принятого коллективного решения.
246
Это прием «совершившегося факта» английских практиков, великий прием «патриотов» со времен движения 1788 г., например: чтобы добиться присоединения провинции к такому-то решению машины, приступают к городам — одному за другим, начиная с тех, в которых можно быть уверенными, и нажимая на остальные при помощи уже достигнутых соглашений. Такая же работа снежного кома внутри каждого городского сословия помогает увлечь одни за другими все корпорации и цеха, которые в них входят. Она взяла на себя выборы 1789 г., которые усложнение выборной системы сделало бы невозможными без подталкивания со стороны машины. Он приобретает почти что силу закона со II года, когда национальный агент такой-то посылает 60 заупрямившимся общинам циркуляры следующего содержания: только вы противитесь. К тому же сама природа этих невыполнимых законов и не допускает других аргументов, кроме этого, который может сразу покончить со всякими легко приходящими на ум возражениями.
Он создает правоверность нового рода: «соответствие», «правильность», которая отличается от старой — например, от религиозной догмы, — тем, что она не признает никаких компромиссов, таких как разрыв между духом и буквой, между правилом и фактом: это согласие подразумеваемое, грубое, по формуле cut and dried[160], как говорят английские практики. Догма относительна, изменяется, «эволюционирует» вместе с голосованиями. Затем, она буквальна, она заставляет принять некую манеру поведения, язык и ни в коей мере убеждение: «связанный» снаружи, брат свободен изнутри. Таковы
247
были наказы 1789 г., эти литературные шедевры cut and dried, похожие друг на друга даже по строению фраз. Таковы были тысячи мероприятий «Народа», таких определенных и единодушных в период последующей борьбы, вплоть до триумфа этой системы в 1793 г. Можно узнать демократическую идею закона — чисто формальную концепцию, которой мы больше обязаны практике обществ, нежели теориям Жан-Жака: это общественная воля, то, за что проголосовали, социальное принуждение как таковое, без обсуждения и без содержания — догма без веры.
К тому же аргумент совершившегося факта — это по преимуществу социальный аргумент: только аргумент чужого мнения свободен от любой примеси личного убеждения. Оспариваемый личными мотивами, какими бы они ни были, начиная с совести порядочного человека и кончая стаканом вина пьянчужки, — он обеспечивает во внутренних кружках голосование без всякого мотива, основывающееся на невежестве, глупости и страхе.
Этот аргумент работает, а опора растет только при двух условиях. Первое: тайна со стороны внутреннего кружка. Какое-либо мнение может быть навязано как всеобщее, лишь если будут считать, что оно кем-нибудь да поддержано. Чтобы тянуть за веревочки, их надо скрыть: первый закон механического управления группой голосующих — затеряться в ней; тот, кто вносит предложение, будет «каким-то гражданином», а клака будет разбросана среди присутствующих. Хотят ли в 1791 г. убить общественную жизнь? Тогда требовали подтверждения подписей, которое открывает внутренний кружок (декрет 10–18—22 мая); или, напротив, хотят дать обществам преимущество перед учрежденными
248
корпорациями? Корпорации — а не общества — вынуждены подписываться индивидуально и обсуждать публично (декрет 2 сентября 1792 г.). Когда подпись гарантируется, секрета больше нет, и машина не может действовать. «Агитаторы, зная, что придется подписываться, станут бояться быть узнанными»[161], ибо, «когда становятся известны предводители восстания, оно в тот же момент прекращается»; в любом обществе главные руководители — те, «кто прячется за занавесом»[162].
Так новая власть не только не есть авторитет и может обойтись без того, чтобы ее «узнали» как законного господина, но она гибнет, едва ее узнают; этот факт в демократии соответствует принципу: при этом строе нет господина, нет ни представителей, ни вождей. Народ свободен.
А второе условие, необходимое для работы машины, — это та самая свобода «суверена», как только она выходит за те узкие рамки, в которых он способен ею воспользоваться, то есть в новой республике, которая принципиально отменяет эти рамки: народ решает весь целиком, обо всем, непрерывно. Но на обсуждение просто физически не хватило бы времени, если бы уже не наличествовали необходимые знания: тогда очень нужно, чтобы действие машины и аргумент совершившегося факта заняли место невозможных дебатов. Таким образом, работа внутреннего кружка очень проста — это увеличение принципиальной свободы, которая ему так необходима. Все, что ее ограничивает, мешает ему: авторитет доктрины или учителя, сила традиций или опыта, легальные границы, даже
249
физические границы права на обсуждение: народ все еще делает вид, что серьезно принимает решения? Это потому, что он еще недостаточно свободен; перегружают повестку дня, возвышают дискуссию до самых философических облаков — и опускают до мельчайших административных деталей (большая и малая повестки дня якобинцев); туда приглашают неграмотных, пусть это даже стоит денег (дантоновские 40 су); увеличивают число и продолжительность заседаний (непрерывность): к 10 часам вечера зал пустеет; самые независимые, компетентные, занятые, добросовестные ушли: наступает время машины.
Тут открывается практическая сторона так называемых «благородных» идей, демократического оптимизма, который приписывает народу все добродетели и дает ему все права. Для настоящего демократа наилучшей гарантией против независимости человека является, повторяю, свобода гражданина. Секрет нового порядка — в простодушном высказывании Гамбетты, выгравированном на арке Карусель: «Теперь мы знаем, что всеобщее избирательное право — это мы».
Верно: всеобщее избирательное право — это они. Только им даже необязательно самим это знать и говорить. Ибо они всегда будут здесь, вследствие самого этого режима, чьим необходимым произведением, а не авторами, они являются. Согласно идее свободы, нужно, чтобы признанная власть исчезла, то есть чтобы народ непрерывно что-то обсуждал, без господина, без избранников, без представителей: это общество мысли. Как только общество основывается, в нем неизбежно формируется внутренний кружок, и незаметно для него руководит им. Там, где царит свобода, там правит машина. Таков
250
революционный порядок, неопровержимый, как логика, твердый, как человеческая слабость, в которой вся его сила: от толпы приверженцев, на самом деле, он не требует ничего, кроме того, чтобы ему не мешали, предоставили всю полноту действия; от «кукловодов» внутренних кружков — ничего, кроме как без зазрения совести оперировать аргументом «совершившегося факта», заботиться о поддержании социального «соответствия», сосредоточивая на каждом личном убеждении, изолированном свободой, груз пассивных соглашений, собранных машиной. Нет более легкой работы, чем у этой полиции мнений: нет ни одного руководителя ложи, кружка или синдиката, который бы в этом великолепно не отчитывался. Это в чистом виде вопрос официозных отношений, учетных карточек и отметок. Эта работа не предполагает ни морального превосходства руководителя, ни технических познаний администратора, ни даже темперамента оратора; и порядочность честного человека здесь бы только мешала. Здесь с избытком хватает самого низкого и грубого вида активности — страсти и страха, того, что в 1793 г. называют «энергией». Гамбетта был прав, и вера в демократию — не пустой звук: в «них» не будет недостатка, и они здесь, уверенные в своей власти — под властью свободы.
Таков принцип нового порядка.
Очевидно, что все, что мы только что сказали об обществе индивидуумов, относится и к обществу обществ, к «ордену», как сказали бы наши франкмасоны. Изменяются лишь размеры, но не взаимоотношения и направленность. Общества одного ордена равны и свободны в принципе как братья одного общества, а фактически неравны, как и те. Как и те, они объединяются, «образуют
251
федерацию», организуют «Сообщения»: и тотчас же образуется некий «Центр», который действует на «периферию», как внутренний кружок на общество — механически. Конечно, эта фактическая власть устанавливается не сразу и не без борьбы: «Великому Востоку», чтобы утвердиться, потребовалось семь лет (1773–1780), главному обществу [Société mère] на улице Сент-Оноре, чтобы уничтожить своих соперников и очистить ряды филиалов, — четыре года. Можно даже сказать, что весь социальный центр находится в состоянии непрерывной борьбы с «федерализмом» периферии. Но победа «неделимого» против отдельных диссидентов неоспорима.
Итак, Центр царствует, единство достигнуто — тогда работа машины закончена. Таков «Великий Восток» в 1785 г. со своими 800 ложами, общество якобинцев в 1794 г. со своими 800 филиалами. Можно с уверенностью сказать, что эта машина — самое грозное и самое большое орудие угнетения, какое только возможно: ибо сфера ее деятельности не имеет границ, как у реальных обществ — у нации, корпорации, которые живут столько же, сколько духовная действительность — расовая, племенная идея, инстинкт, — которая создает их и поддерживает.
Чем более многочисленны и удалены друг от друга общества, тем больше возрастает инертная масса, находящаяся в распоряжении Центра. Его фактическое действие, которое осуществляется от имени и средствами всего общества, растет с ней вместе, в то время как сила сопротивления отдельных людей не возрастает. Видно, что мечта об общечеловеческом единении, которая, впрочем, родилась в обществах мысли, здесь, по крайней мере,
252
не такая уж и напрасная: такая власть не способна навязать себя только нации. Если когда-либо кто-то и будет управлять всем человечеством, то это будут руководители обществ мысли.
3. Владыка
Таким образом, в новом государстве порядок обеспечен — и в то же время анархические принципы невредимы. Больше того: порядок гарантирован самой этой анархией. Тот же социальный феномен, который издает невозможные законы, основывает и единственную власть, которая обеспечивает их выполнение.
Эта власть все время царила внутри малого народа обществ. Ни ложа, ни клуб, ни народное общество не управляются как-либо иначе. Но этот самый мир не имеет связи ни с народными массами, ни с действительностью. На страну в целом, на реальную жизнь и дела демократия действовала пока только опосредованно — через своих ставленников — должностных лиц — и через правительство — свой инструмент. Появление нелепых законов и их последствия — голод и анархический кризис 1793 г. — разочаровали первых и сокрушило второе. Было ясно, что уже сам каркас прежнего правительства становился препятствием для нового, пусть даже оно находилось в руках таких смирных лакеев, как какие-нибудь Бушот, Гойе, Парэ. Сами учреждения, за неимением людей, тормозили дело обобществления. Нужно приспособить методы к доктринам, привнести революционный импульс в само правительство — отчаянное решение, новая революция, столь же значительная, как и революция 1789 г., но на этот раз навязанная законом
253
демократии самим якобинцам, которые следуют за ним слепо, против своей воли.
В этом отношении нет ничего интереснее усилий Конвента определить роль Комитета общественного спасения, а именно на заседании 1 августа 1793 г. На первый взгляд Дантон кажется поборником этой реформы. Он щедро расточает Комитету миллионы и полномочия — но только не вступает туда. «Я сохраню, — говорит он, — мою мысль в целости, а также возможность беспрерывно стимулировать тех, кто правит». Это потому, что он остановился на старой политике 1792 г., при старом министерском манекене, который он, правда, переодевает, защищает броней от страны, которому придает гибкость для удобства демократов, — но в итоге сохраняет, почти буквально.
Робеспьер занимает противоположную позицию: он вступает в Комитет — он, который не захотел быть министром, — но отвергает щедроты Дантона. Никаких миллионов — пусть министры оставят их себе — на взгляд Комитета, это верно. Никаких полномочий — по крайней мере, в реальном, действительном смысле слова: ничего, кроме права контроля. Комитет не управляет — вот принцип новой власти, бесконечно нарушаемый, но и постоянно возобновляемый до самого Термидора; и, пока господствовал дух Революции, это был, конечно, законный принцип: господа Малого Народа не более, чем его законы, созданы для управления большим народом. Если они господствуют в мире кружковой общественности, то это благодаря талантам и средствам, которые в реальном мире не имеют никакой цены и являют лишь одни недостатки. Поэтому стараются избавить этот фантом, который будет править, от всяких должностей и ответственности, даже
254
от всяких контактов с делами. Министрам — деньги, чиновники и солдаты, работа, расчеты и ответственность; Комитету — надзор. Но что это значит? Можно ли надзирать, не понимая? Командовать, не зная? Дантон молчит, Конвент ничего не понимает, а Робеспьер требует, не давая никаких объяснений. Однако он был прав, как стало ясно в дальнейшем, — и как показало изучение центрального и характерного органа нового режима, который в этот самый момент учреждался внутри Комитета общественного спасения. Мы хотим поговорить о бюро надзора за исполнением законов, созданном в июле 1793 г., — всемогущем в феврале 1794 г., во время апогея революционного правительства, парализованного государственным переворотом 9 термидора, — его переписка кончается 11-го — и наконец распавшемся, то есть разрушенном декретом от 17 фруктидора.
Его происхождение просто. У секретариата Комитета — как и у секретариатов всех исполнительных органов — было три основных функции: регистрировать поступающие карточки, распределять по компетентным службам, отмечать исходящие ответы и дальнейшее их движение. Взятая сама по себе при нормальном режиме, эта последняя функция контроля — наименьшая из трех, простая формальность, во избежание повторов и дублирования. Но при царствовании нелепых законов, в разгар столкновения между демократией и народом, между обществом мысли и реальным обществом, уже ничто не делается иначе как путем террора: естественная лень бюро превратилась бы в застой, если бы там придерживались обычных средств управления; исполнение законов становится главной заботой власти, а «надзор за исполнением» — самой тяжелой ее задачей.
255
Эта новая функция порождает любопытный орган — Исполнительное бюро, самый важный образчик которого находится, само собой, в Комитете общественного спасения, но чьими интересными вариантами являются: с декабря 1793 г. Продовольственная комиссия, в мае 1794 г. Сельскохозяйственная комиссия и вообще самые социализированные учреждения. Это в некотором роде двойник рассматриваемой службы, который воспроизводит ее подразделения, но копирует свою модель как макет: для созерцания, но не для использования. Ни осуществление, ни изучение, ни даже распределение дел не входит в его роль. У него нет ни авторитета, ни компетенции — оно здесь для того, чтобы изо дня в день констатировать достигнутые результаты и также бесконечные восстания людей против противоестественного обобществления. Его работа, как говорится в одной ноте, исходящей от него самого[163], «состоит в том, чтобы постоянно следить за исполнением, не для того, чтобы знать, как исполняются законы, но чтобы только знать, исполняются ли». «Это бюро, — говорится в одном докладе мая 1794 г., — должно расцениваться как глаз комиссии, не должно позволять себе прямого вмешательства, будет сообщать в бюро докладов о случаях невыполнения приказов, а то, в свою очередь, заставит комиссию подтолкнуть нерадивых участников»[164]. Таким образом, Исполнительное бюро не должно даже исправлять замеченные им ошибки. Ему не нужно ни приказывать, ни управлять, ни даже сообщать.
256
Вся его работа заключается в составлении «исполнительных ведомостей», то есть сводных таблиц, фиксирующих «степень исполнения» на каждую декаду какой-либо операции, заданной разным округам, если речь идет об общей мере, или хронологических таблиц с колонками для дат, анализа, последствий и т. д. каждого решения, если речь идет
О частных постановлениях[165]. Именно с целью этой постоянной регистрации в феврале 1794 г. учреждали «декадную корреспонденцию» — отчетность местных властей по единому вопроснику об исполнении законов. Чтобы заполнить пробелы этой корреспонденции, Исполнительное бюро, начиная с
1 февраля, заводит специальную переписку, все документы которой имеют одну тему, одно содержание и одну и ту же форму: это так называемые «оперативные письма», составленные на листах бумаги, разлинованных в три колонки — для даты, когда нужно провести исполнение, для анализа и для отчета об исполнении[166]. Таков план этой любопытной машины для управления, которая работает совершенно самостоятельно, как утка Вокансона[167]. Внутри ее нет ни людей, ни механизмов управления людьми, ни даже знания дела. Все делается автоматически колесным механизмом и сводится к упорядочению бумаг: исполнительные отчеты приходят в центральное бюро, классифицируются, сопоставляются, подробно рассматриваются и распределяются по предметам, по регионам в уже готовые
257
ящики картотеки: «исполнительная ведомость» готова — и, следовательно, задача власти ясна: надо закончить сводки, заполнить пропуски.
Этот барометр социального соответствия — инструмент самый механический и пассивный: нельзя вообразить себе менее сопоставимого с привычными атрибутами власти — авторитетом вождя, компетентностью администратора. И в то же время именно этот колесный механизм и есть господин машины, центр и местоположение Неделимого. Больше того, именно к методам этого бюро надо обратиться, если хочешь понять смысл новых органов власти: и каждый из них революционен, лишь пока подражает, в своей сфере, Исполнительному бюро, и сопротивляется естественному уклону, который ведет его к действенному управлению.
Именно ему в действительности вменяется в обязанность пускать в ход собственно силу нового режима, социализированного государства. Эта сила не в привлекательности доктрины, но в давлении факта: подчинение остальных. Признают «аргумент совершившегося факта», общественный аргумент по преимуществу, который ссылается на общественное мнение как таковое, не заботясь ни о доктринах, ни об интересах, которые могут его основать. Он обращается не к уму и не к сердцу, но только к пассивным силам, начиная со стадного чувства и кончая страхом. Ему подвластны те, кто подчиняется, потому что все подчиняются, или потому что верят этому; и эту инертную массу он направляет и концентрирует, чтобы подавлять ею отдельных упрямцев.
Эта система выгодна для руководителей, которых она наделяет правами, талантами, даже популярностью. Она непобедима для управляемых, при
258
двух условиях: если они «освобождены», в отрицательном и демократическом смысле слова, то есть совершенно разъединены, изолированы друг от друга, и с тех пор беззащитны перед аргументом совершившегося факта. Затем, эта расчлененная масса должна быть однородной, равномерно распределенной по единообразным ящикам картотеки, чтобы политическая арифметика надзора имела дело с величинами одного порядка. Известно, что эти два условия, необходимые для работы обществ мысли, были осуществлены в стране первой революцией, революцией свободы: тогда освободилось место и для второй — революции порядка, и машина, которую мы описали, смогла прийти в действие. Функция ее главного колеса на самом деле состоит в том, чтобы в любой момент, на любой вопрос, против любого инакомыслия выставлять аргумент совершившегося факта. Сводки и таблицы и не имеют другой цели. Вот секрет системы — единственной, способной обеспечить союз, не разрушая свободы.
И именно социалистические законы дали ей новую силу и прибавили к аргументу соответствия, уже имевшему такую власть над отдельными людьми, еще более прямое принуждение. У них есть одна особенность: любое их нарушение не только полезно виновным, но очевидно вменяется в вину невинным. Если максимум плохо выполняется в одном округе, если там продают дороже, чем установлено, туда стекаются продукты из соседних округов, более послушных, где вследствие этого тоже возникает голод. Так же обстоит дело и со всеобщей реквизицией: все, чего не потянет один, падает на плечи другого; с учетом: сколько один, припрятавший, сохранит, столько возьмут у другого, который ничего
259
не скроет; с распределением: все, что один расходует сверх своего пайка, урезается от пайка другого, и т. д. Все законы об обобществлении дают повод к таким же замечаниям: физически связывая граждан между собой, духовно они их разъединяют. Это принцип республиканского братства: дело в ситуации, а не в нравах и принципах. Сила вещей делает каждого гражданина настоящим врагом и соглядатаем своего соседа. За десять месяцев Террора вся Франция, все ее округа, общины и люди представляли собой зрелище этой войны между каторжниками, скованными одной цепью, — войны, которая, впрочем, как мы увидим, была в такой же мере условием, как и результатом обобществленного строя: у всеобщей ненависти есть свое равновесие, как у любви — своя гармония.
Неожиданным следствием этого порядка вещей стало то, что правительство было избавлено от необходимости прибегать к вооруженному принуждению, — даже тогда, когда это больше всего казалось нужным и когда Террор усилился; революционная армия, необходимая в ноябре, чтобы отнимать у крестьян зерно, стала ненужной в марте и была расформирована. Ибо каждый округ, даже каждая община, обезумевшие от голода, организовали за свой счет набеги на соседей, необходимые для исполнения продовольственных законов: правительству ничего не остается, как разрешить и пустить это на самотек. Отныне для него достаточным средством против восстания одних будет нищета других. По тому же принципу, начиная с марта месяца, Комитет общественного спасения поручает учет зерна в одном округе комиссарам из другого; по тому же принципу он командирует в какой-либо департамент только представителей другого, и т. д. Здесь — целая
260
система управления, основанная на алчности, слежке, ненависти, примеров действия которой можно привести сколько угодно, и которую можно, подводя итог, назвать «чужеродным правлением».
Теперь видно, какие возможности и какое значение дает новый порядок надзору за исполнением. Если виновник больше не считается с велениями своей совести — со своей верой, лояльностью, Богом и королем, — ему есть отчего опасаться свидетелей своего поведения, и он не может больше полагаться на свою изолированность, на безразличие других, поскольку он причиняет им непосредственный, очевидный ущерб. Таким образом, власть заранее заручается эффективным и постоянным присутствием коллектива, и надзор и поддержка против «непатриотичности» ему обеспечены; и ей достаточно проконстатировать и заявить, чтобы натравить на эгоизм каждого эгоизм всех. Именно это — сдерживание страсти страхом — при социальной демократии называется добродетелью: нельзя сказать, что это зло, так как преступления не было. Но это нечто худшее.
Такова, в сущности, функция Бюро надзора за исполнением, функция беспрецедентная и свойственная именно этому режиму. Повторю еще раз: это бюро не управляет, не руководит: это самое ничтожное — но в то же время самое главное колесо машины, социальный орган по преимуществу, центр и душа Неделимого: его действие утверждается вместе с действием самого режима. Вначале «домашнее», «внутреннее», ограниченное внутренним надзором за министерствами, оно становится национальным и универсальным весной 1794 г., когда министерства исчезают и обобществление распространяется на все
261
области, охватывает мельчайшие округа. В последнем томе нашей работы мы представим этапы развития этого органа, в которых и заключается сама история Террора. Предыдущих указаний достаточно, чтобы объяснить предмет и рамки нашего сборника — так же, как и происхождение и ценность наших источников.
262
Указатель имен
Алье (Аллие, Аллье) Рауль(Raoul Allier, 1862–1939), французский социолог 168
Амелоде Шайу, Антуан-Жак (Antoine-Jacques Amelot de Chaillou), интендант Бургундии, позднее интендант финансов 46, 62–64, 74, 87, 88
Анна Бретонская (1477–1514), герцогиня Бретани и королева Франции. Выйдя замуж за короля Франции Карла VIII, а затем за Людовика XII, предопределила присоединение ранее независимой Бретани к Франции. Договор герцогини Анны — брачный контракт, согласно которому она была обязана в случае смерти своего мужа, короля Карла VIII, выйти замуж за наследника французского престола. Кошен, видимо, упоминает здесь и герцогиню, и контракт метонимически, разумея под ними просто дворянство Бретани 222
Аристофан (ок. 445–385 гг. до н. э.), др. — греч. поэт-комедиограф 27, 29
Арну (Arnoult), адвокат, депутат в Генеральные штаты от г. Дижона 49, 53
Бабёф, Гракх (Babeuf, наст, имя Франсуа Ноэль, 1760–1797), французский революционер, коммунист-утопист. После 9 термидора готовил переворот, но был казнен 164
Бабо, Альбер (Albert Babeau, 1835–1913), французский историк, исследовал жизнь французской провинции при старом режиме и во время революции 1789–1793 гг. 161, 183
Байи, Жан Сильвен (Jean Silvain Bailly, 1736–1793), французский астроном и математик, действительный член Французской Академии, мэр Парижа с 1789 года. Казнен в период революционной диктатуры 128
Барантен, Шарль (Charles de Barentin, 1736–1819), хранитель государственной печати (с 1788 г.). В 1789 г. покинул свой
263
пост и эмигрировал в Англию, откуда вернулся лишь в 1814 г. 135
Барер, Бертран (Bertrand Barère, 1755–1841), деятель Французской революции, член Комитета общественного спасения. Оставил мемуары о том времени 140, 184
Баррюэль, Августин (Огюстен), аббат (Augustin Bavruel, 1741-820), французский публицист, автор книги «Записки, служащие к истории якобинизма», сторонник «теории заговора». Французскую революцию рассматривал как результат деятельности масонов против монархии 27, 164
Бартелеми, Жан-Жак, аббат (Jean Jacques Barthélemy, 1716–1795), французский археолог, лингвист, писатель, автор нескольких трактатов по археологии и нумизматике, романа «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию…» (Voyage du Jeune Anacarsis en Grèce vers le milieu du JVe siècle avant l’ère vulgaire). Хранитель Королевского кабинета, нумизмат. Расшифровал несколько восточных алфавитов. Член Академии. В 1793 г. был арестован и несколько дней провел в тюрьме. Его имущество было конфисковано, и он умер в нищете 24
Батай-Мандло, граф де (comte de Bataille-Mandelot), секретарь дворянской партии Дижона (бургундских дворян), пытавшейся воспрепятствовать адвокатам 62
Беви (Bevy), председатель партии бургундских дворян. 64, 67
Бельзанс, Анри де, виконт (vicomte Henri de Belzunce), полковник королевских драгун, был убит толпой во время беспорядков в Кане 12 августа 1789 г. 135, 141
Бертен (Bertin), фискальный прокурор из Шатожирона 113
Бертье (Berthier), интендант Парижа, зять Фуллона. Растерзан толпой в июле 1789 г. 135, 141
Берюль (Bérulle), первый председатель парламента Гренобля 202
Бийо — см. Бийо-Варенн
Бийо-Варенн, Жан-Никола (Jean Nicolas Billaud-Varenne, 1756–1819), деятель Французской революции, якобинец. Депутат Конвента, с 1793 г. член Комитета общественного спасения. В 1794 г. примкнул к термидорианцам. В 1795 г. был сослан в Кайенну (Французская Гвиана). Умер на Гаити 194, 225, 226
Блан, Луи (Louis Blanc, 1811–1882), французский социалист 207, 208
Бодинье (Bodinier), депутат в Генеральные штаты от Сен-Мало 115, 116
Бори (Borie), сенешаль Ренна ///, 112
Брайс, Джеймс (James Bryce, 1838–1922), английский государственный деятель, юрист и историк 181, 246
Бриан, Аристид (Aristide Briand, 1862–1932), французский политический деятель. По образованию юрист. Был генеральным секретарем Французской социалистической партии. Провел закон об отделении церкви от государства. В период Третьей Республики и Клемансо — министр образования и культа, с 1908 — министр юстиции, с 1909 — премьер-министр. Позднее несколько раз подавал в отставку и вновь занимал эти посты. С 1925 г. — министр иностранных дел. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 г. 135
Бриенн, Этьен Шарль де Ломени де (Brienne Charles de Loménie de Brienne, 1727–1794), французский государственный и религиозный деятель, философ, член Академии. Накануне революции был назначен первым министром, министром финансов. В 1793 г. был арестован и умер от апоплексического удара 46, 65
Бриссо де Варвиль, Жак-Пьер (Jacques Pierre Brissot de Warville, 1754–1793), деятель Французской революции, один из вождей партии жирондистов, издавал газету «Французский патриот», член Законодательного собрания и Конвента. Первоначально выступал против короля, призывал к установлению во Франции республики. Но с развитием событий, как и многие другие, оказался уже «по другую сторону баррикад»: пытался предотвратить падение монархии, выступал против якобинцев, добивался роспуска Парижской коммуны и т. д. Казнен по приговору Революционного трибунала 7, 119, 166, 184, 217, 223, 224
Брогли, Альбер де, герцог (Albert de Broglie, 1821–1877), премьер-министр Франции (1873-74) 126
Бросс, Шарль де (Charles de Brosses, 1709–1777), советник (1730), а позднее (1775) председатель парламента Бургундии. Интересовался историей, политикой, геологией, посещал кружок членов дижонской Академии наук, искусств и литературы. Написал несколько работ по географии и лингвистике, которые привлекли внимание Французской академии, но его избранию туда помешал Вольтер 24
Буйе, Франсуа-Клод-Амур, маркиз де (François-Claude-Amour, marquis de Boitillé, 1739–1800), автор ряда мемуаров о Французской революции (Mémoire du marquis de Houille, Paris: Baudouin Itères, 1821; Mémoires sur Paffldro de Varen nés, comprenant le mémoire inédit de M, le marquis de Bouillé. Paris: Baudouin frères, 1823, и др.) 132
265
Бурбон-Бюссе, виконт де (Bourbon-Busset), председатель постоянной комиссии бургундского дворянства 64
Бурдон (из Уазы), Франсуа-Луи (Bourdon de l’Oise, 1758–1798), деятель Французской революции, член Конвента, якобинец; позже примкнул к противникам якобинской диктатуры и был одним из вожаков переворота 9 термидора (современники обвиняли его в том, что он нажил большое состояние на спекуляциях). Умер в ссылке 249
Бутру, Эмиль (Émile Boutroux, 1845–1921), французский философ 172,181
Бушот Жан-Батист Ноэль (Jean-Baptiste-Nocl Bouchotte, 1754–1840), военный министр при Конвенте 253
Бюффон, Жорж Луи Леклерк де (Georges Louis Leclerc de Buflfon, 1707–1788), французский естествоиспытатель, автор многотомного труда «Естественная история» 35
Бюше, Филипп-Жозеф-Бенжамен (Philippe Joseph Benjamin Bûchez, 1796–1865), автор-составитель книги «Парламентская история Французской революции» (Histoire parlementaire de la révolution française. Paris, Paulin, 1834-38) 131
Валлон, Анри-Александр (Wallon Henri Alexandre, 1812–1904), французский историк. Автор книг «История парижского революционного трибунала…» (Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris avec le Journal de ses actes, 1880), «Представители народа и революционного правосудия в департаментах во II г. (1793–1794)» (Les représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l'an II (1793–1794) и др. 161
Веврот, де (de Vevrotte), председатель ассамблеи парламента в г. Жанлисе 85
Верне (Verne), надзиратель 202
Вильдей, Пьер-Шарль Лоранде (Pierre Charles, marquis de Laurent de Villedeuil, 1742–1828), министр внутренних дел 46
Вокансон, Жак де (Jacques de Vaucanson, 1709–1782), французский механик, изобретатель 257
Вольтер (Voltaire, наст, имя Франсуа-Мари-Аруэ, 1694–1778), французский писатель, философ-деист, деятель Просвещения, один из авторов «Энциклопедии». Его антирелигиозная и антимонархическая пропаганда оказала большое влияние на мировоззрение современников и последующих поколений 21, 23–25, 28, 30, 35, 38, 40, 164, 210
266
Вольфиус (Volfius), дижонский адвокат, один из руководителей предвыборной кампании в Генеральные штаты 49, 50, 90
Вуазенон, Клод-Анри де Фюзе, аббат (Claude-Henri de Fusée de Voisenon, 1708–1775), французский писатель, друг Вольтера, завсегдатай салонов мадам Жоффрен и мадам д'Эпине, «галантный аббат» и поэт-эпикуреец, автор комедий, опер, песен и эпиграмм. Член Академии 24
Вьенн, граф де (comte de Vienne), из партии бургундских дворян 62, 68, 69, 86
Гамбетта, Леон (Léon Gambetta, 1838–1882), премьер-министр и министр иностранных дел Франции. Левый республиканец, антиклерикал и антимонархист 250, 251
Гаршери (Garchéry), адвокат из Монсени, вожак предвыборной кампании в Бургундии 59
Гельвеции (Helvétius), Клод Адриан (1715–1771), французский философ-материалист 42
Гиш, граф де (comte de Guiches), из партии бургундских дворян 73
Глезен (Glezen), депутат от Ренна 115
Гоббс, Томас (Thomas Hobbes, 1588–1679), английский философ, автор теории «общественного договора» 232
Гойе, Луи-Жером (Louis-Jérôme Gohier, 1746–1830), депутат Учредительного собрания от Иль-и-Вилен, с марта 1793 министр юстиции, с 1795 — президент трибунала департамента Сены 253
Гольбах, Поль Анри (Paul Henri Holbach, 1723–1789), французский философ-материалист, атеист, один из авторов «Энциклопедии». Систематизировал взгляды французских материалистов 40
Горса, Антуан Жозеф (Antoine Joseph Gorsas, 1752–1793), французский публицист, деятель революции. Выпускал газету «Версальский курьер» (Courrier de Versailles). Член Конвента, жирондист, выступал против монтаньяров и особенно против Марата. Казнен вместе с вождями жирондистов 184
Грегуар, Анри, аббат (Henri Grégoire, 1750–1831), французский политический деятель, священник, а позже епископ. В Конвенте одним из первых внес предложение о провозглашении Республики 6
Гримм, Фридрих-Мельхиор (Frédéric Melchïor Grimm, 1723–1807), по происхождению немец, энциклопедист, после революции бежал в Германию 40
267
Гуже (Gouget), адвокат из Дижона 49
Гюйо (Guiot) из Арнэ, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии59
Гюфруа (Guffroy), депутат от Па-де-Кале 200
Давид, Жак-Луи (Jacques Louis David, 1748–1825), французский живописец. Создал целую серию портретов деятелей революции и полотен на историко-революционную тему. Позднее стал придворным живописцем Наполеона 203
Д'Аламбер Жан Лерон (Jean Le Rond d’Àlambert, 1717–1783), французский математик, философ, редактор «Энциклопедии» 22–24
Д'Амад, Альбер-Жерар-Лео (Albert Gérard Léo d'Amade, 1856–1941), французский генерал. Возглавлял кампанию в Марокко (1907–1909) по усмирению неспокойных провинций 230
Дантон, Жорж Жак (Georges Jacques Danton, 1759–1794), один из вождей якобинцев, знаменитый оратор, организатор террора. По профессии адвокат. Основал (вместе с Демуленом, Маратом и др.) «Клуб кордельеров». Член Конвента, после 10 августа 1792 г. — министр юстиции. Инициатор создания Революционного трибунала. К концу 1793 г. стал высказываться против террора, после чего был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала 122, 155, 164, 166, 168, 207, 220, 223, 229, 254, 255
Д'Арженталь, Шарль-Опостен де Ферьоль (Charles Augustin de Ferriol, comte d'Argental, 1700–1788), граф, друг Вольтера и др. энциклопедистов 40
Делатуазон (Delatoison), вожак предвыборной кампании в Бургундии 59
Демулен, Камилл (Camille Desmoulins, 1760–1794), деятель французской революции, активный участник штурма Бастилии, член Конвента, представитель правого крыла якобинцев (дантонистов), требовал ослабления революционного террора; был казнен вместе с Дантоном. Издавал газету «Старый кордельер» 122, 184
Дефермон, Жозеф-Жак (Joseph-Jacques Defermon, 1752–1831) — депутат в Генеральные штаты от г. Ренна, с 1791 г. председатель Национальной ассамблеи. ///, 115
Дигуан, маркиз де (marquis de Digoine), из партии дворян Дижона 63, 64, 68, 72, 73, 86
268
Дидро, Дени (Denis Diderot, 1713–1784), французский философ-материалист, основатель и редактор «Энциклопедии» 21, 22, 38, 40
Дора, Клод-Жозеф (Claude-Joseph Dorât, 1734–1780), французский поэт, автор любовных стихотворений и песен 24
Друэн, Рене-Франсуа (René-François Drouin), королевский советник-прокурор по Реннскому сенешальству 111, 112
Д'Эпремениль, Жан-Жак Дюваль (Jean Jacques Duval d’Esprémenil, 1746–1794), либеральный дворянский оратор, интриговал против короля во время созыва Генеральных штатов; впоследствии оказался в противоположной революционерам партии и был казнен якобинцами Характеристики, данные д'Эпременилю Т. Карлейлем и Талейраном, как нельзя более удачно характеризуют деятелей революции (и не только французской): «Менее глубок, но более шумен намагниченный д'Эпремениль с его тропическим темпераментом (он родился в Мадрасе) и мрачной бестолковой вспыльчивостью. Он увлекается идеями Просвещения, животным магнетизмом, общественным мнением, Адамом Вейсгауптом, Гармодием и Аристогитоном и всякими другими беспорядочными, но жестокими вещами; от него тоже хорошего ждать не приходится». (Карлейль). «Я должен отметить здесь одну странную особенность человеческого рассудка, о которой надо всегда помнить: это был тот же самый д'Эпремениль, который вместе с Темином (епископом города Блуа), заседавшим в это же самое время в собрании духовенства, был вождем партии, оппозиционной двору, и решительным сторонником Генеральных штатов, а затем на протяжении всей истории Учредительного собрания выделялся вместе с Темином чувствами, мнениями и интригами, направленными против нового порядка, созданного при их участии» (Талейран) 166
Дюкло, Шарль Пино (Charles Pinot Duclos, 1704–1772), французский писатель, моралист, романист, историк. Член Академии, протеже мадам де Помпадур. Был очень популярен в философских салонах и литературных кафе. В Академии, бессменным секретарем которой Дюкло был с 1755 г., он проводил политику «философизации». Отвергал кандидатуры вельмож в пользу литераторов. Для конкурса красноречия заменил эклогу в честь Людовика XIV эклогой в честь знаменитых людей, после чего было упразднено визирование конкурса теологами 23
269
Дюмурье, Шарль Франсуа (Charles François Du Périer, dit Dumouriez, 1739–1823), французский генерал, в 1792 г. — министр иностр. дел жирондистского правительства, командующий Северной армией. Одержал победы над прусскими войсками при Вальми и Жемапе, занял Бельгию, проник в Голландию. В начале 1793 г. потерпел поражение от австрийцев при Неервиндене, вошел в сношения с австрийским командованием и перешел на сторону противника 150
Дюпор, Адриен (Adrien Duport, 1759–1798), депутат Учредительного собрания, член клуба фельянов 66, 187, 189
Дюранд (Durande), адвокат из Дижона 49, 90
Дюранд (Durande), врач из Дижона 49, 90
Дюркгейм Эмиль (Émile Durkhei, 1858–1917), основатель французской социологической школы 172–175, 179–181
Екатерина II (1729–1796), императрица России 38
Жерар («папаша»), см. папаша Жерар
Жильбер, Никола-Жозеф-Лоран (Nicolas-Joseph-Laurent Gilbert, 1750–1780), французский поэт, драматург. Приехав в Париж, 24 лет от роду, выступил против главенствующей во Французской Академии партии философов. Этим выступлением, проникнутым искренней верой в Бога, Жильбер тут же нажил себе врагов на все оставшиеся ему недолгие годы (он разбился при падении с лошади и умер от воспаления мозга) 24
Жильот (Gillotte), адвокат из Нюи, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 49, 57, 59, 90
Жиро, Виктор (Victor Giraud, 1868–1953), французский историк, публицист. Автор многочисленных очерков об исторических деятелях, литераторах и философах, в том числе «Очерка о Тэне, его творчестве и его значении, по неизданным документам» (Париж, 1902), «Библиографии Тэна» (там же, 1902) 171
Жоли (Joly), адвокат из Нюи, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 57, 59
Жорес, Жан (Jean Jaurès, 1859–1914), руководитель Французской социалистической партии, историк, автор книги «История Великой французской революции» 221, 230
Жоффрен, Мари-Тереза Роде (Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, 1699–1777) — хозяйка модного парижского литературного салона, где собирались энциклопедисты. Дочь камер-
270
динера дофины, она имела весьма смутное представление о грамоте, однако обладала весьма живым умом и успешно пробилась в свет. Ее принимали при польском и австрийском королевских дворах 28, 38, 43
Жюльен (Julien), интендант Алансона 128
Инар, Анри-Максимен (Henri Maximin Isnard, 1758–1825), деятель Французской революции, член Законодательного собрания и Конвента, жирондист 192
Казот, Жак (Jacques Cazotte, 1720–1794), французский публицист, писатель, масон. Автор псевдоготического романа «Влюбленный дьявол». Известно т. н. «предсказание Казота», которое он сделал в 1788 г., находясь в одном великосветском салоне. Казот тогда заявил собравшимся, что многие из них и из деятелей Просвещения дождутся желанной революции, но от нее же и погибнут. (Так, виднейшему просветителю Кондорсе суждено было принять яд, чтобы избежать эшафота) 27
Караф (Caraffe), якобинец 189
Каррье, Жан-Батист (Jean Baptiste Carrier, 1756–1794), якобинец, один из самых кровожадных террористов, руководивший массовыми расправами с населением Франции; организатор «Нантских потоплений» (октябрь 1793 — февраль 1794). После переворота 9 термидора казнен 157, 194, 207, 214, 228–230
Кербриан (Kerbriand), депутат от Гуинкамп 115
Кине, Эдгар (Edgar Quinet, 1803–1875), французский историк 145, 207, 217
Клери (Cléry) из Шатильона, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 59
Клозель (Clausel), член Конвента 196
Колани (Timothée Colani, 1824–1888), французский историк 132
Колло д'Эрбуа, Жан Мари (Jean Marie Collot, называемый Coilot d’Herbois, 1749–1796), член Конвента, Комитета общественного спасения, один из организаторов термидорианского переворота. До революции — профессиональный актер и автор комедий, театральный администратор 200, 227
Конде, Луи Жозеф де Бурбон, принц (Louis Joseph de Bourbon, prince de Condé, 1736–1818), французский военный деятель, участник Семилетней войны. Во время французской
271
революции Конде (уехавший в Нидерланды вскоре после взятия Бастилии) стал одним из руководителей дворянской эмиграции, боровшейся против революции. Создал т. н. «Армию Конде» (гвардейский корпус), которая воевала в Эльзасе с республиканскими частями, а затем была переброшена в Россию. Вернулся во Францию при Реставрации 86
Кондильяк, Этьен Бонно де (Étienne Bonnot de Condillac, 1715–1780), французский философ-сенсуалист, сотрудник «Энциклопедии» 36
Кондорсе, Жан Антуан Никола, маркиз (Jean Antoine Nicolas Condorcet, 1743–1794), французский философ и математик, сотрудник «Энциклопедии». В 1791 г. избран в Законодательное собрание, в Конвенте примыкал к жирондистам 42
Конт, Огюст (Auguste Comte, 1798–1857), французский философ-позитивист 173
Крон, Луи-Тиру де (Louis Thiroux de Crosne, 1736–1794), генерал-лейтенант полиции 135
Куаньи, Эме де (Anne Françoise-Aimée de Franquetot de Coigny, 1770–1820), молодая дворянка, находившаяся в заключении в тюрьме Сен-Лазар одновременно с поэтом Андре Шенье. Он посвятил ей одну из самых известных своих од — «Юная пленница» (La jeune captive). В отличие от поэта, окончившего дни на гильотине, Эме де Куаньи избежала казни (ей удалось подкупить тюремщиков). Впоследствии она написала мемуары — «Дневник Эме де Куаньи» 178
Кутон, Жорж-Опост (Georges Auguste Couthon, 1755–1794), один из руководителей якобинцев, депутат Конвента от Оверни, член триумвирата Террора (наряду с Робеспьером и Сен-Жюстом). Страдал параличом. Казнен вместе с М. Робеспьером 161, 164, 200, 226
Ла Брюнельер, Варен де (Varin de La Bruneliàre), депутат от Ренна 115
Лавинь (Lavigne), секретарь Мэнье 200
Лавуазье, Антуан Лоран (Antoine Laurent Lavoisier, 1743–1794), французский химик. В 1768–1791 гг. генеральный откупщик. Во время революции по суду революционного трибунала, как и др. откупщики, гильотинирован 172
Лакомб, Клер (Claire Lacombe, 1765-?), глава французского Общества революционных республиканок (1793), боров-
272
шегося за равноправие женщин. Принадлежала к течению «бешеных» 194
Лакост, Эли (Elie Lacoste, 1745–1806), член Учредительного собрания, Конвента, монтаньяр. По образованию врач. Масон, член ложи La Vraie Humanité («Истинное Человечество»). Голосовал за казнь короля. Член Комитета Общественного спасения, председатель Конвента и Клуба якобинцев в 1794 г. Пытался бороться с термидорианской реакцией, но безуспешно, после чего отошел от политики 161
Лакруа, Сижизмонд (Sigismond Lacroix, 1845–1909), французский историк 184
Ламет, Александр Теодор Виктор, граф (Alexandre Théodor Victor Lameth, 1760–1829), депутат и видный деятель Учредительного Собрания, участвовал в войне за независимость североамериканских колоний; конституционный монархист, один из «триумвиров» (Барнав, Ламет, Дюпор), лидер клуба якобинцев в период 1789–1790 гг. и основатель клуба фельянов. Поддерживал политику Лафайета, после событий 20 июня 1791 г. эмигрировал вместе с братом в Бельгию, возвратился в период наполеоновской империи, участвовал в военных кампаниях 1806–1815 гг. 66
Ланжюинэ, Жан-Дени (Jean Denis Lanjuinais, 1755–1827), французский политический деятель, член Учредительного собрания и Конвента, жирондист. Был депутатом от Ренна в Генеральные штаты 112, 114, 115
Лано, Антуан-Жозеф (Lanot, Antoine Josepheph, 1757–1807), член Конвента, монтаньяр, голосовал за казнь короля. Был направлен в Лимузен для проведения чисток в среде местных властей. Подавлял народные волнения, проводил политику дехристианизации и «торжества Разума», закрывал церкви. До конца оставался якобинцем, после переворота 9 термидора был арестован, но потом даже возглавлял местную администрацию у себя на родине (Тюль). Правда, недолго — за прежнюю «неумеренность» и кровавую репутацию его от этой должности отстранили 162
Ларжер, Арди де ла (Hardy de La Largère), начальник коммуны Витре 115
Ларошжаклен, Анри де (Henri de La Rochejaquelein, 1772–1794), деятель французской контрреволюции, глава вандейских повстанцев, «генералиссимус Католической и королевской армии» 150, 225
273
Ларше (Larché), адвокат из Дижона 49, 90
Лафайет, Мари Жозеф, маркиз де (Marie Joseph de La Fayette, 1757–1834), французский политический деятель, принимавший активное участие в борьбе американцев за независимость (1775–1783). Во время Французской революции был депутатом от дворянства в Генеральные штаты, выступал в защиту третьего сословия, командовал Национальной гвардией. Его проект декларации прав был положен Учредительным Собранием в основу «Декларации прав человека и гражданина». Сторонник конституционной монархии и в то же время либерал, он вызывал равную неприязнь как у якобинских деятелей, так и у королевской семьи. После свержения короля Лафайет, бывший в то время в Северной армии, отказался присягнуть на верность Республике и арестовал посланцев от Законодательного собрания, явившихся к нему с этим требованием. После этого он был объявлен изменником и бежал за границу. Вернувшись во Францию после переворота 18 брюмера, он продолжал политическую деятельность в качестве представителя либеральной партии. В период Июльской революции 1830 г. содействовал вступлению на престол Луи Филиппа 204
Ле Одей (Étienne Le Hodey de Saultchevreuil,?-1830), участник Французской революции 140, 184
Лебон, Гюисман-Франсуа-Жозеф (François Joseph Lebon, 1765–1795), деятель Французской революции, член Конвента и его комиссар, якобинец; особо свирепствовал во время Террора. После крушения якобинской диктатуры был казнен 148, 194, 198, 207
Леви де, маркиз (marquis de Lévis), из партии бургундских дворян 73, 86, 88
Лего (Legot), деятель комиссии Оранжа, подручный Мэнье 162
Ленге, Симон Никола Анри (Simon Nicolas Henri Linguet, 1736–1794), адвокат, публицист. Основал политико-литературную газету, в которой выступил сторонником просвещенного деспотизма. С 1777 г. совместно с Малле дю Паном издавал «Политические, гражданские и литературные анналы» (Annales politiques, civiles et littéraires). В 1780 г. попал в Бастилию, о которой вскоре написал и издал свои знаменитые мемуары (Mémoires sur la Bastille, 1783). При Терроре гильотинирован 24
Ленде, Робер-Тома (Robert Thomas Lindet, 1749–1823), деятель французской революции, епископ, член Учредитель-
274
ного собрания и член Конвента, якобинец; в 1793 году публично сложил с себя епископский сан 198
Ленотр (G. Lenôtre), французский историк, автор многочисленных исследований о Французской революции 157
Лепин, (Lépine, 1846-?), префект полиции. В конце 1890-х гг. был генерал-губернатором Алжира 135
Лефевр (Lefebvre), генерал-адъютант революционной армии, руководивший расправами с населением в Бретани 194
Ле Шалелье, Исаак (Isaac Le Chapelier, 1754–1794), адвокат из Ренна, игравший важную роль на начальном этапе революции, депутат Учредительного собрания от Ренна, видный оратор, член конституционного комитета, инициатор многих законодательных проектов; наиболее известный из них — закон о запрещении цеховых союзов ремесленников. Казнен в феврале 1794 г. //5, 152
Лешель (Léchellé, 1760–1793) — до революции простой солдат, в 1791 г. — доброволец; стал бригадным генералом в 1793 г. и командующим Западной армией; был очень скоро смещен ввиду непригодности. Восставших вандейцев удалось победить другим генералам 225
Лиже де Вердиньи (Liger de Verdigny) 157
Луази, Альфред Фирмен (Alfred Firmin Loisy, 1857–1940) — французский историк религии 26
Лустало, Арман-Элизе (Armand Elisée Loustalor, 1760–1790), публицист, главный редактор газетки Les Révolutions de Paris. До революции был адвокатом парламента Бордо 184
Людовик XVI (Louis XVI, 1754–1793), король Франции из династии Бурбонов. Осужден Конвентом и гильотинирован 27, 43, 196
Людовик XVIII (Louis XVIII, 1755–1824), король Франции в 1814-15 и 1815-24 гг. Из династии Бурбонов. Во время революции бежал из Франции, был одним из руководителей французский контрреволюционной эмиграции. Занял престол после падения Наполеона I 131
Мабли, Габриэль Бонно де, (Gabriel Bonnot de Mably, 1709–1785), аббат, французский утопист, историк 42, 119
Майяр, Станислас Мари (Stanislas Marie Maillard, 1763–1794), деятель Французской революции по прозвищу «Крепкий кулак», участник штурма Бастилии. Казнен 122, 155
Малле дю Пан, Жак (Jacques Mallet du Pan, 1749–1800), швейцарский публицист, убежденный монархист, во время революции — тайный агент двора и эмигрантов 148, 154
275
Малуэ, Пьер Виктор (Pierre Victor Malouet, 1740–1814), французский государственный деятель, писатель, депутат Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии, после восстания 10 августа 1792 г. эмигрировал в Англию, вернулся в 1801 г. 66, 132, 165
Мандель, Луи Жорж (Louis Georges Mandel, 1885–1944), французский государственный деятель, соратник Клемансо, министр 135
Марат, Жан Поль (Jean Paul Marat, 1743–1793), один из наиболее известных вождей якобинцев, революционный оратор, идеолог Террора 148, 164, 168, 174, 184, 188, 214, 217, 229
Мармонтель, Жан Франсуа (Jean François Marmontel, 1723–1799), французский писатель, драматург, сотрудник «Энциклопедии» 129
Масе, капитан 194
Матьез, Альбер (Albert Mathiez, 1874–1932), французский историк, автор книги «Французская революция», особое внимание уделял изучению социально-экономической политики якобинцев 172, 179, 220
Мервиль, барон (baron de Meurville), секретарь дворянской партии Дижона
Мерлен, Антуан-Кристоф, так называемый Мерлен из Тионвиля (Merlin Antoine Christophe, dit Merlin de Thionville, 1762–1833), деятель Французской революции, адвокат. В 1790 г. был избран в учредительное собрание Мозеля. Противник монархии, духовенства и дворян, он выступал за смертную казнь королю, с особой жестокостью действовал против вандейских повстанцев 194
Мерсен де (Mme de Mersin), мадам, настоятельница Монмартрского монастыря 201
Милль, Джон Стюарт (Mill, John Stuart, 1806–1873), англ. философ-позитивист и экономист, идеолог либерализма, последователь философии О. Конта 173
Минар (Minard), адвокат из Дижона 49, 90
Минье, Франсуа Огюст (François Auguste Mignet, 1796–1884), французский историк либерального направления, один из создателей теории классовой борьбы 122, 217
Мирабо, Виктор Рикети, маркиз де (1715–1789), французский экономист. Отец Оноре-Габриэля де Мирабо 39
Мирабо, Оноре Габриель Рикети, граф де (Honoré Gabriel de Riquetti, comte de Mirabeau, 1749–1791), один из виднейших деятелей начального этапа Французской революции. Мот, дон-жуан и авантюрист, оратор и писатель, журна-
276
лист, с легкостью писавший на самые разные темы в духе философии Просвещения, в 1789 г. он был избран депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты и буквально не сходил с трибуны Учредительного собрания, выступая за конституцию и пр. Однако параллельно ос этим с 1790 г. Мирабо поддерживал связь и с королевским двором, предлагая свои варианты спасения монархии и получая за это денежное вознаграждение. Революционерам об этом стало известно лишь после смерти Мирабо (он умер в 1791 г. от перитонита), и тогда его заклеймили как предателя, а его прах, торжественно захороненный в Пантеоне, был вынесен оттуда 39, 66, 184
Мишле, Жюль (Jules Michelet, 1798–1874), французский историк романтического направления. Автор многотомной «Истории Франции» и «Истории Французской революции» 119, 122, 123, 145, 166, 168, 184, 207, 217
Може (Maugé), депутат от Ренна 115
Мольвиль, Бертран де — интендант г. Ренна 88
Монжуа, Кристоф Феликс (Christophe Félix Louis Ventre de La Touloubre, наз. Galart de Montjoie, 1746–1816), фраанцузский историк 94
Монтескьё, Шарль Луи (Charles Louis Montesquieu, 1689–1755), французский писатель, философ, деятель Просвещения, правовед 35
Морелле (Morellet), адвокат из Дижона 49, 72, 73, 77
Морен (Morin), старшина адвокатского сословия г. Дижона 49, 70
Мортимер-Терно, Луи (также Терно, Луи Мортимер — Louis Mortimer Ternaux, 1808–1871), французский историк, автор восьмитомной «Истории Террора» (Histoire de la Terreur, 1792–1794, d'après documents authentiques et inédits), в которой описывалась закулисная механика якобинской диктатуры. Этот труд малоизвестен, т. к. в свое время был «замолчан» официозной историографией 145, 148
Мунье, Жан Жозеф (Jean Joseph Mounier, 1758–1806), адвокат, видный деятель начального этапа революции, депутат Учредительного собрания, сторонник конституционной монархии, виконт-мэр Парижа. В конце 1789 г., испугавшись развития событий, отошел от дел и скрывался вплоть до 1801 г. 53, 66, 83, 166
Мэнье (Maignet), якобинец, сподвижник Кутона, отличавшийся в карательных акциях в Оранже 162, 200
277
Навье (Navier), адвокат из Дижона 49, 90
Наполеон Бонапарт (Napoléon Bonoparte, 1769–1821), французский полководец, император Франции 224
Неккер, Жак (Jacques Necker, 1732–1804), французский финансист и политический деятель. Родом из Швейцарии. Был банкиром в Женеве. Министр финансов Людовика XVI в 1777–1781 годах, в 1788–1789 и 1789–1790 годах пытался провести финансовую реформу. При пособничестве Неккера были созваны Генеральные штаты 1789 года, в которых третьему сословию было дано двойное представительство. Отставка Неккера послужила одним из формальных поводов к восстанию 14.07.1789. В работах О. Кошена Неккер рассматривается как марионеточная фигура в руках «малого народа» 45–47, 60, 51, 60, 62, 76, 82, 85, 86, 88, 98, 99
Неккер, Сюзанна (Suzanne Necker) — жена Ж. Неккера, хозяйка одного из парижских литературных салонов 43
Озер (Hauser), французский историк 169
Олар, Альфонс (Alphonse Aulard, 1849–1928), французский историк, иностр. член-кор. РАН (1924), автор книги «Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789–1804)» 118, 119, 122, 125–131, 133, 134, 136–140, 142, 145, 147, 149–153, 157, 159, 162, 166, 168, 170, 172, 175, 176, 179–185, 187, 191, 202–212, 215–218, 220, 222
Острогорский М. Я. (1854–1921), социолог, политолог. Автор труда «Демократия и политические партии» 144,155, 169, 181, 216, 246
Палиссо, Шарль (Palissot de Montenoy, Charles, 1730–1814), французский писатель, директор Библиотеки Мазарини. В своих пьесах и др. сочинениях сатирически изображал философов-просветителей: «Маленькие письма о великих философах» (Petites lettres sur de grandes philosophes), «Философы» (Les Philosophes) и др. 24
Папаша Жерар и папаша Дюшен (Père Gérard, Père Duchène), видимо, рядовые деятели, чьи имена были присвоены агитационным листкам, выпускавшимся революционным правительством Франции. «Альманах папаши Жерара» издавал Колло д'Эрбуа, а «Папашу Дюшена» — Эбер 115
Паскаль, Блез (Blaise Pascal, 1623–1662), французский математик, физик, христианский философ 172
278
Пассере (Passeret), королевский секретарь при Людовике xvi. Умер 23 июля 1793 г., потрясенный издевательствами толпы над своими спутниками — хранителем печати Барантеном и архиепископом Парижа, свидетелем которых он стал 135
Пастер, Луи (Louis Pasteur, 1822–1895), французский ученый, основатель современной микробиологии и иммунологии 172, 173
Пато, Эмиль (Emile Pataud, 1870-?), французский анархо-синдикалист 136
Пеше, Жак (Jacques Peuchet, 1758–1830), до революции парижский адвокат, один из редакторов Gazette de France. Депутат от Парижа в Генеральные штаты, возглавил полицейскую администрацию; после революции стал хранителем архивов префектуры полиции. Оставил многочисленные работы по полицейской статистике, в т. ч. Description topographique et statistique de la France (1810–1811), Mémoires tirés des archives de la police (1837–1838) 132
Питт, Уильям, младший (William Pitt, 1759–1806), премьер-министр Великобритании 227
Помпиньян, Жан-Жак Лефран, маркизде (Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan), французский экономист, поэт, переводчик драматург. Член Академии. Будучи избранным в Академию, выступил со страстной речью, исполненной религиозного пафоса и направленной против философов. Речь имела большой успех, поскольку уже тогда (1760 г.) не каждый осмеливался публично осуждать «просветителей». Последние ополчились против Помпиньяна, используя свое излюбленное оружие — эпиграммы и сатиры, т. е. осмеяние. Помпиньян не выдержал и больше не показывался в Академии 24
Пужула, Жан-Жозеф-Франсуа (Poujoulat, Jean-Joseph-François 1808–1880), французский историк 129
Пуше, Жорж (Georges Pouchet, 1833–1894), французский биолог 173
Пьер, Виктор (Victor Pierre), французский историк. Соч.: La Déportation ecclésiastique sous le Directoire (Paris, 1896), La Terreur sous le Directoire (Paris, 1887) 145
Ревельон (Reveillon), крупный парижский бумажный фабрикант. Революционеры приписывали ему авторство фразы: «Рабочий может прекрасно прожить на 15 су в день». 27 апреля 1789 г. его бумажная фабрика в предместье Сент-
279
Антуан была разгромлена взбунтовавшейся чернью. Сам Ревельон укрылся в Бастилии 136
Рейналь, Гийом Томас Франсуа, аббат (Guillaume Thomas François Raynal, 1713–1796), французский историк и социолог, один из авторов «Энциклопедии» 42
Ренан, Жозеф Эрнест (Joseph Ernest Renan, 1823–1892), французский писатель, историк религии 26, 210
Риуф, Оноре Жан, барон (Honoré Jean Riouffe, 1764–1813), автор «Воспоминаний заключенного, служащих к истории тирании Робеспьера» (Mémoires d'un détenu, pour servir а́ I'histoire de la tyrannie de Robespierre, Paris, 1820-27) 154
Робер, Пьер Франсуа Жозеф (Pierre François Joseph Robert, 1763–1826), адвокат, затем коммерческий оптовый торговец, журналист, активный деятель клуба кордельеров и повстанческого Комитета 10 августа 1792 г., впоследствии депутат Конвента от Парижа. После Реставрации 1815 г. эмигрировал в Бельгию 184
Робеспьер, Максимильен Мари Изидор де (Maximilien Marie Isidore de Robespierre, 1758–1794), один из руководителей якобинцев, организатор массового террора. Казнен термидорианцами 24, 119, 156, 160, 162, 164, 165, 207, 223, 227, 255
Робине, Жан-Франсуа-Эжен (Jean François Eugéne Robinet, 1825–1899), французский историк 212
Роллен (Charles Rollin, 1661–1741) — историк и педагог, автор книг по истории Древней Греции, Рима, Древнего Египта, Ассирии, Карфагена, и т. д. 208
Ронсен, Шарль Филипп (Charles Philippe Roncin, 1751–1794) — до революции солдат и литератор; участник взятия Бастилии; деятель Клуба кордельеров. Был главным интендантом при армии Дюмурье, успешно справился со своими обязанностями, помощником военного министра Бушотта. Весной 1793 г. был направлен вместе с Россиньолем в Вандею; его действия там подвергались критике. Осенью 1793 г. стал командующим революционной армией, был в Лионе. Казнен вместе с эбертистами в 1794 г. 225
Россиньоль Жан-Антуан (Jean Antoine Rossignol, 1759–1802) — участник штурма Бастилии и всех народных движений в Париже в первые годы революции; был близко связан с Маратом. Командовал революционной армией в Вандее. Умер в ссылке 225
Рошфор (Rochefort), интендант 110, 111
Ру, Проспер-Шарль (Prosper Charles Roux), автор-составитель книги «Парламентская история Французской революции»
280
(Histoire parlementaire de la révolution française. Paris, Paulin, 1834-38) 131
Руссе Камиль (Camille Roussel) 225
Руссо, Жан Жак (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778), французский писатель и философ. Выступал против социального неравенства, призывал вернуться к природному, «естественному состоянию» человека. Считал, что человек изначально, от природы, хорош, но его искажает цивилизация. Идеи Руссо надолго завладели умами людей во многих странах 24, 36, 104, 119–121, 124, 164, 165, 190, 221, 232, 237, 248
Саволь (Savol), прокурор 77
Саломон (Salomon), депутат Учредительного собрания 131
Седэн, Мишель-Жан (Michel-Jean Sedaine, 1719–1797), французский поэт, драматург. В молодости работал каменотесом; архитектор Давид, пораженный его способностями и умом, помог ему получить образование (впоследствии Седэн воспитал, как собственного ребенка, внука своего благодетеля — будущего живописца Давида). Автор комедий и текстов для комических опер; считается создателем жанра комической оперы 24
Сельв, Жюстен де (Justin de Selves, 1848–1934) префект Сены в 1896–1911 (способствовал разработке проекта метрополитена в Париже), министр иностр. дел в 1911–1912 гг. 135
Сен-Жюст, Луи (Louis Saint-Just, 1767–1794), якобинец, член Комитета общественного спасения, сторонник М. Робеспьера. Казнен термидорианцами 148, 196, 217
Сент, Бернар де (bernard des Saintes, наст, имя Андре-Антуан Бернар, 1751–1818), адвокат, масон, член Учредительного собрания, затем Конвента Внутренней Шаранты. Голосовал за казнь короля. Эбертист. Свирепствовал в провинции, возя за собой повсюду гильотину, до такой степени, что даже Комитет общественного спасения рекомендовал ему быть более умеренным. После переворота 9 термидора некоторое время провел в заключении, затем по амнистии был выпущен и прослужил адвокатом вплоть до падения Наполеона в 1815 г. Бежал в США, но потерпел кораблекрушение возле Мадейры, где и провел остаток дней 156, 162
Сеньобос, Шарль (Charles Seignobos, 1854–1942), французский историк, автор «Политической истории современной Европы» (Histoire politique de l'Europe contemporaine, 1897) 133, 134, 142, 179, 192, 212
281
Серпильон (Serpillon) из Отена, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 59
Сиу, Людовик (Ludovic Sciout, ум. 1900), французский историк. Соч.: Histoire de la constitution civile du clergé (1790–1801), изд. Paris 1872–1881 145
Созэ, Жюль (Jules Sauzay), французский историк XIX в. Соч.: Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, Besançon, 1868/69 145, 183
Сорель, Альбер (Albert Sorel, 1842–1906), французский историк и дипломат, автор книги «Европа и Французская революция» (Europe et la Rйvolution /ranзaise, 1885), трудов по истории наполеоновских войн. Его позиция близка официозной французской историографии, трактующей многие действия революционеров (и, далее, Наполеона) как вынужденные меры 220
Спенсер, Герберт (Herbert Spencer, 1820–1903), английский философ и социолог 173
Станислав Август (Понятовский) (1732–1798), последний польский король 38
Талейран— см. Талейран-Перигор
Талейран-Перигор, Шарль Морис, епископ Отенский, князь Беневентский, герцог Дино (Charles-Maurice Talleyrand-Périgord), 1754–1838), депутат Учредительного Собрания, принимал самое активное участие в разработке французской Конституции 1791 г.; политик и дипломат европейского масштаба, входил в состав нескольких правительств Франции 221
Тальен Жан Ламбер (Jean Lambert Tallien, 1767–1820), якобинец, член Конвента (с 1792), деятель Террора, затем один из главных руководителей термидорианского переворота (1794) 156
Тарже, Ги Жан-Батист (guy jean baptiste target, 1733-?.), деятель Французской революции. Работал над проектом Конституции и Декларации прав. Знаменитый адвокат, оратор, которого даже король Людовик XVI просил быть его защитником перед Конвентом в 1792 г. (Тарже отказался). Благополучно пережил Революцию, Консулат и т. д. и до конца своих дней был судьей Кассационного трибунала (назначен в 1798 г.) 189
Тевено (Théveneau), адвокат из Арнэ, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 59
Тиар, граф де (comte de Thiard), военный комендант Ренна 109, 110, 129
282
Тисье (Tissier), священник из Сен-Жан-де-Лон 59
Токвиль, Алексис-Шарль-Анри-Клерель де (Alexis-Charles-Henri-Clerel de Tocqueville, 1805–1859), французский государственный деятель, историк. С 1849 г. министр иностранных дел Франции. Автор книг «О демократии в Америке» (De la démocratie en Amérique) и «Старый порядок и революция» (L'ancien régime et la révolution) 122
Тронжолли, Филипп де (Philippe de Tronjolly), исп. обязанности королевского прокурора 112
Трюллар (Trullard), прокурор-синдик из Дижона 49, 53
Тур дю Пен-Гуверне, Жан-Фредерик, маркиз де ла (Jean-Frédéric comte de La Tour du Pin-Gouvernet, 1727–1794), военный комендант Бургундии, с 1789 г. военный министр. Соч.: Mémoire sur l’organisation de l’armée: adressé à l’Assemblée nationale par M, le comte de La Tour-du-Pin, ministre & secrétaire d’état au Département de la guerre. (Paris, 1790) 46, 64, 74, 84, 86
Тьер, Адольф (Adolphe Thiers, 1797–1877), французский историк, президент Франции в 1871-73 гг., автор «Истории Французской революции» 122
Тэн, Ипполит (Hippolyte Taine, 1828–1893), французский философ, искусствовед, историк, родоначальник культурно-исторической школы. Автор обширного исследования о Французской революции — «Происхождение современной Франции» (Les origines de la France contemporaine) 118, 119, 122, 125–134, 136–142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 168–185, 191, 192, 204, 206, 208–216, 218, 220
Тюрро, Луи-Мари, барон де Линьер (Louis Marie Turreau, 1756–1816), якобинский генерал, в 1794 г. направленный в Вандею для борьбы с повстанцами. Отличался особой жестокостью. Его войска, прозванные местными жителями «адскими колоннами», на своем пути грабили и уничтожали все живое, выжигали деревни и нивы. После революции продолжал военную карьеру, в 1804–1811 находился в Соединенных Штатах Америки, где был министром 229
Уан (Hoin), хирург 49
Удри (Oudri), адвокат из Сен-Жана, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 59
Файо, Жозеф-Пьер-Мари (Joseph Pierre Marie Fayau, 1766–1799), член Конвента, монтаньяр. Типичный якобинец, жестокий и жадный «люмпен». Отправленный подавлять восстание в Вандее, предложил радикальный способ борьбы
283
с контрреволюцией: выжечь всю Вандею, чтобы сделать ее необитаемой на год. Добивался передачи имущества аристократии санкюлотам 196
Ферри, Жюль-Франсуа-Камиль (Jules François Camille Ferry, 1832–1893), французский гос. и политический деятель, основатель и организатор системы светского бесплатного обязательного образования во Франции 126
Фоше, Клод (Claude Fauchet, 1744–1793), деятель Французской революции, «конституционный епископ» (присягнувший Конституции), депутат Законодательного собрания, член Конвента. Участвовал в штурме Бастилии, был членом Парижской Коммуны, одним из руководителей «Социального кружка» и «Общества друзей истины». Сблизился с жирондистами, голосовал против казни короля и выступал в печати против якобинцев. После убийства Марата Фоше был заподозрен в связях с Шарлоттой Корде, арестован и казнен по приговору революционного трибунала 217
Франкастель (Fraticastel), деятель Террора, был так называемым «народным представителем» (от Конвента) в городе Анжере; распоряжался массовыми казнями в провинции Анжу 230
Фрерон, Эли Катрин (Élie Catherine Freron, 1718–1776), французский писатель и критик. Издавал два собственных журнала, в которых, будучи убежденным католиком и монархистом, полемизировал с просветителями-энциклопедистами, ненавидя их. Они платили ему тем же. Так, Д'Аламбер в 1776 г. добился запрещения журнала Фрерона «Литературный год».
В книге Кошена упоминается именно этот Фрерон, а не его сын — Фрерон, Станислав-Луи-Мари (1754–1802), французский политический деятель и публицист, член Конвента; будучи комиссаром в Тулоне, отличался своей жестокостью; нажил большое состояние взятками и хищениями; опасаясь разоблачения, способствовал свержению якобинской диктатуры; позже был одним из вожаков термидорианской реакции 24
Фридрих II (1712–1786), прусский король 22, 38
Фукье — см. Фукье-Тенвиль
Фукье-Тенвиль, Антуан-Квентин (Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, 1746–1795), юрист по образованию, в 1792 г. по протекции К. Демулена (своего дальнего родственника) стал чиновником уголовного суда, созданного для разбора дел, связанных с переворотом 10 августа. В 1793 г. Конвент избрал Фукье общественным обвинителем револю-
284
ционного трибунала. Среди обвиняемых, прошедших через Фукье, были Мария-Антуанетта, жирондисты, его родственник Камилл Демулен, дантонисты и эбертисты. Большинству из них был вынесен смертный приговор. После падения Робеспьера в 1794 г. Фукье был арестован по предложению Конвента, а 7 мая 1795 г. казнен 155, 157, 164, 167, 194, 200
Фуллон (Фулон), Жозеф Франсуа (Joseph François Foullon, также Foulon, 1717–1789), генеральный контролер, суперинтендант. Обвиненный в завышении цен и налогов, он стал одной из первых жертв революции: его растерзала толпа 129
Шабанон, Мишель-Поль-Ги (Michel-Paul-Gui de Chabanon, 1730–1792), французский драматург, переводчик, музыковед, член Академии 24
Шалье, Мари Жозеф (Marie Joseph Chalier, 1747–1793), глава лионских якобинцев 148, 214
Шассен, Шарль Луи (Charles Louis Chassin, 1831–1901), французский историк 212
Шенье, Андре Мари (André Marie Chénier, 1762–1794), французский поэт и публицист. Казнен якобинцами 202
Шериу, Адольф (Adolphe Chérioux), муниципальный советник 15-го округа Парижа и президент Генерального совета с 1900 по 1901 г. В 1906 по его инициативе был построен приют для сирот, где они получали начальное и профессиональное образование. Автор других проектов по преобразованию города 136
Эбер, Жак-Рене (Jacques-René Hébert, 1757–1794), один из самых радикальных деятелей революции. Руководитель клуба кордельеров, заместитель прокурора Парижской коммуны, член Конвента. С 1790 г. издавал газету «Папаша Дюшен», рассчитанную на парижскую чернь. Эбер был яростным противником монархии и католической церкви, требовал казни короля и насаждал «культ Разума», закрывая церкви. Сторонник самых крайних форм террора, он принимал участие в подготовке нескольких вооруженных народных восстаний. В марте 1794 г. начал готовить одно из таких восстаний, но Парижская коммуна не дала «добро». Вскоре Эбер был арестован и гильотинирован вместе со своими сообщниками 160
Эрну (Hernoux), адвокат из Сен-Жана, один из вожаков предвыборной кампании в Бургундии 59, 90
285
Юар (Huard), депутат от Сен-Мало 115, 116
Юм Дэвид (David Hume, 1711–1776), английский физик, историк, экономист. В 1763–66 был на дипломатической службе в Париже, где сблизился с французскими «просветителями» 232
Юнг (Янг), Артур (Arthur Young, 1741–1820), английский агроном и экономист, автор труда «Путешествие во Францию» (1792-94) 131
Примечания
1
Выражение «слепая вера» (foi du charbonnier) дословно переводится как «вера угольщика». — Прим. перев.
(обратно)2
Здесь и далее словом «государство», наряду со словом «град», переводится французское «cité», что буквально означает «город». Точного соответствия термину, употребляемому Кошеном, в русском языке нет, ибо «cité» у Кошена — образование, соотносимое с народом (большой народ — большое cité, малый народ — малое cité). То есть по масштабу оно больше города. Но, с другой стороны, во-первых, Кошен проводит параллель с комедией Аристофана «Птицы», где речь идет именно о городе, а во-вторых, «государство» предполагает «государя», а это, как читатель увидит из книги О. Кошена, никак не совместимо с природой cité. Следует отметить, что по-французски «город» в обычном значении — «ville». Термин же «cité» восходит к латинскому «civitas» (гражданство, государство); в латинском слове «государь» не фигурирует, зато от него пошли «граждане» — термин, бывший в большом ходу во времена Французской революции. Почему именно «град», а не «город»? Слово «ville» у Кошена обозначает любой реальный город, как тип поселения, как географический пункт, а для исследуемого феномена он употребляет слово «cité». Поэтому в русском переводе я подчеркиваю эту разницу. Кстати, слово «град» входит в состав многих имен собственных сравнительно недавнего происхождения (например, «Зерноград» или «Кедроград»), в которых присутствует некоторая идейная искусственность, о чем немало говорится у Кошена. Ради удобства я пожертвую единообразием и буду пользоваться разными терминами — «град» и «государство» — в зависимости от контекста. — Прим. перев.
(обратно)3
Речь идет о комедии Аристофана «Птицы». — Прим. перев.
(обратно)4
«Le Grand Orient» — «Великий Восток», название масонской ложи. — Прим. перев
(обратно)5
Данный обзор составлен по материалам: 1) переписки г-на Амело, интенданта Бургундии, и г-на де ла Тур дю Пен-Гуверне, военного коменданта этой провинции, с министрами Неккером и Вильдеем; 2) прошений, наказов, обсуждений, протоколов и т. п., опубликованных третьим сословием и дворянством и отправленных либо их авторами, либо противной партией в Версаль с ноября 1788 по март 1789 г. (Arch, nat., Ba 16, 31, 36, 37, и Н 217, Bibl. nat., sйrie L). Конечно, можно было бы с пользой дополнить этот труд материалами из муниципальных архивов Дижона, Шалона, Отена и других городов, а также из архивов Кот-д'Ор. Однако вышеназванные документы составляют достаточно полную картину, отражающую без существенных пропусков всю последовательность эпизодов этой кампании.
(обратно)6
Дюранд, Навье, Вольфиус и Минар заведовали иезуитским коллежем после изгнания отцов-иезуитов в конце предыдущего царствования. Вольфиус, Дюранд и Арну были назначены депутатами в Генеральные штаты, где они постоянно голосовали с левым центром. Брат Вольфиуса, священник и профессор философии, был назначен епископом и принял присягу в 1791 г.
(обратно)7
Bibl. nat., Lb 39, 806.
(обратно)8
Городских старшин. — Прим. перев.
(обратно)9
Bibl. nat., Lb 39, 843.
(обратно)10
«Скошено и высушено» (англ.). — Прим. перев.
(обратно)11
Виконт-мэр, однако, не подписал решение от 11 декабря; с конца этого месяца, в тот самый момент, когда адвокаты пользовались его именем, чтобы добиться согласия других городов, он уже поддерживал дворянскую партию, их противника, и в конце следующего месяца адвокаты в своих памфлетах уже смешивали его имя с грязью.
(обратно)12
«План», «способы» — эти слова партийцы употребляют в абсолютном значении, без разъяснений, и придают им точный смысл, которого они не имеют в обыденной речи; говорится: «принять план адвокатов», «присоединиться к их способам». Это означает: подчиниться их лозунгам, предпринять, по их примеру, ряд таких же маневров, какие адвокаты со столь замечательной последовательностью провели в Дижоне.
(обратно)13
Archives nationales, Ba 16.
(обратно)14
Если прокурор-синдик не является одновременно членом шайки, то обходятся без него; например, в Нюи, где адвокаты Жоли и Жильот просят мэра созвать третье сословие.
(обратно)15
В архивных карточках содержится четырнадцать этих наказов. К ним надо добавить наказ из Сен-Жан-де-Лон (Bibl. nat, Lb 39, 900). Нет оснований считать их более многочисленными. В январе и феврале это движение набрало гораздо большую силу; однако число присоединившихся городов не превышает двадцати.
(обратно)16
По словам интенданта Амело, это был человек с погубленной репутацией, изгнанный из двух корпусов, где он служил, без положения в свете, без имущества, решившийся создать себе имя на этой смуте или «потопить Бургундию вместе с собой» (Arch. nat., Ва 36, письмо от 19 марта). Но Амело ненавидит его как главного агента парламентской партии, и потому его свидетельство сомнительно.
(обратно)17
Эту партию мы далее будем называть для большего удобства «Бургундским дворянством» (Noblesse de Bourgogne). He следует забывать, что она не составляла и трети этого дворянства, причем это наименее благородная треть.
(обратно)18
Письма Амело, Гуверне, Ла Тур дю Пен Ла Шарса и т. д. (Arch. nat., Ba 36).
(обратно)19
Arch. nat. Ba 36, liasse 6. Известно, что в марте 1788 г., когда Бриенн хотел отменить парламенты, повсюду одновременно начались волнения, и в июне королю пришлось отступить перед своего рода гигантским заговором судейского сословия в пользу парламентариев.
(обратно)20
Arch, nat., Ba 36, liasse 2.
(обратно)21
Были ли эти корпорации многочисленными? В протоколе, опубликованном адвокатами, есть противоречия: там говорится о «нескольких корпорациях»; далее о «всех, кроме двух или трех»; а еще ниже говорится, что «некоторые корпорации» одобрили ответ и что «большое количество других» присоединились лишь задним числом: это наводит на мысль, что эти «некоторые» были весьма немногочисленны. Это последнее предположение более всего соответствует тактике партии, которая действовала, последовательно созывая маленькие ассамблеи и применяясь к обстоятельствам, потому что потребовалось всего лишь несколько часов, чтобы созвать ассамблею 30 декабря.
(обратно)22
28 декабря. Arch. nat., Ba 36, liasse Dijon II, piece 21. Выдержка из протокола заседания дворянства.
(обратно)23
Arch. nat., Ba 36, liasse 3, p. 13; фразы, выделенные курсивом, выделены и в письме Дигуана.
(обратно)24
Вот фрагмент из этого обращения: «Если бы два первых сословия согласились, чтобы количество голосов в их объединении было равным количеству голосов депутатов третьего сословия для поголовного голосования на этих ассамблеях, то реально в государстве осталось бы только одно сословие; духовенство и дворянство более не должны были бы рассматриваться как два сословия, но как две корпорации, тем более опасные, что, действуя совместно с подобной системой, они, объединившись с третьим сословием, чтобы поддержать намерения, несовместимые с счастьем народа, без помех смогли бы потопить свою родину в пучине беспорядков, порожденных самой гибельной демократией, или, наоборот, устремиться вместе с ней к самому законченному деспотизму». (Bibl. nat., Lb 39, 903).
(обратно)25
Известно, что король, доведенный до крайности обструкцией, которую устроили парламенты, пытался заменить их новыми судами, назначаемыми правительством.
(обратно)26
Решение жителей Бэне-ле-Жюиф, 28 января, (Ва 37, liasse 6).
(обратно)27
В протоколе г. Шалона говорится даже о «решениях, принятых сословием адвокатов Дижона и Шалона 11 и 18 числа этого месяца». Так кто-то проговорился о тайном соглашении.
(обратно)28
Вот их полный список с датами присоединения: Духовенство и третье сословие, г. Сен-Жан-де-Лон — 11 января
Третье сословие: г. Кизери — 15 января
Солье — 16 января
Парэ — 17 января
Монсени — 17 января
Адвокаты, Отен — 17 января
Чиновники бальяжа, Семюр-ан-Оксуа — 18 января
Третье сословие, Шароль — 18 января
Оксонн — 18 января
Мон-Сен-Венсен — 18 января
Верден — 18 января
Шалон — 19 января
Аваллон — 19 января
Монбар — 19 января
Сен-Брис — 19 января
Нолэ — 20 января
Монтревель — 23 января
(Arch. nat., Ba 36, liasse 3.) Наконец, третье сословие Оксера присоединяется 2 февраля, Луана — 1-го.
(обратно)29
Вот он: «Господа, мы имеем честь уведомить вас о том, что в следующее воскресенье, 25 января, в Жанлисе соберутся депутаты более 40 общин, чтобы обсудить с нами касательно интересов третьего сословия. Мы будем просить короля половину голосов и полномочий в провинциальных Штатах, чтобы быть в силах защищать наши права и добиться сокращения налогов, заставив разделить с нами это бремя священников и дворян. Мы твердо верим, что это нам удастся. Наше решение будет включено в ходатайство королю. Мы приглашаем вас, господа, присоединиться к нам. Это есть народное благо. Пришлите депутата, наделенного вашими полномочиями, и вашего эшевена. Мы, и т. д. Жители и эшевены Жанлиса» (Arch. nat., Ba 36, liasse 6).
(обратно)30
Пятнадцать других общин, если верить протоколу ассамблеи, где они не названы, не могли присутствовать на ней из-за разлива Соны.
(обратно)31
Maison commune — место сельских собраний, «сельская ратуша». — Прим. перев.
(обратно)32
Ва 37, liasse 6.
(обратно)33
Ва 36, liasse 4.
(обратно)34
Так, в Шалоне священники шести разных епархий смогли без особого труда договориться и отдали все свои голоса одним и тем же кандидатам.
(обратно)35
Вот в каких выражениях это говорится: «Они заслуживают того, чтобы народ освистал их и смешал с грязью…, они должны быть изгнаны из обществ как подлецы, предатели и плохие патриоты». Речь идет об одном докторе университета и о печатнике, чья вина включалась в том, что они дали подписать своим корпорациям наказ дворян. Парламент — это «ядовитая змея». Мэр, «гнусный Муньер, путем вероломства и интриг пролезший на то место, которое занимает», должен быть отстранен от должности народом. Пожалованные дворянством проникли в дворянское сословие «через задницу, как лекарство». Эта грубость, впрочем, — не помеха педантичности стиля: «Надменное и неосторожное дворянство, — говорится в афишке от 10 февраля, — взгляни на то, что происходит в Бретани, и трепещи, как бы день нашего всеобщего обновления, бесспорно, очень уже близкий, не стал днем твоего уничтожения навеки. Di talem avertite casum» [Боги, отриньте беду (лат.), Вергилий] (Arch. nat., Ва 36, liasses 3 et 4).
(обратно)36
Письмо г-на де Гуверне от 8 февраля (Ва 37, liasse 8), ср. Н 207а, р. 33: крестьяне в окрестностях Шалона, подстрекаемые священниками, заявляют, что убьют сборщиков податей, если те к ним заявятся.
(обратно)37
В городах распространяются длинные перечни налогов, весьма подробные и полные ложных сведений, по словам г-на де Гуверне, который опровергает один из таких перечней в том, что касается его жалованья коменданта провинции. Что касается крестьян, то тут ограничиваются тем, что распространяют среди них листовки в одну страницу, набранные крупным шрифтом и легко читаемые, в которых говорится, что налоги в Бургундии на 1789 г. чудовищно увеличены комиссией Штатов; что виновны в этом дворяне и духовенство и что третье сословие все вынесет: это для него «смертельный удар» (Н 207а, р. 34). Все это неправда: промежуточная комиссия Штатов, напуганная возрастающим волнением, напротив, сократила расходы до необходимого минимума; она ограничилась тем, что заменила натуральный оброк денежным налогом, согласно воле самого третьего сословия, не прибавив к налогу ни одного су (Н 207а, р. 33).
(обратно)38
На неопределенный срок (лат.). — Прим. перев.
(обратно)39
Arch. nat., Ba 36, liasse 3, p. 20.
(обратно)40
Эти цифры приводятся г-ном де Гуверне в письме к Неккеру.
(обратно)41
Эту позицию интенданта трудно объяснить. Дворяне открыто обвиняют его в сговоре с адвокатами; говорят даже, что мятежные памфлеты, присылаемые из Парижа для возбуждения провинции, проходят через его руки. Это явная клевета: ни его язык, ни манеры не похожи на язык и манеры заурядного агитатора. С другой стороны, его недобросовестность и упорное преувеличение ошибок парламентариев и замалчивание вреда адвокатской деятельности в его письмах бросаются в глаза, и личные обиды этого не объясняют: в мае судейское сословие, вслед за парламентом, тоже объявило войну интенданту. Поведение интенданта Амело, как и Бертрана де Мольвиль в Бретани, как и других высокопоставленных чиновников того времени, остается загадкой.
(обратно)42
Arch. nat., Ba 36, liasse 5, p. 24.
(обратно)43
Наш рассказ составлен по материалам протоколов и переписки из Национального архива (Н 419, Ва 26) и газеты «Вестник нации» (Hérault de la nation).
(обратно)44
Всего 884 присутствовавших, из них 76 депутатов из 11 муниципальных городов и 808 из 413 приходов. Единственной и настоящей движущей силой были — как показали результаты — депутаты от Ренна, которых было всего 16.
(обратно)45
Двести — триста человек, как утверждает интендант Рошфор (письмо от 8 апреля).
(обратно)46
Какой-то крестьянин, сообщает Hérault (р. 775), якобы показывал бюллетень для голосования, продиктованный ему его приходским священником и фискальным прокурором.
(обратно)47
С самых первых дней ассамблея была наводнена чудовищным количеством посторонних, которое к тому же возрастало день ото дня, по словам Бори и Рошфора, которые говорят о 2–3 тысячах присутствующих. Даже Hérault пишет о «толпе, которую влекло любопытство» (р. 777). Думается, в этом случае выступала вся патриотическая армия.
(обратно)48
15 апреля Филипп де Тронжолли, который замещал Друэна в должности королевского прокурора, потребовал исполнения положения о выборах от имени приходов, чьи депутаты были исключены, а сенешаль издал постановление в том же духе. Но им возразили, приведя в пример голосование 8 числа и волю большинства «компетентных членов», и этим все и кончилось.
(обратно)49
Название масонской ложи. — Прим. перев.
(обратно)50
Непереводимая игра слов. Слово loge, помимо значения «масонская ложа», во французском языке имеет и другие значения, в том числе «клетка», «одиночная камера для буйных сумасшедших», «дворницкая». — Прим. перев.
(обратно)51
1908 г.
(обратно)52
Taine historien, p. XI et 323.
(обратно)53
Contrat social, Éd. Dreyfus-Brisac, p. 38.
(обратно)54
Histoire de la Révolution. Предисловие к изданию 1847 г.
(обратно)55
Тэн приводит также 18 случаев мятежей, а не 17, как говорит г-н Олар, пропустивший мятеж в Мондрагоне и прочитавший «Турнон» вместо «Турню».
(обратно)56
Кроме вместо и и есть вместо были. — Прим. перев.
(обратно)57
На первый взгляд, 37. Но Ла Ферте-Бернар и Жизор встречаются там два раза. Впрочем, отметим вместе с г-ном Оларом, что Тэн ошибочно помещает все эти коммуны в район 50 лье вокруг Парижа: из них добрых 15 коммун были за пределами этого круга.
(обратно)58
Г-н Олар не смог найти этой коммуны в почтовом справочнике: это Баккон (Луаре), в Орлеанском округе, кантоне Менга.
(обратно)59
Trad. Lesage, I, р. 262. В английском издании (1792) говорится: a guard to protect his house [защитить свой дом (англ.)], что еще яснее.
(обратно)60
Г-н Колани прав, говоря, что отрывка о французской гвардии, процитированного Тэном, нет у Пеше, — он взят из мемуаров, представленных какому-то лейтенанту полиции, — но он не прав, давая понять, будто бы отрывок вообще не существует: он целиком есть у Parent-Duchatelet (La prostitution, II, p. 157), и ошибка Тэна происходит оттого, что Парен цитирует Пеше прямо перед этим.
(обратно)61
Histoire de la littérature française de Petit de Julleville, VIII, p. 273.
(обратно)62
Ревельон — крупный бумажный фабрикант. В апреле 1789 г. его дом и фабрика в Париже были разгромлены толпой. — Прим. перев.
(обратно)63
А не 36, как говорит г-н Олар, не посчитавший F7 3239, которую Тэн цитирует на с. 442. Он пропустил также Н 942, упомянутую на с. 1 и 75
(обратно)64
Г-н Олар приводит 29 архивных карточек. Тэн — 430 карточек, фондов или серий карточек.
(обратно)65
Révolution, I, предисловие.
(обратно)66
Révolution, II, р. 21.
(обратно)67
Эта серия, кроме того, содержит карточки под названием «корреспонденция»; но я думаю, что из-за их названия и названия серии «общественное мнение» г-н Олар, который сам, впрочем, не пользовался ими, упрекает Тэна за то, что тот их игнорирует: это всего лишь, по крайней мере, до 1793 г., самые сухие официальные сообщения, сопроводительные письма, выборные извещения и т. д
(обратно)68
Histoire de la littérature française de Petit de Julleville VIII, p. 277.
(обратно)69
См.: Bryce. The American Commonwealth, 1907, II, p. 3, 4 и Ostrogorski. La democratic et l'organisation des partis politiques, 1903, I, предисловие.
(обратно)70
Révolution, 1865, I, р. 11.
(обратно)71
Histoire politique, p. 352.
(обратно)72
Histoire politique, p. 313–314.
(обратно)73
Moniteur, Convention, 14 oct. 1794.
(обратно)74
Там же, Jacobins, 16 oct.
(обратно)75
Там же, Convention, 28 sept. 1794, lettres de Charlier et de Pocholle (письма Шарлье и Пошоля).
(обратно)76
Там же, Jacobins, 2 oct.
(обратно)77
Taine historien, p. 126.
(обратно)78
Contrat social, éd. Dreyfus, p. 289. Cp. Taine, Rév, II, p. 26–27.
(обратно)79
Предисловие к Mémoires, с. VII.
(обратно)80
Mémoires, II, 2.
(обратно)81
Термин «social» (социальный, общественный (фр.) у Кошена здесь и далее означает «относящийся к обществам мысли», «являющийся результатом работы обществ мысли», «кружковый» и т. п. То есть это не «социальный» в широком значении. — Прим. перев.
(обратно)82
Moniteur, Convention, 10 mars 1793.
(обратно)83
Ср. Ostrogorski. La démocratie.
(обратно)84
Lods Arm. Bernard de Saintes, 1888, p. 85.
(обратно)85
Moniteur, Convention, 19 août 1794.
(обратно)86
Lenotre. Tribunal révolutionnaire, p. 350.
(обратно)87
Moniteur, Convention, 19 sept. 1794.
(обратно)88
Melville-Glover. Collection des jugements, p. XI.
(обратно)89
Wallon. Représentants en miss., IV, p. 193
(обратно)90
Babeau. Histoire de Troyes, II, p. 117.
(обратно)91
Lods. Arm. Bernard de Saintes, p. 17.
(обратно)92
Taine. Origines, éd. 1907, VIII, p. 72 и далее.
(обратно)93
Bonnel. Les 332 victimes de la Commission d’Orange.
(обратно)94
Moniteur, Convention, 14 sept, et 3 oct.
(обратно)95
Там же, 6 nov.
(обратно)96
Arch. de Seine-et-Marne, L 737, reg. de la Société d’Ozouer, 10 déc. 1793.
(обратно)97
Moniteur, août-octobre 1794.
(обратно)98
Arch. nat., Ad1 91, отчет Мэйля Конвенту.
(обратно)99
Arch. nat., AD XVI, 73: disc. aux Jac., 2 janv. 1792.
(обратно)100
Cp.: Deherme, Démocratie vivante, p. 5, из статьи г-на Клемансо.
(обратно)101
Moniteur, Convention, 25 août 1794.
(обратно)102
Histoire politique, p. 115.
(обратно)103
Taine historien, p. 124–125.
(обратно)104
Victor Giraud, Essai sur Taine, p. 92.
(обратно)105
Там же, р. 100.
(обратно)106
Annales révolutionnaires, avril — juin 1908, p. 350.
(обратно)107
Paris, Alcan, 1895.
(обратно)108
De la contingence des lois de la nature.
(обратно)109
Révolution, II, р. 11.
(обратно)110
Любопытные показания по поводу этих обществ можно найти в мемуарах Эме де Куаньи, опубликованных г-ном Лами [Les Mémoires d’Aimée de Coigny, publiées par M. Lamy] (c. 236 и далее).
(обратно)111
Durkheim. Les règles de la méthode.
(обратно)112
См. Введение, с. XI.
(обратно)113
Конституанта — Учредительное собрание.
(обратно)114
Révolution française. Предисловие к изд. 1868 г.
(обратно)115
Taine. Révolution, II, предисловие; Aulard. Histoire politique, p. VIII.
(обратно)116
Заседание 20 августа 1794 г.
(обратно)117
Moniteur, Convention, 13 oct. 1794.
(обратно)118
«Необозримое безмолвие» (лат.) — из описания похорон Германика у Тацита. — Прим. перев.
(обратно)119
Young А., I, р. 269.
(обратно)120
См., например, Moniteur. Речь Файо перед якобинцами (заседание 8 октября 1794 г.).
(обратно)121
Œuvres de Saint-Just, Velhay, 1908, II, p. 231.
(обратно)122
Histoire poiitique, p. 473.
(обратно)123
Taine. Révolution, III, р. 393.
(обратно)124
Другой довод Мэнье: «Надо сильно припугнуть, и удар только тогда по-настоящему страшен, когда он нанесен на глазах у тех, кто жил рядом с виновными» (Bonnel, указ. соч., I, р. 3. Письма Мэнье и Лавиня Кутону, от 23 апреля 1794 г.).
(обратно)125
Во французском языке «наседке» соответствует «mouton», т. е. баран. — Прим. перев
(обратно)126
Wallon. Tribunal révolutionnaire, IV, р. 101 и далее.
(обратно)127
Histoire politique, p. 353.
(обратно)128
Французское местоимение 3 лица ед. числа On имеет собирательное значение, не обозначая конкретного лица, в русском языке прямого соответствия не имеет и переводится формой 3 лица множ. числа глагола без местоимения или безличными формами. Например, «on parle» — «говорят». — Прим. перев.
(обратно)129
Révolution, 1868, t. I, р. 30.
(обратно)130
В оригинале у Кошена — Le patriotisme humanitaire, то есть буквально «гуманитарный патриотизм». Во избежание путаницы с названием группы научных дисциплин я в большинстве случаев перевожу это слово как «общечеловеческий» и «всемирный». Впрочем, в настоящее время слово «гуманитарный» все чаще применяется в русском языке и в том смысле, в каком его употребляет Кошен, когда речь идет об абстракции — «человечестве вообще». — Прим. перев.
(обратно)131
Ср.: Annales révolutionnaires, avril — juin 1908, статья г-на Матьеза [Mathiez].
(обратно)132
Речь, произнесенная 9 июля 1904 г. (Bibl. nat., La 32/796).
(обратно)133
«Крестовый поход личной свободы», — говорит Бриссо (речь от 30 декабря 1791 г., Bibl. nat., Lb 40/666); «восстание против всех королей вселенной», — говорит Дантон (Taine, Origines…, éd. 1907, t. VI, p. 211).
(обратно)134
Arch. nat., ADXVI 73, речь 2 января 1792 г.
(обратно)135
Arch. nat., ADXVI, 73, якобинский циркуляр от 17 января 1792 г. Ср. Bibl. nat., Lb 40/666, речь Бриссо перед якобинцами 30 декабря 1791 г.
(обратно)136
А теперь говорят: «общечеловеческие ценности». — Прим. перев.
(обратно)137
Имеется в виду место ссылки во Французской Гвиане, куда был отправлен, например, Бийо-Варенн, деятель Революции. — Прим. перев.
(обратно)138
Moniteur, 11 июня 1794 г.
(обратно)139
Moniteur, 30 сентября 1793 г.
(обратно)140
Там же, 11 июня 1794 г.
(обратно)141
Там же, 24 июня 1794 г.
(обратно)142
Там же, 15 октября 1793 г.
(обратно)143
Там же, 16 сентября 1793 г.
(обратно)144
Габары — небольшие речные и морские плоскодонные грузовые баржи, а также парусные грузовые суда. — Прим. перев.
(обратно)145
Bruas, Société populaire de Saumur, p. 27.
(обратно)146
Moniteur, 16 июня 1794 г.
(обратно)147
Marat, t. II, p. 261.
(обратно)148
Moniteur, 13 марта 1793 г.
(обратно)149
Moniteur, 20 декабря 1794 г. Это пересказ письма, прочитанного Реалем на процессе.
(обратно)150
О. Кошен писал эти строки во время завоевания Марокко. — Прим. Ш. Шарпантье.
(обратно)151
Законом о максимуме были установлены предельные цены на зерно. — Прим. перев.
(обратно)152
La Revue française, 22 сентября 1912.
(обратно)153
Sauzay. Persécution révolutionnaire dans le Doubs, 1869, t. V, p. 2. Archives départementales de la Haute-Vienne, Hérault, Drôme et Tarn: série L, registres des sociétés.
(обратно)154
См.: с. 244, n° 118.
(обратно)155
Инвеститура этого права была главной целью миссий того лета и единственной целью миссии 29 декабря: ведь роль представителей ограничивалась председательствованием во время работы обществ — и ратифицированием выборов после работы. Если им приходится, особенно во II году, очищать само общество, то это по воле не его главы, а «ядра», еще более чистого и действующего с одобрения Парижа.
(обратно)156
Archives de la Guerre [Военный Архив], subdiv. de l’Ouest, carton de l’Armée révolutionnaire: донесение, приложенное к письму военного министра от 20 октября 1793 г.; ср. письмо из Парижа от 3 октября (об очистке парижскими якобинцами штаба). Ведомости обществ Лиможа (7 ноября), Баланса (28 сент.), Монпелье (13 сент., 14 сент. и далее), Лон-ле-Сонье (8-10 дек, и далее), Кастра (17–22 окт. и далее), Дижона (28 ноября и далее). Эта последняя ведомость содержит все подробности этой работы: создание «ядра» революционной армии, очищение субъектов, представленных этим ядром, и т. п. (Archives de la Haute-Vienne, Drôme, Hérault, Jura, Tarn, Cote-d’Or).
(обратно)157
Arch. nat., reg. F*a 548.
(обратно)158
Этот термин употребляется в письме общества Сент-Ирие обществу Лиможа от 5 февраля 1794 (Archives de la Haute-Vienne, L. 824).
(обратно)159
Ostrogorski М. La démocratie et l’organisation des partis politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1903, 2 vol. in- 8; Bryce James, The American Commonwealth, New York, the Macmillan Company; London, Macmillan and C° Ltd, 1907 (third édition, 2 vol. in-8).
(обратно)160
«Скошено и высушено» (англ.). — Прим. перев.
(обратно)161
Bourdon de l’Oise à la Convention, 19 oct. 1794.
(обратно)162
Moniteur, 7 nov., 27 sept. 1794, p. 205, 30.
(обратно)163
Note du 30 mai 1794, Arch. Nat., BB30 30.
(обратно)164
Комиссия по торговле, проект организации. Archives nationales, DXLII 9.
(обратно)165
Archives nationales, Justice, BB30 30.
(обратно)166
Archives de l'Aube, L m 11/531.
(обратно)167
Механическая игрушка, сконструированная французским изобретателем Жаком де Вокансоном. Воспроизводила разнообразные функции живого организма. — Прим. перев.
(обратно)



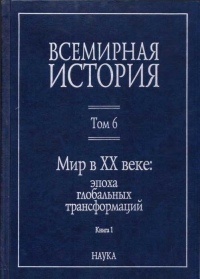
Комментарии к книге «Малый народ и революция (Сборник статей об истоках французской революции)», Огюстен Кошен
Всего 0 комментариев