ЕВГЕНИЙ МАРКОВ Русская Армения
I Через снеговой перевал
Опять приходится прорезать насквозь нашу необъятную южную равнину, — эту новооткрытую русскую Америку, в которой земля с каждым годом поднимается в цене словно на каком-нибудь соблазнительном аукционе, и которой бесплодные глины и пески распродаются теперь чуть не по квадратным саженям, как почва Берлина или Лондона, потому что всякий хозяин, всякий покупатель и предприниматель ждет здесь на всяком шагу неистощимых залежей железа, или угля, а то, пожалуй, чего-нибудь и поценнее, в роде меди или ртути… Эти минеральные богатства, это обращение недавно еще пустынных, степных пастбищ, облегающих на необозримое пространство Азовское море и низовья Донца и Дона, — в деятельную и густонаселенную горнозаводскую страну, прорванную густою сетью железных дорог, день и ночь дымящую своими черными трубами и залитую электрическими огнями, будто улица большого города, — резко перевернули экономическое положение не только местного населения, но и целой южной половины России; переместились центры торговой и промышленной жизни, установились могучие течения рабочей силы в новых направлениях: оделенные полубесплодными наделами мужички, продав под заводы и шахты своя неудобья, обратились в зажиточных собственников купленных на стороне обширных и плодородных земельных участков, а иные прямо в подрядчиков и капиталистов, — а попутно развилось сильное переселенческое движение из страны недоступно дорогих земель — в губернии, где гораздо лучшую землю можно еще покупать за цену втрое и вчетверо дешевле…
От века излюбленная пшеничка, подсолнух или лен, перестали уже быть центром вращения всех хозяйственных помыслов и забот степного жителя, и он на опыте убедился в справедливости своеобразно понятого им евангельского изречения: «не о хлебе едином будет жив человек», ибо камень стал его кормить гораздо сытнее и надежнее, чем кормил прежде хлеб.
Но, однако, в этой «новой России», так мало похожей на старую соломенную Русь, и гораздо более сходной с Америкой или Бельгией, — до русского рта доходят сравнительно скудные струйки от тех молочных рек, которые потекли в последнее время из каменных недр ее. Я с любопытством остановился на поучительных статистических цифрах, который как нарочно попались мне при самой поездке моей через этот край будущего в одной из местных газет («Приазовский Край»). Просвещенные европейцы, как оказывается, до того облюбили нашу невежественную страну снегов и медведей, что переносят сюда мало-по-малу главную массу своих иноземных промышленных предприятий. Одни бельгийцы, напр., к 1 января 1899 г. основали на Руси 113 различных предприятий, ценностью в 350 миллионов франков, между тем как во всей остальной Европе у них только 45 предприятий на 324 миллиона. Из числа 113 бельгийских предприятий — на юге России 71, а собственно в Приазовском крае — 23 с 82 миллионами франков. Особенно сильно стала развиваться у нас бельгийская промышленность с 1895 г., когда в один год основалось 20 различных предприятий, в том числе 8 крупнейших на юге: донецкие, прохоровские, луганские и варваро-польские каменноугольные копи, донецкое общество металлических изделий, екатеринославский и франко-русский литейные заводы и сантуриновское стеклянное производство, с капиталом в сложности 37.700.000 франков; в 1896 г. возникли еще 7 таких же ценных бельгийских предприятий: успенские доменные печи, луганские финифтяные изделия, железопрокатный завод в Константиновке, гончарное общество «Керамика» в Григорьевке, донецкий стеклоделательный завод, горловский завод строительных материалов и фабрика инструментов в Луганске. В 1897 г. прибавилось еще 4 предприятия на 10 миллионов; в 1898 г. по всей России основалось 35 новых промышленных предприятий бельгийцев, и из них на долю юга пришлось 17 миллионов франков, размещенных также в 4 предприятия. Насколько выгоден для иностранцев этот дружный поход их на богатства, сокрытая в недрах беспечной земли русской, — могут показать те же статистические цифры.
Так, в 1898 г. только с 14 предприятий, ценностью в 53 миллиона, получилось чистой прибыли 3 миллиона франков; вообще же барыш предпринимателей доходит до 8-25 %.
У нас до сих пор в повременной печати и различных экономических обществах ведется горячий спор о том, полезно или вредно допускать к разработке наших природных богатств иностранные капиталы. Судьба нашего юга доказывает до очевидности, что без иностранных капиталов, иностранного знания, иностранной предприимчивости, — новороссийские степи наши до сих пор оставались бы пустырями, на которых бродили бы овцы да гнездились овражки. Конечно, они оставались бы, вместе с тем, и непочатым источником будущего богатства, которое, без сомнения, попало бы когда-нибудь и в чисто-русские руки, как дедовская кубышка, запрятанная в потайной ящик и не приносящая дохода, но зато и совсем не растраченная.
Пока кубышка не разыскана, ее неприкосновенность имеет свое оправдание. Но раз она на виду, раз нам указали ее, — странно было бы оставлять ее лежать бездеятельно еще на многие годы, в то время как столько настоятельных народных нужд требуют своего удовлетворения. Если же сами мы не хотели или не в силах рискнуть миллионами для добычи новых миллионов, то было бы безумно отгонять от этого риска тех, у кого больше смелости, сил и уменья, — иначе сказать, лежа на сене, не давать его есть ни себе, ни другим… Какие бы себялюбивые расчеты ни руководили иностранными предпринимателями, все-таки они не в состоянии поглотить одни все выгоды своих предприятий; все-таки вокруг них, рядом с ними, неизбежно создадутся местные интересы всякого рода, которые потянут в свою сторону все, что будет можно; возрастут вокруг цены имуществ, поднимется заработная плата, проведутся всем нужные железные дороги, телеграфы и телефоны, откроется поблизости сбыт и покупка множества необходимых предметов и широкий рынок для помещения труда, укоренятся в местности полезные знания и привычки, ощутится усиленный прилив денег в местности, умножится и обогатится население…
Конечно, если бы это могло достигнуться своими собственными русскими капиталами и своими собственными русскими руками, то было бы еще для нас выгоднее, так как доходы этих предприятий оставались бы всецело в родной стране. Но ведь нам приходится большею частью выбирать не между русским и иностранным капиталом, а между иностранным капиталом и — ничем. Не делать ничего — во всяком случай предприятие наименее выгодное из всех. Нельзя не сознаться, что если русские капиталы и стали обнаруживать в последнее время какую-нибудь живучесть и наклонность к движению, то в значительной мере подстегнутые опасным для них соперничеством иностранцев, жадно захватывающих все лакомые кусочки, которые лежат сколько-нибудь плохо. Да и научились русские капиталисты искусству устраивать выгодные предприятия у тех же иностранцев, без которых вряд ли так скоро сумели бы они усовершенствовать свои производства и состязаться с ними же на одном поле.
Если, с одной стороны, не следует слишком расширять опасного для нравственного чувства человека смысла поговорки: «деньги запаха не имеют», то, с другой стороны, несправедливо было бы и излишне преувеличивать преимущества своих родных предприятий над иностранными. Страсть к наживе, стремление продать дорого и купить дешево, — свойственны почти в одинаковой степени всем людям, к какой бы народности ни принадлежали они, — и, как показывает долговременный опыт, русский заводчик, фабрикант и торговец, охраняемые таможенною политикою и высокими тарифами от иностранного соперничества, — весьма мало руководствуются сознанием того, что они работают для своего родного народа, а стараются, как и все, воспользоваться удобствами своего исключительного положения единственно для собственных выгод.
Поэтому вопрос о допущении иностранных капиталов в нашу промышленность, — по мнению моему, должен быть сведен только к тем мерам осторожности, которые необходимо должны быть приняты правительством, чтобы по возможности ослабить невыгодные стороны денежного участия иностранцев в экономической жизни России и увеличить выгоды этого участия для русского населения. Иначе сказать, требуется разумная законодательная разработка тех условий, при которых может разрешаться иностранцу основание тех или других промышленных предприятий в нашем отечестве, и которые обеспечивали бы одинаково как местных жителей, ищущих выгодного заработка, так и интересы казны…
* * *
В Владикавказ приехали мы глубокою ночью. Заехали в почтовую гостиницу, чтобы быть ближе к дилижансу и раньше выехать по военно-грузинской дороге, но там — ни одного свободного уголка. Извозчик повез нас в гостиницу «Империал», и, воспользовавшись полуночным часом, стянул с нас за доставку с вокзала целых два рубля. Гостиница чистенькая, и за 3 р. 50 к. нам с женою отвели весьма приличный номер. Дорогою, в вагоне, мы познакомились с полковником генерального штаба Б., по проекту которого недавно происходили весьма поучительные манёвры войск на Гунибе, Гунзахе и других местах былых боевых подвигов русской армии; маневры эти произведены были теми именно частями войск, теми славными полками, ширванским, апшеронским и другими, которых геройскою храбростью были покорены, десятки лет тому назад, неприступные горы и неукротимые племена Дагестана. Молодые солдатики, — наследники кавказских ветеранов, — должны были проделать те же самые переходы и те же приемы осады и приступа, какими был взят в старое время Гуниб и другие твердыни лезгин и чеченцев, так что они собственным опытом и воочию изучили историю знаменитых кампаний Кавказа, ощупав своими руками и излазав своими ногами скалы, обагренные геройскою кровью русских и горцев. Идея таких манёвров в высшей степени счастливая и заслуживает подражания. Полковник Б. познакомил нас и с составленным им подробным описанием этого характерного похода, тщательно изданным и снабженным множеством интересных фототипий, снятых с натуры и изображающих много исторических местностей и бытовых сцен. Нельзя не отнестись с искренним сочувствием к тому просвещенному и разумному направлению, которое вообще отличает наше военное ведомство со времен замечательного руководителя его, Д. А. Милютина, и которое было бы еще приятнее встретить в специальном ведомстве, заведующем просвещением нашего народа. Тот же полковник Б. основал в Владикавказе очень полезное «Общество физического развития детей», которое устроило при городском саде особый сад для гимнастики и игр всякого рода. Заинтересовавшись этим воспитательным учреждением по рассказу его главного руководителя, мы с женою рано утром пошли осмотреть его, благо городской сад — на той же улице, как и гостиница «Империал», и всего в нескольких шагах от нее. Пройдя тенистые аллеи городского сада, мы очутились над низменною поляною, среди которой катил свои очень смирные теперь воды прославленный поэтами Терек. Почти вся эта местность отвоевана у ложа капризной реки, воды которой катят целые груды нагрызенных ими в горах камней и гальки, и мало-по-малу, сами заваливая ими свое собственное русло, перебираются потом в другое, там в третье и так дальше, так что вокруг узенькой тесемочки летних вод Терека всегда лежит целая широкая равнина сухого щебня, заливаемая во время дождей и таянии снегов. Вот эту-то каменную низину и обратил с помощью плотин предприимчивый председатель «детского общества» — в роскошный сад с прудками, мостиками, цветниками, оранжереями, аллеями, террасами и павильонами в арабско-персидском стиле; гигантские шаги, гимнастические приборы всякого рода, крокеты, кегли, lawn-tennis, готовы здесь к услугам детей и взрослых. На хорошеньком скалистом островке, среди озерка, сделанном из глыб дикого камня и туфа, всевозможные местные звери и птицы: туры, медведи, шакалы, лани, олени, орлы… Лебеди свободно плавают по глади прудков, отененных деревьями. Весь город собирается сюда по вечерам на музыку и присутствует при упражнении своих детей, в которых принимают участие и многие взрослые.
Общество считает в своем составе значительное число членов и обладает уже изрядными средствами, которые помогают ему постоянно расширять и совершенствовать свое симпатичное предприятие. Этот утешительный результат достигнут, главным образом, энергиею и любовным отношением к делу одного просвещенного и практичного человека, и в высшей степени желательно, чтобы его пример нашел у нас подражателей в других городах.
Город Владикавказ — чистенький и красивый и не имеет общего шаблона наших губернских городов. Характерную физиономию придает ему чудная перспектива кавказских гор, на глубоком фоне которых живописно вырезаются все его постройки и поросли. Зеленый, тенистый бульвар тянется по середине главной улицы и украшает город гораздо лучше всех палат и храмов. Все улицы вымощены, тротуары превосходные, извозчики все в колясках и гораздо приличнее московских и петербургских. Какое, вообще, сравнение с тем жалким Владикавказом, который я видел в 1868 году, посетив его в первый раз!
* * *
Бумага начальника почтового округа, любезно присланная из Тифлиса, сильно ускорила наш отъезд и заранее обеспечила нам удобную четырехместную коляску, которую не всегда можно найти здесь, если не заказать вперед за несколько дней. Впрочем, теперь сезон кавказских поездок давно закончен, и уже не встречается тех затруднений, на которые нередко жалуются путешественники, попадающие сюда в горячее время. Громоздкий багаж наш с трудом поместился в просторный экипаж, хорошо приноровленный к русским путевым обычаям. Выезжаем мы очень торжественно, с нанятым для сего случая величественным седоусым кондуктором, георгиевским кавалером из терских казаков. У него все почтовые документы, у него на перевязи медная труба иерихонская, в которую он немилосердно трубит при всякой встрече повозок и верховых. Его строгий казенный вид и оглушительные трубные звуки производят, по-видимому, подобающее впечатление на едущих по дороге туземцев, потому что, заслышав их, они торопливо сворачивают с шоссе свои грузные арбы, иногда прямо в обрыв или в ров, и проворно раздвигают в обе стороны свои верховые кавалькады, — предполагая, вероятно, что с кондуктором и трубами могут ездить только большие начальники, которым нельзя не дать дороги… Удобно тем, что никто не мешает вам проехать, что вы не знаете никаких хлопот на станциях и с ямщиками, и в случае каких-нибудь неприятных встреч — все-таки имеете около себя надежного вооруженного человека. А кроме того, такие люди — очень полезные путеводители, хорошо знающие все, что встречается вам на дороге. Да и едете вы с кондуктором несравненно быстрее, без всяких задержек. Нам, правда, помогал в этом безостановочном движении со станции на станцию, главным образом, приказ почтового начальства, разосланный по станциям, и бумага от того же начальства, предъявляемая прежде всего кондуктором каждому станционному смотрителю. От того мы едва успевали войти на станцию, как уже новый четверик стоял впряженный в коляску. Приняв все это во внимание, не следует жалеть нескольких лишних рублей, которые вы прибавите почте за кондуктора и израсходуете на его пропитание и на неизбежную «на водку» ему по окончании пути. Всего от Владикавказа до Тифлиса взяли с нас за коляску четвериком и «проводника» — 62 р. 50 к. Если прибавить к этому шоссейный сбор, да рублей семь на содержание кондуктора и на водку ему, ямщикам и старостам, то почтовые расходы военно-грузинской дороги, не считая, разумеется, ночлегов и еды, обойдутся немного более семидесяти рублей.
* * *
Я уже лет семь не был на Кавказе, и давно не испытанные впечатления горного юга вспыхнули в моем сердце со свежестью новизны. Кавказ не похож ни на какую другую страну, и это чувствуется сразу, когда вас охватывает подлинный кавказский пейзаж. Настоящие всадники, сроднившиеся и словно сросшиеся с своим конем, — удалые, ловкие, живописные, в характерно накинутых бурках, в лохматых папахах, с лохматыми чехлами ружей за спиною; и коньки под стать их молодецкой посадке, их воинственным фигурам, горячие и быстрые как птицы, с задернутой поводьями горбоносой головкой, с шеею, выпертой кадыком, мерно и часто отчеканивают, сплошь подкованными копытами, покачивая всадника — словно в детской люльке — своею мягкою «ходою». Семилетние детишки скачут мимо смело и ловко, как джигиты, загоняя длинными палками стада, не заботясь ни о камнях, ни о кручах, чувствуя себя в этой отчаянной скачке среди этих круч — как рыба в воде. На скалах стоят в картинных позах, опершись на горлыги, обвязанные с художественною небрежностью башлыками, — сурово живописные пастухи. Такие же характерные двухколесные арбы с сухощавыми горцами, спокойно усевшимися на дышле, набитые народом, мешками, деревом; ослики, навьюченные возами колючего хвороста, который закрывает самые ноги их, так что кажется, будто куча ветвей сама собою ползет по дороге. А кругом, куда ни поглядишь, — горы, горы и горы!
Мы попали в своего рода переселение народов: сотни тысяч, а может быть и миллионы овец, цвета жженых сливок, с тяжелыми рыжими бурдюками, словно нарочно подвязанными им сзади, — все одна в одну, как волны моря, громадными отарами текут с зеленых холмов, рассыпаются по влажным низинам, беспечно карабкаются по утесам и обрывам. Впереди их, сзади, вокруг, — пастухи пешком и верхами гонят их с летних пастбищ, уже захваченных снегами, на зимние пастбища и равнины Кизляра. Все время, пока наша тяжелая коляска поднималась и спускалась по крутым петлям военно-грузинской дороги, один день за другим, вплоть до самого Тифлиса, мы встречали эти сплошные палевые пятна овечьих стад на зелени лугов и горных скатов, неспешно двигавшиеся все в том же направлении. Какая искренняя детская радость на душе! У нас дома уже снег, мерзлая грязь, шубы, двойные окна, ежедневная топка, все почернело, облетело, обледенело; а тут везде еще трава, деревья зелены и только красоты ради пробрызнули легонько румянцем и золотом, отчего горные леса стали еще очаровательнее.
Опять эти давно знакомые, но всегда поражающие и радующие художественное чувство — старинные массивные башни в виде тупых пирамид над слепыми саклями аулов, что висят будто гнезда ласточек на карнизах скал, на макушках холмов. Опять эти грозные голые громады с обнаженным скелетом земли, с гранитными ребрами, перевернутыми совсем отвесно непобедимым внутренним напором чрева земного.
До Балты только одна радостная картина глядящего из-за гряды лесных гор снегового хребта, протянувшего поперек всего перешейка кавказского непрерывную цепь своих каменных пирамид, словно титанический дракон мифологических легенд свои колоссальные позвонки…
Но за Ларсом, за Казбеком уже один суровый разрез безнадежных голых громад, который все теснее и глубже втягивает вас, словно перед вами медленно раздвигаются недра земли и вас поглощает ее черная утроба. Немая гигантская могила и вместе колыбель всего сущего, откуда все вышло, и куда все возвращается, и которая никому не открывает своих грозных тайн. И однако, дерзкий дух крошечного двуногого червяка осмеливается бороться с нею и, погибая в ней, одно поколение за другим, все-таки прорезывает сквозь ее толщи свои каменные и железные тропы, проводит говорящую нитку телеграфа, устраивает свои жилища у самых ног ее беспощадных громад, обрушивающих шутя утесы, камни и снеговые обвалы на голову смельчака.
От Коби к Гудауру теснина делается особенно тесною и мрачною, чуть ли не мрачнее, чем Дарьял у скалы Тамары. Каменные колоссы совсем почти сдвинулись над узкою трещиною, на дне которой пробирается словно живой зверь ревущий поток. Здесь уже все покрыто теперь снегом. Тысячелетние кавказские титаны оделись в белые саваны смерти. В этом виде своем они еще оригинальнее, еще, пожалуй, поразительнее, чем в своем обычном летнем уборе. Теперь они — воплощенное отрицание человека и всего человеческого, всякой жизни; бесстрастные, безжалостные стражи вечной могилы бытия. Я был во всяком случае очень доволен, что увидел старца-Кавказ в его одеждах смерти.
Холод в ущельях ужасный; ветер сбивает с ног, снег не только на горах, но и на шоссе, и на земле. Коляска скользит и визжит по замерзшему снегу.
Солнце никогда не заглядывает, в такую пору года, в эту гигантскую расщелину и не топит ее снегов даже в полдень. Ночь упала тут рано и быстро, и солнце, побаловав нас золото-розовым фейерверком далеких снеговых вершин, которые оно зажгло на несколько минут огнями своего заката, провалилось куда-то за горы, в невидимые нам пропасти. В то же мгновение небо, сейчас только сиявшее лазурью, позеленело и похолодело, как труп замерзлого.
Мы двигаемся своим тяжелым шестериком в снеговом хаосе беспрерывных спусков, поворотов, подъемов, словно по льдам Гренландии, не зная, как дождаться нетерпеливо желаемого перевала. Мрачная теснина держит нас как в железных оковах темницы, в своих белых мертвых стенах, со всех сторон загораживающих небо и звезды. Бедняга осетин, сидящий форейтором на уносных лошадях, подпряженных к четверику по случаю очень трудного многочасового подъема, — хотя и закутан в шубу, папаху и башлык, — совсем смерз и замотался, стараясь вовремя подхватывать унос на крутых местах своими обессилевшими коньками.
Перестали встречаться даже арбы горцев и неизбежные молоканские фургоны четвериком, на которых торчат целые вавилонские башни сундуков, бочек, ящиков, узлов и людей.
Наконец мы очутились где-то на высоте, откуда неистово срывал нас ветер, бушевавший здесь на полном просторе, уже без всякого заслона горных стен. Ямщик наш радостно вздохнул и соскочил с козел.
Около нас стоял каменный столб с надписью: «9.684 фута». Мы были на вершине перевала, и впереди нас начинался спуск.
Ямщик проворно отпряг обеих пристяжных и, бесцеремонно шлепнув их концом ременной постромки, пугнул их назад в темную ночь, в туманы снегового ущелья. Они, конечно, не ошибутся дорогою и не застоятся на пути среди снеговой пустыни, а верно и скоро найдут дорогу, к яслям, наполненным овсом. Мальчишка осетин еще раньше отстегнул своих уносных, и, получив от нас хорошую «на водку», вскарабкался опять на седло и нырнул вслед за пристяжными в черную тьму.
Теперь пошло совсем не то, — какое-то сумасшедшее, но вместе радостное скатыванье с английской горки по бесчисленным петлям и спиралям титанической винтовой лестницы. Воздух уже совсем другой; мороз и буря стихли, стало тепло во всех жилках; лошади будто окрылились и неслись как угорелые; ямщик в смутной полутьме, скорее чутьем и автоматическою привычкой, чем глазами, угадывал повороты, и над самым краем невидимой во тьме пропасти с удивительной ловкостью поворачивал разогнавшуюся пару почти прямо назад, в следующее колено бесконечной спирали. Как ни жутко, а приходится волей-неволей положиться на туземное искусство и туземных зверей и верить, что мы несемся не куда-нибудь кувырком в чернеющие у ног пропасти, а по законной шоссейной дороге на ночлег в Млеты.
Страшнее всего — это огни аулов, мерцающие Бог знает на какой глубине черной бездны, охватывающей нас со всех сторон и словно поджидающей к себе желанных гостей, совсем как огоньки рудокопов на дне глубочайшей шахты.
Снега мало-по-малу уходят вдаль и ввысь, смутно белеют издали, а вокруг нас, внизу нас, уже все теперь черно. Слава Богу, эта дьявольская английская горка наконец кончилась. Мы проехали Гуд-гору и слетели во весь дух под крыльцо освещенного фонарями двухэтажного дома. Благодаря любезности почтового начальства, нам уже приготовили здесь удобную комнату для ночлега, и нас ждал горячий ужин. В отлично отделанной столовой отлично накормили и напоили нас. С нами ужинал и какой-то проезжий генерал, приехавший несколько раньше.
Почтовая станция в Млетах — гораздо более похожа на приличную гостиницу, чем на станцию. Тут несколько чистых номеров с покойными постелями и хороший буфет. Хотя вообще на всех станциях военно-грузинской дороги теперь есть буфеты с разными закусками, чаем, вином и теплыми кушаньями, но для обеда, ужина и ночлега главным образом приспособлены две главные станции — Млеты и Казбек. Вообще, порядок на этой шоссейной дороге образцовый: лошади прекрасные, запрягают быстро, везут отлично, шоссе на всем пространстве в безукоризненном состоянии, отчего только и возможны здесь поездки в темную ночь.
* * *
На станции Ананур мы залюбовались старинными башнями, храмами и зубчатыми стенами романтического ананурского кремля, — этого прекрасно сохранившегося характерного образчика средневековых замков Грузии, придающего какую-то особенную поэтичность и картинность прелестному горному пейзажу, окружающему хорошенький городок.
Совсем иная красота — великолепных лесных ущелий Пасанаура, под зеленую сень которых спасаются на лето от сухого зноя тифлисских улиц — тамошние горожане.
К Душету панорама расширяется в зеленую равнину, полную холмов, охваченную далекими горами. Круглое озеро освежает и разнообразит местность тихою гладью своих вод. Душет — красивый городок; на первом плане его — целый поселок огромных красных казарм квартирующей здесь милиции, подавляющих собою низенькие туземные домики города. Напротив города, через речку — старинный рыцарский замок князя Чиляева, мусульманина по вере, с многочисленными службами, садами и всякими угодьями.
Тут уже мы на берегах Арагвы, которая провожает нас по всей равнине, широкая и бурливая.
Мцхет смотрит настоящим ветхозаветным старцем; не живой город, а скорее уцелевшая мумия когда-то живого города — до того полиняли от древности, потускнели и стерлись все его дома, башни и храмы; издали кажется, что он весь вылеплен из той самой зеленовато-серой глины, на которой он стоит, и которая окружает его со всех сторон. Но во всем Кавказе нет более выразительного и типичного представителя древней истории Грузии, как этот архаический город. Так и хотелось бы прикрыть стеклянным футляром все его острокрышие граненые соборы, с старинными украшениями и надписями, его разрушающийся кремль, его доисторические могилы в отвесных скалах, сложенные из каменных плит, — и обратить этот омертвевший городок библейских времен в глубоко интересный археологический музей.
Но самый характерный памятник Мцхета, по которому вы узнаете его, когда бы и откуда ни подъезжали к нему, — это древнейшая из всех местных древностей — монастырь Степан-Цминда, воздвигнутый на высоком, со всех сторон открытом мысу противоположного берега Куры, над самым впаденьем в нее бурной Арагвы, на том именно месте, где стоял некогда самый чтимый огнепоклонниками Грузии «пирей», — храм священного огня и солнца. Теперь там православный Покровский монастырь, в котором живет несколько монахов, поддерживающих древние стены одинокого храма; он удивительно эффектно вырезается своею одиноко торчащею, белою массивною башнею, без деревца и кустика вблизи, на синем фоне неба, торжественно поднятый к нему колоссальным пьедесталом каменной скалы, и видный всем из далекой дали, словно маяк, указывающий путь в сердце страны.
И так странно проезжать среди этого глухо дремлющего ветхозаветного пейзажа, еще полного темными легендами и верованиями библейских времен, через «реку Кира», мимо храмов св. Нины, на многошумном, дышащем огнем и дымом железном чудовище XIX-го века, дерзко вторгнувшемся в неподвижную азиатчину грузин и персов.
* * *
Тифлис и подавно узнать нельзя — так он расстроился, похорошел, цивилизовался. Мы отдохнули в нем досыта, и только дней через восемь двинулись в путь. Выехали в девять часов ночи; на вокзале — страшная теснота и давка, в вагонах — тоже. В поезде всего один вагон первого, один вагон второго класса; армяне с своими армянками и детишками, с целым обозом узлов и чемоданов, толстые, грубые, крикливые и неповоротливые, заполонили все двери и проходы, — нельзя двинуться ни туда, ни сюда. Курят как в казарме, толкаются как на базаре. Тифлис виден нам сверху, с полотна дороги, как море рассыпанных огней; горные скаты, по которым лепится он, помогают видеть весь его обхват; электрические солнца яркими очагами сверкают среди красноватых огней керосина.
II Долина Акстафы и озеро Гокча
Уже глубокою ночью вышли мы на станции Акстафа, откуда идет почтовая дорога мимо озера Гокчи в Эривань и Эчмиадзин. Вокзал просторный и удобный, так что оказалось возможным не только хорошо поужинать гокчинскою форелью и другими приличными яствами, но и отлично выспаться в отдельных комнатах, мужской и дамской, на широких, мягких диванах. Почтовый староста сам является на вокзал в ожидании проезжих, так что мы без всякого затруднения наняли поместительную четырехместную коляску четвериком за 20 руб., вместе с прогонами, до станции Семеновки, в 92 верстах от Акстафы. От Семеновки держит почту уже другой содержатель. В семь часов утра, напившись кофе, двинулись мы в путь. Облачное утро было довольно прохладно, но когда ободнялось, и южное солнце выкатилось на расчистившееся небо, стало совсем тепло, так что пришлось снять осенние пальто.
Я не воображал, что долина Акстафы — сплошной альбом прекрасных видов. Широкие лесные пазухи, таинственно выглядывающие темные ущелья, скалистые пики, купающиеся в горячей синеве неба, живописные обрывы. Удивительно ласкает глаз перспектива лесных гор, уходящих вдаль чередующимися грядами разнообразных тонов, постепенно ослабевающих и замирающих наконец чуть видным туманным гребнем. Особенно прелестна лесная долина за станцией Караван-Сарай до станции Чарсатайской. Вообще, дорогу эту нельзя назвать совсем пустынной: в девяти верстах от Акстафы городок Казах с несколькими магазинами, с людным базаром, с домами хотя и бескрышими, но уже с большими, светлыми окнами, а не с щелочками, как в обыкновенных татарских домах.
Караван-Сарай — преживописное местечко, все в зелени и в скалах; много армянских лавок и очевидно изрядная торговля. Тут управление лесничества, сберегательная касса, почтовое отделение, — тоже, стало быть, городок своего рода, где во всяком случае живется удобнее, чем в наших русских деревнях. По дороге, нам навстречу, впереди нас и вслед за нами, двигаются во множестве огромные молоканские фуры, запряженные четвериками лошадей на железных цепях, все раскрашенные в красно-зеленый цвет, полные тюков, сундуков, бочек, перин, колес, мешков, корзин, мужчин, баб и детей. Правят арбами хозяева, молокане, — все народ здоровый, одетый в обычные русские тулупы. Целыми обозами, по пяти, по шести, тянутся они одни за другими, но нет возможности объехать их. Такие же фуры двигаются без конца и счета, как мы только что видели, между Владикавказом и Тифлисом. Молоканин берет по 6 р. 25 к. с седока от Владикавказа до Тифлиса и столько же — от Акстафы до Эривани. С товаров же он берет 25 к. за пуд, наваливая в свою крепко кованную арбу от 150 до 200 пудов. Молокане и духоборы — почти единственный элемент кавказского населения, который берется за перевозку товаров и поставляет на базары закавказских городов необходимые сельскохозяйственные продукты. Без этих трудолюбивых и предприимчивых людей в Закавказье цивилизованному человеку было бы очень трудно удовлетворять самым скромным привычкам жизни. Один из ученых управляющих удельного ведомства, балтийский немец, г. В-к, под главным ведением которого находится обширное удельное именье в 30.000 десятин, с лесами, конским заводом и большим скотоводством, в 150 верстах от Тифлиса, уверял меня, будто молокане, его соседи и обычные арендаторы земли, — большие мошенники и далеко уступают в честности и нравственности духоборам, хотя и духоборы, по его отзыву, в последнее время становятся пьяницами. Армяне — тоже большие плуты, грузины — лентяи и пустяшники; татары, по отзыву г. В-ка, всех честнее, всегда твердо держат слово и отдают в срок то, что должны. Признаюсь, если такая аттестация имеет под собою действительное основание, то она не в особенно выгодном свете рисует благодеяния христианской цивилизации варварской Азии. Впрочем, от всех здешних русских слышал о молоканах отзывы гораздо более благоприятные, как о добросовестных и полезных людях.
Между Акстафою и Эриванью ходят и казенные почтовые дилижансы, не совсем, однако, удобные для непривычного человека. Седоки размещены в них по боковым лавочкам, лицом друг против друга, боком к лошадям, и прикрыты кожею с обеих сторон.
В долине Акстафы нас поражали своею величиною громадные красавцы-дубы, растущие здесь обыкновенно одним могучим букетом, чинары-великаны с голым, серо-белым, как кость, стволом в два обхвата, исполинские грецкие орехи и смоковницы и много других южных деревьев, с которыми нас давно ознакомил наш маленький Крым. Даже плющ, как в Крыму, обвивает, оклеивает, будто обоями, и душит здесь деревья. Земля здесь — род светло-коричневого леса, мягкая, распахивается как пух первобытным деревянным плугом-крюком, без кусочка железа, запряженным двумя буйволами или волами. Но камни начиняют эту почву, как горох — пирог, и без такого плуга-клина их не было бы возможности выпахать: всякий иной плуг разлетелся бы вдребезги. К полянам везде проведены оросительные канавки. Живут здесь все армяне, черные, носатые, черноглазые, в рыжих лохматых шапках грибом, в какой-то оригинальной вязаной обуви, с шнуровкою вверху, с буйволовою кожею внизу. Деревенские жилища их совсем не важны и нисколько не живописны: сложенные из сырого кирпича мазанки с земляными плоскими крышами, с галерейкой на столбиках впереди. Те же татарские сакли. Везде только черные буйволы да ослики, быки очень редки, лошадей почти не видно.
Долина производит вообще впечатление обилия и настоящего юга. Осенний румянец в своих разнообразных переливах, от червонного золота до темно-малинового цвета, еще больше усиливает очарование горных лесов и вместе с беспорочною лазурью неба сообщает пейзажу какую-то особенную ласкающую душу мягкость. Я уверен, что летом леса эти не так красивы, как теперь, когда еще немногие деревья стали терять свой лист, а большая часть их внизу гор еще густы и зелены, между тем как выше их курчавые шапки уже горят желто-красными огнями.
Поразительно красивые местности встречаются за Караван-Сараем: острые пирамиды лесных гор слева, а справа — чудовищной величины волшебные природные замки из разноцветных скал и утесов, с башнями, стенами, голыми обрывами, уходящие из глубины лесной долины высоко к небу; а из-за них, над ними, другие, еще более грозные твердыни титанов тяжко поднимаются своими изгрызенными каменными зубцами. А то из-за курчавых горбов и шапок, из-за величественной, широкой пирамиды, обросшей золотисто-бурыми лесами, к груди которой прильнули, будто детки к матери, другие, меньшие пирамиды в том же багряном уборе, — выплывает, будто выдвижная декорация феерии, ярко освещенная солнцем каменная стена какого-то бело-розового мрамора, задвигающая собою четверть горизонта и ярко вырезающаяся на синем небе.
Я не знаю, добывается ли из этих красиво глядящих скал какой-нибудь ценный строительный материал, но в разных местах акстафинской долины мы встречали пещерки и туннели, проделанные в подножье каменных громад, и доморощенные попытки копать медную руду из каких-то синевато-зеленых глин; а судя по ярко-красному цвету многих мест — в этой долине может оказаться и железная руда. Известный ученый Дюбуа де-Монпере, путешествовавший по Кавказу в конце 20-х годов нашего столетия, сообщает даже сведения из древних писателей о Кавказе, что в долине Акстафы находили когда-то и золото.
Редкая местность нравилась мне так своими свежими красотами, своим разнообразием и прелестью, как эта ничем не расхваленная, почти не посещаемая путешественниками, стоверстная долина Акстафы. Будь она в западной Европе, о ней давно бы протрубили уши туристам всякие путеводители, фотографии и альбомы, ею бы ездили любоваться, как прославленными долинами Швейцарии и Тироля.
Шоссе тут везде бежит широко и полого, без крутых подъемов, без опасных обрывов. Везде на первом плане чудные, редкостные деревья огромного роста. На голых скалах и стенах торчат отвесно характерные, словно свитые из стальных канатов, узловатые туйи с такою же серою хвоею, по виду совсем каменные деревья, естественная поросль этой каменной почвы, с которою они, кажется, сделаны из одного материала. Здесь, впрочем, все вообще деревья чрезвычайно узловаты, с огромными бородавчатыми наплывами, все извиты и перекручены, словно их ссучивала в жгут чья-нибудь богатырская рука.
Деревни становятся очень редки. Кое-где рассеяны грибками стожки сена, уставленные на деревянных помостах аршина 2 и 2 1/2 от земли, чаще всего между трех, четырех высоких дубов, чтобы не щипал их скот, свободно бродящий по горным лесам, и не сносили со скатов потоки дождевых вод.
Река Акстафа, вся в камнях и порогах, красиво вьется у подножия этих живописных лесных стен… Юг дает себя знать: уже самый конец октября, мы забрались теперь изрядно высоко, а все-таки совсем тепло, и снежок белеет только на очень высоких горах, выглядывающих своими макушками из-за лесных гор.
Местечко Дилижан — в роде маленького городка; ряды армянских лавок, мельницы, почта, телеграф, сберегательная касса, много очень своеобразных и красивых деревянных домов с разными галерейками в два яруса, совсем новая церковь и, вдобавок ко всему, внизу, у речки — целый отдельный городок каменных корпусов — казармы ардаганского полка. Оттого, верно, и такое обилие капустников по речной низине. Дилижан — весь в садах, в купах деревьев, весь на скалах и обрывах; он напоминает живописные немецкие городки, спрятанные в лесных ущельях. Отсюда дорога уже идет по гораздо более тенистому и суровому дилижанскому ущелью. Горы надвигаются ближе, кажутся выше и грознее; дорога забирается со дна долины, где до сих пор она метала справа налево и слева направо свои длинные, пологие петли, высоко наверх, через чудные леса, над глухими зелеными пропастями. Везде превосходные мосты и превосходное широкое шоссе, так что все время, до самого перевала, на высоте 7.124 футов, коляска наша поднимается рысью. Впрочем, и сам Дилижан лежит уже довольно высоко — 4.200 футов над морем. Одно жаль, что, несмотря на паровые катки, которые я видел в разных местах, свеже-насыпанный щебень укатывается, главным образом, не этими катками, а колесами злополучных проезжих, что немало затрудняет подъем и раздражает нервы.
Мы выехали из Дилижана в четыре часа дня, но солнце почти мгновенно провалилось за горы, как это обыкновенно бывает в горных странах, и нас сразу охватили сумерки. Рог молодой луны, по счастью, поэтически глядел на нас с потускневшего свода неба, высоко над горами, и хотя немного освещал нам путь с шести часов, однако, стало совсем смутно, и резкие завороты на всем разбеге тяжелой коляски над зияющими кругом многоярусными безднами, края которых скорее чуялись, чем виднелись в облачных туманах наступавшей ночи, — вызывали несколько жуткое чувство, тем больше, что далеко не над всеми обрывами поставлены ряды каменных столбов, оберегающих экипаж от падения в пропасть. Красный огонек в далекой лесной чаще преследовал нас, как подозрительный глаз таинственного сторожа этих диких дебрей, мигая нам то высоко сверху, то вровень с нами, то глубоко внизу, смотря по тому, спускалась ли или карабкалась вверх наша дорога. Снега тоже видны нам сначала высоко и далеко над нашими головами, чуть не в самых небесах, потом глядят наравне с нами глаза-в-глаза, отделенные только темными провалами бездны, потом уже около нас самих, а там, смотришь, и гораздо ниже нас, где-то на дне пропасти…
Петли шоссе здесь так часты и остры, что идут почти параллельно самим себе, чтобы смягчить и сделать мало заметным крутой подъем; кажется, будто по десяти раз проделываешь все одну и ту же дорогу и поминутно идешь навстречу самому себе.
— Как же вы тут зимою ездите, почту возите? — спросил я ямщика.
— Зимою тут дюже плохо! — отвечал бородач. — Снегу столько, что столбов не видно; в метель или в темную ночь того и гляди, в овраг свалишься, особливо в тяжелом экипаже. Бывает, что и опрокидываются, и дорогу теряют; да и летом, в темные ночи, тоже несчастья случаются.
— А насчет шалостей тоже, небось, частенько бывает?..
— Это вы про воров или разбойников!?.. Нет, Бог миловал, насчет этого у нас спокойно… Ездим же вот мы каждоденно в одиночку, на обратных, и в ночи темные, и в непогоду; лежишь себе, спишь, — а ничего, никто не трогает… Баловаться тут не балуются…
Спуск с перевала в Семеновку очень короткий. Не успели оглянуться — очутились внизу. Почему-то здесь стало гораздо холоднее, чем наверху, так что пришлось укутаться, сверх пальто, еще в пледы. Вероятно, это объясняется более открытою местностью и близким соседством громадной водной чаши озера Гокчи.
* * *
Комнату почтовой станции, где отвели нам ночлег, хотя она была и с двойными окнами, пришлось, по нашему требованию, порядочно протопить, но филёнчатая дверь ее так слабо охраняла нас от надворного холода, свободно проходившего в открытые настежь сени, что к середине ночи спальня наша совсем остыла, и мы ничем не могли достаточно укрыться от холода, ворочаясь до рассвета на не особенно покойных деревянных диванах; к тому же, вся эта просторная комната представляла из себя целую сеть правильных мышиных трактов из одной широко выгрызенной щели в другую; эти официально признанные ворота в подпольное царство мышей и крыс раскрывались не только в углах комнат и в плинтусах, но и за печью, и посередине комнаты, и посередине стен, на самых разнообразных высотах, так что можно было ожидать многолюднейшего посещения этими невинными тварями постелей наших не только со всех сторон снизу, но еще и сверху… Поэтому, прежде чем лечь спать, мне пришлось изощрять свою изобретательность в устройстве всевозможных баррикад в каждом из этих откровенных отверстий для мышиного набега, вследствие чего мы прослушали ночью только непрерывную грызню и скребню в стенах и под полом, но были, к счастью, избавлены от непосредственных сношений этих милых зверьков с нашими телесами, простынями и одеялами…
Поднялись утром, — снег везде кругом; на всех горах, во всех впадинах, рвах и ямах. Облако, густое и туманное, сидело на Семеновке, закрывая дали. Мы боялись, что не увидим по дороге ровно ничего. В Семеновке казацкий пост, оберегающий перевал и сдерживающий весьма обычные в этой стране разбои татар, — пост земской стражи, почтовое отделение, сберегательная касса; живут тут частью армяне, но больше молокане.
— Каков этот народ молокане? — спросил я сторожа-армянина, подававшего нам утром самовар.
— Народ честный, живут хорошо, обиды от них — никакой, — отвечал сторож. — Вот татары, — те воруют, когда приходят в горы, на летние кочевья. От них и караулы ставятся. Казацкие разъезды по дороге разъезжают. Между Дилижаном и Семеновкой ночами небезопасно тогда бывает; почту не иначе как с конвоем казацким отправляют, тоже и экипажи срочные, а на всех горах посты расставляют. Нижние-Ахты есть местечко неподалеку, так там 200 пластунов постоянно живут, пока глубокие снега не впадут, и ворам станет неудобно в горах жить, в лесах прятаться. Тоже и в других местах есть команды пластунские. А теперь ничего, безопасно по дороге, татары давно ушли, в лесах никого нет.
Так что наше зимнее путешествие, в сущности, вышло безопаснее летнего, хотя почту на наших глазах еще продолжают провожать верховые казаки.
Какой-то торговец-армянин из ближайшего местечка попросился у нас подвезти его до следующей станции. Посадили его на козлы и стали с ним беседовать.
По его словам, молокане — люди честные и с армянами живут ладно. Татары тоже с ними не ссорятся, но из них бывают воры и разбойники. Все почти местные товары перевозят в своих фургонах молокане; у них хорошие лошади и вся нужная справа. Фургон стоит немало — от 350 до 400 рублей; от Эривани до Акстафы берут они 30 коп. с пуда. Армяне же здешние живут бедно; почти все — одним земледелием занимаются. Торговля служит подспорьем только для немногих. Земля здешняя холодна, мало плодородна; сеют больше пшеницу и ячмень, но родится не очень хорошо; зима долгая, целых пять месяцев; овец приходится перегонять далеко, на южные скаты гор, где зима всего два месяца. Сено им дают только в продолжение двух месяцев, в остальные — питаются подножным кормом, на пастбищах, оттого падает их много. Откупают еще рыбу в Гокче; платят 600–700 рублей за лиман (т. е. один из заливов озера); продают рыбу в мае и июне по 1 р. 40 к., 1 р. 20 к. и даже 80 коп. за пуд; тогда ее ловится много, до 60-ти пудов в день, — зато мелкая; а теперь она стоит по 4 руб. и по 4 р. 50 к. за пуд, потому что она крупная, и ее немного.
Мы ехали, окруженные белым облаком, не видя ничего, кроме своей коляски. Вдруг пахнул откуда-то ветер, облако сдуло с дороги, как метлой паутину, и кругом засиял ясный голубой день, проливший в мою душу неожиданную радость и надежду. Перед нами, глубоко внизу, засверкала, приподнятая краями к горизонту, синяя гладь громадного озера-моря с широко расплесканным по ней расплавленным серебром солнечного отражения…
Сдутое ветром, облако лениво тянулось по его поверхности, курясь дымками тумана, к тесному ущелью гор.
С первого взгляда озеро Гокча смахивает на Мертвое море; кругом его — такие же бесплодные, мало живописные горы, в роде Моавийских, окружающие цепью водную чашу Гокчи, словно застывшие бурые волны; только здесь горы придвинулись ближе, не так уж пустынны и присыпаны белым снежком, о котором, разумеется, не имеет понятия раскаленная страна Содома и Гоморры…
У самого берега озера прячется бедная армянская деревня Чубухлы, из которой и был наш случайный спутник. Не дома, а какие-то пещеры из дикого камня, без окон, с одною дверью; земляные крыши плоскою горбушкою или пологим курганчиком; скот эагоняется в такие же темные хлева, как и люди; работать там нельзя, видеть ничего нельзя, — настоящая звериная нора от дождя и холода. Тут же на крышах и гумно: свалены беспорядочною кучею ячмень, пшеница, в роде неопрятных стожков сена; у хаты оригинальные пирамиды кизяку, обмазанные снаружи засохшим пометом с грязью, чтобы это вонючее топливо не портилось от дождей и не рассыпалось от жара. Эти черные пирамиды придают очень своеобразный и, вмести, унылый вид всем здешним армянским деревушкам. Внутри хаты — та же грязь, то же отсутствие всяких удобств, всякой человеческой потребности: вместо печи — громадный глиняный кувшин в земле, который хорошенько растопят и нагреют, потом хозяйка ловко обмажет размешанным пшеничным тестом его горячие стенки, и через секунду с этих стенок стягивается огромный мягкий блин, тонкий как лист бумаги, — ловаш, который у жителей Кавказа служит не только хлебом, но и тарелкою, и салфеткою, и оберточною бумагою. На хатах никаких труб, а только черные дырья в крыше, да редко окраек из той же земли, среди которого зияет пасть печи. Кругом жилья — ни кустика, ни деревца, ни дворов, ни огородов. Безотрадное и жалкое впечатление человеческого бессилия и унижения! Здесь армяне и армянки ходят как татары: женщины обвязывают платками нижнюю часть лица и головы, а иные покрывают и все лицо; одеваются в те же пестрые бешметы, фартуки, шаровары, с головы спускают множество заплетенных косичек и также оборваны и грязны, как татарки или цыганки.
Прекрасное шоссе, с столбиками по краям, вьется вверх по обрывистому берегу на очень изрядную высоту. Приученные почтовые лошади взбирались, однако, вверх не только скорою рысью, но даже и во весь дух, так что, казалось, мы взлетаем на гору на крыльях птицы. Но такой удобный въезд на горный берег Гокчи явился только недавно, с проведением шоссе. До того же времени в обрывах Гокчи частенько ломали себе шеи и люди, и лошади. Особенно в зимнее время было опасно ехать этим крутым берегом: вьюги наносили обыкновенно на берег страшные снеговые сугробы, и они смерзались, образуя скат к озеру, куда и летели нередко закатившиеся возы и сани с товарами. Уверяют, будто и молокане соседней Еленовки, с своей стороны, помогали иногда в ненастные зимние ночи этим неожиданным путешествиям армянских «черводаров» (товарных извозчиков) в пучины «Синего озера», после того как возы их облегчались от самых ценных товаров.
Мы теперь на 7.124 фута выше поверхности моря. С высоты берега еще лучше виден нам весь пустынный простор горного озера с его темно-синею зыбью и ровною, будто по линейке отрезанною чертою противоположного берега, обрывающегося в волны озера неприступными, безлюдными кручами, без малейшего жилья и кустика.
А на первом плане, у ног наших, — мощные выступы тяжелой пятой в то же озеро других, еще более отвесных круч, по которым бежит наша дорога.
Чувствуешь себя словно на какой-то радостной и беззаботной прогулке, катясь свежим утром в покойной коляске над этими живописными водными безднами.
На одиннадцатой версте панорама озера вдруг разом сильно расширяется. Уже конца его теперь не видно, будто настоящее море. Боковые горы тоже вдруг отступают в туманы дали; справа вырисовывается отчетливо и ярко на синем небе снеговая цепь Котах-Кая, и залитая огнями солнца скатерть вод колышется везде, куда хватает глаз, мириадами своих трепещущих влажных чешуй… У ног наших, посередине освещенного озера, вырезаются темные силуэты романтически-живописного скалистого островка Севанги, с типическими островерхими башнями его древних церквей, словно списанных с храмов Мцхета.
Этот «Сев-ванк», или черный монастырь — один из древнейших исторических и археологических памятников Армении. Он построен, по преданию, еще св. Григорием, просветителем Армении, и по его имени самое озеро Гокча (Гёк-чай, «синяя вода» — по-татарски) называлось в древности, да зовется часто и теперь, озером Севанга. В этом когда-то неприступном крепости-монастыре спасались от опасности армянские цари и патриархи, сохранялись подолгу царские и церковные сокровища и даже эчмиадзинские святыни. Сюда же обыкновенно ссылали на покаяние и исправление и заточали в темницы впавших в немилость духовных лиц; потому севангский монастырь всегда славился строгим пустынножительством и великими подвижниками иночества. В эту минуту исторически «черный монастырь», загораживающий собою солнечную сторону, смотрит, действительно, черным и мрачным, как схима, как темница, как самое подобающее место покаяния и кары… На нем в настоящее время два монастыря: один — на темени скалы, типический, живописный, дышащий сединою веков и сливающийся цветом своих камней с цветом скал, на которых он стоит, — теперь почти упразднен по ветхости своей. Другой — внизу, значительно новее, уже в зелени садов, у самой пристани острова.
— Монастырь очень богатый и старинный, — объяснил нам спутник-армянин. — На праздники сходится столько народу, что деться некуда. А монахов — всего семь. Скота у них много, рыбы, сад есть большой яблочный, виноградник, огороды… Только не здесь, не на острове, ведь монастырю принадлежат и на берегу, в разных местах, земли и дома.
Он сейчас же указал нам, с версту за монастырем, далеко выступающий в море мыс, с несколькими домиками и деревьями на перешейке.
— Вот это их место и пристань рыбная, — говорил армянин. — Вон, видите, деревня маленькая, сейчас около мыса — Цама-Коперт; это тоже на их земле, деньги им платят.
Парусная монастырская лодка, поддерживающая постоянное сообщение с островом, причалила в эту минуту к пристани маленькой бухты и высадила кучку народа.
Мы повернули резко направо, мимо Цама-Коперт, с ее черными пирамидами кизяка и слепыми земляными норами, уставленными наверху стожками, вдоль большого залива озера Гокчи.
Тут уже местность гораздо оживленнее и разнообразнее: множество бухточек, кос и полуостровов, рыбацкие лодки на воде, селения по берегам.
Мы подъезжаем к селу Еленовке, сплошь заселенному сектантами разных толков. Тут же почтовая станция и шоссейная застава, тут почтовое отделение и пост земской стражи. Местечко большое, хорошие дома из тесанных камней, с светлыми городскими окнами, богатые хозяйства. Буфет на станции оказался изрядный: свежая гокчинская форель, которою это озеро славится по всему Кавказу, яйца, сыр, местное вино. За все угощение с нас обоих взяли только 1 р. 10 к. Форель и вообще рыбная ловля — главное богатство этих мест. Все здешнее крестьянство — сплошные рыбаки. Гокча не только поит их, но и кормит. Эта громадная водная чаша, поднятая на высоту 7.124 футов, залившая собою полторы тысячи квадратных верст, имеющая 66 верст длины, 30 — ширины и 220 верст в окружности, — в то же время драгоценный рыбный садок, обилие которого не успели вконец истощить десятки веков самого неблагоразумного людского хищничества. Этим озеро, быть может, обязано необыкновенной глубине многих своих мест, недоступной никаким неводам. В середине его попадаются иногда глубины в 100 и даже 250 сажен.
В Гокче водится главным образом форель различных видов и гораздо более дешевая и менее вкусная рыба-храмуля. Ловля рыбы сдается казною в откуп за несколько десятков тысяч рублей ежегодно, для чего все озеро разбито на участки по отдельным лиманам. В последнее время, как и везде, количество рыбы в Гокче значительно уменьшилось; старики еще помнят время, когда нельзя было зачерпнуть кувшина воды в озере без того, чтобы в него не попала маленькая рыбешка, а теперь случается, что и не попадается ничего в целую тоню.
Быть может, это уменьшение рыбы зависит не только от хищнических приемов рыбаков, но и от постоянного уменьшения воды в озере, уровень которого понижается очень заметно. Некоторые местности, недавно еще лежавшие у самой воды, теперь удалились от нее на порядочное расстояние, а мысы противоположных берегов от этого понижения уровня вод все более сближаются между собою, и в самом узком месте озера грозят даже, с течением времени, переделить его на два озера.
При завоевании армянской области Россиею, в Гокчу впадало, по исчислению Шопена, 36 речек, а уже в 1879 году специальная комиссия, расследовавшая состояние рыболовства в Гокче, насчитала только 25 речек, да и те, по показанию жителей, сильно обмелели. Река Занга, составляющая собою единственный исток озера Гокчи в реку Аракс, точно также стала значительно мельче, так что в 1875 г. жители вынуждены были прорыть глубже ее верховье, чтобы воды озера могли по прежнему протекать в русло реки.
Так как, по убеждению геологов, озеро Гокча наливает собою кратер громадного потухшего вулкана, и вся окрестная страна носит несомненные признаки вулканического происхождения, то помимо истребления горных лесов по берегам озера, служащего везде обычною причиною обмеления вод, его можно еще объяснить существованием подземных пустот и проходов в недрах старого вулкана. Вероятно, от вулканического характера почвы зависит и прекрасный вкус гокчинской воды, вполне заменяющей хорошую ключевую воду, и ее необыкновенная прозрачность, дозволяющая рассмотреть каждый камешек дна ее на глубине 7 и 8 сажен.
* * *
Суровые окрестности Гокчи, целые полгода покрытые снегом, издавна служат местом ссылки из внутренней России так называемых «вредных сект». Семеновка, Еленовка, Никитино, Константиновка, с. Ахты, Сухой-Фонтан — вот главные гнезда здешнего молоканства, прыгунства и субботничества. Молокан стали ссылать сюда лет пятьдесят тому назад; они сами выбрали себе эти холодные горные равнины, климатом своим напоминавшие им родную Русь, и в то же время богатые водами, пастбищами, лесами и тучною почвою, способною родить пшеницу, коноплю, лен и всякие хлеба. Сектантам не пришлось, как другим переселенцам с севера на юг, расставаться здесь с валенками, полушубками и теплыми шапками, не пришлось забывать саней-розвальней, приучаться к непривычной поливке полей или к аршинной перекопке земли под виноградники. Они предпочли неведомому для них рису и винограду южных низин давно знакомое обыкновенное полевое и луговое хозяйство, тем более, что их закон, все равно, запрещал им пить вино, а родимая гречневая каша казалась им много вкуснее татарского плова. Сектанты переселили таким образом на далекое армянское плоскогорье Севанги непочатую и неподдельную матушку-Русь со всеми ее привычками домовитого хозяйства, непокладного труда, непобедимого терпения и выносливости. Среди сплошного моря татарщины и армянщины появились многолюдные оазисы самобытной и крепкой русской силы, которая скоро внесла в местную жизнь, в хозяйство и обычаи страны, много своего, русского. Сила эта развернулась здесь шире, чем на родине, потому что здесь никто уже не стеснял свободных проявлений духовной жизни народа; «публичное оказательство раскола», строго преследовавшееся на родине, в воронежской, тамбовской или саратовской губернии, здесь, среди иноверцев, не представлялось уже опасным ни правительству, ни духовенству, и хотя формально было запрещено и на новых местах переселения, но уже налицо не было тут ни ближайше заинтересованного в деле приходского священника, ни станового пристава, призванного уставом благочиния охранять чистоту православия в народе.
Предоставленные сами себе, сплоченные в многолюдное общество распоряжениями правительства, молокане, и без того наклонные к мистицизму и внутренней жизни духа, продолжали все глубже и дальше вдаваться в умствования, непосильные для их непросвещенного ума, и мало-по-малу выделили из себя новый толк «прыгунов», особенно усердных «ревнителей вставной и чистой веры», постившихся и молившихся в своих ночных радениях до тех пор, пока на них не «сходил дух», по их убеждению, отчего они начинали судорожно двигать руками и ногами, раскачиваться, ёрзать по лавке, притоптывать ногами, подпрыгивать сначала сидя, а потом стоя, и наконец скакать в неистовой пляске до измора, до обморока, грохаясь со всех ног на пол…
В эти минуты призванники, «удостоенные духа», начинали пророчествовать и импровизировать стихами, при благоговейном внимании слушателей.
Максим Рудометкин, житель с. Никитина, сосланный потом в Соловецкий монастырь, был одним из родоначальников и самых уважаемых пророков здешнего прыгунства. Его духовные песни поются до сих пор на собраниях прыгунов гокчинского плоскогорья, и слава его стоит высоко среди сектантов, несмотря на то, что на их глазах не осуществилось ни одно из трех пророчеств Максима о наступлении в такой-то и такой-то определенный им день страстно ожидаемого прыгунами «тысячелетнего царствования», когда прыгуны станут господами, а прочие люди — рабами их.
В свою очередь, прыгунство не остановилось на выработанных им формах богомоления, а мало-по-малу стало переходить в субботничество; прыгуны стали давать своим новорожденным младенцам древне-еврейские имена, праздновать еврейские праздники, уклоняясь от празднования воскресенья; стали считать «жертвоприношением» — всякое резанье быка, теленка или барана.
Несмотря, однако, на полное отрицание православия, молокане, прыгуны и субботники вовсе не проповедуют вражды против властей или неповиновения им. Они не думают отрицать государственную власть, а напротив того, стараются как можно исправнее выполнять все свои мирские обязанности, отбывать повинности, платить подати и проч.
В последнюю войну от них поступило много пожертвований разного рода, а в 1871 г., при посещении императором Александром II Тифлиса, прыгуны даже хлопотали о поднесении государю своего верноподданнического приветствия в стихотворной форме, сочиненного одним из их начетчиков, Василием Шубиным:
«Бог святославен и велик Славить Царя нам велит! Сам Бог из славы своей Уделил Царю в жизни сей. Император великий Царь, Всей России Государь, Помазанник Божий, отец наш! Мы готовы на все жертвы за вас. Ополчаться против врагов За Царя русский народ готов. Мы верноподданные вам, А Ты самодержец всем нам. За милость Царя мы хвалим И всех благ ему желаем Навсегда, чтобы Господь Бог Хранил Его от врагов, А в будущей жизни вечной Быть в блаженстве бесконечной», и т. д.Песня эта распевается, говорят, и теперь в собраниях прыгунов.
В прыгунском кодексе веры, называемом «обряд», также есть глава о царе, в которой выражены те же верноподданнические чувства, как сообщают исследователи этого толка. Это не мешало, впрочем, хитрому вождю прыгунов, Максиму Рудометкину, объявлять себя «духовным царем» своего «духовного царства», которым он управлял самым деспотическим и в то же время грубо-корыстным образом. Он прогнал свою старую жену и взял вместо нее двух красивых девушек под титулом «духовных жен», а когда одна из них надоела ему, то переменил ее на другую, молоденькую «отогревательницу», уверяя своих наивных последователей, будто он ни в какой плотский союз с ними не вступает, а во время торжественных путешествий по своему царству в сопутствии своих приближенных и духовных цариц, — причем всегда носилось расшитое мистическими надписями «духовное царское знамя», — Рудометкин и свита его не стеснялись сообщать свою «духовную благодать» женам своих последователей, в уповании, что от какой-нибудь из них родится «семя богородное».
Этот самодельный «духовный царь» обложил своих слепотствующих подданных такою же «десятиною», какою облагали когда-то мирян средневековые католические аббаты, заставлял своих верных обильно угощать себя и свиту свою, беспощадно таскал их за волосы, внушая покаяние, и раздавал награды разных степеней в виде недорого стоивших ему круглых и трехугольных «печатей», ситцевых платков с мистическою меткою и мишурных поясов.
Немудрено, что, при таких повадках этого лукавого прыгунского вождя, он обратил на себя внимание властей и дал им повод хлопотать о его ссылке в Соловецкий монастырь.
В глазах прыгунов ссылка эта еще больше подняла без того огромный авторитет Максима Рудометкина, и из простого никитинского мужика он мало-по-малу превратился в «батюшку соловецкого мученика Максима Гаврилыча».
В 1867 г., никитинцы отправили к нему тайного посланца Василия Федорова с письмом, в котором просили у Рудометкина духовных наставлений всякого рода и разрешения возникших между ними обрядных недоумений. Посланцу собрали 300 рублей и еще особенную сумму для подкупа властей. Полиция задержала Федорова уже в Архангельске, куда он успел пробраться с фальшивым паспортом из г. Ленкорана через всю Российскую империю. Под свиткою на нем оказалась голубая лента через плечо с вышитою надписью: «проповедник мира града восточной страны России»; у него нашли также указ 1805 г. о разрешении молоканам свободного исповедания их учета, «грамоту на проповедничество» и письмо никитинцев к Максиму.
И долго, говорят, на прыгунских собраниях поминали Максима Гавриловича и даже пели ему многолетие.
Молокане и прыгуны, населяющие плоскогорье Гокчи по дороги в Эривань, то есть, так называемую «Долину цветов», вообще держат себя тихо, покорно и большею частью довольны своею участью. Но великое им горе и глубокая обида наступает в летнее время, когда в один из самых крепких центров сектантства, с. Константиновку, лежащую в ущелье недалеко от почтовой дороги, переселяется весь официальный город Эривань, положительно необитаемый в летние месяцы по причине невыносимой жары и неисчислимых мириад комаров. В Константиновку, величаемую местными армянами Дара-чичаг, ежегодно перекочевывают на лето губернатор и все губернские власти со своими канцеляриями, окружной суд, почта, банки и проч.
Под квартиры их отводятся дома сектантов; на перевозку властей и вещей их требуются во множестве сектантские фургоны. В глазах прыгунов и молокан это неотвратимое никакими молитвами ежегодное нашествие «идолопоклонников» и «иконников» надолго оскверняет их жилища. Начнут они у них курить «мерзкую траву табаку», пить вино, поминать за каждым словом черта, или, по ихнему «черного», жрать зайчину, свинину и всякую нечисть, воспрещенную заповедью Божьею. Приходится старательно прятать от нечистых уст и нечистых рук кадушки, кувшины, горшки, приходится уходить Бог знает в какие потаенные места, чтобы скрыть от них свои молитвенный сборища. А то «иконники» — большие охотники подглядывать в окна их молелен и заводить с ними непутящие разговоры об их вере и обрядах.
* * *
Странная эта «Долина цветов»! В насмешку что ли назвали ее так? Уверяют, однако, не в шутку, будто весною она обращается в сплошное ковер самых ярких и разнообразных цветов. Не смею спорить, но по крайней мере в теперешнем своем виде это скорее какая-то «Юдоль плачевная», безотрадная «равнина камней», а уж никак не «долина цветов».
Как только мы отодвинулись от озера, нас охватила кругом сухая, бурая степь с побитыми морозом и потравленными скотом скудными зеленями, с взбуравленною черною пахотою, с хаосом везде разбросанных камней, упрямо выпирающих из земли. В стороне — такие же голые, такие же бурые горы поднимаются словно окаменевшие волны. В этой своеобразной местности, сухой и горячей, чувствуется еще недавно остывшая лава вулкана. Земля везде тут вспучилась холмами, волнами, каменными волдырями. На каждом шагу курганчики в виде сопок, — так называемые здесь «каменники», — из которых, как беспорядочно скученные гвозди, торчат во все стороны то черные, то зеленоватые камни, словно внутренние силы земли тяжко пробиваются сквозь эти опухоли почвы осколками своих раздробленных костей. Все эти камни ноздреваты как туф, и, глядя на них, никто не усомнится, что это действительно шлаки потухшего вулкана. Могучие вздохи горячего ядра земного, поднявшие некогда справа от нас снеговой Алагёз, прямо перед нами громаду Арарата, и провалившее сзади нас неохватную воронку озера Гокчи, в 97 сажен глубины, — отозвались и на целой окрестности. Замечательно, что в этой мрачной равнине все черно. Черен щебень, которым мостят шоссе, черны холмы и горы, черна как щигровский чернозем распаханная земля, черны все без исключения и пасущиеся здесь овцы, точно также как нам попадались исключительно белые овцы в местах, где шоссе были засыпаны белым щебнем, и скалы были белые.
За Еленовкою в первый раз перед нами встало в знойных туманах дали бесплотное видение священной горы Ноевой. Но из такой дали Арарат скорее чуется, чем видится.
Везут нас, однако, так хорошо, что версты мелькают за верстами, и по мере движения нашего вперед все осязательнее, все плотнее, все ярче и величественнее начинают вырезаться в кружеве далеких облаков маститые пирамиды Арарата…
Дорога здесь очень оживлена. Поминутно встречаются арбы и фургоны, нагруженные товарами, дилижансы и почтовые тройки, провожаемые верховыми земскими стражниками.
Вот и станция Нижние-Ахты, — тоже одно из гнезд молоканства. Все это уезд Нового-Баязета, который лежит верстах в 35 от дороги, недалеко от берега Гокчи. В Нижних-Ахтах — мировой судья, участковый начальник, тюрьма и разные другие правительственные учреждения. Сначала тянутся каменные безглазые конуры армян, а потом больше красно-крышие дома молокан с уютными хозяйственными дворами. В них квартируют и все местные чиновники.
Я разговорился с молодым чиновником, заведующим на станции почтовым отделением.
— Здешние молокане очень трезвы, — сообщил он мне, — найдется, может быть, на все население 2–3 пьющих, а вот в Еленовке, как я слышал, пьянствуют. Тридцать лет назад пришли сюда совсем голые, в кибитках жили, а теперь у всякого фургоны, лошади, скот, дома, деньги. Хозяйничают отлично, навоз покупают у татар и армян, дают сначала скоту и птице, потом делают из него кизяк для топлива, остальной на поле. Оттого их земли дают вдвое против армянских. К тому же здешние поля без камней, сплошь удобные. Воздух Ахты считается самым здоровым во всей эриванской губернии. Дара-чичаг всего ведь в семи верстах отсюда; тот на горе, в лесках; там еще прохладнее и здоровее. Оттого и переселяются туда каждое лето все эриванские власти.
III У Арарата
(См. выше, май, 107 стр.)
У станции Эйлант, Арарат уже вырос в целую громаду Малого и Большого Арарата. Туманная масса их, загородившая часть неба, несмотря на большую даль, — кажется висящею в воздухе, потому что основание ее тонет в какой-то лучистой мгле. Облака густо укутали вершину тысячелетнего старца и ожерельем увили шею его. Целая гряда более низких гор, связанных с Араратом, мерцает в неясных очертаниях под грядою освещенных облаков; это — стена, отделяющая от Кавказа турецкую Азию.
Мы едем словно прямо к подножию горы Ноя; ее грандиозная двойная пирамида господствует здесь над всем, всему здесь придает свой характер, свою физиономию.
А в то же время, справа от нас, гораздо ближе, яснее, осязательнее, поднимается целый хребет снежных вершин Алагёза, за которые зацепились и обложили их, как отары овец, — вереницы облаков.
От Эйланта картина резко меняется. Мы словно попали в другой мир: свежая весенняя зелень бесчисленных тополей, яркие нивы озимых хлебов; везде бурно текут оросительные канавы; сады, огороды с тщательно разбитыми грядочками, словно разлинованные искусным чертежником; целая долина рощиц и селений тянется к самой Эривани. Вот мы взъезжаем на вершину перевала, — и вдруг очутились над прелестнейшею панорамою, расстилавшеюся глубоко у наших ног. На огромное пространство, во все стороны, раскинулся один бесконечный золотисто-зеленый парк тополей, орехов, смоковниц, и среди него свободно разбросаны живописные домики и дворы Эривани, с ее древними храмами и мечетями. А над всем вдали поднимается высоко в небеса, будто какой-то титанический шатер, туманно-серебристая громада Арарата. Коляска наша неистово сомчалась вниз по тенистому шоссе среди садов и дворов и внеслась в длинную Астафьевскую улицу, обставленную весьма приличными домами оригинального туземного стиля. В гостинице «Grand Hotel», как раз против городского гульбища, мы нашли весьма порядочную комнату с двумя кроватями, всего за 2 рубля в сутки, и с искренним удовольствием расположились на отдых после нескольких дней почтовой езды…
Утро встало ясное, сине-золотое, какого не знает не только наша зима или поздняя осень, но даже и весна. Превосходные парные фаэтоны, еще все с иголочки, стоят к вашим услугам, тут же против гостиницы, в тени бульвара. За конец — 30 коп., в час — 60 коп., что для Кавказа довольно милостиво. У меня было несколько писем от брата к его эриванским знакомым, и я с утра отправился разыскивать их, чтобы не начинать осмотра неведомого города без совета знающих людей. Но мне не повезло, — не мог захватить решительно ни одного. Директор гимназии Б-ков, — ученик моего брата, — оказался в женской гимназии, куда он провожал приезжавшего из Тифлиса ревизора. Податного инспектора К-на и директора учительской семинарии М-ева также не удалось застать. Делать было нечего, и, чтобы не терять времени, я нанял за 5 руб. колясочку тройкою в Эчмиадзин и обратно. Выехали только в девять часов. Выезжая из города, все время любовались на скалистые обрывы Занги, на которых густо толпятся бескрышие азиатские домики, серые как сама скала.
Проехали насквозь шумный восточный базар с многочисленными обозами навьюченных верблюдов, с серыми ишаками, на хвостах которых торчат длинноногие, худые татары, на терпких спинах которых навалены закрывающие их совсем, с головой и ногами, мешки с саманом, углем и камнем, доски, ящики, бочонки всякой величины. Тут и персияне в раскрашенных красных бородах, обрезанных тщательно как дощечки, в черных бараньих камилавках на затылке, молодые красавцы-персюки атлетического сложения, оборванные деревенские армяне в лохматых рыжих папахах, сановитые татары в чалмах, молодцы-казаки. Татарки все в черных саванах, с белыми длинными покрывалами или завернуты в розовые одеяла.
Дома очень порядочные, но невысокие, все с резными персидскими балконами, все плоскокрышие, так что издали кажется, будто со всей улицы буря сорвала крыши. Везде тень деревьев, тротуары и журчащие около них арыки.
Переехав Зангу по прочному каменному мосту, мимо безглазых каменных мельниц, мы повернули налево, вдоль берега реки, и проехали как раз под сенью древней крепости, что высится на той стороне реки, на скалистом, обрывистом берегу, — неприступные для своих старинных врагов, но уже порядочно разрушенные стены. Обширный охват крепости, ее уцелевшие башни, ее массивные и высокие стены, выведенные под лицо обрывистой скалы, и во многих местах еще не тронутые, внушительно смотрят на мирных проезжих и придают Эривани какую-то историческую живописность.
Выше этих стен еще живописнее висит из-за них над провальем реки полуразоренный дом бывшего сардаря, правителя Армении, красуясь своими характерными резными окошками из мелкоузорчатых, разноцветных стекол. А поправее дворца сардаря поднимает из-за стен ослепительно сверкающую на солнце ярко-голубую глазурь своего купола покинутая мечеть старых ханов.
Мы посетили потом эти замечательные развалины старинных памятников персидского зодчества. Ворота в крепость завалены, и экипажу приходится пробираться через тесный проезд в проломе глиняной стены. Кучки казацких коней привязаны на приколах в разных местах. Крепость теперь обращена под постой русских войск. Вход во двор мечети тоже завален; но ее фасад и арки обложены тою же дивною голубою глазурью изумительного рисунка, какою мы восторгались когда-то в урде коканского хана и на входных минаретах знаменитых мусульманских мечетей Самарканда. Двор сардаря был заперт, и на стук наш ворота отворила молоденькая девочка, дочь русского сторожа ханской урды, которая и провела нас во дворец. Уцелела, строго говоря, одна только большая приемная зала с тремя крошечными комнатками — альковами на реку. Зала эта — верх персидской роскоши и вкуса. Стены почти сплошь зеркальные; зеркала окружают панели с яркою живописью цветов по белому фону, словно по фарфору; зеркала врезаны затейливыми медальонами в потолки; из зеркал сложены и обшивка оригинальных граненых колонн, и их многоступенчатые, ячеистые капители, сверкающие через это как алмазы отраженным со всех сторон светом. На верхнем поясе стен, среди зеркал и расписных панелей — большие, хорошо написанные портреты во весь рост персидских шахов, а в нижней половине стен — множество альковчиков, врезанных ячейками и ярко расписанных масляными красками, — своего рода домашние шкафчики и этажерки.
Такие же зеркала и такая же яркая живопись на потолках и стенах маленьких донжонов, глядящих на реку. Потолки здесь — острыми, многогранными сводами, сложенными из зеркальных пластинок разной величины в оригинальные ячейки своего рода. Окна во всю стену, с мелкоузорчатыми рамами персидского стиля, с разноцветными стеклами. Нам приподняли одно из этих широких, как ворота, окон, и за ним открылся чудный вид на Зангу, бушующую среди камней глубоко внизу, в отвесном скалистом ложе, как раз под арками каменного моста, через который в эту минуту казаки проводили целый эскадрон своих верховых коней, — и, ринувшись вместе с ними в шумные водовороты реки, поили там своих лихих скакунов, сбившись в картинные группы…
* * *
На пять верст из Эривани тянутся виноградники и сплошные роскошные сады орехов, смоковниц, шелковиц, персиков, абрикосов; все это уже позолотилось румянцем осени, но еще крепко держит лист, несмотря на наступивший ноябрь. Стройные пирамидальные тополя огромной высоты с своими белыми стволами и скрученными желтыми зонтиками — окружают все сады и дороги и дают характерную физиономию окрестному пейзажу. Куда ни кинешь глаз, — везде нескончаемые ряды, полки, легионы тополей. Они так нежно и весело вырезаются своим золотым кружевом на прохладной голубизне неба! Виноградники частью уже глубоко закопаны и засыпаны землею на зиму. Канавы, орошение — на каждом шагу, в садах, в полях, в виноградниках, всегда окруженных высокими каменными и глиняными оградами, наподобие среднеазиатских «дувалов». По дороге никак не обминуешь длинных караванов верблюдов, осликов и даже быков, нагруженных вьюками. После дилижанского перевала буйволов почти уже не встречается, — их заменили быки.
Несмотря на высоту 3.000 футов, на которой мы теперь находимся, юг дает себя знать. Солнце греет как летом; обилие всяких плодов кругом, все ходят по летнему, живут на балконах и крышах, окна и двери везде настежь, ни одной меховой шапки ни на ком, и пыль по дорогам и улицам — как у нас в июле.
Но через пять верст — степь, густо засеянная мелкими камешками, — ни хлебов, ни травы! Темно-бурые и черные овцы одни бродят по ней; бродят также и жуют что-то горбачи-верблюды. Везде, куда нельзя здесь провести воды, — мертвая пустыня, хотя левее, под далекими снеговыми горами, уходит в таинственную даль широкая и ровная долина, вся заросшая тополями и садами, вся сверкающая водяными лентами канав.
Арарат уже с утра охватил, поразил, околдовал мое воображение. Отсюда он еще великолепнее: громадная снеговая масса, воздымающаяся из такой дали выше деревьев и домов первого плана, сверкает там на горизонте словно среброкованный престол Божий. Нельзя оторвать глаз от этого божественного титана. Он все время провожает нас, владычествуя над всем, и кажется, будто двигается вместе с нами к Эчмиадзину. Никакая ближняя возвышенность не в силах заслонить его.
Малый Арарат — острая, круглая пирамида, почти конус, сравнительно небольшой приросток Большого; Большой Арарат — широкая, величественная пирамида с чуть заметно округленными тремя зубьями его вершин; четвертая — несколько ниже и острее; за нею скат — и крутое плечо, тоже в вечных снегах. Длинная, пологая седлина связывает Большой Арарат с его меньшим братом.
Особенно хорош этот снеговой старец, загораживающий небо, когда на его туманно-серебристом фоне вырезаются стройные ряды золотистых тополей или темные горбатые силуэты пасущихся верблюдов, того же самого уныло-серого цвета, как и глина пустыни, и ее лохматые бурьяны, среди которых они бродят. Проехали Ширабад, деревню с хорошими, большими домами, со множеством садов. А за нею — опять пустыня.
Но вот еще раз появились вдали на равнине нескончаемые полчища тополей и садов, и из-за них неожиданно вынырнули в разных местах характерные острые шатры восьмиугольных армянских храмов.
Это — Эчмиадзин с своим посадом Вагаршапатом, древнейшею столицею былого армянского царства.
Мы теперь в стране самых младенческих преданий человечества, в настоящей колыбели его истории. Тысячелетние предания всех народов сюда именно относят первоначальное жительство человека, откуда он начал свое расселение по лицу земному и свое разделение на семитов, иафетитов и хамитов, — три основные породы его, заключившие в себе все последующее бесконечное разнообразие племен и наречий.
Убеждение наивного простонародья араратских окрестностей до сих пор искренно разделяет веру средневековых ученых путешественников и богословов о чудесном нахождении на недоступных вершинах этой святой горы незримого для грешных очей ковчега праотца Ноя. До трех раз благочестивый пустынник Иаков силился подняться в свое время до таинственной вершины, но каждый раз, выбившись из сил, засыпал на полупути и пробуждался опять у подножья горы, откуда начинал свое восхождение. Он получил, однако, во сне кусок дерева из Ноева ковчега в дар за свое усердие и пожертвовал эту святыню в эчмиадзинский монастырь, где она хранится и доселе.
И хотя впоследствии разные ученые, каковы Паррот, Абих, Ходьзко и другие, уверяли, будто они достигли самой высшей точки Большого Арарата и нигде там не видели ковчега Ноева, но в глазах благочестивых людей эти похвальбы неверующих ученых не имеют никакого значения, ибо необходима особенная святость жизни, чтобы быть удостоенным лицезреть араратскую святыню, пребывающую в его ледниках со дня всемирного потопа. А что праотец Ной здесь именно остановил ковчег свой, построенный из негниющего дерева гофер, то об этом совершенно ясно сказано в священном писании; да и вся окрестная страна полна свидетельств об истине этого события.
Недаром широкая долина араратская так обильна солонцеватою почвою, вышедшею из-под соленых пучин моря, залившего в дни потопа сушу земную; недаром в соседстве святой горы — нахичеванские соляные копи и знаменитые залежи кульпинской соли.
А самый город Нахичевань есть именно то место, где, по верованию армян, поселился, по выходе из ковчега, и потом умер Ной, прародитель человечества. В Нахичевани издревле показывали могилу Ноя, к которой всегда во множестве притекали паломники изо всех стран мира, да и слово «Нахичевань» прямо-таки обозначает на древне-армянском языке — «первое жилище».
Писатели армянские связывают и название города Эривани с всемирным потопом. Местные жители произносят это слово — «ереван», что означает по-армянски: «видно», «показалось». Древнее предание уверяет, будто Ной, осматривая в первый раз после выхода из ковчега с высот Арарата окрестные земли, прежде всего увидел показавшиеся из-под вод потопа возвышенности Эривани, почему и произнес слово «еревуме», т. е. «видна» (земля).
Недалеко от Эривани есть местность «Аркури», название которого составлено из двух слов: «арк» и «кури», что в переводе значит: «он насадил виноградную лозу». Место это считается туземцами за то самое, где Ной насадил первый виноградник, и откуда виноделие распространилось потом во все стороны, в Азию и на Кавказ. На восточной стороне Арарата существует маленький округ, называемый Арнойвотн, что обозначает по-армянски: «при ноге Ноя»; местное предание объясняет это название тем, что Ной остановился здесь при выходе из ковчега.
Рай первых человеков, по мнению некоторых писателей древности, тоже был недалеко от Арарата, у истоков реки Евфрата, и этого взгляда держался даже поэт-богослов Мильтон в своей поэме «Потерянный Рай». По какой-нибудь причине и множество древнейших мифов приурочиваются к стране под-араратской. Миф о Прометее, похитившем у Зевса божественный огонь и прикованном к скале Кавказа, легенды об аргонавтах, искавших золота в одной из рек Закавказья, — все стремятся к тем же первобытным местам, в которых вековечные верования народов признали колыбель человечества. Да и недаром кругом Арарата возникло одно из самых древнейших царств земли — царство армянское, современник Вавилона и Ассирии, известное еще задолго да Моисея и его пяти книг. Армяне по справедливости могут считаться среди современных народов старейшими сынами земли. О них уже говорит Библия и доисторические гвоздеобразные надписи ассирийцев.
Сами армяне называют себя не этим общеупотребительным у всех народов именем, а «гайканцами», по имени первого мифического царя их — Гайка. Армянами же прозвали их древние греки, — может быть, желая выразить этим их принадлежность к арийскому племени; по объяснению же армянских ученых, название армян усвоено им соседними народами по имени одного из первых славных царей их, Арама, потомка Гайка, который, по преданию, совершил множество подвигов храбрости и мудрых деяний, значительно расширивших пределы его царства.
Торгому, или Форгому, прямого внука Иафетова от сына его, Гомера, армяне считают родоначальником племени, из которого вышел Гайк, и притом его родным отцом; поэтому они нередко величают себя в старинных книгах и актах «домом Торгомы». Вот от какой доисторической древности, от каких ветхозаветных преданий, ведет свое происхождение армянский народ. Сравнительно с этою седою древностью древность наших Гостомыслов и Рюриков — кажется детскою шуткой.
Свою священную гору армяне называют не Арарат, а Массис; Айрарат же было название старинной армянской области, в которой лежала эта гора.
Армяне и до сих пор считают свой Массис недоступным для ноги смертного, твердо помня легенду о святом иноке Иакове. Это благочестивое поверье долгое время отнимало у смелых и любознательных людей всякую охоту добраться до таинственных вершин горы. Новейшие ученые мало-по-малу разрушили, однако, эту славу неприступности Арарата. Первую победу одержал над нею наш русский академик, профессор дерптского университета, Фр. Паррот. После нескольких дней крайне тяжелого и опасного пути по скалам и ледникам, на которые целые тысячелетия не вступала нога человека, Паррот поднялся на высоту 16.200 футов над поверхностью моря на целых 1.062 фута выше вершины Монблана.
На память об этом научном подвиге своем, а также и о боевом подвиге русских богатырей, завоевавших, вместе с другими армянскими землями, и священный Арарат, Паррот поставил среди льдов горы Ноевой высокий крест, выкрашенный черною краскою, с латинскою надписью:
«Nicolao Paulo filio, totius Rutheniae autocratore jubente, Hoc Asylum sacrosanctum, armata manu, vindicavit fide christiana, Iohannes Friderici filius, Paskewitsch ab Erivan, anno Domini MDCCCXXVI.
(„По повелению Николая Павловича, Самодержца всея Руси, это священнейшее убежище отвоевал вооруженною рукою для веры христианской Иван Федорович Паскевич Эриванский в лето Господне 1826“).
По следам Паррота многие другие ученые и путешественники успели потом побывать на вершине Арарата, хотя некоторые из них поплатились за это не только здоровьем, но и жизнью.
Арарат служить теперь пограничным столбом своего рода между владениями русскими, турецкими и персидскими, которые все сходятся на нем; но большая часть его склонов все-таки принадлежит России. Живут на Арарате курды магометане. Это — отъявленные грабители и разбойники, которых никогда нельзя застать дома, потому что они или на добыче, или скрываются в лесах от неудобных для них посетителей. Каждый из них замешан в нескольких уголовных преступлениях, — поэтому им нельзя показываться на глаза властям; оттого, когда начальство приезжает в их селения собирать подати, то ни одного мужчины не бывает налицо. В домах остаются только дети да женщины, которые уже и уплачивают требуемые деньги. В одном только селении Ахури на Арарате жили прежде армяне, но мало-по-малу курды вытеснили их оттуда, и теперь Ахури — такое же чисто курдское село, как и другие. Путешественники, желающие подняться на Арарат, берут обыкновенно проводников с русской стороны из ближайшей армянской деревни, и уже тогда курды, из уважения к соседям, не трогают путешественников. До сих пор еще из разных мест Закавказья и турецкой Армении поднимаются на Арарат к источнику св. Иакова благочестивые люди, чтобы почерпнуть святой воды и привести за собою стаи роковых скворцов, истребляющих саранчу.
Даже без особенных географических изысканий, „простым глазом“ ясно видно, что горная масса Арарата, выпертая на такую страшную высоту из темных недр земных, — представляет собою главный очаг вулканической катастрофы, поднявшей когда-то на свет Божий примыкающие к Арарату, как к своему центральному узлу, горные хребты и плоские возвышенности, и разверзнувшей в то же время глубокие провалья трех великих армянских озер, — Гокчи на северо-восток от Арарата, Вана — на юго-запад и Урмии — на юго-восток.
Без сомнения, этим же могучим поднятием и провалом коры земной направились по своим нынешним руслам и все большие реки араратских окрестностей, — Аракс на восток в Каспийское море, не доходя которого он слился с Курою, Евфрат и Тигр — на юг, в далекий бассейн Персидского залива.
Оттого Арарат представляется каким-то царственным владыкою всей местности, далеко охватывающей его со всех сторон.
Его двухголовая пирамида, так еще мало потерявшая характерную физиономию вулкана, кажется тем громаднее и величественнее, что не заслоняется от нас ни малейшим пригорком, а видна прямо за широкою, гладкою низиною долины Аракса, вся на наших глазах от пяты до макушки, между тем как почти все знаменитые своею высотою горы Европы и Азии поднимаются обыкновенно из-за целых хребтов других высоких гор, сильно скрадывающих их индивидуальную высоту…
Быть может, этим объясняется и особенно благоговейное впечатление, которое Арарат издревле производил на соседние нам народы, и которое наглядно выразилось в священном для всех этих народов, мусульман, христиан и язычников, значении этой горы.
* * *
Вот мы, наконец, и у Эчмиадзина, до которого от Эривани не более 18 или 20 верст. На зеленом лугу вправо от дороги упражняются в джигитовке удалые казаки полтавского кубанского полка. Это не совсем подходящее вступление в древнюю духовную столицу армянского народа.
Настоящей привратник Эчмиадзина — это древний храм св. Рипсимы, одиноко торчащий за широкою крепостною оградою пустого двора. Массивный, несокрушимый собор из тесанного камня, типического армянского стиля, с обычною острою пирамидою кровли и восьмигранною центральною башнею, — потемнел до черноты от копоти веков, и среди веселой зелени лугов и деревьев смотрит каким-то мрачным отшельником.
Храм этот построен еще в самом начале IV века и был современником обращения Армении в христианство.
Он считается одною из главных святынь Армении, и миновать его мы, разумеется, не желали.
Остановили свою коляску перед воротной башнею этой былой средневековой твердыни и послали на разведки армянина-извозчика. Сейчас же вышел к нам монах или священник, в обычной армянской камилавке или клобуке, слегка раздутом кверху. Он произнес несколько слов по-русски, приглашая нас войти, но просил захватить с собою извозчика в качестве толмача, ошибочно предполагая, что наш самоуверенный возница и вправду много больше знает по-русски, чем сам почтенный иерей…
По длинной приставной лестнице, оставленной работающими здесь каменщиками, поднялись мы на довольно высокую каменную площадку, на которой как на фундаменте поставлена церковь. Поп отпер ключом дверь, мы вошли, — внутри та же пустыня, что и на дворе: высокие голые стены выбелены известью; ни икон, ни лампадов нигде. Престол открыт, как у католиков, и передний фас его расписан святыми и апостолами. Над престолом — картина итальянской живописи, копия с Рафаэля. В стороне — памятник из прозрачного алебастра одному из католикосов, а внизу, под алтарем — темная пещерка, где стоит мраморный гроб св. Рипсимы; на крышке гроба прекрасно исполненный и совсем еще новый портрет св. мученицы, — вероятно, плод фантазии какого-нибудь современного художника. Тут же на гробе камень, — будто бы один из тех, которыми мучили когда-то святую деву.
Рипсима была одна из первых в Армении исповедниц и мучениц за веру Христову. Она была современницей св. Григория, просветителя Армении, и в числе других 37-ми дев была замучена в Вагаршапате.
Церковь других исповедниц, подруг Рипсимы, очень похожа, и архитектурой, и отделкой, на осмотренный нами храм, но в ней сохранилось еще менее интересных остатков древности. Этот храм св. Гайяны, тоже окруженный каменною оградою, — почти рядом с храмом св. Рипсимы.
Вагаршапат, долгое время бывший столицею древних царей армянских, теперь даже не город, а простое местечко. Однако, это не мешает ему быть административным центром „Эчмиадзинского уезда“. В нем и полицейское управление, и почтовая контора, нотариус и аптека; дома весьма изрядные, с резными и тенистыми персидскими балконами; есть даже „номера Берлин“, которые, однако, смотрят что-то пусто и безжизненно. К удивлению моему, в этом духовном и политическом центре армянства — торговли почти нет, лавок очень мало, особенно если не считать „ренских погребов“ и винных складов. Несколько парных фаэтонов стоят на площади.
Мы отпустили своего извозчика пообедать и покормить лошадей, а сами двинулись с площади пешком к монастырю.
IV Эчмиадзин
Эчмиадзинский монастырь, охваченный отовсюду крепостною стеною с башнями, — целый городок своего рода. Пройдя здания синода армянской церкви и обширные корпуса духовной академии, увенчанные по середине куполом и окруженные просторным зеленым сквером, вы входите во внутренний двор.
Это как бы цитадель крепости, святая святых монастыря. Просторная площадь обнесена, как стеною, сплошным четырехугольником монашеских келий, в связи с которыми и новый трех-ярусный дом из темного тесанного камня, с десятью однообразными выступами позади; это — жилище католикоса; к нему ведут особые ворота и примыкает особый дворик с фонтаном и садом, полный ожидающих просителей.
По середине большого монастырского двора — маститая святыня Эчмиадзина — его древний собор, Сурп-Шогакат (По-русски: «святой исток света Божьей Матери».), построенный еще в 303 году Григорием, просветителем Армении, по имени которого и господствующая религия армян называется армяно-григорианским исповеданием, в отличие от армяно-католического.
Древний храм этот не похож ни на какой другой и производит оригинальное впечатление. Это — квинтэссенция армянско-грузинского архитектурного стиля. Тут соединено все, что есть характерного и глубоко исторического в зодчестве этих восточных христиан, живших всегда так тесно с персами и подвергавшихся в течение стольких веков влияниям магометанства.
Массивный собор с четырьмя островерхими, восьмигранными башнями по четырем фасадам, с большою центральною башнею по середине, выточен и вырезан из темного камня, как драгоценная игрушка. Его сводистые притворы, его колонки, карнизы, рамки и завитушки около дверей и окон его, самые стены его — изукрашены тончайшею резьбою художественного рисунка, травами, цветами, узорчатыми арабесками, львами, слонами, орлами, ликами царей и святых… Нельзя оторвать глаз от этой своеобразной резьбы старинных византийских мастеров. Особенно поразительного вкуса и прелести — своды входной сени, с ее витыми колонками, с ее вышкою на низеньких кубышчатых столбах, увенчанных неизбежною восьмиугольною пирамидкою крыши.
Темно-серая масса собора с своими тёмно-красными башнями и вышками для колоколов, с белою серединною башнею, изукрашенною темно-красными колонками, поясками, карнизами — смотрит чем-то глубоко восточным и глубоко старинным.
Увидевши его раз, вы никогда не забудете этого характерного эчмиадзинского храма. Хотя он перестраивался не раз, но в течение шестнадцати веков постоянно поддерживался в том самом виде, в каком создал его апостол Армении.
Храм быль заперт; по двору бродил какой-то оборванный, захудалый народ, — как оказалось потом, беглецы из турецкой Армении, спасавшиеся от зверства курдов и турецких пашей, и не знавшие ни слова по-русски. Монастырь кормит и содержит несколько сотен человек этих несчастных единоверцев своих.
Нам помог любезный нахичеванский купец из Феодосии, которого мы случайно встретили около храма. Он гостит тут уже третью неделю с своею женою, говорит отлично по-русски и хорошо знаком со всеми духовными властями монастыря; он приказал какому-то служке или иноку попросить к нам епископа Аристарха, без которого никто не вправе отпереть и показать редкие сокровища эчмиадзинской ризницы.
Внутренность храма — в строгом соответствии с его внешнею архитектурою: во все четыре стороны — четыре круглые ниши, образующие вместе крест, а по середине этого креста, как раз под куполом белой центральной башни, на амвоне, под сенью пышного кувуклия на четырех мраморных столбах, — священнейшая из всех святынь храма — престол, прикрывающий собою то самое место, на которое «сошел Единородный» в видении св. Григория. Слово «Эч-ми-адзин» буквально обозначает по-армянски: «сошел Единородный», и древний храм был построен св. Григорием именно в память таинственного видения. Над престолом парит вылитый из серебра голубь, обозначающий Духа Божия, и горит неугасаемая серебряная лампада. Когда патриарх совершает таинство евхаристии на святом престоле, то вся сень задергивается кругом парчевыми завесами. Влево от места «Сошествия — другая сень из темного резного кипариса, увенчанная деревянным изображением эчмиадзинского храма; под сенью — золоченый престол для католикоса, обитый золотисто-желтым шелком, с подушкою малинового бархата. К престолу ведут ступени, а ниже их полукружием разложены на коврах тюфяки, прикрытые тоже коврами, для сидения епископов. Католикос служит обедню два-три раза в год, в самые великие праздники; кроме того, он посвящает епископов и выходит на молебны в царские дни; по закону армянской церкви, вселенский патриарх их не может служить иначе, как в сослужении двенадцати епископов. На престоле „Сошествия“ службы бывают редко. Обыкновенно же служат за престолами, которые помещаются в трех нишах храма. Отдельного алтаря у армян нет; маленький престол, уставленный золотыми подсвечниками, открыт, как у католиков, и стоит на значительном возвышении, на которое ведут ступени с двух сторон. Передний мраморный фас этой солеи расписан иконами старинной живописи апостолов и пророков, с армянскими надписями, и настолько высок, что на нем можно читать, как на аналое. Рафаэлева Мадонна della Sedia, в копии, висит за престолом.
Боковые престолы еще меньше, а арочки их ниш на двух каменных колонках чрезвычайно оригинального и очень старинного стиля. Кругом этих ниш — каменные сиденья для епископов. На стенах — изображения апостолов.
Мы долго любовались уцелевшею старинною росписью главного купола и сводов в нишах; все оригинальные узоры этой пожелтевшей живописи сотканы из цветов и арабесков, — нигде ни одной фигуры. Вообще, икон в храме очень немного, и в настоящую минуту его побеленные своды и стены производят впечатление некоторой пустоты и заброшенности; но нам объяснили, что теперь происходит реставрация внутренней отделки храма, и что, по окончании ее, все стены и своды будут расписаны подобно главному куполу. Две довольно бедные люстры с плохими свечами также не вполне соответствуют важности храма. Зато полы сплошь устланы персидскими и кавказскими дорогими коврами. Вообще, убранство армянской церкви производит на меня впечатление полу-католического, полу-магометанского храма.
Наконец, появился нетерпеливо ожидаемый епископ Аристарх, в остром черном клобуке, какие носят армянские иноки, и, приветливо пожав нам руки, пригласил нас в ризницы. Он знает по-русски только несколько отрывочных слов, и переводчиком должен был служить молодой монах, отпиравший нам дверь церкви.
Ризницы Эчмиадзина знамениты своими богатствами и древностями. Они занимают собою несколько крепко запертых кладовых.
Епископ Аристарх заведует только несколькими из них. Для осмотра других пришлось обращаться уже к иному почтенному старцу, архимандриту Левону, а некоторые из особо чтимых святынь Эчмиадзина даже и вовсе не показываются иноверцам без особенного разрешения католикоса. Сокровищами Эчмиадзина, и в археологическом и в коммерческом смысле, — все равно как сокровищам нашей Сергиево-Троицкой лавры — цены нет. Тут ряды витрин с богатейшими панагиями, звездами, портретами персидских шахов и русских царей, все в алмазах, рубинах, изумрудах; кресты чудной формы и замысловатой отделки, стоящие целого состояния; золотая корона царя Тиридата, с громадным камнем по середине; драгоценные церковные сосуды, подсвечники, архиерейские посохи редкой древности, красоты и богатства; тиары католического образца из парчи и бархата, искусно расшитые жемчугом и золотом, для епископов и католикосов; серебряные митры для архимандритов и старших священников; присланная из Индии, артистически вышитая разноцветными шелками, мантия для католикоса, оцениваемая в 20.000 рублей, с целыми сценами из Евангелия, с крупными изображениями св. Рипсимы и св. Гайяны.
Малиновый бархатный ковер громадной цены, расшитый в Константинополе чудными шелковыми цветами, с золотым изображением Эчмиадзина, для подстилки под трон католикоса; усыпанные жемчугом туфли католикоса, подражающего в этой статье своего торжественного облачения римскому папе; среди армянских надписей вышит на них Ноев ковчег на горе Арарате, а на внутренней подошве — крылатый дракон, долженствующий изображать князя тьмы, диавола, — которого, стало быть, попирает стопами своими излюбленный первосвятитель Армении.
В одной из кладовых показали нам огромную золотую мироварницу, имеющую особенное значение для Эчмиадзина.
— Только один наш святейший католикос имеет, по древнему закону нашему, право варить святое миро, — объяснил нам не без гордости через молодого инока архимандрит Левон. — Хотя у армян есть и другие патриархи в Константинополе, Иерусалиме, в Сисе Киликийском и на озере Ване, но наш эчмиадзинский католикос старше всех их и считается верховным главою армянской церкви, единственным законным преемником св. Григория-Просветителя; от него уже получают св. миро другие патриархи… Под константинопольским патриархом всего только двести тридцать архимандритов, под иерусалимским — не больше пятидесяти, а под Эчмиадзином их двести сорок! — прибавил старик, окидывая нас торжествующим взглядом.
Под ключом у Левона оказались и книжные редкости Эчмиадзина. Он показал нам написанные от руки одною благочестивою армянскою дамою в Шуше необыкновенно изящным и вместе необыкновенно мелким почерком четыре Евангелия с рисунками, каждое особым шрифтом, показал разные интересные древние рукописи на пергаменте.
Библиотека эчмиадзинского монастыря вообще считается очень богатою по части армянских рукописей и старинных армянских книг. Но, к сожалению, все это литературное богатство, как сообщают знающие люди, относится только к христианской эпохе армянской истории и носит на себе довольно односторонний богословский и церковно-исторический характер. Ревность не по разуму первых насадителей христианства в Армении, вполне, конечно, понятная с тогдашней их точки зрения и при тогдашних обстоятельствах, заставляла их старательно истреблять всякие следы старой религии; поэтому, вместе с языческими капищами, жертвенниками и идолами, также безжалостно уничтожались Григорием-Просветителем и сподвижниками его все книги, надписи и изображения, имевшие какое-нибудь отношение к поклонению солнцу, огню или языческим богам. А между тем, как известно из достоверных источников, Армения обладала многими древними письменными памятниками, заключавшими в себе не только важные сведения о религии магов, но и любопытные факты из истории древнейших государств Азии, — Вавилона, Ассирии, Финикии, Иудеи, Китая, Индии, Персии, Греции и пр…
Потеря этих первоисточников истории азиатских народов, без сомнения, скрыла от нас многое, что могло бы пролить свет на иные, мало разъясненные, события ветхозаветного мира.
В сочинениях первых христианских писателей Армении IV-го и V-го веков, между прочим и в знаменитой истории армянского народа Моисея Хоренского, остались только ссылки на исчезнувшие литературные памятники языческого времени, да некоторые выдержки из них, дающие понятие об их значении для исторической науки. Из них заслуживала особенного внимания полная летопись Армении от начала ее существования до II-го столетия пред Р. Хр., составленная сирийцем Мар-Ибасом Кадиною из рукописных материалов ниневийского архива и рассеянных в разных местах армянских хроник. Этот труд Мар-Ибаса, писанный халдейским языком, ценился так высоко современниками, что царь Вагаршак хранил его как драгоценнейшее сокровище в своем дворце, а более важные отрывки из него велел вырезать на мраморной колонне дворца. Интересна была также история идолопоклонства в Армении, написанная Улипом, языческим жрецом, в разрушенной теперь древней столице Армении — городе Ани.
Впрочем, обычай уничтожать литературные памятники побежденных народов — в целях не только религиозных, но и политических, чтобы заставить народ скорее забыть свое прошлое, — господствовал и среди язычников, и среди магометан.
Еще полулегендарный ассирийский царь Нин велел предать огню все существовавшие до него книги и летописи, чтобы вся история человечества начиналась с его царствования. В IV-м веке христианской эры Мехружан Арцруни, отпав от христианства в веру персов, сжег все известные ему книги на армянском и греческом языке и запретил армянам учиться по-гречески.
Персидский царь Иездигерд, в V-м веке, также истреблял памятники армянской литературы, а знаменитый султан турок-сельджуков, Альп-Арелан, взяв приступом Ани, сжег этот город вместе с несметным множеством древних рукописей, как свидетельствуют армянские историки. Тамерлан с своими монголами точно также не оставил без внимания литературу армян, и приказал отправить в Самарканд все найденные им армянские книги.
Немудрено поэтому, что среди армян укоренился обычай, вероятно издревле распространенный в азиатских странах, — зарывать в землю древние, особенно ценимые книги. Наш известный ориентолог-самоучка Караим Фиркович, — некогда обитатель крымского мертвого города Чуфут-Кале, — странствуя по глухим уголкам Сирии, Армении и Малой Азии, немало добыл редких старинных книг, отрытых в земле и составивших его замечательную библиотеку, приобретенную потом за значительную сумму Императорскою Публичною Библиотекою.
* * *
Древние литературные памятники Армении писались большею частью на сирийском языке, а частью на греческом. Армянский же язык, хотя и принадлежал к числу арийских языков и был достаточно богат формами и корнями, но был совсем не разработан грамматически; в первое время язычества даже алфавит армян был заимствован у гебров и, как все почти восточные алфавиты, состоял исключительно из одних согласных букв; хотя же, после введение христианства, вошли в употребление буквы греческие и ассирийские, но все-таки армянская азбука была крайне неудобна для употребления и почти оставлена всеми, вследствие множества точек и значков, заменявших гласные буквы. Только в V-м веке (в 406 г.) ученый Месроб, по поручению царя и католикоса, изобрел наконец гласные буквы и составил новую армянскую азбуку из тридцати шести букв, которую армяне употребляют до сих пор, — за что и был причислен армянскою церковью к лику святых. Месроб же принимал, вместе с католикосом Исааком, главное участие и в переводе на армянский язык Священного Писания по самому древнему экземпляру греческой Библии, почему армянский текст Библии считается теперь, по признанию многих ученых-богословов, одним из самых полных и достоверных. Однако армянская литература и армянская история, вследствие отдаленности Армении от центров новой европейской цивилизации и совершенного удаления ее со сцены истории после окончательной потери независимости в XIV-м веке, — были очень мало известны европейской публике, и начинают возбуждать к себе интерес европейских ученых только начиная с XVIII-го века, когда неутомимый и предприимчивый армянский монах Мхитар основал сначала в Греции, в г. Модоне, потом в Венеции, на острове св. Лазаря, братство ученых иноков, посвятивших себя изучению армянской истории и письменности. Это братство мхитаристов, или лазаристов, обратившись мало-по-малу в ученую академию, оказало и продолжает оказывать незаменимую услугу армянскому народу деятельным изданием армянских классиков, доступным даже для простого народа, обнародованием многих замечательных памятников армянской старины, затерянных до того времени в пыльных подвалах монастырей, и всестороннею разработкою лексических и грамматических форм армянского языка, который в их руках достиг возможности передавать во всей точности отвлеченные идеи и художественные образы знаменитых писателей Европы.
Трудами мхитаристов, успевших в течение времени основать в больших центрах Европы свои отделения, — армянский народ получил возможность ознакомиться с научными трудами и изящною литературою Европы, и вообще примкнуть к европейскому образованию. Мхитаристы издали, множество учебников и руководств по важнейшим наукам и перевели на армянский язык почти всех выдающихся писателей Европы, так что Мхитар по справедливости должен считаться родоначальником научного и литературного образования в Армении. Он еще при жизни своей основал две учебные коллегии в европейском смысле, первые у армянского народа: одну приготовительную для первоначального образования, и другую, профессорскую, для подготовки учителей. Поэтому армяне вполне заслуженно называют Мхитара своим новым „Григорием-Просветителем“ и „вторым Месробом“. Одно только смущает правоверных армян-григорианцев, — это то, что столь популярный Мхитар их был вынужден принять унию с католичеством и подчиниться римскому папе, как армяно-католик, чтобы не лишиться крайне важной и ничем для него незаменимой помощи, в своих просветительных трудах, со стороны ученых прелатов и сановников католической церкви.
* * *
Некоторых музеев своих святые отцы Эчмиадзина, однако, нам не открыли, не особенно заинтересованные знакомством русских путешественников с их национальными святынями. Не увидали мы, между прочим, и святого копья, которое, говорят, хранится в одной из монастырских ризниц. Мы имели письмо к русскому прокурору в Эчмиадзине, я рассчитывал, что он поможет нам проникнуть во все любопытные уголки монастыря, но, к сожалению, прокурор этот уехал, несколько дней назад, в Тифлис, и мы предоставлены были собственной сообразительности, а сообразительность эта настолько оплошала, что я не догадался даже пойти познакомиться с католикосом, думая, что увидим все интересное и без него.
Осмотр монастыря заставил нас порядочно проголодаться, и так как ресторанов в Вагаршапате не полагается, то добрые люди посоветовали нам пообедать в монастыре, как это делают обыкновенно все сюда приезжающие.
Особый двор примыкает к двору главного храма и обстроен кругом довольно старыми и довольно грязными зданиями. Это — помещения для богомольцев и гостей. Два яруса открытых деревянных галерей выходят во двор. С галерей этих топорные одностворчатые двери, с намазанными на них номерами, ведут в низенькие, темные комнатки со сводами, очень похожие на казематы для одиночного заключения какой-нибудь тюрьмы. Стены — двухаршинной толщины, маленькие окошки чуть не на полу; солнце, по-видимому, никогда не бывает, да и топить, должно быть, приходится не часто, — оттого сырость прочно угнездилась в этих неприютных норах, где уже готовы для приезжих деревянные кровати с постланными постелями, также пахнущими если не тюрьмой, то солдатской казармой; стоит грубый деревянный стол и такие же два стула.
Мы разыскали смотрителя за этими „номерами“, и он сообщил нам, что отдохнуть и пообедать здесь можно, но необходимо испросить сначала благословения архимандрита. Он побежал за этим благословением и, получив разрешение его преподобия, отпер нам один из номеров. Через полчаса на столе перед нами стоял поднос с вкусным горячим борщом с говядиной, ячменною кашею, в которую примешаны были куски жирной баранины, и стаканами местного красного вина, за которым прихотливый француз вряд ли согласился бы признать это высоко уважаемое им наименование.
Внеся, в виде благодарственной лепты, золотую монетку отцу архимандриту на его древний храм, мы отправились разыскивать своего возницу, чтобы поспеть засветло в Эривань.
Эчмиадзин с глубокой древности стал политическим и религиозным центром армянской народности, такою же историческою святынею ее, как Москва для великоруссов. Татары называют его, однако, не этим армянским именем, а „Уч-хелеси“, что значит, по ихнему, „Три церкви“. Эти три церкви, кроме Шогакота, храма богатого эчмиадзинского монастыря, еще и те, раскинутые по окраинам древнего Вагаршапата, давно заброшенные и обнищавшие церкви, которые посвящены римским мученицам-девам, положившим основание христианству в Армении в одно время с Григорием-Просветителем, и характерным образцом которых может служить посещенный нами храм св. Рипсимы.
Вследствие близкого соседства Палестины и Малой Азии, первые семена христианства были посеяны в Армении ранее, чем в каких бы то ни было других странах. Авгарь, владетель армянский (называемый в наших Четьи-Минеях князем эдесским), будучи одержим неизлечимою болезнью, прослышал от купцов, посещавших Армению, о великих чудесах и удивительном учении Христа, и страстно захотел видеть Его и послушать Его проповеди. Он отправил посланного к Нему в Иерусалим, по свидетельству армянских историков, с таких письмом:
„Авгарь, сын Аршама, князь земли, Иисусу спасителю и благотворителю, явившемуся в иерусалимской земле, — привет!
„Я слышал о Тебе и об исцелениях, совершаемых Тобою без лекарств и без кореньев; ибо, как говорят, Ты заставляешь слепых видеть, хромых ходить; Ты очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь одержимых многолетними болезнями; Ты и мертвых воскрешаешь. Услыхав все это о Тебе, я положил в уме своем одно из двух: или Ты — Бог, сошедший с неба для совершения всего этого; или же — Сын Божий, все это творящий. Вот почему пишу к Тебе и прошу Тебя, благоволи прийти ко мне исцелить недуги, коими я одержим. Слышал я также, что евреи ропщут на Тебя и хотят предать Тебя мучениям; у меня есть небольшой, но красивый город, — его достаточно было бы для нас обоих“.
Посланный был искусный живописец Анан, которому поручено было снять изображение Христа, если бы Он не соблаговолил исполнить просьбу Авгаря.
По свидетельству греческого церковного историка Евсевия и старых армянских историков, Спаситель, получив письмо из рук Анана, приказал апостолу Фоме написать такой ответ царю армянскому:
„Блажен кто верует в Меня, не видав Меня! ибо написано обо Мне: «видящие Меня не будут в Меня веровать; но не видящие Меня будут веровать и будут жить!»
«Ты Мне пишешь, чтобы Я пришел к тебе; но Мне надлежит совершить здесь все то, для чего Я послан, и когда совершу это, вознесусь к Тому, Кто послал Меня, и когда вознесусь — пришлю одного из учеников Моих, который исцелит твои недуги и даст жизнь тебе и всем находящимся с тобою».
Когда же Анан, в исполнение царского поручения, старался уловить кистью черты Спасителя, все усилия его оставались напрасными: лицо Господа изменялось и делалось неизобразимым. Тогда Господь умыл лицо Свое, отер его полотняным убрусом и вручил Анану, для передачи царю этот убрус, на котором чудесным образом отпечатлелся божественный лик Его.
Авгарь выздоровел, облобызавши присланный ему нерукотворный образ Спасителя, а через год по воскресении Христа к нему явился апостол Фаддей и положил в Армении основание веры Христовой, построив христианские храмы, назначив священников и епископов, и преподал руководящие правила новосозданной церкви. В течение семнадцати лет своего пребывания в Армении, апостол Фаддей обратил в христианство более 10.000 человек.
После мученической смерти Фаддея, явился в Армении другой апостол Христов, Варфоломей, и кончил свою жизнь, как и собрат его по Христу, мученическою смертью от руки того же армянского царя Санатрука, который умертвил раньше Фаддея.
В Армении же был замучен и третий апостол Христов, Иуда, продолжавший дело Фаддея. Только один апостол Фома проповедывал и деятельно насаждал христианство в Армении, не поплатившись за это своею головою, а имев возможность пронести евангельское учение в прибрежья Черного моря и в далекую Скифию.
Насажденное апостолами христианство, несмотря на преследования и казни со стороны язычников-царей, отступивших от веры Авгаря, — продолжало зреть втихомолку: уже во втором столетии христиан в Армении было так много, что, по повелению римского императора Адреана, на горе Арарате было распято, в 130 году по Р. Хр., 10.000 христиан, — большею частью из армянского народа.
Но все-таки христиане в Армении являлись небольшою сектою, разбросанною ничтожными оазисами по стране, а весь народ армянский, вообще, оставался яростным язычником, поклонником идолов и небесных светил.
Настоящим же распространителем христианства в Армении, обратившим ко Христу ее царей и народ, был св. Григорий-Просветитель, — патрон армянской церкви и всего народа армянского и основатель Эчмиадзина.
История Григория — одна из самых поучительных и самых ярких в смысле характеристики духовных героев первых времен христианства. Отец его Анак был парфянин из царского рода Аршакидов, и по уговору персидского царя Арташира, обещавшего ему трон Армении, изменнически умертвил, вкравшись к нему в доверие, армянского царя Хозроя. Вся семья Анака и он сам были схвачены и казнены, и только один младенец Григорий был увезен своею кормилицею-христианкою Софьею в Цезарею, владение римского императора, где и был окрещен Григорием и воспитался в строгом благочестии первых христиан. В Риме воспитывался в это время и спасенный от рук Арташира сын убитого Хозроя, Тиридат. Григорий, мучимый совестью за преступление своего отца, хотел искупить его грех хотя какою-нибудь услугою сыну убитого; он поступил к нему на службу, не открывая своего происхождения. Тиридат в это время уже успел отличиться среди воинства римского необыкновенною силою и боевым мужеством, и император Диоклетиан, в благодарность, за блестящую победу его над готами, дал ему в распоряжение римское войско, чтобы отвоевать захваченное Арташиром наследие отца.
Григорий был одним из самых верных сподвижников Тиридата в этой войне и сделался первым любимцем его, когда Тиридат возвратил себе, с его помощью, армянский престол.
Изгнав врагов из своей родной земли, Тиридат, в радостном сознании победы, хотел принести благодарственные жертвы богине Диане, считавшейся в то время верховною покровительницею армян, и отправился со всем своим двором в город Ерицу, где был воздвигнут большой храм. Григорий один из всех придворных отказался приносить жертву идолу и вызвал этим сильнейший гнев царя.
— «Ты следовал за мною, как чужестранец, и как дерзаешь поклоняться Богу, которому я не поклоняюсь? — говорил взбешенный Тиридат. — Я тебя приблизил к себе, как никого, хотел сделать тебя счастливейшим из людей, а ты оскорбляешь своим презрением великую богиню, покровительницу народа нашего, которой поклоняется сам император римский… Теперь, — вместо всяких наград и высоких должностей, которые я собирался дать тебе, — тебя ожидает темница, оковы и смерть, если ты не принесешь жертвы великой богине, благодетельнице рода человеческого»…
Григорий на это отвечал с твердостью:
— «Господь повелел слугам повиноваться господину своему, но поклонение, подобающее Богу, сотворившему небо и землю, ангелов и человеков, не должно быть воздаваемо никому другому. Я тебе всегда служил верою и правдою. Надежда же моя не на тебя, а на Создателя моего. Ты грозишь, вместо наград, обрушить на голову мою всякие скорби, но я этому могу только радоваться, потому что, умерщвляя мое тело за верность Спасителю моему, ты дашь воскресение душе моей в вечном царствии Его; обрекая меня позору здесь на земле, ты приуготовляешь мне славу небесную, безмерно драгоценнейшую для меня; связывая меня оковами и ввергая в темницу, ты даешь мне неизглаголанное счастье уподобиться Спасителю моему, также претерпевшему казнь и поругание за грехи наши. Скорблю о тебе, что ты, вместо Бога живого, Творца вселенной, служишь бездушному дереву и камню, которые даны от Него людям на их потребу. Мы же твердо веруем, что, поклоняясь живому Богу, будем жить вечно, хотя бы и умерли плотью, ибо Спаситель наш умер и воскрес, чтобы показать нам, что и мы точно так же умрем лишь для того, чтобы воскреснуть».
Разгневанный Тиридат велел подвергнуть любимца своего целому ряду жестоких мучений, и после каждой казни призывал его к себе и настойчиво увещевал, чтобы Григорий отрекся от христианства и поклонился идолу Дианы. Григорий геройски вытерпел, одну за другою, двенадцать ужаснейших пыток, но оставался непоколебим.
Его вешали за ноги вниз головою над невыносимыми зловониями и беспощадно секли; его туго скручивали палками и веревками, так что трещали кости, и целых семь дней оставляли в таком виде висеть на крыше дома. Ему давили ноги тисками, так что кровь струилась из-под ногтей; вбивали толстые железные гвозди в пятки и заставляли бегать босыми ногами; зажимали голову между двумя брусьями; держали его целую неделю в мешке, наполненною золою выше головы, так что, при каждом вздохе, зола набивалась ему в нос и в рот и проникала во все внутренности; вливали ему внутрь, повесив вниз головою, кипящую воду, так что живот раздувался, как мех, и вода вытекала через рот и нос; скребли ему, повесив его за руки, все тело железными скребницами; катали его, голого, по земле, утыканной и усеянной железными шипами, набивали ему на ноги высокие железные сапоги, убитые внутри гвоздями, так что они проходили насквозь тела, до самой кости; обливали расплавленным свинцом; вливали свинец ему в рот, так что сожжено было его тело и внутренности, — и все-таки святой мученик оставался жив и бодр.
Пораженный его неимоверным терпением и живучестью, Тиридат раздражался все больше и больше непреклонностью бывшего любимца своего, и после каждой пытки изобретал еще более мучительную казнь.
— «Как ты можешь еще дышать, Григорий, после таких ужасных мучений? — в изумлении спрашивал он его. — Другой бы давно умер от гораздо меньших казней, а ты столько недель без перерыва терпишь их, и еще имеешь силу говорить и противостоять повелениям моим? Ты видишь однако, что твоя надежда не исполняется: твой Спаситель ни от чего не мог спасти тебя, и я делаю над тобою все, что хочу. Никакие ангелы, о которых ты говорил, не являются на твою защиту, а я буду мучить тебя еще хуже и еще больше, пока ты не покоришься воле моей. Не прямая ли выгода для тебя избавиться от лютых казней и смерти, ожидающих тебя впереди, только поклонившись великой богине, спасающей от врагов наше царство? И опять я возвращу тебе все милости твои, и будешь мне второй брат и первый человек в царстве моем».
Григорий отвечал Тиридату:
— «Силу переносить твои злодейства дарует мне мой Господь, в руках Которого все видимое и невидимое. Чем больше будут земные мучения мои, тем скорее бессмертная душа моя отделится от грешного тела, и я удостоюсь венца мученического среди ангелов и святых Божиих. Себе же ты готовишь на праведном Суде Божием муки вечные, во тьме кромешной, где огонь не угасает, и червь не усыпает»…
Разъяренный Тиридат велел сковать Григория по рукам и ногам и отвезти в окрестности Арарата, в г. Арташат, где была выкопана для осужденных на смертную казнь яма страшной глубины, наполненная множеством огромных змей и всяких ядовитых гадов, и из которой далеко распространялось невыносимое зловоние от гниющих в ней трупов.
Четырнадцать лет пробыл святой Григорий в этом ужасном заключении, и ни одна змея не дотронулась до него; благочестивая христианская вдова Анна, жившая в соседнем замке, все это время ежедневно тайно приносила кусок хлеба и бросала ему в яму, поддерживая этим его жизнь.
Между тем Тиридат успел одержать много новых побед над соседними народами, — и, приписывая свои удачи покровительству Дианы и Геркулеса, поклонение которым он заимствовал у римлян, долгое время живя в империи их, — обратился с торжественным воззванием к подвластным ему народам, чтобы они, подобно грекам и римлянам, усердствовали в почитании Юпитера, Дианы, Геркулеса и других богов, даровавших ему победы, строили бы им храмы, приносили богатые жертвы, а христиан и всех уклоняющихся от почитания греческих богов предавали бы в руки властей для жестокой казни и отобрания в казну имущества их.
В это время римский император Диоклетиан, жесточайший из гонителей христианства, желая избрать себе вторую жену, послал знаменитейших живописцев Рима по всей империи своей снимать портреты с первейших красавиц земли, чтобы красивейшую из всех взять себе в жены. Живописцы донесли ему, что в одном женском монастыре Рима проживает юная христианка, по имени Рипсима, такой необычайной красоты, подобной которой они никогда не видали. Увидев портрет Рипсимы, Диоклетиан воспылал страстью к ней и приказал немедленно готовить свадебное торжество. Рипсима была сама из императорского рода и жила под попечением своей приемной матери и родственницы от такого же царского корня, Гайяны, среди инокинь, принадлежавших также к высшему сословию Рима. Узнав о предстоящей перемене судьбы своей, Рипсима, посвятившая себя Христу и давшая обет вечного девства, пришла в ужас, также как ее воспитательница Гайяна и весь монастырь. Горячо помолившись Богу, они решилась все вместе бежать из Рима и, наняв корабль, отплыли сначала в Александрию, потом в Иерусалим и Святую Землю. Над гробом Пресвятой Богородицы в саду Гефсиманском игуменья Гайяна поручила свою возлюбленную духовную дочь заступничеству Пречистой Девы, и, получив от Нее во сне приказание отправиться в Армению, в область араратскую, со всеми инокинями своими прибыла в Вагаршапат, бывший тогда столицею Тиридата. Они были без денег и без всяких средств, но некоторые из них пряли шерсть, другие делали бусы, и этим трудом поддерживали свое существование, «питаясь более молитвою, чем яствами», по простодушному выражению армянской летописи.
Диоклетиан узнал, что избранная им невеста скрылась с своими подругами в Армении и просил письмом царя Тиридата разыскать их и казнить всех смертью, кроме красавицы Рипсимы, которую прислать ему, а если она понравится армянскому царю, то удержать ее для себя, «ибо во всей римской империи не нашлось никого, кто бы равнялся с нею красотою», прибавлял римский император.
Убежище инокинь было скоро открыто и окружено стражею. Толпы народа, дворянство, князья, весь царский двор теснились около скромного домика глухой улицы, чтобы полюбоваться на невиданную красоту юной римлянки. Тиридат прислал за Рипсимой золоченые носилки с множеством придворных слуг и все принадлежности царского облачения, решившись венчать ее царицею, еще не видя ее в лицо.
После упорного сопротивления, Рипсиму насильно привезли во дворец Тиридата. Но восхищенный ее красотою царь напрасно силился победить ее решимость и боролся с нею несколько дней сряду; одушевленная неземною силою, слабая девушка отражала все попытки богатыря Тиридата; наконец, сорвав с него корону и царские одежды, бросила его, совсем обессиленного, на пол, а сама бесстрашно прошла через толпы придворных и возвратилась в свой дом. Гайяна, которую приводили нарочно во дворец уговаривать Рипсиму уступить желанию царя, всячески ободряла ее твердо защищать свое целомудрие и оставаться верною иноческому обету. Ее увезли в темницу, избив камнями все ее лицо.
Тотчас же явились палачи и стража в дом инокинь. Неустрашимой Рипсиме отрезали сначала язык, потом стали жечь медленным огнем ее тело, привязав ее к четырем столбам и навалив на нее острые камни; но она все еще оставалась жива. Тогда ей выкололи глаза и изрубили ее в куски. С нею вмести умертвили и тридцать две духовных сестры ее, который пришли на место ее казни, чтобы собрать ее мученические останки.
С Гайаны и двух инокинь, провожавших ее во дворец и вместе с нею заключенных, содрали кожу, вырвали языки, навалили на них острые каменья и наконец отрубили головы.
Это случилось в 301 году нашего летоисчисленья.
Умертвили и больную инокиню, оставшуюся в общем жилище их. Всего было замучено тридцать семь дев из числа семидесяти, бежавших из Рима. Остальные разбрелись еще ранее по другим местностям; в числе их была и св. Нина, проникшая в Грузию, в г. Мцхет, и обратившая потом в христианство царя грузинского и народ его.
Царь Тиридат был до того опечален гибелью Рипсимы, что бросился на землю с своего трона и долго горько плакал и сокрушался.
— Проклятая секта христианская! — вопил он. — Скольких людей погубила она! Мало того, что она отвращает их от служения богам, она еще лишает их и земных радостей. Смерть не устрашает их. Вот и Рипсима не побоялась ее, дева такой красоты, которой еще не было среди рода людского. Сколько бы я ни жил, никогда не забуду ее. Знаю я хорошо и римскую, и греческую землю, Ассирию, Парфию, Турцию, Адербайжан и много всяких стран, но нигде не видал я ни малейшего подобия ее красоте… Колдовство этой секты так сильно, что победило даже меня!
Шесть дней не находил себе места от тоски армянский царь, и чтобы развлечь себя, приказал устроить большую охоту на зверей. Но еще на улицах города на него напала злая немочь. Он внезапно упал с колесницы своей и пришел в такое бешенство, что стал грызть свое собственное тело. Подобно тому как некогда вавилонский царь Навуходоносор вообразил себя быком и ел траву, как скот, обезумевший Тиридат обратился в свинью и, избегая людей, рылся вместе с свиньями в земле, отыскивая там пищу. Тогда сестре Тиридата, Хозройтухте, явился во сне ангел и сказал: «Пока ты не освободишь из оков Григория, заключенного в Арташате, и он не научит вас, чем спасти царя, — безумие его не прекратится».
Хозройтухт передала свой сон приближенным Тиридата, но они смеялись и говорили: «Ты с ума сошла! Разве мог Григорий прожить пятнадцать лет в яме, где кишмя кишат такие страшные змеи? В ту же минуту, как кинули его туда, они, наверное, сожрали его, и теперь даже костей его не сыщешь!»
Однако, когда тот же сон снился Хозройтухте в пятый раз, придворные сановники решили отправить посланца в Арташат. Горожане Арташата были этим крайне изумлены и говорили посланцу: «Кто же может верить, чтобы Григорий был жив, когда уже столько лет прошло с тех пор, как бросили его в эту страшную яму!»…
Однако, исполняя приказ двора, связали вместе множество толстых и длинных веревок и спустили их в пропасть. Посланец Ода нагнулся над ямою и крикнул громким голосом:
— «Григорий! если ты жив, то вылезай! Бог, которому ты молишься, повелел нам освободить тебя!»
Григорий ухватился за веревку, и его вытащили на свет Божий. Тело его было черно как у эфиопа. Его обмыли, одели и с великим ликованием повезли в Вагаршапат.
Тиридат встретил его у города вместе с сановниками своими, страдавшими тем же безумием, как и он; они грызли от бешенства собственное тело свое. Григорий, преклонив колена, стал горячо молить Бога об исцелении их, и после нескольких дней его молитв мало-по-малу возвратился им их человеческий образ. В виде покаяния, Григорий потребовал прежде всего, чтобы они почтили память святых исповедниц Христа, соорудив христианские храмы над прахом Рипсимы, Гайяны и всех пострадавших с ними. Царь и все сподвижники его злодейств с рыданьями преклонили колена над прахом Рипсимы, перед св. Григорием, и молили его испросить им прощение у Бога. После шестидесяти пяти дней непрерывных общих молитв и поста целого народа и продолжавшихся все это время поучений св. Григория, все жители Вагаршапата, с царем во главе, приступили к постройке храмов над убиенными мученицами. Одни готовили камни, другие лес, третьи черепицы, и под главным руководством Григория успели скоро воздвигнуть три церкви: одну над прахом Рипсимы и тридцати двух сестер, другую — над прахом Гайяны с двумя сестрами, третью — над прахом больной монахини, убитой на месте их общего жительства.
Царь Тиридат собственноручно копал ямы для фундамента церкви, а царица жена его и сестра его Хозройтухт носили в подолах своих платьев землю из этих ям. Потом Тиридат, по собственному желанию, отправился на гору Арарат, отстоявшую довольно далеко от Вагаршапата, и принес оттуда на своих плечах восемь громадных камней, из которых сооружен был главный вход в церковь св. Рипсимы. Тело каждой мученицы, по повелению Григория, было одето в роскошные одежды и положено в особый гроб прекрасной работы, а самые храмы украшены золотыми и серебряными свещниками, лампадами и всякими другими церковными принадлежностями.
Вот эти-то три древние церкви, поныне существующие на окраинах Вагаршапата, — две со стороны Эчмиадзина и одна с противоположного конца — и были первыми христианскими святынями Армении, и по ним-то соседние народы прозвали Вагаршапат «городом трех церквей».
Таково великое историческое значение для Армении посещенной нами церкви св. Рипсимы и эчмиадзинского храма сошествия св. Духа. Этот эчмиадзинский храм построен был по указанию св. Григория уже впоследствии, когда Тиридат и весь народ его были окрещены в веру христианскую, разрушены были Григорием и Тиридатом все языческие храмы Армении, и Григорий был рукоположен архиепископом Цезареи, Леонтием, в архиепископа всей Армении.
* * *
Верховное значение католикосов Эчмиадзина укрепилось в особенности с тех пор, как по туркменчайскому трактату ханства нахичеванское и эриванское, заключавшие в себе араратскую область с Эчмиадзином, были присоединены в 1828 году к России, и повелителем бывшего армянского царства, от которого зависел выбор вселенского патриарха Армении, вместо персидских шахов и турецких султанов сделался царь православной России.
До тех пор подкупы и партийные интриги при дворе магометанских государей, нисколько не заботившихся о религиозных интересах армянских христиан, главным образом решали выбор эчмиадзинских патриархов, нередко назначавшихся прямым указом султана или шаха без всякого внимания к желанию самих армян. Это порождало большие смуты в армянской церкви и в самой жизни народа армянского и сильнейшим образом расшатывало значение эчмиадзинских католикосов. В последнее время перед присоединением к России выбор эчмиадзинского католикоса стал зависеть исключительно от четырех главных архиепископов, соседних с Эчмиадзином, а иногда католикос еще при жизни своей сам назначал себе преемника, а народ избирал потом другого, и между двумя соперниками начинались жестокие распри, волновавшие церковь.
После присоединения же к России установлен был законодательным путем древний порядок избрания вселенского патриарха всеми армянскими епархиями, которые присылали для этого в Эчмиадзин своих архиепископов, епископов и почетнейших выборных от народа. Особый прокурор эчмиадзинского синода, назначаемый государем, наблюдал за законностью и порядком выборов, не вмешиваясь в них, и из двух избранных кандидатов на патриарший престол государь утверждал одного по усмотрению своему.
Первое избирательное собрание было открыто на светлой седьмице, 15-го апреля 1843 г., в соборном храме Эчмиадзина, перед серединным алтарем сошествия св. Духа, для выбора преемника умершему католикосу Иоаннесу, из 26 выборщиков светских и духовных; после трехдневного заседания был избран верховным патриархом Армении всеми 26-ю наличными голосами и всеми письменными отзывами отсутствующих депутатов — одинаково популярный среди армян и русских Нерсес, архиепископ нахичеванский и бессарабский, который также отсутствовал и который тотчас же получил от императора Николая Павловича торжественную утвердительную грамоту, писанную золотом на большом пергаментном листе, украшенном гербами всей империи и гербом области армянской, изображающим собою древнюю корону армянских царей, Арарат и Эчмиадзин.
С тех пор этот порядок избрания католикосов постоянно соблюдается в Эчмиадзине. Император Николай Павлович, вообще, желал выказать свое царское благоволение духовенству армянскому, деятельно помогавшему русским в их войнах с Персиею и Турциею на почве древней Армении. С этою целью он, между прочим, лично посетил в 1837 году эчмиадзинский монастырь; патриарх с знатнейшим духовенством и почетною стражею, в предшествии хоругви, встретил его верхом за версту от монастырской ограды, и после обозрения государем замечательных древностей и святынь монастыря, таким же образом проводил государя до монастыря святой Рипсимы.
V Ущелье Гарни-Чая
По возвращении в Эривань, я отправился в Гер. Петр. К-ну, который занимает здесь должность податного инспектора и, как человек университетского образования, а вместе с тем армянин по происхождению и старинный туземный житель, отлично знаком как с экономическим положением страны, так с историческими и археологическими замечательностями ее. Гер. Петр., к которому я имел письмо от нашего общего с ним хорошего знакомого из Тифлиса, оказался любезнейшим человеком и устроил нас как только можно было желать. Вечером он посетил нас в нашей гостинице и познакомил нас с очень милым молодым человеком, своим родным племянником, Степ. Ив. Ка-ном, который живет под Араратом, в большом селении Игдырь, и ведет общее хозяйство семейства Ка-на. Гер. Петр, предложил нам Ст. Ив-ча в спутники для поездки в Кегарт, которую нам особенно желательно было устроить. Мы, разумеется, приняли это милое предложение с сердечною благодарностью, и действительно приобрели в лице Ст. Ив. незаменимого спутника, интереснейшего собеседника и опытного организатора всех практических подробностей путешествия, не только в Кегарт, но, как потом вышло, и в глубь Армении, в Александрополь, в Ани и проч.
В Кегарт нет, собственно, никаких колесных дорог; поэтому ни биржевые извозчики, ни почта туда не ездят. Ехать же верхом с женою, не чувствовавшею себя вполне хорошо, подвергаясь риску попасть под осенние ливни, — мне не хотелось. Но Ст. Ив. разыскал одного старого возницу, которому уже случалось вместе с ним пересчитывать камни непроездной дороги в Кегарт, спускаться и подниматься по обрывам окружающих его пропастей. Правда, опытный старик и взял с нас немало за свою четверню и колясочку, хорошо зная, что придется вытерпеть в такую поездку и колесам, и копытам, но мы были вполне счастливы возможностью совершить это очень трудное, но и крайне интересное путешествие таким покойным способом.
Монастырь Кегарт до того трудно доступен, что даже из жителей Эривани некоторые никогда не бывали в нем, а иные и не слыхали о его существовании несмотря на то, что во всей Армении едва ли найдется место поразительнее Кегарта по своей дикой живописности и интереснее его по своим историческим и архитектурным памятникам. И мы, и Ка-н, запаслись всевозможною провизиею для поездки в горную пустыню: чуреки, ловаши, яйца, сыр, колбасы, яблоки, чай, сахар, конфеты — всего было обильно набито в походные куржины. Проехали через весь город и мимо бесконечных садов стали подниматься по крутейшей дороге, заваленной камнями, в предместье Эривани Чолмекчи, что по-татарски значит: «черепичный завод». В садах тут больше всего персики, абрикосы, орехи, шелковица, алыча, черешни… Винных ягод и других, более важных плодов — не видно. Это — естественное следствие возвышенного положения Эривани над уровнем моря (3.229 футов). Весь город расстилался у наших ног в своих золотистых тополях и орехах, словно потонувший в сплошном саду. Утро было ясное, без малейшего облачка, и Арарат, вчера еще далекий и туманный, теперь вырезался, с ног до головы одетый снегами, сверкающе-белый, среди голубой синевы неба, — казалось, так близко, что его можно было тронуть рукою, — словно прозрачный воздух ясного утра приблизил его к нам на целые десятки верст.
Взобрались наконец на горную равнину, господствующую над городом и над всею необъятною низиною Аракса. Куда ни посмотришь, всюду кругом безотрадная, заваленная камнями пустыня. Завалена камнями и дорога наша, по которой злополучная коляска наша и терпкие лошадки еле-еле подвигаются с беспрерывными толчками, стуком и треском, пересчитывая каждую глыбу. И словно в противоположность этой мертвой пустыне, внизу у ног наших, куда только хватит глаз — роскошная зеленая долина, покрытая нивами, лугами, садам, селеньями, прорезанная в разных направлениях светлыми змеями Аракса и Занги, осененная слева снеговыми пирамидами Арарата, справа — зубчатым хребтом такого же белого Алагёза.
Мы, однако, не одни в этой не совсем безопасной пустыне. Гер. Петр. Ка-н выхлопотал нам у местного начальства вооруженного всадника, и за нами теперь картинно едет на своем бойком коньке чепар-татарин, с ружьем за плечом, с кинжалом и револьвером за поясом. Степан Иванович, хотя и не военный, тоже смотрит совсем воином: в черкеске с патронами, с длинным и широким кинжалом за поясом.
Изредка, как оазисы в пустыни, попадаются деревушки. Деревня Жирвез — вся в садах, но вместо домов — какие-то хлевы без окон, сложенные из сырого камня и земли; на плоских земляных крышах — стожки люцерны, или, по здешнему, юрунжи, которую жители считают ошибочно за клевер. Народ здешний — оборванец, как наши цыгане. Женщины — с обвязанными по-татарски головой и ртом, девушки — с открытыми лицами.
Остановились передохнуть и покормить сильно утомившихся лошадей в селении Баш-Гарни, в живописной котловине дикого ущелья. Здесь везде в больших селениях устроены по распоряжению начальства поместительные дома для сельского управления и для остановок проезжающих властей, так как помимо этих станций своего рода в большинстве армянских деревень нет возможности найти сколько-нибудь сносный ночлег.
Дом сельского управления в Баш-Гарни — из четырех больших комнат, отлично вымощенных каменными плитами, с длинными чистыми столами, с венскими стульями; в комнатах, предназначенных для проезжающих чиновников, — железные кровати с постелями. Двор обнесен оградою, при доме — галерея. В доме сельского управления сосредоточивается вся официальная жизнь армянского селения. Тут следователь производит следствия, пристав взыскивает подати, старшина сажает под арест, статистик собирает свои статистические сведения. Армяне жалуются только, что дома эти строятся чересчур роскошно для деревни, и потому стоят слишком дорого, подчас непосильно для бедного населения. Говорят, обычная цена такого дома — тысячи четыре рублей. Конечно, это очень недешево, и возможно было бы выстроить что-нибудь поменьше и подешевле; но нужно принять во внимание, что в Армении сельские управления соответствуют нашим волостным правлениям и простирают свою власть на несколько селений. Волостной же старшина имеет в каждом селении помощника из местных жителей, несущего обязанности нашего русского сельского старосты. Сейчас же по нашем приезде, явились к нам помощник волостного старшины и кандидат старшины. Они, разумеется, считали нас за чиновников, посланных от начальства с каким-нибудь официальным поручением, и ждали приказаний. Их стараниями скоро появился самовар с чайным прибором, составляющие также обязательную принадлежность каждого сельского управления. Путешествующему по полудикой стране, не выдающей никаких потребностей цивилизованного человека, — все равно, будь это доброволец-турист, подобный нам грешным, или чиновник, обязанный родом своей службы постоянно скитаться по этим неприятным местам, — нельзя не оценить высоко тех незаменимых удобств, которые можно найти в здешних домах сельского управления и без которых разъезды по горным дебрям Армении обратились бы в настоящую пытку. Невольно поэтому приходится сожалеть, что разумный обычай — устраивать в деревнях сколько-нибудь удобные приюты для проезжающих чиновников — так мало развит у нас на Руси, которой глухие деревенские углы большею частью дают так же мало возможности найти мало-мальски сносный ночлег для человека, не привыкшего жить в тесном общении с телятами и тараканами, как и деревни Армении.
Пока готовился чай и завтрак, мы пошли осмотреть интересные развалины древней армянской крепости, когда-то стоявшей здесь и оберегавшей все ущелье Гарни-Чая. Развалины эти сейчас же за садом сельского управления, над страшною пропастью, на дне которой глубоко внизу ревет среди обрушившихся камней вся кудрявая от белой пены река Гарни-Чай; на обрывистом мысе скал стоят почерневшие обломки крепостных ворот и круглой башни при них, а на противоположном конце, прямо над бездонным обрывом, где мыс заканчивается крутым холмиком, без порядка навалены друг на друга громадные тесанные камни черного гранита, тяжелые архитравы и капители, с искусно вырезанными в камне скульптурными украшениями, круглые массивные колонны в роде приземистых столбов древних египетских храмов, и всякого рода обломки и осколки большого и богато отделанного здания.
Циклопическая стена окружает внизу скалу, подпирая ее нависшие выступы, сглаживая всякие неровности ее, и делая ее через это совсем неприступною снизу. Сбоку, на половине глубины пропасти, чернеет вход в пещеру, и около него хорошо еще видна часть стены, облицовывавшей этот вход. Местные жители уверяют, что это — развалины когда-то здесь бывшего дворца царя Трдата, крестившего в веру Христову армянский народ, и что в пещере жила дочь царя Трдата. От того развалины эти до сих пор называются у армян Тахт-Трдат («Престол Тиридата»).
По обе стороны скалистого мыса, на вершине которого мы теперь стоим, попирая камни разрушенного дворца, зияют глубоко распахнутые котловины с неистово-бушующим на дне их Гарни-Чаем, с зелеными лужками и рядами тополей по его берегам и с мирно пасущимися среди них коровами. Там, в глубокой трещине коры земной, куда почти не в силах заглянуть луч солнца, под сенью черных развалин, похоронивших под собою мрачные сказания старой истории, — приютилась тихая хозяйственная жизнь и тихие красоты природы, на которые мы любуемся в эту минуту, не отрывая глаз. Пешеходные тропинки смелыми зигзагами карабкаются из этой зеленой бездны на стены почти отвесных скал…
Устные предания невежественных жителей Баш-Гарни о дворце Трдата сохранили зерно исторической истины. Мы, действительно, стоим теперь на месте давно исчезнувшего древнейшего города Армении — Гарни, который некоторое время был даже столицею армянских царей. Французский путешественник Шарден, посетивший Кавказ и Персию в XVII столетии, во времена нашего Алексея Михайловича, еще видел в полуразрушенном дворце Тиридата 36 колонн черного мрамора и восхищался великолепною архитектурою.
Город Гарни существовал еще в ветхозаветные времена и, по уверению знаменитого армянского историка V века, Моисея Хоренского, назывался сначала Гёгам, по имени своего первого основателя, Гёгама, внука легендарного Гаика, родоначальника народа армянского, который и теперь называет себя по имени его гайканцами, а страну свою — Гаикстан. Гаик считается армянскими летописцами современником и соперником еще Немврода, или Бела (Ваала), строителя библейской башни вавилонской, который, будто бы, и погиб от руки Гаика в кровавой битве с ним у подножия Арарата.
Название же Гарни, по объяснению армянских летописцев, присвоено было этому древнему городу по имени жившего в нем царя Гарника, внука Гёгама, и сына старшего сына его Гарха. Точно также и название гайканцев «армянами» производится их летописцами от имени другою сына Гарма — Арама, современника Нина и Семирамиды, приобревшего своими подвигами такую славу среди соседних народов, что они стали звать всех подданных его арменаками, а страну их — Арменией. Такова седая древность развалин, которыми мы теперь любуемся, стоя над живописною бездною на тесном скалистом мысу.
Хотя крепость в этом скрытом и неприступном уголке дикого ущелья существовала издревле, и даже римляне держали в ней одно время свой гарнизон, воюя с Митридатом Понтийским, но в конце III-го столетия по Р. Хр. она была заново построена царем Трдатом, по свидетельству Моисея Хоренского, из больших тесанных камней, связанных между собою железом и свинцом; в стенах крепости был сооружен Трдатом и искусно высеченный дворец в память сестры его Хозройтухты, больше всего содействовавшей обращению царя в христианство. Имя Трдата было высечено на дворце греческими буквами.
Эти глубоко исторические развалины, достойные самых тщательных археологических изысканий, связаны также и с другим широко популярным именем Кавказа. Грузинская царица Тамара, завоевавшая значительную часть Армении, овладела, между прочим, и крепостью Гарни. Впоследствии под стенами Гарни нанес жестокое поражение соединенным силам грузин и армян султан Ховарезма, — теперешней Хивы, — Джелал-Эддин, от неукротимых наездников которого оробевшие грузины спасались, побросав оружие и обозы, в глубине недоступного Гарни-Чайского ущелья, куда нам предстояло ехать из Баш-Гарни, и мы видели потом многочисленные пещеры в скалах, где укрывались эти храбрые защитники, покинутые своим предводителем Иване, ускакавшим раньше всех к озеру Гокче.
В Гарни были погребены и некоторые патриархи Армении, но следов их гробниц не осталось, и местные жители уже ничего не знают о них.
Из множества виденных мною диких красот природы редко какие могут сравниться с поразительною живописностью Гарни-Чайского ущелья у Баш-Гарни.
Немудрено поэтому, что местность эта сделалась с незапамятных времен своего рода средоточием армянской истории. Помимо крепости Гарни, вокруг которой витают тени чуть не всех легендарных героев Армении, — по речке Гарни-Чаю или в ближайшем соседстве с нею основались и многие другие древнейшие поселения Армении, получившие большое значение в ее истории. Так, при впадении Гарни-Чая, называвшегося в древности Медз-Амор, в реку Аракс, верстах в 25 от Эривани, до сих пор существует по дороге в Нахичевань селение Арташат, в котором еще уцелели земляные насыпи от некогда бывшего здесь города Арташата, столицы Армении в течение нескольких веков, славившейся во времена язычества своими капищами и идолами; здесь именно Григорий-Просветитель провел 13 лет в яме Хор-Вираба; здесь же он впоследствии низвергал святилища поклонников Дианы и Аполлона.
У той же речки Гарни-Чая находится и деревня Двин, — ничтожная наследница когда-то славного города того же имени, бывшего столицею Армении еще долее, чем Арташат, и тесно связанного со многими важными событиями армянской истории.
Двин, также как и Арташат, был одним из главных гнезд огнепоклонничества, которого старые языческие святыни везде были заменены потом святынями христианскими. Оттого, конечно, вся долина Гарни-Чая и все дикое ущелье, у которого мы теперь находимся, полны до сих пор и уцелевших, и уже покинутых монастырей, на месте которых несомненно стояли почитаемые язычниками храмы или истуканы.
* * *
Позавтракав и напившись чаю в сельском управлении, мы бодро продолжали свой путь. Дорога ушла от ущелья в глубь степи. Вокруг нас опять однообразная пустыня, сплошь заваленная камнями. Редко, редко покажется верблюд, пасущийся среди колючего бурьяна, или одинокий пахарь, обливающийся потом над своим первобытным плугом на каком-нибудь крошечном клочке поля, который он с мучительным трудом расчистил от груды камней. Долго придется ждать, пока очистится от камней вся эта громадная степь. Даже поля, которые уже пашутся, еще наполовину полны камней. Без воды эта плодородная почва не дает ничего, а дожди тут редки. Поэтому к каждому распаханному клочку мозолистая рука терпеливого пахаря должна проводить борозды из ближайшего ручья, до которого иногда очень неблизко, а если нет возможности провести воду, то приходится довольствоваться обильным разливом весенних вод, для сохранения которых также копаются ровчики по всему полю.
Наконец, мы опять повернули и стали спускаться в ущелье, все время невидимо провожавшее нас справа. Поразительные декорации одна за другою поднимаются перед нами. Сначала у ног наших разверзается глубокое зеленое провалье с лугами и стадами коров; потом оно мало-по-малу переходит в мрачную пропасть, на дне которой ревет и пенится Гарни-Чай, и над которою надвинулись со всех сторон изгрызенные, как зубцы древней крепости, громадные истуканы черных скал. Чудится, будто мы попали в какую-то безотрадную юдоль плачевную, будто нас окружают сцены из какой-нибудь романтической и фантастической оперы, нечто в роде «Wolfsschlucht» Веберовского «Фрейшютца». И чем дальше, тем грознее и ужаснее, тем восхитительно-живописнее делается эта дикая пропасть. Художник-живописец замер бы от восторга, глядя на эту невероятную и жуткую красоту, и не вышел бы отсюда…
Вот мы у самой вершины ущелья и уже медленно карабкаемся в замыкающую его дикую теснину, в самое жерло охватившего нас кругом грозного великолепия. Какими-то волшебными замками и башнями, нерукотворными твердынями титанической величины встают из глубины пропасти на страшную высоту сдвинувшиеся в дружный кружок черные голые скалы, из каменной груди которых вырывается с ревом исток Гарни-Чая.
Эта глубокая черная пазуха кажется разверзшеюся утробою земли, готовою опять сомкнуться над дерзким двуногим червем, который отважно заполз в нее и нагородил в ней свои каменные норки.
Куда ни взглянешь на скалы, везде наверху и внизу зияют черные зевы пещер, окошечки и дверочки, пробитые в толще камня. Большинство этих пещер, старых как само человечество, уже недоступно теперь. Осыпались в течение ряда веков, а может быть и тысячелетий, тропинки и лесенки, лепившиеся по выступам отвесных скал, — и теперь разве только орлы могут гнездиться в этих висящих над бездною людских гнездах жестокого старого времени.
В этом скрытом ущелье, так близко отстоящем от священной горы, ставшей, по всей видимости, центром расселения человечества, приютившем на берегах своей ветхозаветной речки города, крепости и храмы первобытных народов истории и связавшем свое имя с именами, о которых повествовала еще Книга Бытия, — пещеры могли служить троглодитам каменного века, а не только историческим племенам Кавказа.
Но несомненно, что в них находили приют и спасение десятки тысяч людей в часто повторявшиеся для Армении дни беспощадных гонений язычников-огнепоклонников на христиан первых веков. Это уже не догадка, а положительное свидетельство армянских летописцев. Между прочим, в дошедшей до нас высоко-интересной книге Эгише Вартапеда, историка V века, бывшего свидетелем и участником этой кровавой эпохи гонений, не раз упоминается о том, как, при нашествии персидского воинства, христианские жители разрушенных армянских городов и опустошенных армянских областей разбегались в горы и прятались там по целым месяцам в неприступных пещерах.
Вот один из трогательных эпизодов той ужасной поры, рассказанный со всею наивностью средневекового летописца благочестивым Эгише и относящейся к тому времени, когда народный герой Вартан Мамиконьян, признанный потом святым армянскою церковью, после ряда блестящих подвигов погиб в великой битве с персами в долине Артазской.
— «Нет, не вверимся мы обманчивому приказанию царя, не хотим более подпасть под власть Иездигерда! — говорили армяне. — С той поры они приняли твердое решение оставить свои деревни, хутора и виноградники. Новобрачные девушки вышли из-за занавесей, супруги — из своих покоев, маститые старцы встали с кресел и дети сошли с рук матерей. Юноши и молодые девушки и множество мужчин и женщин направили стопы свои к пустыням и укрывались в укрепленных местах и ущельях пустынных гор. Они лучше желали с истинною верою оставаться посреди ужасных скал, как звери дикие, нежели жить в наслаждениях под собственным кровом отступниками. Они вкушали безропотно пищу, составленную из трав, и не жалели о вкусных яствах, к которым привыкли. Глубокие пещеры недр горных казались им предпочтительнее великолепных покоев богатых палат, и голая земля, служившая ложем, была в глазах их красивее роскошных ковров и превосходных убранств спален, украшенных драгоценною живописью»…
Трудно сомневаться в том, что пещеры Гарни-Чайского ущелья, до сих пор напоминающего по остаткам древних монастырей и церквей какую-то огромную сплошную лавру, — тоже послужили в те опасные времена надежными убежищами для христиан, спасавшихся от избиения.
* * *
Характерный острый конус восьмиугольной армянской церкви неожиданно вырезался совсем близко от нас на фоне черных скал. Этот серый каменный храм среди окружавших его серых, замшившихся стен казался детскою игрушкою в сравнении с нерукотворными громадами тех вековечных стен и башен, под сенью которых приютился он.
Мы подъезжаем теперь к знаменитому монастырю св. Копья, древнему Кегарту. Он стоит, укрытый с трех сторон скалами, словно гигантскими ширмами, над обрывами берега; целый хаос камней, навороченных Гарни-Чаем в весенние разливы и в дождливые дни, один только обозначает внизу ложе бурной речки, которая теперь совсем отощала, хотя все еще сердито гудит и рокочет, протискиваясь своими раздробленными струйками сквозь загородившие ее каменные обвалы.
Не доезжая монастыря, налево от дороги, зияет как раз над нашими головами громадная черная ниша, образовавшаяся от обрушившейся внутренности отвесной скалы; без сомнения, в скале этой были большие пещеры, наружный стены которых осыпались и вывалились во время какого-нибудь сильного землетрясения. Теперь верхней череп этой гигантской пещеры представляет грандиозный, хотя и не безопасный мост своего рода, перекинутый смелою аркою через пропасть.
Почти сейчас же за этою колоссальною нишею и ворота монастыря. Монастырский двор обнесен крепкими древними стенами.
Настоятель монастыря, отец Ваграм, вероятно давно уже заслышавший стук наших колес по каменистой тропе ущелья, поджидал нас за воротами.
Степан Иванович был знаком с ним прежде, и представил ему нас, объяснив, между прочим, и литературную цель моего путешествия по Армении.
Отец Ваграм оказался очень общительным и гостеприимным хозяином. Заявив мне, вероятно, из восточной любезности, будто он читал некоторые сочинения мои, он отрекомендовал нам себя как страстного любителя чтения, особенно всего, что касается армянской истории и древностей. Из разговоров с ним мы потом убедились, что он, действительно, читал довольно много не только по-армянски, но и по-русски. Некоторые русские книги ему знакомы и даже стоят на полках его маленькой библиотеки.
По-русски он объясняется довольно свободно, хотя и не без ошибок, потому что долго жил прежде в Нахичевани-на-Дону.
Возможность прямой беседы с этим начитанным монахом без стеснительного посредства переводчика немало облегчила нам знакомство с древним монастырем.
— Кегарт, пещерный монастырь св. Копия.
* * *
Мы недолго посидели в обширной «кунацкой» настоятеля, уставленной диванами и заваленной всякою всячиной, и отправились, вслед за ним, осматривать монастырь.
Строения монастыря двумя сторонами своими тесно примыкают к скалам какого-то крепкого черного камня. Вплотную к скале стоит и единственная церковь монастыря, видимая снаружи, — такая же черная, такая же несокрушимо крепкая, сложенная удивительно ладно и красиво из больших тесанных камней, конечно, восьмиугольная, с острым шатром крыши, как все древние храмы Армении и Грузии. Церковь стоит с XIII века и поражает изяществом своих размеров, формы и украшений. Она вся в тонких арабесках, вырезанных в плотном камне свободно и красиво, как в куске воска: арабески по карнизам и поясам, арабески по арочкам дверей и окон, арабески в рамках многочисленных плит с крестами и надписями, которые так кстати разнообразят сплошную гладь стен этого словно граненого храма. Кресты на плитах очень своеобразны: чаще всего — большой крест с расширенными концами в фантастических завитушках, а между ветвями его такие же маленькие крестики, по два, по четыре и больше. Отец Ваграм объяснил нам, что это ex voto старинных прихожан, которые по разным случаям давали обет вставить свою семейную плиту в какой-нибудь угол храма, снаружи или внутри, и по числу членов своей семьи вырезали и число крестов на плитах, считая большою пользою для своей души и большою для себя честью такое участие в строении храма. Действительно, мы видели потом множество таких плит с крестами и внутри монастырских храмов, и в проходах между ними, и стоящих отдельно, в виде надгробных памятников. Еще любопытнее плиты с древними скульптурными изображениями аллегорических животных, украшающие снаружи стены храма. Самая интересная плита — над главным входом.
Там изображен тигр, загрызающий быка, — фигуральное воспоминание тех долговременных страданий и притеснений, который претерпевали армянские христиане от огнепоклонников персиян и от мусульман — арабов и турок. На других плитах — львы, орлы, олени, голуби, — тоже все исторические символы и аллегории. Много плит на наружных стенах и с историческими надписями, которые прочтены армянскими учеными и списаны. Это и необходимо, потому что, несмотря на твердость материала, многие строки этой каменной летописи уже начинают стираться. Надписи эти, впрочем, относятся исключительно к истории монастыря, повествуя о строителях, жертвователях и возобновителях храма, и не имеют общеисторического интереса («Во времена Захарии, царского рода, его двоюродного брата Иване и их сыновей, Шаханшаха и Авага, под управлением настоятеля Барсега и стараньями братии был построен этот великолепный собор в 1214 году». Начертано над аркою западной двери в церковь.). Что храм перестраивался несколько раз, это заметно помимо свидетельства надписей уже потому, что во многих местах вставлены отбитые куски плит с надписями и крестами, — очевидно, взятые из прежних построек. Последняя перестройка была произведена уже после сильного землетрясения 1840 года. Глядя на тщательную пригонку камней и на строгую правильность архитектурных линий, не удивляешься, что такой, словно выточенный из камня, храм, несмотря на частные повреждения, все-таки устоял в течение многих веков от землетрясений и разрушения врагов. Он весь каменный, с головы до ног: даже пирамидальная крыша его — из толстейших каменных плит квадратной формы, черных и темно-красных, скрепленных железными схватками. Такая несокрушимая крыша, разумеется, требует и несокрушимых сводов. Внутри наружный храм полон стиля и типичности. Изящный и благородный купол венчает превосходно построенные высокие, стройные своды. Особенно хорош широкий, круглый притвор огромной высоты, с величественною колоннадою массивных темных столбов, поддерживающих купол, с отверстием посередине. Под отверстием этим, в каменном полу, такой же круглый сток для дождевой воды. Внутренность купола вся в оригинальных ячейках, словно сверху висит громадный каменный сот. Этот чисто-восточный орнамент напомнил мне подобные же украшения каирских мечетей. В стенах — плиты с крестами и надписями, в помосте — плиты гробниц. Большие плиты с крестами стоят также у стен, в виде аналоев.
Из главного притвора идут рядом два хода в недра скалы. Мы вошли в полумрак пещеры и огляделись не сразу. Огромный храм строгой архитектуры, благородных линий и размеров, изумительным образом выточен в сердцевине дикой скалы — с такою геометрическою правильностью, с такою точностью работы, что просто глазам своим не веришь. Храм этот характером своей архитектуры служит явным подражанием наружной церкви Кегарта. Тут тот же прекрасный купол, те же своды, тот же притвор, хотя и сделанные несколько грубее. Каким образом люди, работавшие, как кроты, внутри сплошных толщей слепой скалы, могли так безошибочно определять размеры и расстояния, соблюдать одинаковый радиус сводов и куполов, округлять так верно и ровно колонны, — для меня остается неразрешимою загадкою; в устройстве этого древнего армянского храма много типических особенностей, повторяющихся и в наружной церкви. Тесные пещерки в стенах с крутыми каменными лесенками служили своего рода семейными ложами для почетнейших прихожан. По бокам алтаря, открытого, как у католиков, и поднятого на высокую площадку, темные, узкие придельчики, в которые ведут особые лесенки, и где сохранялись в прежнее время драгоценности храма. Престол, сиденья и все принадлежности храма высечены из сырца скалы, также как стены и столбы его; на боковых стенах алтаря — грубые, детски-неумелые изображения двух апостолов, положивших начало христианству в Армении, — Варфоломея и Фаддея. Они нарисованы без сияния вокруг головы, из чего армянские археологи заключают, по словам отца Ваграма, будто эта живопись относится к IV-му или V-му веку, так как, начиная с VI-го века, христианских святых стали постоянно писать с сияниями. На стене притвора — оригинальная скульптура аллегорического значения: олень сдерживает на цепи двух огромных львов, а ниже — орел вцепился когтями в барана. Это олицетворена христианская кротость армянского царя, смирившего злобных и могучих врагов, а вместе изображено страдание христианской церкви в когтях варваров. Среди плит есть, между прочим, плита с гербом древних князей армянских Прошей, когда-то — владельцев всей этой местности, вместе с озером Гокчею, и строителей этого храма, о чем сделана надпись на одной из плит храма («Под владычеством благочестивого и богомольного тагадяра (т. е. „возлагателя короны“) Грузии, Авага, Шаханшаха и его сына Захарии, я, Прош, сын Васака, потомок Хагбака, купив у владельцев края преудивительный Айри-ванк, с горою, равниною и всем, чем он был снабжен, — вырубил в скале этот дом Божий на память о себе, моих детях и моей жене Хутлу-Хатун. Совместно с людьми, я сделал благочестивый дар всего сего монастыри святого Копия». Судя по именам строителей, археологи относят эту постройку к половине XIII века, чем опровергается предположение отца Ваграха о живописи IV или V-го века, если только Прош не расширил уже существовавший подземный храм.). Убранство этого пещерного храма, также как и убранство наружной церкви, бедно до жалости. Настоящих икон нет, а есть плохие малеванья на полотне, в грошовых рамках, и то очень немногие, изображающие, большею частью, св. Григория в облаченьи католикоса, да св. Копье, которому посвящен монастырь.
Из притвора проведен доморощенный телефон своего рода — труба, пробитая в толще скалы в верхний храм, через которую можно отлично переговариваться, как мы убедились на опыте.
Рядом с пещерным храмом, который я описал, — другой, совсем на него не похожий, храм, также искусно и изумительно высеченный из одного цельного камня, в толщах скалы, с таким же куполом и сводами, с таким же притвором и даже таким же телефоном-трубою, проведенным в верхние отделения монастыря. В особом приделе притвора — подземный бассейн с водою, в который проведены канальчики и борозды из всех отделений этой пещерной лавры, чтобы обеспечить водою ее жителей в случае осады (По-видимому, это-то и есть самый древний храм, построенный еще в IV-м веке св. Григорием-Просветителем и давший монастырю его первоначальное имя «айри-ванк», т. е. «пещерный монастырь». На стенах его нет никаких надписей.).
По длинному, полутемному коридору, высеченному в скале, — стены которого покрыты множеством старинных плит с крестами, — пробрались мы в верхний храм, тоже выточенный в недрах скалы, как раз над нижними храмами, с которыми он может сноситься через трубы, пробитые сквозь каменное основание его.
Этот третий пещерный храм кажется несколько изящнее и веселее нижних, но выдолблен и разукрашен совершенно по тому же образцу, с прекрасным круглым куполом, с четырьмя грандиозными колоннами в притворе (Этот верхний храм еще несколько моложе храма Проша. Вокруг капители одного из массивных столбов его прочитана такая надпись: «С помощью Божьей я, Папак, сын Проша, и моя подруга Ергузукан, мы выкопали эту молельню в пещере скалы, на вечное поминовенье наших душ и душ наших детей, на наши законные капиталы». Это произошло при настоятеле Григории в 1288 году.).
Из него уже мы выбрались наверх, на уступы скалы, скрывающей в своей темной утробе эти чудеса древнего человеческого искусства. Поистине, эта пещерная многоярусная лавра стоит всяких египетских пирамид и подземных капищ Аписа, всяких знаменитых сооружений Рима. Она производит впечатление такой же колоссальности замысла, такой же невероятной настойчивости в труде, такого же дивного искусства, изумительного тем более, что оно не могло пользоваться техническими изобретениями и усовершенствованиями новейшего времени, а достигалось самыми простыми первобытными средствами.
Нужно удивляться, как такое археологическое и историческое сокровище, такая единственная архитектурная диковина, слишком мало известна не только образованному европейцу, не только русским ученым, но даже и огромному большинству ближайших жителей Кавказа, до такой степени, что в богатом специальном собрании кавказских видов самого известного тифлисского фотографа я не нашел никакого намека на Кегарт, и хозяин этой фотографии, справившись с каталогом кавказских исторических памятников Бакрадзе, уверял меня, что Кегарт там вовсе не упоминается, да и он сам, занимаясь столько лет сниманием всевозможных видов с интересных местностей и памятников Кавказа, никогда не слыхал о существовании Кегарта.
* * *
Бродя над крышами пещерных храмов, мы видели много пещер, тщательно высеченных на разных высотах скалы и украшенных, как и храмы, тонкою каменною резьбою вокруг входов и оконных отверстий; вслед за отцом Ваграмом, лазавшим по обрывам не хуже дикой козы, мы забрались в некоторые из них. В пещерах этих и кухоньки, и кладовые, и жилые кельи; иные уже совсем развалились; есть простые ямы, вырубленные в камне, заменявшие древним монахам закрома для ячменя и пшеницы; есть и цистерны для воды. Словом, в недрах этих черных скал, кроме великолепных храмов монастыря, был еще скрыт целый монашеский поселок со всеми его хозяйственными службами. Старая стена с башнями, защищавшая монастырь, до сих пор обходит его сзади и сверху, откуда доступ к нему легче, чем снизу, по узкой тропинке ущелья, на которой один человек, залегший за камни, мог бы остановить целый отряд.
Но в старые века жилье было далеко не в одной скале, к которой прислонился монастырь. Куда ни поглядишь с высоты, на которую мы теперь забрались, отовсюду из-за пропасти глядят черные дырья пещер.
Отец Ваграм указал нам на одну пещерку, черневшую прямо против монастыря, высоко в отвесном обрыве горы, своею правильно вырубленною широкою дверью и тремя окнами в ряд…
— То пещера царя Трдата, — сказал он нам; она просторная, из нескольких комнат. Царь скрывался там в опасные минуты жизни. Недавно еще цел был узкий карниз скалы, по которому хотя и с опасностью можно было добраться до нее, но несколько лет тому назад он осыпался, и теперь никаким образом нельзя в нее войти… Он предложил нам спуститься с монастырской скалы и повел нас к громадной арке осыпавшейся горы, о которой я упомянул раньше. Как раз около нее показал он нам трех-ярусную пещерную церковь, отлично высеченную в скале и покрытую снаружи множеством резных украшений в виде карнизов, поясов, оконных арочек и отдельно вставленных плит…
Еще одну церковь, но уже обращенную в бесформенную груду камней, большею частью растасканных на другие постройки, показал нам отец Ваграм на дороге, по которой мы поднялись к монастырю, над обрывом ручья. Очевидно, это был передовой храм древнего монастыря, может быть при его въездных воротах, так как его стены в то время, вероятно, захватывали гораздо более обширное пространство, и осыпавшуюся арку, и трех-ярусную церковь, и вообще всю местность, начиная от подъема дороги из ущелья, не ограничиваясь пределами теперешнего двора.
Али-шан, один из историков Армении, передает, что в Кегартском — или, как он пишет, Гегатском — монастыре было всего семь церквей, из которых пять высеченных в скале, составляющей отрог горы Гега, и в этих церквах — 40 или 50 престолов.
Первоначально этот монастырь назывался «Айри-ванк», что по-армянски значит: «храм, высеченный в пещере»; но когда, в смутное время армянского царства, в этот неприступный и укрытый от взоров монастырь перенесли из Эчмиадзина святое копье, которым был прободен распятый на кресте Спаситель, и хранившуюся там же доску от ковчега Ноева, он получил название Кегарт (или Гегарт) — ванк (буквально: храм копья), оставшееся за ним навсегда, даже и после того, как в более мирные времена св. копье было возвращено в Эчмиадзин. Армянские ученые и богословы считают Кегарт прародителем всех храмов Армении и полагают, что в пещерах его христианские отшельники скрывались еще до построения семи церквей и до Григория-Просветителя, которого считают первым основателем монастыря. Армянский историк XIII-го столетия, Вардан, даже передает поверье, будто св. Григорий построил здесь христианскую церковь на том самом месте, где в древности стоял очень чтимый язычниками храм. Во всяком случае, сохранилось достоверное сведение, что католикос Саак, сын знаменитого католикоса Нарсесса Великого, живший в конце IV-го века, уже находил себе убежище от преследовавших его врагов в монастыре Кегарте, посещавшемся и отцом его, а в 829 году нашел здесь же надежный приют армянский историк Иоанн Овайский, бежавший вследствие интриг князя Баграта. Одним из иноков Айри- ванка был и известный армянский историк XIII-го века Мхитар Айриванети.
Английский путешественник Мориер, посетивший Кегарт в 1813 году, наверху главного престола прочел такую надпись: «За грехи наши Тамерлан, истребив множество христиан, пришел сюда с войском, разорил и разграбил сокровища монастыря». Сохранилось об этом грозном нашествии и народное предание, которое повествует следующее: «Тамерлан, или Ленгтимур, уже совсем собрался разрушить до основания стены и храмы монастыря, как вдруг перед ним явился светлый как солнце ангел и повелел ему удалиться. Пораженный страхом завоеватель тотчас же бежал прочь со всем своим воинством. Оттого-то, — прибавляет предание, — татары до сих пор называют этот монастырь „Георгеч“, то есть: взгляни и удались прочь!»
В XVII столетии (в 1655 г.) осматривал Кегарт и подробно изучил все достопримечательности его француз Тавернье, который еще видел хранившееся здесь св. копье. Но в том же столетии, лет тридцать спустя после Тавернье, сильнейшее землетрясение разрушило значительную часть монастыря, и, без сомнения, тогда-то и образовалась внутри боковой скалы около монастыря колоссальная ниша, которую мы теперь видим, так как по известиям армянских писателей в то время «от свалившихся груд массивного камня вся ограда была завалена осколками, и ими был убит насмерть тогдашний настоятель монастыря».
Хотя года через три или четыре преемник убитого настоятеля Давид и приступил к возобновлению поврежденного землетрясением храма, но все-таки монастырь стал приходить с тех пор все в больший и больший упадок, так что в 1830 году католикос Иоанн VII-й вынужден был принимать особенные меры к его исправлению. Новое большое землетрясение в 1840 году сильно задержало уже кончавшиеся работы, и только в 1855 году удалось, наконец, привести этот древний исторический монастырь в его теперешний исправный вид.
* * *
Натомившись многочасовым лазаньем по скалам и пещерам, мы с искренним удовольствием уселись, наконец, отдохнуть вечерком на широких диванах кунацкой отца Ваграма за чаем и бутылкою вина, захваченного нами с собою из города вместе с разными закусками.
Отец Ваграм был неистощим на рассказы и передал нам все, что знал о своем монастыре.
— Да тут в старину все ущелье было наполнено монастырями и церквами, — говорил он нам. — Армяне ведь с древности были богомольным и благочестивым народом, и везде, где только могли, строили церкви. Вот как раз против Кегарта, через реку, за той вон большой горой, и до сих пор цел еще монастырь Сурп-Стефанос, очень прежде знаменитый; там жил и скончался святой отшельник Стефан, а Григорий-Просветитель, узнав о его смерти, основал на этом месте монастырь. И теперь там монах живет, да только от татар беды много бывает. Еще недавно, всего шесть лет назад, три татарина знакомых пришли к монаху; тот в это время чай пил, пригласил и их. Да только кликнул работника, чтобы самовар убирал, — а того не знал, что работника они уже раньше убили, — они вскочили на ноги, и на него! Двадцатью ударами одну грудь прокололи; потом экономку зарезали, да всех троих облили керосином и зажгли; однако монах не сгорел, тлел только. Следователь приехал, стали разыскивать, а татары в трех деревнях заговор сделали — поклялись друг дружке никого не выдавать. Восемь человек арестовано было, двое в тюрьме умерли, двое с ума сошли, а тут еще некоторые татары друг дружку перестреляли, не поладили в чем-то насчет расходов по делу, так что душ десять их пропало из-за монаха, а все-таки убийц не разыскали.
— Вообще, татары-пастухи — пребеспокойный и презлой народ; хуже нет соседей, избави от них Бог! — с искренним негодованием уверял нас добродушный настоятель. — Вы, небось, заметили, проезжая, на той стороне ущелья, порядочно-таки высоко, деревня татарская Артис; так там тоже христиане прежде жили. Основания церкви видны, монеты находят, кресты… Ну, а теперь мусульмане везде поселились и покою нам не дают. У нас на той стороне пастбища монастырские, — так они, разбойники, постоянно отбивают. Уже несколько человек в тюрьме за это сидят, а все не унимаются.
— У вас, стало быть, и в других местах земля есть? — спросил я.
— А как же! — у монастыря 1.400 десятин всей земли в разных местах; только удобной мало, не больше 200 десятин.
— Как же вы обрабатываете ее?
— Крестьянам под посевы сдаем, за пшеницу; например, участок есть у нас тут недалеко, 25 десятин, так мы его весь за 90 пудов пшеницы сдаем, а пшеница у нас по 1 р. 20 к. пуд; стало быть, по 4 р. десятина обойдется, не больше.
— А богомольцы у вас в монастыре часто бывают?
— К нам в летнее время то и дело народ ходит, — с самодовольной улыбкой ответил Ваграм, — и не то чтобы армяне одни, а и курды, и татары, даром что магометане. Очень уважают наш монастырь. Татары нехорошо себя держат, а курды — те почтительны. Только курд уж непременно украдет что-нибудь в церкви, подсвечник там, посуду какую, платок, потому что обет такой дают, когда молятся, чтобы Бог сына дал или урожай хороший; а потом вдвое возвратить. Мы уж это знаем; случается, видишь, что крадет, а промолчишь, будто и не видал. Знаем же, что после принесет. И ведь вот что замечательно: везде курды уважают наши древние монастыри; стало, надо думать, тоже прежде христианами были, — так по старой памяти осталось. Армяне же наши — те всегда с жертвами приходят. Этим только и живем. В прошлое воскресенье, — жаль, вот, вы не видали, — много их сюда собралось; 76 баранов одних зарезали, да 2 телка. Шкуры — нам, и мяса часть, а остальное варят, сами едят, бедным раздают; кто хочет, тот и берет. Обычай уж у них такой. Петухов особенно много носят, режут. В жертвах этих они всю силу и полагают, а молиться — мало молятся; сидят больше кругом церкви на травке или на камешках, ни обедни не слушают, ни молебна. Со старины уже это так водится.
— Ну, а зимой как здесь живете? — спросил я.
— Что ж зимою? Снега у нас на дворе мало бывает. Монастырь-то ведь наш как в ящике, скалы кругом, сами видите, высочайшие; совсем как на дне горшка живем. А вот дороги все заносит, месяцев по пяти проезду не бывает, с городом не сообщаемся, и богомольца, конечно, ни одного. Делаем на это время запасы побольше, баранины жертвенной насушим, муки ссыплем; вода у нас чудная в родниках и в ручье, зимою не замерзает; скотина, потом, своя есть. Так и пробавляемся; голодать не голодаем. Ведь у нас — не то, что у вас в России — наши монахи мясо едят в скоромные дни. А когда сена мало бывает, скотину свою отдаем на прокормление в деревни соседние, в Баш-Гарни и в другие. Крестьяне с радостью берут, потому что все очень уважают монастырь. Вот и прошлое лето дождей совсем не было, — вместо 37 скотин десять было трудно прокормить… Холодов, впрочем, у нас и по зимам особенных не бывает. Окон двойных никогда не вставляем. А только овощи не дозревают, и виноград тоже, — оттого и огородов не заводим. Вот орех грецкий у нас отлично растет, не вымерзает. Видите, вон, внизу у ручья, орехи большие, старые; их тут много больше было, да водою вымывает. Нынешнею весною целых десять деревьев разливом отмыло, унесло…
— Много ли у вас братии, отец Ваграм?
— Да какая у нас братия? Я, вот, настоятель, да у меня работников десять; послушники называются. А то еще поп один из деревни приезжает, помогает обедни служить; ему часть доходов монастырских полагается, потому что в их деревне мало домов, жить ему там нечем…
Я опять навел Ваграма на тему о местных древностях, об истории монастыря.
Оказывается, подробного описания Кегарта не существует — есть только очень краткое, из которого почти ничего нельзя узнать.
— Просил я у отца архимандрита, что библиотекой заведует в Эчмиадзине, — чтобы собрал побольше сведений о нашем монастыре из святцев и из летописей разных, — у них ведь там в библиотеке много старинных рукописей, — обещал; не знаю только, сделает ли, — сообщил нам Ваграм.
— Католикосу следовало бы давно подумать об этом, — заметил я. — Бывает он у вас?
— Новый католикос еще не был; я ездил к нему, просил посетить нас; владыка обещал приехать. Теперь ему и приехать есть на чем: из Тифлиса купцы наши армянские коня ему прислали под верх, с убором дорогим, семьсот рублей стоит. Наши ведь архиереи — не то, что ваши, все верхом ездят, даром что католикосу 80 лет.
Фотографий этого замечательного монастыря тоже не оказалось, и отец Ваграм не мог даже сказать нам, у кого можно найти их в Тифлисе. В Эривани же нет их решительно нигде, как мы убедились на другой день.
— Англичане приезжали несколько раз, фотографий много поснимали с наших храмов пещерных, а чтобы наши снимали когда, — не помню. При мне никто не снимал, — уверял нас Ваграм.
Рассказав нам подробно историю св. Григория-Просветителя, св. Рипсимы и сорока дев, которую, впрочем, я уже хорошо знал раньше, отец Ваграм объяснил нам, что с того самого времени и даже еще раньше, со времен апостола Фаддея, христиане стали населять пещеры Гарни-Чайского ущелья и устраивать в них скромные пещерные церквочки, которые потом уже были переделаны в великолепные храмы, только что нами осмотренные.
— Вы заметили, должно быть, как ехали к нам, древний храм? На той стороне ущелья высоко на горе виден, вроде как Степан-Цминда во Мцхете, — объяснил нам Ваграм. — Так это тоже очень почитаемый храм в древности был, «Амена-Предич» называется, по-русски значит: «Все спасающий». Там великая святыня прежде хранилась: икона Спасителя, вырезанная из дерева, по просьбе Матери Божьей, апостолом Иоанном Богословом. Ее потом в Эчмиадзин перенесли.
— А вы ходили смотреть Тахт-Трдат в Баш-Гарни? Пишут, — те, кто не знает, — будто крепость Баш-Гарни основал царь Трдат, но это не верно. Не Трдат основал Баш-Гарни, а царь Эрванд, который разграбил весь Иерусалим и Палестину, и сокровища огромные оттуда привез. До тридцати миллионов у него всего богатства было. Он их зарыл перед смертью в ущелье Баш-Гарни, — только никто не знает, в каком месте. Он и жил, и умер в нашем ущелье. И наверное известно, что никогда никто не находил и не вывозил отсюда его сокровищ. Стало быть, здесь должны быть огромные клады!
— Но это еще не такая старина! — продолжал через несколько минут наш хозяин, — а вот я в Нахичевани видел, так то, можно сказать, древность: отрыли три яруса строений в земле, одни над другими, — два ряда строений кирпичных, а третий, нижний, из камня, — а под ним, еще глубже, водопровод древний. Кроме того, там сколько находят стрел каменных, бронзовых ножей и украшений разных, бус каменных… Древнее Нахичевани, надо полагать, и на свете нет места. Ноева же гробница там! — с убеждением закончил настоятель.
* * *
День быль постный, и отец Ваграм угостил нас довольно скромным ужином: творогом, яйцами и огурцами, не считая, разумеется, неизбежных ловашей. Нас неудержимо клонил сон после утомительного путешествия, и мы с Степаном Ивановичем с невыразимым наслаждением растянулись на диванах его кунацкой.
Жену же мою пригласила к себе в соседнюю с нами комнату экономка настоятеля, особа очень почтенных размеров и уже довольно почтенных лет, которую сам Ваграм называл «сродницей», и которая все время услуживала нам за чаем и ужином. В комнате ее стояли рядом две кровати; на одну из них она уложила мою жену.
В семь часов утра, напившись чаю, мы хотели еще раз осмотреть эти единственные в своем роде сооружения древности и полюбоваться оригинальною картиною пустынного ущелья.
Пространствовали опять по всем уголкам дивных пещерных храмов, подавленные их величием, полные изумления перед их красотою и стройностью, и опять забрались на уступы скалы выше каменных крыш и крестов монастыря. Чудное утро сияло кругом, чудным воздухом дышала грудь. Солнце озолотило верхи острых скал, громады которых поднимались как живые великаны по ту сторону ручья, зажгло веселые огни в позолоченной листве старых орехов, брызнуло яркими полосками красок по бурым, черным и красным коровам, тихо бродившим в насквозь прохваченной лучами солнца сочной траве, засверкало миллионами мелькающих искр в пенящихся струях ручья, что еще громче и веселее гудел на дне ущелья свою утреннюю песенку, проворно пробираясь среди каменных осыпей. Подзадоренные им, посвистывали в кустах дикие курочки, стрекотали, суетливо перелетая с ветки на ветку, добычливые сороки.
А сторона, где мы стояли, все эти черные башни и стены, все эти черные скалы и черные зияющие пещеры, еще пребывали в тенях ночи, и своим суровым траурным видом еще живее переносили воображение в те темные века вражды, борьбы и страданий, которые когда-то создали эти подземные убежища и дали им их глубокий нравственный смысл.
Да, целая долгая эпоха истории, полная изумительной стойкости, изумительного самоотвержения, изумительной веры, вообще изумительного подъема духа человеческого в области идеала, олицетворялась и как бы окристаллизовалась навсегда в этих могучих и смелых созданиях былых веков, сумевших обратить в небесные жилища своей наивной фантазии даже слепую утробу каменных скал. Ни с чем несравнимое художественное наслаждение и ни с чем несравнимое научное поучение — увидеть своими глазами, уразуметь своею мыслью такое осязательное воплощение далеких средних веков, говорящее вашему уму и сердцу, рисующее вашему представлению гораздо более меткими чертами и гораздо более яркими красками, чем может изобразить самое обстоятельное книжное описание, глубокую сокровенную суть души народной, воздвигнувшей ей когда-то эти несокрушимые каменные памятники своих бесплотных надежд и верований.
Колоссальный труд и страстное вдохновение, потраченные на их изумительную работу, — могут служить некоторою маркою того, как много отдавал средневековой человек делу своей веры. Ради нее он безропотно нес всякую тягость, всякое страдание. В грубые, жестокие времена взаимного отчуждения и ненависти, когда, по выражению философа, «человек был волком для человека», религия оставалась, быть может, единственною нитью, поддерживавшею человечность в человеке путем почитания божества, — идеала человечества; в этом смысле религия была зачатком будущей гуманности, еще не успевшей раскрыть себя, и потому всякий просвещенный человек, хотя бы он относился отрицательно к религии по убеждению своему, должен из чувства справедливости признать ее святое и плодотворное значение в истории воспитания человечества по пути добра и правды.
Для меня лично от оригинальных и характерных образчиков древности всегда веет какою-то особенно трогательной, несколько меланхолической поэзией, и я уезжал из чудного ущелья Кегарта, полного грозных красок природы и поэтических скорбных теней истории, — взволнованный до глубины души самыми разнообразными впечатлениями, в радостном сознании, что действительно увидел нечто такое, подобного чему не видел еще нигде…
* * *
Только что мы выбрались с немалым трудом из глубокой, отовсюду закрытой котловины Кегарта, как навстречу нам попался, в виде живой иллюстрации к рассказам отца Ваграка, туземный всадник с привязанным за ноги к седлу живым бараном. Он спускался в монастырь к завтрашнему празднику и вез поэтому с собою неизбежную «жертву», свято наполняя древний обычай Азии, соблюдавшийся еще Авраамом и Ноем. За всадником шла пешком хорошенькая, по праздничному разодетая, молодая армянка с спутником-мужчиною. Это был, как оказалось, авангард целой толпы богомольцев, двигавшихся в разных местах по дороге, кто пешком, кто верхом.
Нас особенно заняла другая молодая армянка, ехавшая верхом по-мужски, с тяжелою черною косою, падавшею до самого седла; длинная арба, запряженная двумя парами быков, скрипела позади нее, набитая, как огурец семенами, молодыми и старыми армянками, детишками и узлами. Целая груда разноцветных одежд была, кроме того, навьючена на крошечного ишака, которого гнал хворостиною вместе с кучкою телят и бычков, назначенных в «жертву» монастырю, старик-армянин. Завтра было воскресенье, а армяне особенно любят вечерние службы, почему и собираются всегда в монастырь накануне праздников.
* * *
Мы проехали мимо очень живописной деревни Ворча-Перт, что значит по-армянски: «крепость, дающая жизнь», то есть, вероятно, безопасность. Она принадлежала раньше монастырю Кегарту и тоже очень большой древности. Деревня рассыпана по крутым холмам и населена наполовину армянами, наполовину татарами. На одном из холмов хорошенький садик с усадьбою богатого местного помещика Курганова, а у подножия холма — его же большой фруктовый сад. В обрывистой скале над деревнею чернеют двери и окна пещер, и около них пониже — следы крепостных стен. Здесь был тоже монастырь или скит, зависимый от Кегарта, в те далекие времена, когда и все ущелье Гарни-Чая усеяно было христианскими храмами, монастырями и пещерами иноков. В пещерах Ворча-Перта еще видны маленькие алтарики и следы монашеского жилья.
А по дороге мы все продолжаем встречать караваны богомольцев. Тянутся арбы, полные разряженных женщин и детей, едут верховые, бредут пешие, гонят в монастырь овец, телят, буйволят, назначенных в жертву.
На полях попадаются кое-где работающие крестьяне. Кто пашет, кто выбирает камни из почвы. На некоторые поля, под посев «юнжи», по-нашему люцерны, вывезена зола для удобрения. Нельзя не позавидовать здешнему климату, позволяющему земледельцу производить полевые работы до глубокой зимы, хотя он, с другой стороны, по милости своей неблагодарной почвы, вынужден нести много лишнего труда, выбирая с большими усилиями и большою тратою времени бесчисленные камни, которыми начинено его поле, как пирог фаршем, и проводя в это сухое, каменистое поле воду ключей иногда из порядочной дали.
Недалеко от Ворча-Перта нас поразила довольно странная процессия, весьма, однако, характерная для местных нравов. На арбе, окруженной взволнованною толпою мужчин и женщин, провезли что-то тщательно укутанное в белые покрывала. По расспросам оказалось, что в соседней татарской деревне Теджин-Абаде, видной нам с дороги, какой-то крово-мститель убил выстрелом в окно приехавшего туда на мельницу с возом пшеницы жителя Ворча-Перта; возмущенные земляки убитого явились за его телом в Теджин-Абад и теперь везли его домой хоронить, шумно обсуждая друг с другом, как бы отомстить теджинцам за это убийство.
VII Через Абаранское ущелье
В Эривани мало остатков недавно тут бывшего эриванского ханства, покореного Паскевичем. Настоящая азиатчина уцелела главным образом в крепости, где стоит запущенный теперь оригинальный ханский дворец, или «дворец сардара», о котором я уже говорил раньше и в котором останавливался в 1837 году имнератор Николай I, да полуразрушенная древняя мечеть замечательной красоты и типичности.
Старая крепость Эривани, с ее стенами двух-саженной толщины, отвесно поднимающимися на высоком, скалистом берегу Занги, долго считалась у персиян неприступною, пока в 1827 году ее не взял наш Паскевич, получивший за это титул графа Эриванского. Двадцать-три года перед этим, другой наш талантливый полвоводец, князь Цицианов-после геройских подвигов своего маленького пятитысячного отряда, разбивавшаго огромные силы персиян, — принужден был отступить от эриваеской крепости, которую он бесплодно осаждал два месяца, и этим необычным для русских отступлением еще более возвысил в глазах туземцев непобедимое значение Эривани. Однако Эривань стала известна гораздо раньше, чем она обратилась в сильную пограничную крепость на рубежах Персии, России и Турции, переходя-по изменчивому жребию войны — то к туркам, то к персиянам, то к грузинам, и наконец попала уже безвозвратно в могучие лапы русского орла.
Армяне начинают легендарную родословную Эривани прямо с Ноя, который, будто бы, увидел здесь с высоты Арарата в первый раз землю и произнес, — конечно, по-армянски: «Еревуме!» — что значит: «видна!»; но и по несомненным историческим данным Эривань существовала уже в VII-м веке стало быть за два столетия до начала Руси, так что ее новейшая роль — не только уездного русского города, каким она была до 1850 года, но даже и губернского, каким она стала с тех пор, — не вполне соответствует ее маститому историческому формуляру. В VII-м веке, при персидском царе Иездигерде, в Эривани уже была крепость, и, вероятно, крепость эта была очень нужна соседним народам, если, по исчислению любителей исторических курьезов, она в течение 386 лет четырнадцать раз переходила от одних властителей к другим.
В городе центром мусульманства служит громадная мечеть за базарами, одна из самых обширных и живописных мечетей Кавказа. Это — целый мусульманский монастырь, с бесконечными галереями, фонтанами и просторным внутренним двором, отененным старыми деревьями, обнесенным кругом жилищами мулл и софт и комнатками для богомольцев; на каждой стороне двора — величественные ниши, изукрашенные, как и весь монастырь, превосходною разноцветною глазурью удивительных восточных узоров; купола, своеобразного мусульманского рисунка из чудно сверкающей на солнце голубой эмали, венчают эту прелестную мечеть, а ворота, из черных и голубых изразцов, исписанные золотыми строками корана, — верх вкуса и изящества, — ведут в ее двор.
Трудно оторвать глаза от этой великолепной постройки строгого персидского стиля, напоминающей своим характером знаменитые храмы Самарканда.
Мечеть эта кишит народом. Внутри ее — сплошная Азия! Важные, суровые старцы, в своих широких и длинных одеждах, в белых и зеленых чалмах, медленно двигаются по галереям; запыленные поклонники, присев на корточках вокруг огромного водоема, благоговейно омывают свои усталые ноги; перед богато украшенною киблою мечети безмолвно молятся толпы мусульман, неподвижно подняв вверх свои ладони.
Базар Эривани с его прикрытыми циновками «темными рядами», маленькими лавчонками, кухоньками, цирульнями, с его отдыхающими вереницами нагруженных и разгруженных верблюдов и пестротою всевозможных племен и народов Востока, тоже сильно пахнет Азиею и стоит того, чтобы побродить по ней.
Но нам посчастливилось, во время нашего трехдневного пребывания в Эривани, познакомиться не с одною только внешнею, живописною стороною ее, а и с различными представителями ее общества. Пришлось провести один вечер у Гер. Петр. К-на, в кругу его армянской семьи и друзей, другой — у Мих. А. М-ева, который собрал у себя наиболее выдающихся членов здешней русской колонии и устроил нам целый банкет, с речами и тостами, протянувшийся далеко за полночь. Многое мы узнали, о многом наслышались в этих продолжительных и интересных беседах, которые самим разнообразием беседовавших с нами лиц дали нам возможность взглянуть на занимавшие нас вопросы не с односторонней точки зрения.
Персияне, не особенно требовательные насчет прохлады и житейских удобств, прозвали когда-то Эривань «счастливою ямою»; а наш император, покоритель ее, нашел, после своего посещения Эривани в 1837 г., что она более похожа на «глиняный горшок». Надо думать, что с тех пор насаждено и выросло в Эривани много садов, потому что издали этот древний город, с своими золотистыми тополями и орехами, производит впечатление скорее цветущей корзины, чем горшка, и если бы не ежегодное обязательное выселение эриванцев на лето в Дара-Чичак, ради спасения от невыносимой жары и насекомых, то я бы подумал, что эпитет, когда-то данный этому живописному местечку императором Николаем, в настоящее время совсем не подходит к нему.
Но страннее всего, что эта «яма» лежит на высоте почти 31/2 тысяч футов над уровнем моря, то есть, наравне с вершинами иных крымских гор, и что на него, прямо дышут вечные ледники и снеговые поля Арарата.
Трудно также понять, почему климат этого кажущегося счастливого уголка — считается очень вредным. Приписывают это и болотистому характеру воды, и испорченному воздуху, и почве, загрязненной в течение веков нечистотами, в особенности же открытой сточной канаве, протекающей через весь город и разносящей повсюду заразительные миазмы. Хотя невольно вспоминаешь при этом, что до сих пор я не встречал города, о котором бы его жители не говорили как о гнезде всяких болезней, что, по отзывам их, нет нездоровее климата, как в Петербурге, в Киеве, в Одессе, в Воронеже, в Батуме, в Тифлисе, в Сухуме, так что отыскивать здоровую местность делается задачею почти неосуществимою, — но тем не менее жалобы на плохое санитарное состояние Эривани, очевидно, имеют серьезное основание. А вместе с тем Эривань — редкая местность для садоводства и огородничества. Здешние дыни, арбузы, абрикосы, персики, также как замечательно крупный и сладкий виноград — славятся во всем Закавказье, для которого далеко не диковина все эти плоды.
Немудрено, что русская чиновная колония в Эривани не находит здесь для себя особенных удобств и справедливо жалуется на некоторую заброшенность свою среди сплошного армянского и татарского населения. Казенных зданий в Эривани почти нет, а сколько-нибудь приличные квартиры сдаются дорого; в православных церквах — грузинское духовенство, совершенно чуждое русским и по нравам, и по языку; в клубе — небольшая горсточка русских; никаких почти просветительных общественных учреждений в городе нет, — нет даже больницы, стоящей этого названия, а то, что и устраивается, благодаря малочисленности образованного общества, идет далеко не так, как нужно; по той же причине и благоустройство города заставляет желать многого: водопровода нет, а в реку свободно спускают все нечистоты; улицы летом страшно пыльны, весною и осенью грязны; общественных гуляний, кроме городского сада, обращенного в место сходок всяких пьяниц и оборванцев, да небольшого бульвара, где играет музыка, — в городе нет; прекрасный загородный «сад сардара», с вековыми деревьями, — значительною частью вырублен для каких-то сельскохозяйственных культур, затеянных ведомством государственных имуществ; театра в городе нет. Такие условия, разумеется, не особенно располагают людей, привыкших к культурной жизни больших городов, — оставаться подолгу в Эривани.
Последний день мы посвятили прощальным визитам к своим любезным новым знакомым и приготовлениям к довольно тяжелой и довольно далекой поездке через Абаранское ущелье и горы Алагёза в Александрополь, куда нас звал телеграммою муж моей дочери, один из инженеров-строителей тифлисско-карсской дороги.
* * *
Встали в половине шестого утра; милый спутник наш в Кегарт, Степ. Ив. К-н, после семейного совета с своим дядею Герасимом Петровичом, решился сопровождать нас в Александрополь, с тем, чтобы оттуда вместе отправиться к знаменитым развалинам Ани, последней столицы давно разрушенного армянского царства, которых Степан Иванович еще ни разу не видел, и которые посетить хотя один раз в своей жизни считает священным долгом каждый просвещенный армянин. Замечательно еще крепок и строг у армян семейный быт. В этом смысле они остаются вполне патриархальным народом, как и подобает обитателям араратской страны, до сих пор еще дышущей патриархальными преданиями праотца Ноя, Иафета и внука его Ганка. Степан Иванович, как оказалось, живет в своем с. Игдыре, у подошвы Арарата, в многочисленной семье, где старшим членом и хозяином-распорядителем считается, по общему согласию рода, один из его дядей; и хотя Степан Иванович — вполне взрослый человек и имеет одинаковые с дядею имущественные права, но, по старинному обычаю армян, не смеет сделать ничего без распоряжения главы семьи, которым не всегда бывает старший по годам, а тот член семьи, которого считают более способным к управлению хозяйственными делами. В городе Эривани, за отсутствием семейного главы, Степан Иванович, как младший член, обязан слушаться во всем здешнего дядю своего, который уже сам отвечает за свои распоряжения перед всеми признанным главою дома. Степану Ивановичу было необходимо в эти дни уехать из Эривани, где он покончил порученные ему дела, — но так как Гер. Петр., по служебным обязанностям своим, не мог сопровождать нас ни в Кегарт, ни в Ани, а между тем очень желал помочь нам в знакомстве с этими древними памятниками армянской истории, — то он приказал племяннику съездить с нами сначала в Кегарт, а потом через Александрополь и в Ани, — и тот повиновался без малейшего колебания и отговорок, хотя это отнимало у него в общем счете недели две времени.
Благодаря хлопотам этих милых людей, нанятая с их помощью коляска четверкою уже ждала нас у подъезда, а курд-джигит, отряженный нам в провожатые подлежащею властью, в красивой чалме из пестрой шали, с ружьем за плечами, уже гарцевал перед нашими окнами на своем бойком коньке. Дорога через Абаранское ущелье считается небезопасною от нападений курдских и татарских разбойников, и ездить по этому пути без вооруженного провожатого несколько рискованно. Нагрузив свой изрядно-обильный багаж и запасшись всякою дорожною провизиею, в семь часов утра тронулись мы в путь, предварительно отправив телеграмму своему зятю о нашем выезде в Александрополь.
Дорога убийственная! Камень на камне, — настоящая каменоломня и, вместе, колесоломня. Нужно удивляться, как рессорные экипажи решаются ездить по этому адскому пути. И почему бы, казалось, при здешнем поразительно дешевом ручном труде, не разбить молотами этих самых камней, предусмотрительно насыпанных на дорогу самою природою, без необходимости покупки и далекой перевозки их, — и не обратить этой мучительной костоломки в гладкое шоссе, которое бы в один год сберегло на много тысяч рублей колес, экипажей, лошадиных ног и человеческой обуви, и вдвое-втрое сократило бы проезжим время и расходы.
Да и кругом дороги — безотрадная, вся усыпанная камнями пустыня! А между тем движение здесь, как видно, очень деятельное: навстречу нам то и дело двигаются вереницы нагруженных верблюдов и осликов, — эти неизбежные кавказские обозы, толпы армянок или татарок, — трудно различить их неопытному глазу, — оборванные и грязные, как наши цыганки, все одинаково черномазые, черноглазые и черноволосые, с клювами вместо носов, идут с большими кувшинами на спинах. У кувшинов этих дно заострено как веретено, так что поставить их нельзя, иначе как воткнув в песок. К-н объяснил нам, что это делается для того, чтобы возможно было черпать воду в мелких ручьях; кувшины с обыкновенным толстым нижним концом не годятся для этого.
* * *
Проехали 22 версты, — пост для джигитов, охраняющих дорогу. Наш всадник переменился на другого, получив от нас серебряный рубль за свою скачку впереди коляски. К-н уверял нас, что в случае действительного нападения разбойников, как показывает горький опыт, храбрый всадник первый удирает в степь или назад по дороге, так что присутствие этой воинственной фигуры нужно только ради пущей важности, в виде почетного эскорта путешественнику, да для более удобных сношений с туземным населением в деревнях, где приходится отыскивать ночлег или требовать зачем-нибудь сельское начальство.
* * *
Вот и Аштарак, — большое, богатое селение, живописно раскинутое в ущелье Абаран-су, по-армянски Газах. Большие дома из темного тесанного камня, суровые и неприступные как крепость, висят над пропастью Абаран-су своими галерейками и лесенками, лепясь друг на друге по обрывистым черным скалам, в живописной тени тополей и садов. Две типические армянские церкви видны нам среди этих бескрыших каменных кубов. Одна из них с полинялою узкою башнею, очевидно, большой старины. Известный знаток армянской истории, Шопен, насчитывал в Аштараке не две а четыре «старинные весьма замечательные церкви» и предполагал, что деревня Аштарак — «одна из древнейших в области», так как она «окружена множеством развалин и надгробных памятников глубокой древности».
Аштарак — вообще, историческое место. Его армянское имя значит «башня»; это показывает, что здесь исстари была крепость, защищавшая подступы с севера к былым столицам Армении: Вагаршапату, Арташату, Дувину, а впоследствии к Эривани и Эчмиадзину. С того времени уцелел и прочный каменный мост на арках, перекинутый еще персами через Абаран-су. И в нашем столетии Аштарак прославился жестокою битвою маленького отряда князя Цицианова с значительными силами персов, разбитыми здесь наголову.
Живописное ущелье Абаран-су убегает глубоким коридором в горную даль, из-под скалистых обрывов Аштарака. Река роется своими отощавшими струями глубоко внизу между каменных насосов; она вся уже растратилась выше на мельницы и поля, перехваченная на пути несколькими водопроводными канавами. Эти каменные слепые ящички мельниц виднеются какими-то игрушечными избушками сейчас ниже моста. Все дно ущелья, насколько видит глаз, засажено пирамидальными тополями; их золотисто-зеленая лента послушно следует за всеми прихотливыми изгибами невидной из-за них реки.
Этот мирный и милый пейзаж — безопасное настоящее Аштарака. Но поднимите глаза на отвесные берега реки, и узнаете давнее прошлое его. Вся пропасть речного русла выше Аштарака до самого монастыря Сагмос-Ванка, которого черный остов маячится вдали, издырявлена с обеих сторон, — будто кусок дерева червоточиной, — дырьями пещер. Здесь, также как в теснине Гарни-Чая, скрывались когда-то от гонений и казней язычников первые пламенные ревнители Христова учения и основывали свои первые церкви и монастыри.
Теперь Аштарак забыл о старых подвижниках своих и о кровавых битвах в его ущелье, и мирно снабжает лучшим в Армении вином своих виноградников Эривань и Эчмиадзин. Его имя связано также с родиною нескольких популярных армянских поэтов.
* * *
В деревни Мугни — оживленное движение на улицах. Лавки, кабачки, много народу городского обличия и городских нарядов. В конце деревни знаменитый у армян древний монастырь св. Георгия, или, по ихнему, «Сурп-Кеворка»; он назывался прежде также «монастырем креста» (Хачеванский монастырь). Монастырь, окруженный крепкими каменными стенами, стоит на берегу Абаран-су и в старое время был надежною крепостью. Сохранился он удивительно хорошо. Архимандрита Георга Руштуни мы не застали дома, но он возвратился из своей поездки в город прежде, чем мы успели позавтракать в монастырском доме, стоящем тоже внутри стен и представляющем из себя маленький замок из больших тесанных камней с высочайшею наружною лестницею и широкою террасою во двор. Отец Руштуни сейчас же повел нас осматривать замечательный древний храм, занимающий середину заросшего травою двора. В Армении, как и в Грузии, да, строго говоря, как и в России, — древними памятниками истории служат почти исключительно храмы да монастыри. Весь смысл армянской истории многих веков — это отчаянная борьба за свою христианскую религию сначала против язычников и огнепоклонников, потом против мусульман. Весь их героизм, все помыслы и силы народа уходили на эту основную задачу их исторической жизни; они пали в этой борьбе как самостоятельное государство, но твердо отстояли свою духовную независимость, свои религиозные верования; на Армении и на Грузии, как на первых крепостных валах христианства, остановилась победоносная волна мусульманства и только сравнительно слабыми всплесками долетела с азиатских окраин до христианских царств Европы. Армения и Грузия на востоке, как Испания на западе, своими телами закрыли от сокрушительных ударов ислама грудь своих собратьев о Христе — европейских народов. В этом подвиге — историческая заслуга Армении.
Нельзя удивляться поэтому, что почти все исторические и археологические памятники Армении принадлежат к области церкви. Каждый старый храм Армении — это своего рода каменная летопись целого ряда веков, целой вереницы событий.
Храм Сурп-Кеворка сохранил на себе следы своего былого архитектурного великолепия. Его стены, сложенные в арабском вкусе, из чередующихся правильным узором черных и желто-красных тесанных камней, покрыты тонкою каменною резьбою везде, где это оказывалось удобно; тут и громадные кресты с завитушками, и изящные карнизики в несколько рядов, и плиты с изображениями и надписями. Высокая круглая башня, резко полосатой черно-желтой кладки, поднимается над основным зданием храма с крышею из каменных плит, крепких как железо, притом не гладкою, а в форме какой-то оригинальной зубчатой звезды, напоминающей гофрированные абажуры ламп. Венчает, однако, эту величественную башню не наш сияющий золотом крест, а желтый грубый крестик из простого железа. Особенно остановили на себе наше внимание большие входные двери под величественною колоннадою с арабесками затейливой каменной резьбы, охватывающей кругом вход концентрическими рядами арочек, наподобие дверей в старинных готических соборах.
Внутри храма — стройность и благородство; круглый каменный купол искусно поддерживается каменными ребрами; во все четыре стороны базилики идут высокие своды. Зато убранство храма — крайне бедное, как во всех почти армянских церквах, особенно древних. Открытый алтарь на возвышении и престол с тремя уступами напоминают католические алтари. Сзади алтаря — узкое помещение, где одеваются священники, — нечто в роде нашей ризницы. Икон очень мало, и те весьма плохие. В одной из боковых ниш, сделанных в толще стены, задернутых занавескою, выдолблена каменная купель для крещения младенцев. Фрески на стенах и на пилонах — младенчески неумелые, очевидно, очень старой живописи: там, между прочим, два ангела взвешивают на весах дела человека, и на одной из чашек весов повис, уцепившись когтями, маленький чертенок. Монастырь недаром считается св. Георгия: нас провели в маленький придельчик слева от алтаря, где стоит, покрытая куском парчи, мраморная гробница, будто бы, св. Георгия Победоносца; у гробницы горят тоненькие домодельные свечки из желтого воску да висит несколько дешевеньких образков. Св. Георгию как-то особенно посчастливилось, и многие восточные города оспаривают друг у друга честь быть его родиною или местом его успокоения. Греческая церковь, а с нею и наша русская, считают, однако, настоящим местом погребения св. Георгия город Лиду в Палестине, где доныне поклоняются гробнице его, и где, если не ошибаюсь, предполагается и самая родина его.
На дворе монастыря попадаются еще очень старые, совсем вросшие в землю плиты. Одну грубо вырубленную плиту V-го века, покрашенную зеленою краскою, показывают как особенную редкость, также как и оригинальный древний колодезь, в виде слепого каменного домика, вкопанного в землю. Архимандрит бойко читает древние надписи, уцелевшие на плитах храма, и между прочим прочел нам надпись над входными дверями, переведенную сейчас же К-ном на русский язык. Из надписи этой видно, что храм был обновлен в последний раз в 1018 году армянской эры, что по нашему летоисчислению равняется 1569 году, так как армяне ведут свою хронологию с 651 года, — то есть, года изобретения Месробом армянской азбуки.
После осмотра монастыря мы пригласили почтенного настоятеля побеседовать с нами за стаканом чаю и позавтракать, чем Бог послал. Захваченное в Эривани вино оказалось особенно кстати.
Монастырь св. Кеворка, также как монастыри Иогана-Ванк и Сагмос-Ванк, видневшиеся вдали по направлению ущелья, основаны, по словам архимандрита, владетельным князем этой области, Ваче, жившим тут по соседству. Часть монастыря св. Кеворка построили Камсараканы, предки нашего спутника, о чем говорилось и в прочтенной нам надписи на дверях. Вообще, это — одна из самых древних и самых знаменитых армянских фамилий; они были в свое время владетельными князьями целых областей и играли большую роль в судьбах своего народа.
Когда мы выходили, простившись с настоятелем монастыря, — садиться в свою коляску, — маленькая кучка богомольцев появилась на дворе. Один армянин вел на веревочке барана — резать в жертву; два другие, мужчина и женщина, гнали для того же осликов, с привязанными к седлу гусями. Они очень низко поклонились архимандриту, и женщина поднесла ему на блюдечке соль, прося освятить ее пастырским благословением, чтобы приступить потом, тут же, у стен храма, к священной трапезе жертвенным мясом.
* * *
Проехав многолюдное с. Карпи с хорошими домами и старинною церковью, мы своротили с полверсты в сторону, чтобы осмотреть монастырь Иогана-Ванк; проехать до него в экипаже нельзя по непроходимости пути, заваленного камнями. Пришлось порядочно пройтись пешком под покровительством спешившегося чепара нашего, отгонявшего от нас яростные атаки деревенских собак. Около монастыря тоже раскинута деревушка; мы пробирались по ее узким, вьющимся переулочкам, текущим грязью; толпы женщин, с завязанными тряпкой ртами, черноволосых и черноглазых, и целые стаи здоровенной, мордатой, смуглорумяной детворы высыпали на плоские крыши своих домов и на грязные улицы, изумленно рассматривая незнакомые им лица и наряды.
Прежде чем проникнуть в монастырь, пришлось порядочно подождать, пока были разысканы, с помощью набежавших со всех сторон мальчишек и нашего чепара, верные стражи древней святыни. Одного старика, хранителя ключа от наружных дверей, разыскали сладко спавшим в тени ореха; другого — обладателя ключей от внутреннего храма — притащил откуда-то расторопный чепар. Это благоразумное распределение между разными лицами ключей от святыни соблюдается и в Эчмиадзине, где некоторые сокровищницы могут быть отперты только при участии двух или трех приставников.
Иогана-Ванк, окруженный крепостной стеной с башнями, много красивее и больше, чем Сурп-Кеворк. Архитектура его полна особенного изящества и вкуса. Он весь сложен шахматами из черных и желто-красных кубов очень твердого камня и покрыт снаружи еще более художественною каменною резьбою, с изображением крестов, святых мужей, орлов и всяких арабесков. Входной портал его, украшенный надписями на оригинальных массивных колоннах, еще величественнее, чем прекрасный портал Кеворка. Но на каменной крыше его восьмиугольной башни уже растут густою зарослью веники, а верх его колокольни до того ободран, что на нем уцелело только несколько плит. Внутри храма тоже полное разрушение: крыша над так называемым «кораблем» или «нефом» храма вся провалилась; чудные высокие своды на колоннах растреснуты, сдвинуты с своих мест, и во многих местах их даже висят, угрожая падением, большие тесанные камни. Убранство и расположение храма — совершенно такое же, как в Сурп-Кеворке и других старых храмах Армении, хотя все архитектурные украшения обильнее и богаче. В самом храме службы уже не бывает, но слева к нему пристроен новый придел, где стоит такой же апокрифический гроб св. Карапета (одно из семи армянских имен Иоанна Крестителя) и где совершаются все церковные службы.
Иогана-Ванк стоит удивительно картинно среди хаоса камней над черною пропастью, что обрывается прямо из-под его ног ступенчатыми стенами скал глубоко вниз, где ревет между нагроможденными камнями сердитая Абаран-су.
Издали вид этого черного каменного мертвеца — совсем могильный. Неодушевленные предметы, видно, также могут умирать, как и живые существа. Мы долго оглядывались на него, двигаясь дальше по дороге, — и его массивная потемневшая башня, венчающая тесно сдвинувшиеся кругом такие же тесные стены, — казалась мне самым выразительным воплощением того жесткого и мрачного века, который когда-то создал этот храм-крепость…
* * *
Страна кругом — подстать этим черным развалинам: голые бурые горы, словно окаменевшие волны моря, каменистые поля; только Алагез несколько веселит унылый пейзаж снеговыми пятнами своих вершин — слева и впереди нас. Арарат потонул теперь подошвами своей двойной пирамиды в светлых туманах дали, затянувших к полудню плодоносную «Араратян-Дашт» — «Араратскую долину», орошаемую Араксом и Зангою; он кажется теперь ушедшим в небо, висящим в воздухе своими теперь уже бесплотными, чуть не сквозными громадами; между тем как рано утром, при выезде нашем из Эривани, так ясно, отчетливо, так, казалось, близко и осязательно, — хоть рукою ощупывай все их углубления и выступы, — стояли, вырезаясь на беспорочной синеве неба, его как сахар белые и как сахар сверкающие снеговые шатры…
Проезжаем ряд бедных деревушек: сначала «Илянь-чала», что по-русски значит: «избиение змей»; потом Базар-джик («Маленький базар»). Везде — какие-то низенькие хлевы из глины и камня вместо домов, с одними дверями без окон, везде — признаки большой бедности. В Кара-Келеси даже церковь смахивает на сарай: четырехугольный ящик из дикого камня, без окон, с двумя висящими колокольчиками над земляною крышею, поросшею травой.
Сагмос-Ванк, «монастырь псалмопения», производит еще более мрачное и мертвенное впечатление, чем Иогана-Ванк, своим одиноко торчащим полинявшим черным скелетом.
Он виден далеко издали, со всех сторон, откуда бы ни приближаться к нему, взобравшись на высокий берег той же реки Абаран-су, над которою стоит и монастырь Карапета. Он и запустел теперь, и полуразвалился, также как тот.
А между тем было время, когда оба эти монастыря были одними из главнейших во всем армянском царстве. По словам старинного армянского географа Вартана, в Иогана-Ванке хранились некогда самые чтимые армянами святыни: саван Спасителя, рука св. Стефана, ребро Иоанна Крестителя, а в Сагмос-Ванке «никогда не умолкало пение псалмов».
Вообще, вся местность по течению реки Абаран-су была густо усеяна храмами и монастырями, из чего видно ее особенное значение в древней истории Армении. Теперешнее селение Карпи было в старину многолюдным городом, а самое название Абаран значит по-армянски «дворец»; это заставляет предполагать, что в Карпи или каком-нибудь другом месте по течению реки Абаран, — которая называется также и Карпи, — было летнее местопребывание армянских царей.
* * *
Покормив лошадей в Сурп-Кеворке часа полтора, мы не останавливались до самого вечера, хотя дорога все время тянется несколько наизволок и, несмотря на официальное именование ее шоссейного, несмотря на стояния по сторонам кучки щебня, — представляет из себя не что иное, как каменную осыпь, ломающую ноги лошадям и колеса экипажам.
По дороге то и дело встречаются толпы курдов с навьюченными осликами, суровые обитатели атагёзских пастбищ, не вселявшие в нас особенного доверия своим чисто разбойничьим видом. Проехали курдскую деревню Али-Чичак и достигли, наконец, большого селения Баш-Абаран, что значит «головище реки Абаран», где предстоял нам ночлег, а измученным лошадям нашим — давно необходимый отдых. Въехали мы в Баш-Абаран, прихватив часок прохладного вечера; тут мы уже в полной власти Алагёза, которого снеговые утесы, близко надвинувшиеся над селением, дышут на равнину холодом зимы. И сам Алагёз, с закатом солнца, вдруг разом потемнел, нахмурился, посинел, как труп.
Остановились мы в доме сельского управления. Чепар отправился разыскивать волостного старшину и передать ему бывший с нами письменный приказ эриванского губернатора оказать нам всякое содействие к удобному ночлегу. Волостной старшина явился к нам с медалью на шее, с револьвером и патронами у пояса, и сейчас же принялся устраивать нас. В просторном доме сельского управления — четыре чистые комнаты с двойными рамами, необычными в этом южном краю, с кроватями, столами, стульями, шкапами для платья, даже с умывальником, вешалкою, зеркалом, лампами, подсвечниками, чернильным прибором на письменном столе, с ковром на стене у постели и прочими затеями цивилизованной жизни, совсем как в порядочной гостинице какого-нибудь русского уездного города. Этим деревенским комфортом, до крайности необходимым для правительственных и земских деятелей, обязанных, по роду своей службы, часто ездить по селениям края, — эриванская губерния пристыживает наши коренные русские губернии, совсем не заботящиеся об этой немаловажной житейской статье. Комнаты были хорошо натоплены; откуда-то притащили нам множество подушек, простынь, теплых стеганных одеял, тяжелых как матрацы, — все очень чистое. Явился, конечно, самовар с чайною посудою, а скоро после него — и горячий суп с курицею, который был особенно кстати в эту прохладную ночь, под снегами Алагёза, после целого дня тряски и сухоедения.
* * *
Мы прекрасно выспались под теплейшими одеялами на покойных постелях, и в шесть часов утра бодро вскочили на ноги. Было еще темно, когда, напившись наскоро чаю, мы выехали со двора сельского управления; на горизонте едва только брезжила узкая полоска приближавшегося утра; гулко звенит в неподвижном воздухе ночи маленький водопад, падающий с круч Алагёза. Это и есть головище, то есть исток реки Абаран-су. Алагёз поднимается прямо над нашими головами, и от его белых вершин тянет бодрящим, тихим холодком. Земских всадников, которых мы переменяли до сих пор на постах, тут уже нет, — и пришлось взять чепара от волостного старшины. Сразу начался крутой подъем; делается все прохладнее, все суровее. Справа, под голыми горами, тянутся все курдские селения, налево, под утесами Алагёза, — армянские. Только одна деревня Джизель-Дара («Красивое ущелье») заселена татарами. Курдские деревни — это звериные норы в кучах камня; на них торчат земляные горбушки труб, широких как бочки. Издали видишь только одни черные пирамиды кизяка да стожки «юнжи» (люцерны) на плоских земляных крышах. Трудно представить что-нибудь безотраднее и беднее этих жалких логовищ. Первое селение их, которое мы проезжаем, «Мирак», второе — «Джинги», третье — «Хор-Булак» («Слепой ключ»); в Хор-Булаке даже не жилища, а скорее пещеры, вырубленные в подножии скалистого холма. Несмотря на ранний час, много курдов и курдинок, в чалмах и живописных повязках с бахромою, идут по дороге, прогоняя на горные пастбища мулов и ослов. Стада маленьких, тощих коровенок бродят уже по скатам гор; нынешний год была бескормица во всем здешнем крае, и скот сильно исхудал.
От Мирака мы бросили так называемое шоссе, которое полезло зигзагами направо, в горы, через Джелал-Оглу, на Тифлис, с веткою на Александрополь. Мы же взяли левее, по ровной и широкой черноземной равнине. На многие версты тянется здесь эта черная земля, и на всем пространстве ее — ни подъёма, ни спуска. По мере приближения утра, делается все холоднее, дыхание Алагёза становится все резче и жестче, облака скучиваются белыми лохмотьями вокруг его вершин. Кругом нас, над нами, лежит настоящая зима. Мы огибаем теперь уже с третьей стороны обрывистую пирамиду Алагёза, которая отсюда кажется еще выше и эффектнее. На севере — тучи, облака, что-то падает вдали, не то дождь, не то снег; а на юге, сзади нас, улыбаются голубые озера расчистившегося неба.
Проехали армянское селение Мулла-Хасун, проехали татарскую деревню Джизель-Дара, за ними — еще несколько деревень, и въехали, наконец, в курдское селение «Караван-Сарай». Тут обычный роздых туземных караванов. Стоит множество распряженных арб, поят быков и верблюдов. Начинается хозяйственное утро; и молодые, и пожилые курдки длинными вереницами двигаются из своих домов за водою, с большими кувшинами на плечах. Все они — в красных фартуках, красных курточках, красных завесках сзади юбок, все в белых тюрбанах с длинными концами, распущенными по спине, и в поясах с бахромою. Особенно была интересна совсем молоденькая девочка, — наверное, однако, уже жена и хозяйка, — с ярко сверкавшими черными глазками, в кокетливой малиновой шапочке с длинною черною кистью, вся ярко-красная, грациозно черпавшая воду в длинногорлый кувшин и, очевидно, сиявшая внутри радостным сознанием своей привлекательности.
Каравансарайские курды все — иезиды, то есть «чортопоклонники», а не мусульмане, как и большая часть алагёзских курдов. К-н, близко знающий их верования, объяснял нам, что они вовсе не считают дьявола богом, а только падшим ангелом; но так как, по их понятию, Бог может простить его, да, притом, дьявол имеет столько власти над людьми, то они считают грехом вмешиваться между ним и Богом, боятся раздражать его, и никогда поэтому не бранят и даже не произносят его имени, а напротив, умилостивляют его молитвами и жертвами. С мусульманскою религиею иезиды не имеют ничего общего. И хотя они постоянно грабят и воруют по ночам, но все-таки гораздо мирнее и безопаснее курдов-мусульман. Соседние армянские селения главным образом страдают от них. Курды то и дело угоняют скот, травят хлеб. У мировых судей ведутся нескончаемые дела об этих соседских грабительствах.
Любопытно было осмотреть в Караван-Сарае кладбище курдов-иезидов. Их могилы — это простые кучи сваленных вместе круглых булыжников, но среди этих первобытных погребальниц виднеется несколько вырубленных из камня больших коней белых и красных, с седлами и подпругами, раскрашенными сообразно цвету лошади, сработанных с некоторым искусством, и поставленных в память местным удальцам, особенно отличившимся в хищнических набегах.
* * *
Мы, очевидно, спускаемся. Алагёз уже за нами, а впереди вдруг поднялся, задвинув горизонт, высокий снеговой хребет, которого мы до сих пор не видали. Это уже горы Карса. Кругом нас теперь сплошные поля, и даже высоко, по скатам гор, чернеют их распаханные квадраты. Скота тут тоже много. Вообще, это далеко не безлюдная пустыня. Мы проезжаем другое селение Джизель-Дара, — не татарское, а армянское. Отсюда, сверху, нам видна вся нижняя долина и даже домики еще довольно далекого Александрополя. От Джизель-Дара до него — 28 верст. Приходится еще раз покормить, прежде чем доедем до него. Заезжаем на армянский постоялый двор в деревни Нора-Шен («Новоселок»). Оригинален этот первобытный постоялый! В низеньком каменном домике с земляною крышею — две комнаты рядом: в одной — табачная лавка с русскою вывескою, в другой — гостиница своего рода. Сеней — никаких; утлая дверочка, всегда отпертая настежь, прямо ведет в комнатку, освещенную одним оконцем без двойных рам, также постоянно отворенным.
Половина комнатки занята широчайшею деревянною тахтою на низеньких ножках, напоминающею полати русской избы; у других стен — деревянная, нечистоплотная кровать и такой же деревянный диванчик, прикрытый, как и тахта, грубыми ковриками. По середине комнаты, взамен печи, водружена на опрокинутом ящике жаровая с железной трубой. Тут ночуют, тут обедают, тут пьют чай и вино. Нетребовательный туземец не находит, с своей стороны, никаких неудобств в такой комфортабельной гостинице-ресторане.
* * *
В Александрополь мы приехали засветло. Последнюю часть дороги приходилось почти скатываться с пологой горки, и подморенные лошадёнки, по-видимому, чувствовали близость желанного отдыха. Но не так-то скоро удалось нам разыскать в раскинутом на большое пространство городе дом, где квартировал наш зять. Нас отправляли то в одну, то в другую, совсем противоположную сторону, и только после долгих напрасных переездов из улицы в улицу нашелся какой-то благодетельный человек, действительно знавший нужный нам дом. Он присел к нам на козлы и благополучно привел нас, наконец, к цели нашего странствования, где нас встретила радостными криками давно нами невиданная родная детвора.
VIII Развалины Ани, древней столицы царства армянского
Мы торопились воспользоваться хорошею погодою, которая в этой горной стране, в ноябре месяце, далеко не всегда бывает ясною и теплою, — чтобы успеть съездить в Ани, полюбоваться на знаменитые развалины его храмов и дворцов. Путешествие это — не особенно близкое и не совсем удобное. Приходится проезжать пустынными местами, населенными кочующими курдами, и искать ночлега, где Бог пошлет, потому что в самом Ани нет никакого жилья. Ехать в эту глушь, недавно еще бывшую в турецком владении, за нашею границею, без вооруженного конвоя — тоже рискованно. Зять наш, инженер Г., один из строителей тифлисско-карсской дороги, уже два года работал в этих местах и еще раньше побывал в Ани. Он-то и заведовал всем устройством нашей экспедиции. Нас собралась порядочная компания: мы трое с К-ном, зять наш и один его приятель, местный купец-армянин, П. Н. Дрампов, отлично знакомый со всеми местными условиями. Наняты были две коляски, по пятнадцати рублей каждая; к одному из кучеров присоединился на козлы брат его, любопытствовавший побывать в священных для каждого армянина развалинах; кроме того, два вооруженных чепара присланы были нам в провожатые от местного исправника, вследствие переданного ему нами письма эриванского губернатора. Таким образом всего оказалось нас десять человек. Наготовлено было несколько корзин всяких припасов, и в пять часов утра, еще до солнца, мы тронулись в путь. Было темновато и прохладно. Долго, по выезде из города, провожали нас холмы, покрытые татарскими и армянскими кладбищами. Дорога идет все время вдоль реки Арпачая. Кругом нас — все поля и посевы. Почва — что-то в роде серого леса, и, говорят, очень плодородная. В старое, время область эта носила название Шурагеля; на базарах Александрополя и Карса до сих пор шурагельская пшеница славится своею белизною и покупается дороже других. Засевают тут землю без роздыха и без навоза, каждый год, потому что земли, годной для обработки, очень мало. Это не то, что в Карсской области, где осталось множество пустынных земель, покинутых турками. Армяне, однако, жалуются, что, как ни просили они, правительство не разрешает им селиться на тех землях. Урожай здесь рассчитывается по размеру дневной работы одного человека, что называется по-армянски: «ура-вар». Обыкновенно один ура-вар дает «самар» пшеницы, то есть двадцать пудов, а обычная местная цена пшеницы — один рубль серебром за пуд. В прошлом году урожай был плохой, и земля дала только «пол-самара» на каждый «уравар». Помещиков, как в эриванской губернии, тут совсем нет; вся земля принадлежит крестьянам и считается их надельною, — поэтому тут нет продажных земель.
В пригородных деревнях виднеются и сады; однако, несмотря на юг, горная местность дает себя знать, и никаких южных плодов, — даже таких неприхотливых, как абрикосы, черешни, виноград, — здесь не родится. В здешних садах вызревают только плоды нашей курской или орловской губернии — яблоки, груши, вишни. Вместо виноградников, видны капустники, как и у нас в черноземной России. Впрочем, и овощи большею частью привозят сюда из других мест. Мы встретили, между прочим, шедший из Сардар-Абада в Александрополь длинный караван верблюдов, привязанных веревками друг к дружке и навьюченных обильными запасами лука, картофеля и всякой другой огородины.
Александрополь очень долго был пограничною русскою крепостью, и сейчас же за Арпачаем начиналась турецкая земля. До сих пор видны места, где, вплоть до 1877 года, стояли турецкие пограничные пикеты. Местные жители рассказывают, что в те печальные времена просто нельзя было жить в окрестностях Александрополя. Турки то и дело грабили, жгли, убивали людей даже на нашей стороне Арпачая, несмотря на то, что день и ночь вдоль реки ездили казацкие разъезды. Теперь тут сравнительная благодать, спокойствие и мир. В этом — великое и еще слишком мало ценимое нами значение больших государств, объединяющих под одною властью и одним законом когда-то враждебные друг другу области и народы, и водворяющих среди них мир и безопасность вместо прежней непрерывной войны, одинаково разорительной для каждой страны.
Селенья, мимо которых мы проезжаем, тоже хранят на себе выразительные следы былых беспокойных времен. Вон, под обрывистою Столовою горою приютилось старинное местечко Баш-Шурагель, а над ним, на обоих краях горы, торчат круглые башни старых укреплений. Еще раньше Баш-Шурагеля проехали мы село Баяндур, где издревле, были поселены греки вместе с армянами и где виднеются две большие церкви; тут долго стояла наша артиллерия, отлично исправившая на свой счет старую греческую церковь.
В Чир-Пелу уцелели остатки грандиозного каменного моста, когда-то сооруженного армянскими царями. Хотя он несколько в стороне от дороги, но мы сходили к нему пешком через каменистое поле, чтобы полюбоваться его развалинами. Это сооружение — чисто римского величия и искусства. Арпачай здесь бежит и ревет в глубоком и тесном каменном коридоре; этим сравнительно узким местом воспользовались старинные строители, чтобы перебросить с одной несокрушимой береговой стены на другую, такую же крепкую, громадный и великолепный мост из тесанных темно-красных камней, тщательно приточенных друг к другу.
Мост этот — целая крепость, поднимающая свои четыре высочайшие стены со дна этой бешеной пропасти. В нем три яруса. Внизу, между стенами, соединенными наверху сводами, — галереи для прохода пеших, жилье для стражи и проезжих, конюшни для лошадей.
В древней Армении был, говорят, обычай устраивать в мостах постоялые дворы своего рода для опоздавших путников, — что и до сих пор встречается во многих местностях турецкой Армении. Построить мост, водопровод, безопасный караван-сарай у восточных народов издавна считалось делом благочестия.
Высота этого моста, широкого как площадь, такова, что голова кружится, когда смотришь с него вниз, в волны бушующего Арпачая. Мост разрушен на самой середине реки, и с другого берега уцелела только маленькая частичка его.
Село Чир-Пелу виднеется на том берегу, дальше, по обрывистому ущелью и, по всей вероятности, было прежде сильным укреплением.
* * *
В Кераче пришлось переправляться через Арпачай, на бывшую турецкую сторону, на которой находятся и развалины Ани. Оба рукава Арпачая разлились широко от бывших недавно дождей; наши лошади шли вброд выше пуза, так что и колеса хлебнули немного арпачайской водицы. Дорога на том берегу изрядно каменистая, жара делается тоже порядочная, и бедные коньки чувствуют это больше, чем кто-нибудь; а тут еще извозчики наши не совсем твердо знают полевые тропы, и едут, очевидно, наугад, более руководясь общим видом окрестностей.
Среди голой, каменистой равнины вдруг вырезались вдали, на фоне знойного неба, две узкие и высокие старые башни.
— «Хоша-Ванк»! — обрадованно сказал наш извозчик, указывая кнутом на башни.
«Хоша-Ванк» значит по-армянски: «две церкви».
Этот древний монастырь — своего рода преддверие бывшей армянской столицы, и путешественники, посещающие развалины Ани, конечно, стараются не миновать его.
Скоро мы были у этих оригинальных двух башен. Они пересекают дорогу в монастырь и стоят как два его сторожа, образуя между собою ворота. Свод над воротами провалился, по-видимому, недавно, потому что на виденных мною рисунках и фотографиях он еще изображается; одна из башен тоже без верху, и самих ворот, запиравшихся когда-то на замки и запоры, разумеется, следа нет. Ворота эти служили в старину для въезда армянских царей в монастырь Хоша-Ванк, где они имели обыкновение отдыхать по пути в Ани. С приворотных башенок звонили в колокола, чтобы дать знать монастырю о приближении царского поезда. В то время дорога в Хоша-Ванк была вымощена камнем, следы которого еще заметны.
Сам Хоша-Ванк лежал теперь впереди нас, позади громадной круглой пропасти, на которой змеились среди болот рукава Арпачая. Вид этого монастыря глубоко характерен. Это — подлинный отрывок из древней истории Армении. Его черные средневековые стены с башнями и бойницами из тесанных камней тесно обступили древние островерхие храмы типического армянского стиля, такие же черные и такие же с головы до ног каменные, как и сами они. Весь этот крепко защищенный замок живописно вырезался своими темными угловатыми очертаниями на безоблачно-синем небе, над самыми обрывами пропасти, отделявшей его от нас.
Пока экипаж объезжал эту широкую и глубокую котловину, мы с К-ном и Петром Ник. решились спуститься по крутым обрывам пропасти вниз, к Арпачаю, чтобы пробраться на торчавший внизу, среди его разливов, скалистый островок, чрезвычайно картинно увенчанный развалинами двух древних церквочек. Порядочно промочив ноги в болотистой низине, мы все-таки добрались кое-как, с камушка на камушек, до привлекавших нас развалин. Стены пропасти, по которым мы спускались, все из красного и желтого туфа, легко поддающегося железу. Вероятно, поэтому они все изрыты пещерами не только кругом монастырской котловины, но и гораздо дальше, вдоль всего русла Арпачая. Из этого же туфа, по-видимому, были выстроены и многие верхние части тех прелестных маленьких церковочек, которые стоят на островке. Храмики эти, самой изящной архитектуры, — в сущности, не что иное как мавзолеи, выстроенные над прахом похороненных здесь армянских царей. Кругом их — целое кладбище, заваленное обломками тех же полуразрушенных храмов. Простая каменная гробница царя Ашота III-го, установленная на пьедестале из четырех ступеней, с надписью 970 года, удивительным образом совершенно уцелела среди хаоса наваленных камней. Первый храм и был посвящен его памяти, а другой, кажется, — царю Гагику I-му.
Не совсем легко было вылезти из болотистой пропасти, окружающей мавзолеи древних царей, на ту сторону, к подножию монастырских стен. Маленькая, бедная деревушка, наполовину врывшаяся в каменные скаты горы, обсыпала монастырь. К нему приходится подниматься по крышам и дворам ее, среди отчаянного лая собак и среди удивленно зевающей толпы оборванных старух и грязных детишек.
Старый, совсем лысый монах-настоятель встретил нас и стал водить по монастырю. Снаружи он кажется далеко не таким обширным и прекрасным, каким оказался внутри. Все это постройки благородного архитектурного стиля, с смелыми куполами, с величественными колоннадами притворов, с тонкою каменною резьбою, с множеством старинных надписей — совершенно в том же роде, как посещенные нами раньше древние монастыри Кегарта, Сурп-Кеворка, Иогана-Ванк и др. Кроме храма, тут и великолепные залы, в которых армянские цари собирали на совещание по государственным делам своих князей и вельмож. Сейчас видно, что это был не какой-нибудь глухой, заброшенный монастырь, а место чтимое и украшаемое царями. Из надписи на одном столбе видно, что монастырь был уже возобновлен в 935 г. царем Абасом, — следовательно, построен значительно ранее. Назывался он, собственно, «Горомоси-Ванк», а название Хоша-Ванк получил от двух воротных башен, носивших это имя. Разрушил его султан сельджуков, Альп-Арслан, в 1064 году. По рассказам летописцев, турки перерезали такое множество монахов, живших в монастыре и в окрестных пещерах, что трехлетний младенец утонул в ручье крови. Но впоследствии монастырь был, очевидно, восстановлен, потому что на нем видны надписи 1174–1336 годов. Из одной надписи узнаем, что в 1198 г. архимандрит Мхитар провел в Горомоси-Ванк с величайшим трудом ключевую воду, что не удавалось прежде даже царям.
Побродив по всем уголкам древней обители, мы закусили слегка и двинулись дальше, к главной цели нашего путешествия.
* * *
Ани — всего верстах в шести от Хоша-Ванка. Еще издали видны разбросанные на огромное пространство среди голой степи остатки стен с башнями, остовы церквей и высоко поднятые на горе развалины цитадели. Чем-то давно умершим, немыми пустынями Палестины и Сирии, дышит этот глубоко-исторический пейзаж. Совсем отдельно от города, с полверсты не доходя до его стен, стоит одинокая опустевшая церквочка, которую туземцы называют «церковью пастуха». Древнее предание говорит, что один богатый пастух, рассердившись на то, что в какой-то большой праздник его не пустили ни в одну из церквей Ани, переполненных народом, — построил на свой счет эту церковь для себя одного и этим как бы отмстил негостеприимным горожанам Ани.
Стены Ани были двойные, и хорошо сохранившийся во многих местах огромный обхват их, своею высотою, длиною и множеством башен несколько напоминает мне стены древней Византии в Константинополе. Эта непрерывная каменная ограда отрезала столицу Армении со стороны степи, единственно доступной для нападения. Правым крылом своим она спускалась в дикое ущелье Арпачая, а левым — в обрывистую, долину реки Аладжи. С трех остальных сторон Ани было надежнейшим образом защищено крутизнами гор и глубокими пропастями, по которым бежит бешеный Арпачай и впадающая в него Аладжа.
Круглые башни Ани огромной высоты и сложены, как и стены, из превосходного тесанного камня серо-желтого цвета; на многих из них видны кресты колоссальной величины, образованные черными камнями, вставленными среди желтого фона. Иные расписаны этими же черными камнями в виде шахматной доски и разных других узоров; кое-где виднеются плиты с старинными надписями, большая каменная доска с изображением льва. Вообще заметно, что эта древняя твердыня была не только боевою оградою, наскоро сложенною для защиты от врага, а самобытным созданием архитектурного вкуса того времени, предназначенным для украшения и славы города столько же, сколько для его безопасности, — делом чьей-нибудь любви и сердечной заботы. Ее, действительно, построили в X-м веке славные цари Багратиды — Ашот III-й и сын его Сембат II-й, великие строители дворцов и храмов, высоко поднявшие благосостояние своего недавно еще разоренного и бессильного царства.
Почти все эти многочисленные башни кажутся целыми только снаружи; со стороны же города они вскрыты как раковины устриц и распахнули свои каменные утробы от макушки до пяток. Немудрено, что в таком виде они с каждым годом осыпаются все больше и больше и понемногу уменьшаются в числе.
Двое ворот ведут с этой стороны в город. Одни сжаты между двумя тесно сближенными громадными круглыми башнями; другие проходят под аркою, почти совсем обрушившеюся, над которою путешественники еще недавно любовались огромною плитою с старинною армянскою надписью, — и ведут внутрь воротного укрепления своего рода, где приходится поворачивать в сторону, чтобы попасть во вторые, входные ворота. Это обычный способ устройства ворот в древних крепостях, который я встречал уже не раз в Греции и при котором, действительно, врагу было не легко ворваться в крепость. За крепостной оградой — опять пустыня, опять громадное историческое кладбище. Куда только хватает глаз, — везде груды камней, огромные могильные холмы, похоронившие в себе развалины былых дворцов и храмов. Среди них изредка торчат, словно немногие уцелевшие воины на поле кровавой сечи, устланном бесчисленными трупами, — темные громады полуразвалившихся храмов.
Мы подъехали к белому низенькому дому-бараку с железными решетками в выбитых окнах. Это единственный жалкий приют для путешественников. Но и он, к нашему прискорбию, оказался заперт. В летнее время тут иногда проживает монах, посылаемый сюда армянским патриархом для путеводительства богомольцев. У него обыкновенно достают самовар и кое-какую посуду. Но к осени он уже спасается обратно в свой монастырь, потому что одинокая жизнь в этой мертвой пустыне, среди разбойников курдов, без всяких средств пропитания, — не манит даже и монаха.
Послали одного из своих всадников-чепаров разыскивать в соседней деревне какого-то сторожа, которому, будто бы, передаются ключи от дома и от некоторых церквей Ани, где еще может происходить служба, — но чепар этот, пространствовав где-то несколько часов и заморив вконец свою лошадь, возвратился с пустыми руками. Из Хоша-Ванка тоже прислали нам в помощь священника верхом, но и он не мог отыскать сторожа, и только присоседился к нам, когда мы уселись в тени древнего собора прямо на камнях, чтобы позавтракать привезенною с собою провизией, заменяя поневоле вином напрасно ожидаемый чай. Завтрак наш, благодаря заботам нашего милого инженера, оказался более, чем роскошным для такого случая: жареная индюшка, пилав с бараниной, сыр и разные закуски, кондитерский торт, конфекты, груши, яблоки, а по части пития не только вино всякого сорта в изобилии истинно кавказском, но и пиво, и даже зельтерская вода.
Мы все-таки изрядно устали за эту длинную дорогу, и только плотно закусив, опять ощутили в себе необходимую бодрость для предстоявшей нам весьма нелегкой археологической экскурсии. Приходилось пространствовать пешком в течение многих часов по сплошным грудам камней, по кручам и обрывам гор, под горячими лучами южного полудня и притом при иссушающем душу палящем ветре.
Но что делать? «Назвался груздем, полезай в кузов!» — говорит немного злая русская пословица.
Главный собор Ани — как раз против дверей домика для богомольцев. Это — чудное архитектурное создание, соединившее в себе все характерные черты и всю своеобразную красоту древней армяно-грузинской архитектуры, в основе которой лежит, конечно, византийский стиль, с сильною, однако, примесью готики. Собор этот много величественнее и красивее эчмиадзинского, хотя круглая центральная башня, венчавшая его, совсем разрушена, и только уцелевший громадный «корабль» храма — дает некоторую возможность судить о его былых размерах и изяществе его форм. Сложен он, как и все храмы Ани, из прекрасно вытесанных камней темно-желтого туфа и, словно драгоценною парчею, одет кругом по фасаду и боковым стенам, по всем арочкам, карнизам, поясам и колоннам, кругом дверей, кругом каждого окошка, узких и длинных как щели крепостной бойницы, — разнообразнейшею восточною резьбою; плиты с крестами и надписями, с фигурами львов, орлов и разных других птиц, в рамках удивительных узоров, врезаны в эти стены, среди этих арок и столбиков, и, прочитанные учеными людьми, дают богатый материал не только для истории храма, но и для характеристики религиозных обычаев средневековых армян.
Я приведу некоторые из них, наиболее интересные; на южной стене собора, около когда-то бывших здесь солнечных часов вырезано: «В 459 г. армянского счисления (1010 г.), во времена духовн. владыки, почтенного Богом, Саргиса, католикоса Армении, в славное царствование Гагика, шаханшаха Армении и Грузии, я, Катраниде, царица Армении и дочь Васака, царя сионийского, прибегла к милосердию Божию и, по повелению мужа моего Гагика-Шаханшаха, построила этот собор, основанный раньше великим Сембатом; мы воздвигли дом Божий, живой и новый, в ознаменование духовного своего рождения, и я украсила его драгоценными украшениями, — жертвою Христу от меня и от рода моего, то есть моих детей: Сембата, Абаса и Ашота». «Я, Тер-Саргис, сим повелел служителям церкви, служить неукоснительно до самого пришествия Христа, 40 обеден после кончины благочестивой царицы во время успенского поста. Кто нарушит эту запись мою, да будет осужден Христом. Память эта написана в 6433 году от Адама, в 1012 г. от воплощения Слова Божия, в 718 г. от обращения армян в христианство, мною, Бене».
Армяне того времени, цари, князья и простые люди, не доверяя пергаменту и бумаге, записывали на камне свои распоряжения о вечном помине души, принося за это щедрые дары монастырям и церквам и с свойственною им торговою деловитостью условливались с ними самым обстоятельным образом, какое именно духовное вознаграждение на пользу душ, их самих и родственников их должны они получать за свои материальные жертвы.
Каменные надписи на стенах древних храмов Ани полны этих простодушных посмертных договоров мирских людей с служителями церкви и были как бы предназначены для всегдашнего публичного напоминания принятых ими на себя обязанностей, своего рода безмолвным предъявлением к ним даже из-за гроба чисто юридических требований о помине их души, — что считалось в те религиозные времена важнейшим вопросом для всякого христианина.
«В 684 г. (1225 г.) я, милостью Бога, Зугал из Карса, сын Горига, приписавшись к славному и святому собору, подарил ему Евангелие, книгу пророка Исайи, сосуд и кадило, и служители святых обязались служить ежегодно обедню в праздник Божией Матери, за моего брата Ваграма, пока я буду жив, и за меня, и за жену мою Тикин после моей смерти. Тот, кто это исполнит, да будет благословен от Бога!» — написано, напр., на арке восточного фасада собора.
На южной его стене — другая, подобная же надпись:
«В 662 г. (1213 г.) я, Тигран, раб Христов, построил на свои законные деньги лестницу славного святого собора, разрушенную с давних лет. Я пожертвовал ему лавку в Катноце, купленную на мой счет; я подарил ему две книги праздничных служб, из которых одна св. Григорию, и две серебряных чаши в главный алтарь, обязав причт ежегодно служить обедню обо мне до самого пришествия Христова».
В других подобных надписях исчисляются подарки маслобоен, виноградников, книг Старого и Нового Завета, золота, серебра и пр.
Высчитывается арифметически, иногда с явною похвальбою, сколько именно денег стоил каждый подарок или постройка церкви и сколько, в какие именно дни, должны за это вознаграждать своими молитвами представители религии.
Так на одной из церквей Ани существует следующая надпись: «В 489 г. (1040 г.) я, Апельхариб, марзапан Армении, сын Григора и внук Апухамра, князей Армении, хотя и находился в пренебрежении у своего отца, как младший сын, все-таки, движимый сыновним благочестием, построил это место покоя своему отцу Григору, брату Гамзе и Хримоседаю, и две кельи во имя св. Стефана и св. Григория.
„Священники обязуются, входя каждую пятницу в святая святых, служить обедню за мою мать Шухану, в субботу за моего брата Григора, всякую пятницу, в праздник св. Христофора, за моего дядю с материнской стороны — Садоя, в субботу за моего брата Гамзе.
„Если же какой-нибудь священник воспротивится служить эти обедни или по небрежности пропустит указанные дни, — да будет он проклят Отцом, Сыном и Духом Святым и 318-ю святителями (вселенского собора); да будет его участь вместе с Иудою и Сатаною; а кто исполнит эту запись, да благословит его Бог!“
* * *
Внутри собора — высокие круглые своды на стройных колоннах, связанных целыми букетами; расположен храм правильным крестом, как греческие базилики. Но громадный купол, осенявший его, давно провалился, и синее небо смотрит теперь в темную внутренность храма сквозь широкий пролом, уже успевший обрасти по краям дикими травами. Да и стены великолепного храма тоже дали глубокие трещины в разных местах, доходящие чуть не до самой земли. Груды камней и плит с превосходною резьбою, некоторые даже с раскрашенными фигурами святых, свалены в углах храма; это — находки армянского археолога, г. Марра, приготовляющего обстоятельное исследование древних памятников Ани, извлеченных из развалин разных зданий его.
Обойдя много раз стены собора, от которых никак не оторвешься, и поглазев досыта на его стройные своды, двинулись мы всей компанией по направлению к Арпачаю, в южную сторону города. Не идешь, а постоянно ныряешь между громадными камнями и грудами щебня, завалившими все пространство. Старые строители так тщательно притесывали и пригоняли камни друг к дружке, и скрепляли их таким прочным цементом, что огромные куски стен, целые скалы скипевшихся вместе камней, лежат на каждом шагу среди праха развалин. Удивляешься и превосходной штукатурке этих старых зданий, тонкой и гладкой как слой мрамора, отлично сохранившейся в течение стольких веков.
Ближе всех к собору — небольшая восьмиугольная церковь св. Рипсимии, с круглою башнею наверху, того же стиля, той же кладки, с теми же наружными украшениями, как и собор. Внутри ее — восемь полукруглых ниш с уцелевшими в них бледными изображениями святых. По-видимому, это был мавзолей в память какого-нибудь благочестивого армянского царя. Еще дальше к реке, на крутом обрыве берега — другая церковь, сохранившаяся лучше всех; по красоте своего стиля она тоже одна из лучших в Ани. Ее называют греческою церковью; в ней по стенам хорошо уцелели раскрашенные иконы угодников и даже престол, на котором еще и теперь продолжаются церковные службы.
На наружных стенах церкви несколько старинных надписей, большею частью уже неразборчивых; одну из них прочел вполне армянский ученый лазарист, отец Саргис. Она очень наивна и характерна: „В 1310 г. я, Мате, начальник секретарей атабека-амира-спасалара Шаханшахе, и моя подруга Атени, вместе с моим братом Маркосом, — после того как наш владыка благоволил отдать нам этот монастырь и поручил благочестивому Тиграну провести в него воду, которой не было в каналах, разоренных во время безначалия, — мы провели воду и обеспечили пользование ею ради долгоденствия Шаханшаха, жены его Хованцы и их сына Захара, и на память о душе нашей. Помяните о нас перед Христом!“
Другая, более старинная надпись, списанная отцом Нерсесом и переведенная академиком Броссе, еще любопытнее, потому что рисует нам целую характерную картину армянских обычаев и верований былых веков.
„В 1215 г., милосердием Бога, когда наш город Ани был во власти могущественного военачальника и вождя Захарии и его сына Шаханшаха, я, Тигран, сын Сулема Сембаторенца из рода Хозенц, ради долгоденствия моего дома и сына Захарии, построил этот монастырь Сурп-Григора, прежде называвшийся «Божией Матери в часовне», в местности, покрытой скалами и камнями. Купив его у владельцев на законно принадлежащие мне деньги, я на свой счет и с большими трудами, окружив его оградою, построил эту церковь св. Григора, обогатил ее убранством, святыми крестами, символом спасения, из золота и серебра, иконами, обделанными в драгоценные металлы, камни и жемчуг, свещниками золотыми и серебряными, мощами святых апостолов и мучеников, частицами Креста Господня, носившего на себе Бога; я снабдил монастырь всякого рода золотою и серебряною утварью и многочисленными украшениями, построил множество жилищ для монахов и поставил священников возносить жертвы крови и тела Христова с тем, чтобы эта служба продолжалась беспрепятственно на долгое благоденствие членов моего семейства, Шаханшаха и его сына, и на оставление моих грехов; я подарил этому своему монастырю Сурп-Григора имения, купленные у владельцев на мой счет и по законным актам, и возобновил монастырь с самого первого камня его…
После длинного исчисления земель, деревень, мельниц, виноградников, пожертвованных Тиграном монастырю, он продолжает далее:
«Теперь, если кто из великих или малых, из своих или чужих, попытается воспрепятствовать тому, что начертано на этой надписи, отнимет что-нибудь из сумм, которые я назначил, или уничтожит память о мне, грешнике и слуге Божием, каким бы то ни было образом, то он будет исключен из славы Сына Божия, он наследует в своем лице наказание Каина и Иуды, будет отлучен тремя святыми соборами и девятью степенями ангелов, и отдаст отчета в моих грехах перед Богом. Те же, кто будут сообразоваться с написанным сердцем и делами, благословенны от Бога».
* * *
Немного не доходя до греческой церкви, — развалины царских бань, где еще можно ясно видеть все распределение их, остатки печей и концы очень крепких гончарных труб, проводивших сюда воду, что служит осязательным подтверждением только что приведенной мною надписи.
С обрыва у греческой церкви — поразительный вид вниз, в узкое провалье, на глубоком дне которого кипит лилово-синий АрпачаЙ. Отвесные стены этого дикого ущелья как нельзя больше подходят к общему мрачному тону этой пустынной могилы, к этим мертвецам-храмам, полуразрушенные скелеты которых одиноко торчат среди хаоса камней, будто покойники, силящиеся подняться из своих тесных гробов. Бешеный Арпачай вьется как змея в этих каменных оковах своих, делая на каждом шаге резкие и глубокие завороты между скал. На самом последнем завороте его, там, где с ним сливается впадающая в него река Аладжа, на далеко выдавшемся обрывистом горном мысе, спадающем крутыми ступенями в пучины реки, вырезается характерная островерхая башня древнего женского монастыря во имя св. Григория-Просветителя, почти недоступного ни с воды, ни с сухой земли. А еще правее и еще выше его, на конической горе, венчающей все обширное поле развалин старой армянской столицы, высятся полуразрушенные крепостные башни, храмы и здания былого акрополя Ани.
Отвесные обрывы реки у ног греческой церкви были все-таки подперты снизу крепостною стеною и защищены крепкими башнями, которых массивные развалины отлично видны нам сверху. Такие же башни защищали и каменный двух-ярусный мост, перекинутый одною смелою грандиозною аркою через Арпачай, значительно ближе к женскому монастырю и к горе цитадели. У моста этого, от которого теперь остались только обломки прибрежных частей, также видны развалины нескольких маленьких церквей и чернеют входы в пещеры, вырубленные в скале. Пещерами, вообще, изрыты здесь все скаты гор, все берега обеих речек. Уверяют, что под развалинами Ани, внутри скал, на которых построены его храмы и башни, существует целый подземный город пещер, из которого идут тайные ходы под дном Арпачая на ту сторону реки, но в который теперь очень трудно проникнуть, вследствие обрушившихся сводов, хотя во времена армянских царей в него спускались через всем тогда известные проходы из разных мест Ани.
Двигаясь последовательно к горе цитадели, мы остановились у замечательных развалин, которым разные ученые археологи придают самые разнообразные названия и значения. Одни считают их остатками мечети, устроенной арабами по завоевании ими Ани, другие называют их дворцом католикоса, третьи — домом государственного совета и верховного суда древних армянских царей. Что тут была, между прочим, мусульманская мечеть, в этом не может быть никакого сомнения, потому что к развалинам этого роскошного здания с массивными колоннадами тесно примыкает очень высокая шестиугольная башня минарета, отлично уцелевшая и даже сохранившая вполне на своих карнизах куфические арабские надписи, опоясывающие по восточному обычаю кругом всю башню в виде затейливого арабеска своего рода. Но в мечеть эту легко могло быть обращено завоевателями-арабами всякое другое обширное и красивое здание, существовавшее в покоренном ими городе; поэтому ничего нет удивительного, что, по армянским преданиям, это же самое здание могло считаться и жилищем патриарха, и палатою суда или совета. Что здание это было мечетью, можно еще заключить из того, что на наружных стенах его вырезаны древние надписи, в свое время прочитанные нашим известным ориентологом Ханыковым и говорящие от имени Абу-Саид-Хана об уничтожении султаном разных пошлин и налогов с жителей. Ани-Абу-Саид, будучи мусульманином, разумеется, мог написать свой указ скорее всего на стенах мечети, а уже никак не на жилище католикоса или других христианских зданиях.
Зала с колоннадою раскрыта со всех сторон, кроме той, которая глядит на реку и висит над самою пропастью глубокого ущелья. Только один ярус ее — над землею, два других вырублены в толще скалы; сквозь провалы пола можно видеть ее нижний этаж, который наши проводники называли почему-то темницею. Своды колоннад — совсем в восточном вкусе и смотрят чрезвычайно картинно. Оригинальные ячейки их угловых ниш напомнили мне обычные архитектурные приемы каирских мечетей. Я не отказал себе в удовольствии влезть, вместе с К-ном, по 84-м стертым и скосившимся каменным ступеням, вьющимся утомительною улиткою в совсем почти темном и узком столбе минарета, на вершину его, откуда мы насладились зато широкою панорамою всех развалин Ани и его далеких окрестностей. В ту минуту как Степан Иванович торчал в виде флагштока на плоской макушке высокого минарета, наш инженер очень удачно схватил этот момент в свой фотографический прибор. Снял он потом и нас с женою у подножия колонн арабской мечети, и многие интересные развалины Ани, которые обогатили мой путевой альбом. Минарет с куфическими строками был не единственный в Ани. Судя по атласу развалин Ани, изданному в 1860 г. известным археологом и знатоком Кавказа, Броссе, по подлинным снимкам Кестнера, — по середине Ани, не в дальнем расстоянии от главного собора, одиноко стоял еще другой, такой же шестигранный, но еще более высокий минарет; его еще видел своими глазами, несколько лет тому назад, наш спутник Дрампов, но мы уже нашли его повергнутым в прах и рассыпавшимся словно на колоссальные звенья своего рода, настолько, однако, крепкие, что шестигранные стенки многих из этих обломков даже нигде не треснули.
Говорят, минарет этот был опрокинут последним землетрясением, разрушившим или повредившим во многих местностях Кавказа — и даже в самом Тифлисе — высокие каменные здания.
В развалинах около мечети и ее минарета какие-то немцы недавно произвели раскопки и, по словам наших спутников, нашли много интересных вещей, — старинные деньги, кресты, посуду и проч.
Мы хотели обойти кругом все пространство, покрытое развалинами города, и направились поэтому от цитадельной горы вдоль обрывистого берега реки Аладжи. Глубокое и широкое ущелье ее все время провожало нас слева. Противоположный гористый берег этого ущелья изрыт как медовый сот черными дырьями пещер; они лепятся там где в два, где в три яруса, и в теперешнем виде своем большею частью уже недоступны. Повороты и обрывистые выступы городской горы, по которой мы шли, тоже убеждали нас, что и этот скалистый берег ущелья источен такими же многочисленными пещерами. Археологи считают их «жилищами троглодитов», людей «пещерной эпохи», — и это весьма правдоподобно. Но во всяком случае пещеры эти служили убежищем жителям Ани и в гораздо более позднейшее время, чем, может быть, отчасти и объясняется невероятно большая цифра населения Ани в его цветущие времена, о которой сообщают старые армянские историки. Армянская и татарская сакли из сложенных в кучу камней, смазанных глинистой землей, с земляными крышами, низенькие, слепые, тесные, — в сущности очень мало отличаются от пещер и представляют нисколько не больше удобств для жизни. А в века постоянных войн, грабежей и усобиц — пещера была наиболее надежным жилищем для беззащитного человека и наименее привлекала алчность грабителей. Некоторые пещеры, которые нам видны в скалах городской стороны, уже не одинокие логовища, а довольно обширные помещения из нескольких смежных комнат, с лестницами, окнами, альковами в стенах, — может быть, казармы для какой-нибудь стражи, а может быть — жилища монахов одного из бывших тут поблизости многочисленных монастырей.
Во всяком случай вид на эту глухую глубокую долину у ног мертвого города, обставленную кругом на далекое пространство зияющими пастями покинутых пещер, производит впечатление какой-то необъятной могилы.
Над крутым обрывом этой долины, у ее резкого изгиба к северу, стоит хорошо сохранившаяся церковь-мавзолей, очень похожая на храм св. Рипсимии, который мы осмотрели вблизи собора. Только этот мавзолей — двенадцатигранный и, пожалуй, еще более изящного стиля. Его тесанные камни красивого желтоватого цвета так искусно приточены друг к другу и так хорошо поддались резцу, разукрасившему их всякими замысловатыми арабесками, карнизиками, фигурами и надписями, что эта маленькая церквочка может считаться одною из самых красивых среди уцелевших храмов Ани. Внутри церковь эта образует шесть грациозных ниш, разделенных между собою колонками и разрисованных изображениями святых, видными еще совсем ясно. В археологическом атласе Броссе церковь эта называется Сурп-Григор, и на ней-то, в числе многих памятных надписей, найдено приведенное мною выше характерное завещание Апель-хариба, марзапана, то есть, правителя Армении. Идя по берегу долины к развалинам дворца, невольно любуешься остатками могучих стен и башен двойной крепостной ограды, опоясывавшей с этой стороны древнюю столицу почти по отвесным обрывам скал. Дворец Багратидов, — как называют теперь полуразвалившееся роскошное здание, примыкающее к крепостным стенам, — висит, как ласточкино гнездо, над отвесною пропастью ущелья и, очевидно, сам составлял в прежнее время одну из надежнейших защитных твердынь. Наш талантливый странствователь по Востоку, А. Н. Муравьев, не допускал, однако, чтобы дворец армянских царей мог помещаться в таком опасном боевом месте, и считал с своей стороны эти развалины дворцом Палавидов, могущественных вассалов армянских царей, владевших одно время городом Ани. Мнение его разделяет и Броссе в своем классическом исследовании развалин Ани, хотя и полном некоторых ошибок, объясняемых, впрочем, тем обстоятельством, что Броссе не посетил лично развалин Ани, а описывал и рисовал их по материалам разных других археологов и путешественников.
Действительно, как-то странно предположить, чтобы в таком огромном и богатом городе, каким историки описывают Ани, роскошные цари Армении не нашли более удобного места для своей постоянной резиденции, как в крепостной стене, подвергающейся прежде всех нападениям врагов. Но, с другой стороны, я видел, напр., в Иерусалиме так называемый замок царя Давида, таким же точно образом включенный в число наружных укреплений города и составляющий самый сильный оплот их. В Сербии, в знаменитом монастыре Манассии, посещенном мною несколько лет тому назад и представлявшем из себя в старину неприступную крепость, самая большая и крепкая башня была также постоянным жилищем сербского короля «Высокого Стефана Деспота», сына злополучного Лазаря, героя Коссовского поля. И если вспомнить, что и западная Европа покрыта старинными замками, в башнях которых жили короли и владетельные герцоги, что в Швеции я еще на днях посещал замки-крепости, в которых отсиживался от своих недругов Густав Ваза и преемники его, то, пожалуй, сомнения нашего почтенного путешественника по святым местам окажутся не вполне убедительными.
Во всяком случае развалины здания, о котором идет речь, по великолепию своему и по своей обширности, можно несомненно считать за дворец, чей бы он ни был, Багратидов, Палавидов или какого-нибудь персидского или арабского марзапана. Фасад дворца со стороны города уцелел довольно хорошо, так что вполне еще видны и чудная узорчатая рамка его карнизов, и изящная арка входа, сплошь выложенного, будто фарфоровою мозаикою, разноцветными глазированными кафлями, и благородное островерхое окно мавританского стиля, окруженное такими же пестрыми шахматами фаянсовых плиток.
К сожалению, с каждым годом путешественники и мальчишки-пастухи выламывают все больше и больше драгоценную керамику этого строго восточного фасада, и обнажают догола каменную стену от ее роскошной майоликовой одежды.
В двух ярусах дворца — много высоких и обширных покоев, наполовину уже обрушившихся, а местами угрожающих скорым падением. На иных стенах еще видна былая роспись и резные украшения; в одной комнате заметны остатки фонтана. Из окон и проломов в наружных стенах — поразительный вид в темную глубь ущелья и на кручи противоположного берега, хмурящегося, словно слепыми глазами, черными дырьями своих пещер. Высота такая, что голова кружится, когда глядишь вниз. Нижний этаж весь в высоких и темных сводистых коридорах, похожих на тюремные казематы.
По-видимому, здесь и была в старину темница, которую старые недоверчивые владыки народа всегда старались иметь поближе, у себя под рукою, в тесном соседстве с своими пиршественными палатами. От бывшего дворца осталась теперь только часть; добрая половина его обрушилась в пропасть и осыпала своими обломками подножие крепостных стен. Крыши следа нет, да и уцелевшие стены, висящие над провальем, распахнуты словно раздвинутые половинки ширм.
Что здание это было во всяком случае местом пребывания главных владык Ани, доказывают уцелевшие надписи, прочитанные армянскими учеными, имеющие совсем другое содержание, чем надписи на храме.
На одной надписи дворца написано:
«В 1320 г., милосердием Бога, я, Ховандзе, подруга атабека Шаханшаха, преставившегося в семь году к Господу, к великому ужасу и огорчению нашей восточной страны, — отказалась от требования с моей вотчины города Ани подати ковероц, иханун и дрнагир, большой и малой. Кто попытается воспрепятствовать нашему распоряжению, грузин ли, турок ли, или армянин, тот будет судим и осужден Богом и заслужит геенну. Грузин будет связан и лишен рая, мусульманин будет покрыт позором от восьми пророков».
Другая надпись говорит:
«Именем Илхана, в 1303 г., милостью Бога, я, Ахбухе, сын Иване и внук великого Захарии, приидя в город Ани по повелению Шаханшаха, увидел, что город сделался бедным и оставался в разорении, потому что его обременили податями, как никогда не было с начала его существования. Я отменил три подати ради долгоденствия и процветания моего брата Шаханшаха и моего собственного, и в виду гробниц моих предков. Я отбросил счет на 9.000 коров. Кто из моего рода или всякий другой верно соблюдет это, тот будет благословен Всемогущим Богом».
От дворца мы повернули назад к собору, обходя все сколько-нибудь выдающиеся развалины, видневшиеся на серединном пространстве разрушенного города.
Мы взобрались между прочим на высокий холм, весь составленный из сваленных в беспорядочную кучу и наполовину уже занесенных песком и землею колоссальных капителей, звеньев массивных колонн, архитравов, карнизов, тесанных камней… Очевидно, здесь стоял когда-то или большой храм, или дворец.
Подходили и ко многим наполовину распавшимся зданиям с остатками прекрасных колонн и арок, но уже утратившим свой общий вид и не дающим больше ответа ни на какие остроумные предположения археологов. Последнее, чуть ли не самое интересное здание — уже недалеко от собора. Какое его назначение — трудно сообразить. Нам наши проводники назвали его залою совета, чем-то в роде сената. На фотографии, купленной мною в Тифлисе, оно названо «библиотекою». В атласе Броссе здание это величается дворцом Палавидов, очевидно, вследствие того, что ученый автор смешал это строение в одно с дворцом Багратидов, отстоящим, однако, от него порядочно далеко.
Стиль этого здания — арабско-персидский: колонны — в восточном вкусе, купол, ячеистые ниши в углах на манер киблы в мусульманских мечетях, а снаружи — тонкая характерная резьба каменных карнизов, рам и панелей, которая так и просится в альбом художника.
Вообще, развалины Ани убеждают несомненно, что в дни процветания этого города архитектурное искусство у армян стояло уже на очень высокой степени, отличаясь благородной простотой линии, тонким восточным вкусом своих украшений и математическою отчетливостью и правильностью работы.
— Ночлег в армянской сакле.
* * *
Можно поверить, бродя среди этих многочисленных развалин, что при первых Багратидах, — обративших Ани в столицу своего царства, — город славился богатством и многолюдством и вел большую торговлю, хотя и нет возможности допустить, будто в нем жило тогда до миллиона народа и в стенах его считалось 100.000 дворцов и 1001 церковь, как повествуют чересчур патриотические летописцы Армении.
Это число 1001 слишком часто встречается в разных преданиях у народов Востока, чтобы мы не имели права счесть его за обычную гиперболу восточного воображения. Наша Волга, — Итиль арабских писателей, — по сказанию известного арабского географа Абульфеды, тоже ведь впадала в Каспийское море 1001 рукавом, точно так же, как Шехеразада 1001 ночь рассказывала халифу свои сказки.
Но путешественники первой половины нашего столетия насчитывали еще до 40 остатков различных церквей в окружности 5 верст, которые занимают развалины Ани, и до 44 башен в его двойной стене. Теперь трудно насчитать и половину их, потому что землетрясение и расхищение развалин окрестными жителями с каждым годом уничтожают часть древних памятников Ани. Курды и татары соседних деревень собираются сюда целыми обозами и беспрепятственно выбирают словно из откупленной ими каменоломни любые камни на собственные постройки или на продажу. Говорят, будто немало камней из развалин Ани было продано таким образом и на строившуюся тифлисско-карсскую железную дорогу. Эчмиадзинский патриархат не принимает против этого расхищения никаких существенных мер, а светская администрация тоже, по-видимому, не обращает внимания на постепенное уничтожение этих драгоценных памятников истории и археологии, возбуждающих такой глубокий интерес в ученом мире западной Европы. Между тем едва ли где в другом месте обширного русского государства найдется такой изумительно богатый некрополь протекших веков и народов, такой поучительный и выразительный памятник далеких времен, — своего рода Бальбек или Пальмира старого армянского царства, ныне вошедшего как неразрывный член в общее могучее тело Российской империи. Ани существовал еще в глубокой древности как маленькая, но совсем безызвестная крепостца в Ширакской области. Царь Трдат, современник св. Григория, подарил в IV-м столетии этот город со всею Ширакскою областью князю Камсару, родоначальнику знатной армянской фамилии Камсараканов, долго владевших этою областью и городом Ани на праве вассальных князей. Но когда могущественная династия армянских царей Аршакидов, после шестивекового царствования, — была низвергнута Сассанидами, и Армения сделалась добычею чужеземцев, переходя попеременно из власти огнепоклонников-персов во власть мусульман-арабов, — то в эти века смуты и разорения горячие армянские патриоты Ашот и Шапух, сыновья знатного князя еврейской крови, Сембата Багратида, соединив вокруг себя дружины храбрецов, успели очистить свое отечество от всех иноземцев и внести некоторый мир в жизнь своего злополучного народа. Они-то купили у Камсараканов за крупную сумму денег Ширакскую область и населили своими сторонниками сильно укрепленный ими город Ани. Случилось это во второй половине VIII-го века по Р. Хр., но только через сто лет после покупки Ани город этот сделался столицею новой династии армянских царей — Багратидов. Первым царем этой династии был Ашот 1-й, современник нашего Рюрика. Ашот был богатырь телом и красавец лицом; в то же время он поражал всех своим красноречием, возвышенным разумом и справедливостью. В битвах он был беззаветный храбрец, в церкви — горячий молитвенник. Весь армянский народ обожал его, когда он еще был воеводою. Багдадский халиф Максам, тогдашний верховный владыка Армении, дал ему титул «князя князей» и отдал в его полную власть Армению, получая только ежегодную дань. Греческий император Константин Багрянородный называл его «великим армянским титаном». Католикос и князья Армении, в виду великих заслуг и достоинств Ашота, решились избрать его царем Армении, и по просьбе их халиф через своего «остикана» короновал его царскою короною.
Но самый расцвет славы и богатства Ани был в X-м столетии, при царе Ашоте III-м, правнуке Ашота I-го, который построил вокруг своей столицы внутреннюю стену с башнями и множество прекрасных зданий. С этих пор Ани сделался в глазах народа самым привлекательным и любимым городом, куда стекались все товары и богатства страны, все выдающиеся люди ее; с каждым годом умножались его дворцы и храмы и прибывало его население. Ани получил в народе прозвище «Майра-Коган» — «мать городов». Католикосы перенесли в него свою резиденцию.
Вторую, наружную стену, с ее громадными башнями, построил сын Ашота III-го, Сембат II-й. Она была защищена снаружи глубоким рвом, выложенным камнем, и тянулась от ущелья Арпачая — древнего Ахуриана — до «долины цветов», то есть, русла Аладжи. На постройку ее потребовалось восемь лет. Сембат же положил в 989 году основание и главному собору Ани, довершенному при его брате, царе Гагике I-м, женою Гагика, Катрамите, и построил множество других великолепных церквей и зданий.
«Наш царский город Ани был жилищем князей и благородных, точного числа которых нет возможности определить; ибо если счесть всех князей, благородных и народ, то получилось бы количество без числа и счета. Помимо золоченных дворцов частных лиц, мы имели там 1001 церковь!» — с наивною верою выражалась об этом славном городе старинная хроника.
О кафедральном соборе, построенном Катрамите, армянский летописец говорит так:
«Тогда он появился во всем блеске своих огромных размеров, с своими высокими сводами, своим куполом и своим алтарем, подобным небу. Царица снабдила и внутренность его бесценными украшениями, золотыми и серебряными сосудами, богатыми материями, расшитыми пурпуром».
При Гагике была также построена в Ани «великая и славная церковь во имя св. Григория-Просветителя, с высоким куполом, покрытая изумительною скульптурою. Она имела три двери и была устроена по образцу церкви, сооруженной в Вагаршапате (т. е. Эчмиадзине) патриархом Нерсесом». Построена она была «на высокой площадке, откуда открывается удивительный горизонт. Он ее сложил из огромных глыб тесанного камня, покрытых тонкою резьбою, и снабдил ее куполом, поражавшим изумлением взор по своей высоте, подобным небесному своду».
По-видимому, это была та самая церковь, хорошо сохранившаяся развалины которой мы видели над долиною Аладжи среди так называемого «рынка» Ани. Летописцы упоминают и посещенную нами церковь св. Рипсимии около кафедрального собора. «Католикос Саргис, муж мудрый и добродетельный, который произвел много построек, и который в своих розысках открыл многие останки святых спутниц Рипсимии, — воздвиг во имя их церковь по соседству с собором».
Но первые цари Багратиды не ограничивали своих забот великолепием храмов и собственных дворцов. Они наполнили свою столицу многими благотворительными учреждениями, приютами для бедных и для девушек, странноприимными домами; Ашот III даже собирал около себя хромых, слепых, прокаженных и щедро помогал им, за что и был прозван «Ашотом Милосердным» («Огормадз»). Мир утвердился в стране, и все сословия народа дружно стояли за интересы отечества. Множество ученых и благочестивых мужей, — «вартапедов», как их называют армяне, — появилось в эти времена, и их трудами стали процветать науки в успокоившейся и возвеличенной Армении.
Ани был центром этого расцвета армянского народа.
«Армения имела тогда знаменитых князей, царей правосудных и могущественных, которые везде насаждали общественное благоустройство и законы, но свет Ани один сиял выше всего», — выражался про него старинный летописец.
«Ани, — рассказывал Матвей Эдесский, — кишел народонаселением; он заключал в себе мириады мириад мужчин и женщин, старцев и детей, и поражал удивлением тех, кто его видел, воображавших, что такое множество составляло главную массу армянского народа».
* * *
Со смертью Гагика, в 1020 году, окончился этот золотой век Ани, да и всей вообще армянской истории. При сыновьях его начались беспорядки и усобицы, окончившиеся, как всегда, гибелью государства и столицы его.
Моралист-летописец этих событий так философствовал по этому поводу:
«У иноземцев есть поговорка насчет армян, что для них нет надобности во внешнем неприятеле; они сами — самые страшные враги собственного своего племени, и достаточно их собственного меча, чтобы умертвить их, не прибегая к чужеземным изменникам или шпионам».
«Миром владеет не человек, не могущество царей, а единодушие и союз с мудростью. При единодушии обеспечен всякий успех. Где же его нет, — сила делается слабостью, авторитет, величие мгновенно рушатся, удаляется даже божественное покровительство: вот это именно и испытал Ани. Ни камни, ни твердыни не устояли против раздора, и весь мнимый блеск и могущество погибли в одну минуту; благородные, один за другим, были попраны пятою врага, самые грозные укрепления были разрушены, исчезла всякая красота»!..
Греческий император, воспользовавшись изменою одного из знатных феодалов Армении, Саргиса-Веста, жаждавшего сделаться царем Армении, и партийными раздорами князей, вероломно захватил в свои руки храброго, но доверчивого юношу, царя Гагика II, и овладел без боя городом Ани и всею Армениею.
Но очень скоро грекам пришлось отстаивать Ани, соблазнявший всех соседей своим богатством, многолюдством и красотою, — от страшного врага, Альп-Арелана, или «могучего льва», — султана воинственных турок-сельджуков. Армянских патриотов уже не было внутри города, — они были разогнаны в далекие места недоверчивыми греками, — и некому было энергически стать на защиту славной столицы Багратидов. Малодушные греки, распоряжавшиеся в Ани, ужаснувшись обступивших их грозных полчищ, скоро покинули обширные укрепления города и заперлись в верхней цитадели, откуда главные начальники их тайком скрылись из города. Народ, покинутый войском и начальниками, несмотря на отбитые приступы, несмотря даже на то, что Альп-Арелан, после многих неудачных попыток, совсем собрался уходить от этого неприступного города, — в паническом страхе бежал сквозь дальние ворота в горы и ущелья. До 50.000 народа без всякой причины покинуло таким образом Ани, оставив его на произвол врагов.
Альп-Арелан и турки его долго не верили сами себе, что неодолимая крепость отдается им без бою в ту самую минуту, когда они потеряли всякую надежду взять ее силою.
«Они не знали, что крепкий город требует и крепких защитников!» — рассуждал по этому поводу армянский летописец. — «Ибо мудрые учат нас, что только стрела, вылетевшая от могучей груди, может пронзить другую могучую грудь».
Турки ворвались в пролом стены, и началась кровавая бойня. Улицы были залиты кровью жителей, волны древнего Ахурхана стали красными; мальчики и девушки уведены в плен, взрослые все изрублены. Князей и богатых горожан бесчеловечно истязали, выпытывая у них, где скрыты их сокровища; христианских священников побросали в огонь. Все дворцы и храмы были разорены и ограблены дотла. Сняли даже серебряный крест с кафедрального собора. Цитадель тоже была взята и ограблена. Беглецы из Ани рассеялись по разным странам.
Этот разгром Ани произошел в 1064 г. После того Ани хотя и существовал еще лет триста, но уже постоянно переходил из-под власти одних народов к другим. Владели им и грузины, и арабы, и монголы; нашествие в 1239 г. монгольских орд, покоривших незадолго нашу Россию, нанесло окончательный удар благосостоянию Ани; жители его решились навсегда покинуть это место вечной борьбы и разорений и ушли в Трапезунд, в Крым, в Астрахань, в Польшу, где и основали многолюдные колонии, уцелевшие до нашего времени. Сильное землетрясение 1319 года довершило дело азиатских кочевников, разрушив остававшиеся еще славные храмы и дворцы древней армянской столицы, хотя и после землетрясения мусульманские владыки продолжали некоторое время жить в Ани, как это доказывают найденные монеты, выбитые здесь еще в 1375–1377 годах.
* * *
Заночевать среди развалин Ани в ноябрьскую темную ночь, подвергаясь опасности нападения курдов, было немыслимо. После долгих совещаний туземных знатоков края, было решено ехать на ночлег в армянскую деревню Байрак-дар («Стена знамени» — по-русски). Осмотр развалин занял, однако, у нас столько времени, что солнце уже зашло, когда мы двинулись в путь. Как нарочно один из чепаров, ездивший на разведки за сторожем, в конец заморил своего коня, и должен был нас покинуть, чтобы заночевать у знакомого курда, близ Ани. Стемнело изрядно, и наши извозчики, знавшие дорогу так же нетвердо, как и чепар, скакавший впереди на своей проголодавшейся, изморенной лошаденке, — по-видимому, то и дело путались, потому что мы проехали верных часа три до деревни, которая, по уверению наших спутников, была всего в 12, 15-ти верстах от Ани. Мы с женою даже стали подумывать, уже не заблудились ли вовсе наши местные чичероне. Однако, к нашему успокоению и искреннему удовольствию, все-таки мы приехали в Байрак-дар, когда еще не были потушены огни. Петр Николаевич Дрампов, направлявший главным образом наше странствование, посоветовал заехать к знакомому ему зажиточному крестьянину, в доме которого была и маленькая деревенская лавка. Гостеприимный старик-армянин встретил нас с истинно-восточным радушием и, кажется, был искренно польщен вниманием, оказанным ему городскими гостями.
Нам было нужно отдохнуть и несколько побаловать себя в уютной обстановке жилого дома после целых почти суток езды по камням, ходьбы по камням, лазанья по камням, да еще на солнечном припеке, в пыли дорог и развалин, без горячей пищи и даже без незаменимого в пути живительного чая.
Вот мы полусидим, полулежим, — кто на огромной тахте, занимающей чуть не пол-комнаты, кто прямо на полу, на ковре, а кто и на стульях, уже успевших вторгнуться даже в кунацкую деревенского богатея, вместе с керосиновою лампою и разною другою обстановкою городской цивилизации. Картина, однако, все-таки характерная и изрядно восточная. Передний угол до самого потолка завален опрятно сложенными друг на друга, как стопки блинов, разноцветными ситцевыми подушками, тюфяками, стеганными одеялами, наготовленными исключительно для гостей. Страшная на вид, седая как ведьма, старая, девяностолетняя бабка, сохранившая, однако, изумительно белые, все до единого целые зубы, — в сущности, добрейшее существо, — стоит с ногами на тахте, прислонясь к этой ситцевой башне вавилонской, и, не глядя на работу подслеповатыми глазами, проворно, как молодая девочка, вяжет что-то на спицах, в то же время добродушно беседуя с нами по-армянски. Наш распорядительный и опытный спутник, Петр Николаевич служил нам переводчиком. Хозяин наш, почтенный муж крупных размеров, весь обросший колючею небритою щетиною, в седых усах, по имени Аретюн-Тер-Матевосов, сидит с нами и любезно занимает нас рассказами о своей семье, о своих делах, о своей деревне, стараясь по временам вставлять в свою армянскую речь российские слова и не без удовольствия попивая из стаканчика привезенное нами вино. Старая бабка, мать Аретюна, тоже охотно опоражнивает подносимые ей стаканчики, и делается после этого еще говорливее. Младшие члены семьи, девицы и ребята, а с ними и несколько любопытных соседей, набились в ярко освещенную лавку, через которую приходится проходить в парадное помещение дома, и молча глазеют оттуда на непривычные им одеяния и обычаи наши, выразительно поталкивая друг друга локтями. Аретюн-Тер-Матевосов, как человек уже цивилизовавшейся, не гонит своих девиц и молодаек в их домашний гинекей, а еще не без хвастовства расписывает нам, какие у него способные и работящие дети, какая красавица и умница невестка. Старуха, должно быть, кричит им войти и поздороваться с такими почетными и редкими гостями, потому что, помявшись минутку в дверях, все они начинают нерешительно входить в нашу комнату и подходить к нам. Впереди всех — яркая и пышная как роза, щегольски разодетая молодайка, только что вышедшая замуж за сына хозяина. Они не только трясут нам руки, но, к нашему изумлению, самым настойчивым образом тянутся поцеловать их, вследствие чего мы, конечно, торопливо вырываем у них свои недостойные длани…
С своей стороны, мы потчуем их грушами, яблоками и конфектами, уцелевшими от нашего пиршества на развалинах Ани. Детки подходят гораздо свободнее и, учась в школе, знают уже немного по-русски. Я не без приятного удивления увидел на полочке, среди армянских книг, несколько русских, между прочим стихотворения Пушкина, Ветхий и Новый Завет в русском переводе, атлас Российской империи и др.
Оказалось, что один из сынков Аретюна окончил курс в начальной школе в Александрополе, и это были его учебники и наградные книги. Тем не менее, русскому сердцу было отрадно встретить произведение великого поэта русского в этой глухой азиатской пустыне, в ближайшем соседстве с древнею столицею армянских царей, персидских марзпанов и арабских остиканов…
Семейная дисциплина в армянских семействах, еще не усвоивших себе свободных взглядов нового времени, — по старинному строгая. Домочадцы смотрят на отца, хозяина дома, как на владыку, которому все должны повиноваться беспрекословно. Даже в интеллигентных семьях, старающихся сохранить прежние нравы, взрослые сыновья, племянники, внуки — встают при входе отца или дяди, и не смеют вмешаться в их разговор, пока старшие не обратятся к ним сами. Сам отец семьи исполняет без возражения приказы старшего брата или вообще старшего в роде. Женщины целуют руку всем чужим мужчинам, и если молодая женщина позволить себе заговорить при чужих, — это считается величайшею невежливостью и неуменьем держать себя. Вероятно, вследствие близости Арарата, патриархальные нравы Ноевых времен удержались в Армении прочнее, чем где-нибудь, и, признаюсь, на меня они производили гораздо более утешительное впечатление, чем нахальная развязность модных парижских сынков в их отношениях к модным парижским папашам, откровенно конкурирующим с своими детками в ухаживании за продажными светилами «демимонда».
Что нас удивило, это — совершенное отсутствие икон в армянских домах. Несмотря на свою большую религиозность, проходящую как основной мотив через всю многострадальную историю их, армяне не считают нужным ни носить на шее крестов и образков, ни вешать образа в своих жилищах.
Напротив того, они считают своего рода кощунством — помещать изображения Христа, Божией Матери или святых угодников в тех самых комнатах, где люди спят, едят и совершают все свои житейская потребы. Только в одних храмах Божиих, не оскверняемых ничем плотским, прилично, по их мнению, выставлять святые кресты и иконы.
Путешествуя по Греции, Сербии и Черногории, мы встречали те же взгляды на иконы и те же обычаи. Мне, все-таки, кажется, что как там, так и в Армении, в этих взглядах и обычаях сказалось, может быть, и бессознательное влияние мусульманства, лежавшего таким долгим и тягостным игом на всех этих странах и не допускающего вообще священных изображений. Этим же историческим влиянием можно объяснить и другой обычай армян, странный для православного человека, — ходить в комнатах в шапке, чего ни за что не позволит себе русский человек, и что он искренно считает за «татарский» обычай.
* * *
Между тем хозяйка Аретюн-Тер-Матевосова схлопотала нам давно и нетерпеливо желанный самовар, и мы пригласили почтенных хозяев присесть к нам за русский чаек, расспрашивая их, с помощью нашего любезного спутника и толмача, Петра Николаевича, обо всем, что интересовало нас, и с наслаждением опустошая один стаканчик за другим этого горячего, душистого нектара, ничем не заменимого в пути.
Появился на стол и дымящийся пилав с бараниной, изготовленный тою же гостеприимною и расторопною хозяйкою, так что мы вполне отвели душеньку, напившись и наевшись, что называется, до отвалу. Спать нам постелили на огромной тахте, навалили кучи мягких тюфяков, ковров, одеял, подушек. Хотя все мы могли бы без труда поместиться рядом, тем более, что ложились почти не раздеваясь, но наши джентльмены-спутники, из уважения к даме, настояли на том, чтобы спать отдельно от нас, на полу, где тоже разостлали им матрацы и ковры. Нельзя сказать, чтобы сон наш не нарушали никакие мелкие твари, но, тем не менее, мы выспались изрядно и часов в шесть утра вскочили совсем бодрые. Напившись чаю, мы попросили любезного хозяина своего, Аретюна-Тер-Матевосова, пока поили и запрягали лошадей, показать нам его дом и все хозяйство, чтобы воочию познакомиться с бытом зажиточного жителя армянской деревни.
Дом Аретюна — целый маленький замок своего рода. Со стороны подозревать нельзя, чтобы эти слепые и низенькие сакли, похожие скорее на сложенные груды камней и грязи, чем на жилище человека, могли заключать в себе столько простору и удобства. Огромные конюшни все сплошь крыты плитами из тесанного камня, может быть, даже извлеченными из развалин древней столицы Баграта; везде каменный покатый пол с желобами для скота, как у любого европейского фермера; просторные стойла; хорошие, прочные ясли. Скота много: лошади, коров штук 20, буйволы, телята; большая, чистая овчарня с овцами. Из овчарни проделано сквозь стену отверстие в дом, чтобы, в случае нападения грабителей или воров, пастухи могли сейчас же дать знать хозяевам. Такие же отверстия проделаны из дома одного хозяина в дом другого, чтобы в минуты опасности можно было быстро поднять на ноги все население.
Все хозяйство Тер-Матевосова — под одною крышею; хлева, конюшни, амбары, сараи, жилье — все соединено крытыми переходами, так что в самую скверную погоду люди и скотина защищены от дождя, грязи и ветра, и хозяйство может спокойно идти своим чередом.
Кроме дома с кунацкой и лавкой, где мы ночевали, у Тер-Матевосова есть еще другой, семейный дом, связанный в одно с хозяйственными службами. Две большие комнаты заняты женским отделением, — гинекеем своего рода. В каждой комнате — круглое сквозное отверстие в крыше, куда уходит дым очага, раскладываемого под ним. На ночь или в дождь отверстие это закрывается. Каменные стены не штукатурены, пол выложен камнем. По стенам — полки в несколько рядов, на полках — множество тарелок, мисок и всякой посуды; под полками вдоль стены опрятно уставлены целые дюжины огромных глиняных или, скорее, каменных не то кувшинов, не то кадушек, для зерна, капусты, картофеля и всякой съестной всячины. По другой стене вытянут ряд сундуков с разною хозяйскою рухлядью. Из первой хозяйственной комнаты — особый отдельчик, приподнятый несколько выше, для печения ловашей. Там особый очаг, особое отверстие в потолке. Под отверстием вкопана в землю громадная каменная кадка, в которой уместится человек. В кадке уже был разведен огонь. Две бабы сидели при нас над этой кадкой. Одна катала скалкою на низеньком деревянном столике тесто для ловашей; сделав проворно огромный круглый блин, она так же быстро передавала его другой бабе; та перекидывала блин с руки на руку, из круглого блин сразу делался длинный как холст, и тогда, взбрызнув его слегка водицею, баба шмякала его с размаху на очень грязную тугую подушку своего рода и ловко обмахивала ею горячую внутренность кадки; блин тонким слоем прилипал мгновенно к стенкам этой оригинальной печки и мгновенно же подсыхал; в ту же минуту баба подцепляла его маленькой кочергой и вышвыривала вон, на каменный пол. Ловаш был готов. Таким манером ловаши пеклись на наших глазах с поразительною быстротою. Обыкновенно их запекают разом месяца на три, на четыре. Тесто их сохраняет очень долго свою свежесть; стоит только взбрызнуть сухой ловаш водою, и он опять делается мягким.
Другая комната гинекея составляет собственно девичий терем. Нас, однако, свободно впустили в него. Эта комната отделана уже гораздо щеголеватее и богаче. Тахты с хорошими коврами, зеркальца, шкатулочки, сундучки. Целый букет разодетых молодых женщин и девушек набился в эту комнатку; очевидно, они ждали нашего визита и принарядились заранее; все они подходили к нам, протягивая руку, и низко нагибались к нашим рукам, с явным намерением поцеловать их, по своему обычаю. Почтенный Тер-Матевосов и слышать не хотел о плате за ночлег, и всезнающий Петр Николаевич посоветовал нам купить у него же в лавке несколько шелковых платочков и других подобных мелочей, чтобы одарить ими женщин. Жена раздала теперь эти грошевые подарки молодым хозяйкам, и они были от них в детском восторге. Нельзя не отнестись с глубоким сочувствием к истинно восточному гостеприимству армян, в котором мы имели случай убедиться не раз во время своего путешествия. К-н и Петр Николаевич уверяли нас, что у богатого поселянина армянина для гостей целый день кипит самовар и готовятся кушанья, и он счел бы за обиду, если бы гость предложил ему плату за угощение. Эти милые патриархальные обычаи, к сожалению, все более стираются с вторжением городской цивилизации и удерживаются пока только в более глухих углах.
Полная чаша хозяйства Тер-Матевосова произвела на нас самое утешительное впечатление. Хотя он и не простой крестьянин, а уже деревенский торговец своего рода, но все-таки быт его есть быт всех сколько-нибудь достаточных армянских поселян. Нельзя не сознаться, что этот быт во многих отношениях приличнее, опрятнее и удобнее, чем домашняя жизнь русского мужика наших черноземных губерний, поражающая своею грязью и неопрятностью.
На дорогу нам наготовили целую груду теплых ловашей и успели даже сварить настоящий армянский суп с кислым молоком и ячменем, к которому, однако, надо очень привыкнуть, чтобы он показался вкусным.
Когда коляска наша уже стояла под крыльцом, зять мой предложил хозяину сняться вместе с нами и со всею своею семьею на фотографической карточке. Армянский люд пришел в восторг от этого предложения. Импровизированный фотограф расставил всех нас в живописную группу, с 90-летнею бабкою в центре, с красавицей-невесткой около нее, не забыв ни глазастых черномазых детишек, ни воинственной фигуры вооруженного чепара. Фотография вышла чрезвычайно отчетливо, и зять мой послал потом из Александрополя один удачный экземпляр ее в подарок нашему гостеприимному хозяину, который, должно быть, был очень польщен столь искусным изображением всех своих старых и малых членов семьи и даже своих работников и собак, да еще в такой почетной, в его глазах, компании.
Окончание По полям кровавых битв
Наша теперешняя дорога вся тянется черз гладкую равнину у подножия гор Аладжи кровавой памяти. Мы проезжаем теперь как раз мимо Уч-Тоба, что значит: три горы. На этих трех горах и разыгралась в 1877 г. та жестокая мвогодневная битва, которая началась рядом неудач для русских войск, а окончилась пленением всей армии Мухтара-паши. На одной из гор, где стояла ставка великого князя Михаила Николаевича, виднеется небольшой каменный памятник. На самом поле битвы, у этих трех гор, — армянское селение Тала, поголовно вырезанное турками после одержанной победы. Отсюда, впрочем, видны нам не одне исторические высоты Аладжи, а и Алагёз, обильно убравшийся снегами за эту холодную ночь, и далекая, почти воздушная пирамида Большого Арарата. Но Малый Арарат задвинут ближними горами и не в силах уже выглянуть из-за них, как его большой брат.
Равнина под Аладжею вся покрыта полями; жнивье очень (**** — текст поврежден в имеющемся у нас экземпляре. Thietmar. 2009) несмотря на мало урожайный год; в целое лето упало (**** — текст поврежден в имеющемся у нас экземпляре. Thietmar. 2009) дождя, да и то не во-время; почва здесь чрезвычайно плодородна, и один хороший год кормит за пять лет. Мы едем все еще бывшею турецкою землею, теперешнею Карскою областью; население тут большею частью татарское, но и армянских селений тоже не мало. Проезжаем село Гамза-Карак; мы засмотрелись на оригинальный замок «мухтаров», бывших сельских начальников, которых турецкое правительство сажало в крепких каменных башнях среди беззащитного армянского села, как коршуна, караулящего с своего недоступного гнезда куриное стадо. Мухтары, конечно, назначались только из мусульман и смотрели на подвластных им жителей как на свою крепостную вотчину, в жизни и смерти которых, в имуществе и чести — вольны они одни. Самая башня их, — так называемая «мухтар-кала», типический образец которой мы видели в Гамза-Караке, — строилась на счет жителей. Неуклюжая, но крепкая башня эта самым устройством своим с бесцеремонною откровенностью выдает свое истинное назначение — служить боевым оплотом против населения, если бы оно возмутилось против жестокостей и насилий мухтара, и осадным двором для него и его военной стражи. Узкие окошки пробиты высоко вверху; еще выше их висят со всех сторон каменные прикрытия бойниц, для стрельбы сверху вниз в осаждающих, которые вздумали бы приставить к башне лестницы или разбивать ее стены. Единственная дверь тоже поднята на половину высоты башни, и из нее опускается подъемный мостик на кирпичный столб с ступенями, стоящий в некотором расстоянии от башни. Когда мостик поднят, нет никаких способов проникнуть в башню. «Мухтар-калы», которые мы видели почти в каждом селении Карской области, — построены всегда около армянской или греческой церкви. Это соседство с христианским храмом давало возможность мухтарам следить из своих окон за праздничною толпою, узнавать, кто из жителей богаче других, у кого подороже конь или одежда, выбирать самых красивых девушек и молодаек, за которыми они потом без малейшего стеснения посылали своих вооруженных чепаров, отнимая их силою у мужей и отцов, и беспощадно наказывая тех, кто решался сопротивляться. Такое средневековое или, пожалуй, ветхозаветное отношение завоевателя к завоеванным сохраняется до сих пор во всех армянских местностях, принадлежащих Турции. Все и всё там взяты под строгий караул, всё у всех отнимается силою.
По дороге встречается нам много курдов-мусульман. У всех лица смелые, самоуверенные; длинные усы без бород, головы умотаны высокими тюрбанами, у всех шали вместо поясов, на многих характерные верхние одежды с башлыками в крупных букетах, сделанные, будто бы, из персидского ковра; но вообще они — такие же оборванцы, как и армяне и татары. А между тем, говорят, у них много скота и они богаты. Курдские деревни, главным образом, окружают Алагёз, — это их настоящее царство. Два раза пришлось переехать вброд речку Аладжу; теперь мы в долине реки Карс-чая, почти у самого впадения ее в Арпачай. Оттого Карс-чай здесь порядочно широк. Красноватая глина его обрывистого берега вся изрыта старинными пещерами. У впадения его — большое село Аргино, первая почтовая станция на шоссе из Александрополя в Карс. Тут же, всего в трех верстах, и новая тифлисско-карская железная дорога. Зять наш Г. прожил здесь два с половиною года на постройке железной дороги и отлично знал все окрестности.
В глубине долины, на самом берегу Карс-чая — две большие, отлично устроенные мельницы, хозяева которых были приятельски знакомы и нашему зятю, и Дрампову, так как этот деятельный хлебный торговец по необходимости должен разъезжать по земледельческим уголкам области и вести знакомства с местными хозяевами.
Ближняя мельница, в которую мы заехали раньше, принадлежит Мелик-Акопову, кажется, отставному капитану; это пожилой, чернобородый мужчина сурового вида, в военном сюртуке, еще вполне бодрый. Наш инженер и Дрампов почему-то величали его «ага». Ага любезно пригласил нас в свою столовую позавтракать с дороги, прежде чем мы отправимся осматривать его мельницу. Тут нам представился его молодой племянник, Сергей Ханагов, вместе с ним ведущий мельничное дело, а за хозяйку явилась молоденькая, красивая брюнетка сестра Ханагова, так как жена «аги» живет в Эривани, где они воспитывают детей. Узнав от Степана Ивановича К-на, что тот на днях возвращается в Эривань, «ага» попросил его свезти своей жене ящик с деревенским вареньем, — что он, конечно, взялся охотно исполнить.
К завтраку подали нам отличный домашний сыр, говядину в кусочках, которую здесь заготовляют разом месяца на три, зарывая в бочках в землю, жареную курицу с маринованным виноградом и огурцами, и, конечно, целую батарею кахетинского вина, коньяку и наливок, закончив угощение чашкою кофе.
За стаканами вина Мелик-Тер-Акопов разошелся и стал вспоминать свои боевые подвиги 1877 года; он участвовал, между прочим, в роковом бое при Аладже. По его словам, положение нас, русских, после первого поражения было почти безвыходное. Авлияр, Уч-Тоба и все другие наши позиции были уже во власти турок; у нас оставался только Караял, на котором еще держались наши небольшие уцелевшие силы. Но Мухтар-паша, имевший, будто бы, 60.000 войска, по непостижимой причине не двигался с места. Двинься он на нас тогда же, пока не подошли подкрепления, он без всякого труда взял бы и Александрополь, и самый Тифлис. Александропольскую крепость мы сами бросили, потому что нынешние орудия уничтожили бы ее в прах с окрестных высота; наша войска укрепились подальше города, на высокой горе. Бездействие Мухтара-паши до того удивляло всех, что в войске стали рассказывать, будто он получил арбуз, начиненный червонцами, за то, чтобы не двигался; другие уверяли, будто к нему пришла телеграмма от султана из Константинополя, чтобы не рисковал вторгаться в русские пределы, а ограничился бы защитою турецкой границы.
Как бы то ни было, но он на свою беду дал время подойти нашим подкреплениям, а сам сидел себе спокойно на горах, не воображая, чтобы русские могли подняться на Аладжу в такие холода и по таким кручам. Наши войска успели окружить турок со всех сторон, прежде чем они тронулись с места. Есть им стало нечего, они мерзли от страшных холодов, и наконец решились сдаться. 7.000 человек положили оружие, остальные бежали к Карсу.
Когда наша армия подошла к Карсу, Лорис-Меликов и все начальство, по уверению Тер-Акопова, были против приступа. Холода были большие, солдаты притомились трудным походом, войска было мало. Но Лазарев и Граббе стояли за немедленный приступ, пока турки не опомнились и не ждали еще нападения от утомленных русских войск. Лазарев не умел разбирать карты, был почти неграмотный, никогда не читал бумаг и инструкций, но отлично знал местность и дух солдат. Ночью приступом взяли Канлы и Карадаг; четыре тысячи наших легло на приступе, Граббе тоже был убит. Великий князь и Лорис-Меликов, по словам рассказчика, верить не хотели, что взят неприступный Карадаг. На другой день сдался и весь Карс…
Мельница Тер-Акопова устроена совсем по современным образцам, с турбиною и всякими усложнениями. Прекрасные куклеотборники отлично очищают пшеницу, поступающую на мельницу, и мука выходит через это чрезвычайно белою и чистою. Шурагельская пшеница и сама по себе славится во всем Закавказье белизною в выгодным выходом. Ловаши из этой муки сохраняются долее, чем всякие другие. Ага повел нас и в кухни, где пекутся эти ловаши, очень длинные и очень белые. Запекаются они разом на три месяца, и огромными стопами сушатся на солнце. Но бабы-пекарки и здесь так же возмутительно грязны, как и в простых армянских домах.
Старый «ага» и его племянник все на своей мельнице устраивают сами, без помощи инженеров и архитекторов, и не держат никаких ученых машинистов. Машину, за которую в Берлине требовали 1.300 рублей, они заказали по собственной модели в Тифлисе за 500 рублей, и исправно работают теперь ею.
Тот же обычай и у соседа их Попова. Мельница его стоит на другом берегу, несколько выше по течению реки; она много обширнее и устроена еще гораздо сложнее и лучше, чем мельница Тер-Акопова. Ага проводил нас через мост на другой берег, а племянник его отправился так, как сидел, даже не захватив шапки, вместе с нами в гости к Попову, с которым наш зять был знаком особенно близко. Обширная усадьба Попова обнесена крепкою стеною из тесанного камня; на дворе — громадная четырех-ярусная мельница — крупчатка. Сам Попов — крестьянин-субботник, но уже оцивилизовавшийся, побывавший везде, и имеет вид человека вполне интеллигентного. Его молодая, рослая фигура, широкие плечи, русая умная голова, спокойная, сдержанная речь — так выразительно обрисовывают нарождающийся на наших окраинах демократический тип смелых и сметливых разрабатывателей наших непочатых природных богатств, — русских Американцев своего рода, прокладывающих первые пути отечественной промышленности и торговли в полудиких пустынных рубежах далекой Азии.
Жена его — подстать мужу; обстановка их жизни совсем культурная, разговор — тоже. В прихожей — велосипед, в кабинете — книги, в гостиной — обычное убранство. Попов охотно потащил нас по всем ярусам своего завода, показывая и объясняя действия разных вентиляторов, элеваторов, куклеотборников, обдирных цилиндров и проч. Он тоже все устраивает здесь сам, своею русскою деловитою сметкою, присматриваясь, как делается у других, вычитывая нужные сведения из книг, и тоже не держит на таком большом заводе ни одного ученого мастера, хотя у него все дорогие и сложные снаряды. Хозяйничают они вместе с старшим братом, которого не было дома, и который больше занят торговою стороною их очень крупного дела. Они имеют склады муки во многих больших городах Кавказа и берут крупные подряды на муку. Чистота и аккуратность во всех уголках их громадной мельницы — поистине голландская.
Глядя на этого «субботника», — одного из представителей гонимой у нас, объявленной вредною, секты, — я с грустью подумал, какая великая нравственная неправда и какая глубокая политическая ошибка — преследовать людей за таинственный мир их верований, не похожий на наш собственный.
Чем же, думал я в глубине своей совести, может быть вреден этот трезвый, разумный, честно трудящийся человек, основывающий в невежественной стране с таким талантом и энергией полезные промышленные предприятия, дающие выгодный заработок множеству местных людей и облегчающие условия жизни всему населению страны удовлетворением его существенных потребностей? Чем он хуже, чем опаснее всякого из нас, и кому мешают особенности его личной веры и его религиозных обрядов, как бы ни казались они нам нелепыми? Ведь в каком множестве случаев, даже по отзывам самой местной администрации, все эти духоборы, прыгуны и субботники, доказывали свой горячий русский патриотизм и свою верность русскому царю; жители Закавказья хорошо помнят, что без подвод духоборов, без сена, овса и муки из «Духоборья», наши пограничные отряды, выдерживавшие натиски турецких войск в кампании 54-го и 77-го годов, — оставались бы без лошадей и, пожалуй, без людей.
* * *
Село Аргино — теперь довольно значительный, торговый и частью административный центр местной округи. Здесь почта, телеграф, сберегательная касса и большое транзитное движение товаров; но, к сокрушению здешних хозяев, на днях все эти учреждения переводятся на станцию новой железной дороги, и Аргину грозит неминуемое запустение.
В далекой древности Аргино было не только городом, но даже резиденцией армянских католикосов. Тут же пребывали некогда и владетельные князья Шурагельской области — Камсараканы. Мы осмотрели развалины древнего храма, — единственного памятника былого величия Аргина. В храме этом были похоронены два католикоса, но в настоящее время гробницы их завалены обрушившимися камнями стен, и нет возможности увидеть их. Храм огромный и прекрасно построенный, с высокими, круглыми сводами, с надписями и резьбою на стенах, в роде соборного храма Ани, но от него уцелела только одна передняя стена да небольшая часть боковой. Нет сомнения, что лет через пять-шесть рухнет и эта последняя сохранившаяся стена, и исчезнет всякий след прежнего исторического значения Аргина. Но мы еще в близком соседстве с более свежими и более нам родными воспоминаниями истории. Не доезжая Баш-Шурагеля, мы проезжаем мимо селения Баш-Кадыклара славной памяти, виднеющегося за холмами, вправо от дороги. Вон и горы Большая и Балая Ягны, на которых кипел бой в последнюю турецкую войну.
На столовой горе Баш-Шурагеля, закрытого теперь от нас этою самою горою, живописно торчат хорошо сохранившиеся развалины большого средневекового замка, с шестью круглыми башнями, выступающими из его стен, словно сдвинутыми в грозное неподвижное каре, ощетинившееся во все стороны своими бойницами.
Это — Ираз-Давурд, старая крепость армянских царей, известная еще в 834 г., при царе Сембате I-м. Здесь они имели обыкновение останавливаться по дороге в свою столицу Ани. У ног столовой горы, увенчанной этим романтическим замком, раскинулись два селения Цетнис, — нижний Цетнис, населенный татарами, с характерною «мухтар-калою», — и Цетнис верхний, населенный армянами.
Деревня Курюк-Дара, прославленная нашими геройскими войсками почти в одно время с Баш-Кадыкларом, — тоже в ближайшем соседстве от нашей дороги. Железная дорога тут везде подходит близко к шоссе, по которому мы едем, и один из разъездов ее даже носит название Курюк-Дара. Само селение немного дальше этого разъезда, а поле знаменитой битвы — кругом нас.
Вон, влево от дороги, виднеется памятник на горе Караяле, как раз над Курюк-Дара; другой маленький памятник, поставленный товарищами одному убитому офицеру, торчит среди поля.
Впрочем, вся вообще железная дорога полна исторических имен нашей боевой славы. Есть станция Башкадыклар, а первая от Александрополя станция — «Ставка Караял», где находился великий князь Михаил Николаевич во время последнего боя на Аладже. У горы Караял, собственно, и происходила самая ожесточенная битва.
Проезжая эти роковые места, обильно политые и турецкою, и русскою кровью, нельзя воздержаться от невольных воспоминаний о славных боевых подвигах нашего поистине геройского кавказского войска.
Для меня лично это еще очень живые юношеские воспоминания — если и не очевидца, то все-таки современника, с страстным трепетом следившего по газетам за тогдашнею колоссальною борьбою одинокой России с четырьмя могучими державами Европы.
Князь Бебутов, неустрашимый победитель турецких полчищ при Башкадыкларе и Курюк-Даре, — стал тогда любимым героем русского народа, известным каждому крестьянину, каждому лавочнику; его орлиный нос и орлиный взгляд знакомы были всем по множеству литографированных портретов, раскупавшихся нарасхват даже простым народом. Блестящие победы его над гораздо сильнейшими турецкими армиями были еще отраднее и утешительнее для русского сердца потому, что они хотя сколько-нибудь вознаграждали чувство народной гордости за постоянные неудачи и потери крымского театра войны и спасали старую славу русского войска.
Башкадыкларом ознаменовался 1853-й, Курюк-Дарою — 1854-й год.
Положение нашей кавказской армии, призванной защищать азиатские рубежи наши от вторжения турецких армий, было в то время далеко не блестящее. В то время как турки, вследствие союза своего с Францией, Англией и Италией, вооруженного нейтралитета коварной Австрии, заставившей нас очистить от своих войск Дунайские княжества и Болгарию, — получили возможность сосредоточить все свои силы на азиатском театре войны, Россия, напротив того, вынуждена была напрягать самые отчаянные усилия, чтобы отстаивать с честью против грозного ополчения четырех союзников свою севастопольскую твердыню и все южное побережье России; при этих обстоятельствах, — также как при громадных расстояниях азиатской границы от центра империи и непроездных дорогах, — кавказская армия не могла рассчитывать на сколько-нибудь сильные резервы, на скорую помощь из России свежих боевых частей. Вооружение, ее обозная и врачебные части были более, чем недостаточны. Эти прискорбные условия поставили кавказских военачальников в горькую необходимость переменить обычные приемы наших азиатских войн. Вместо смелого вторжения в неприятельскую страну, одушевляющего собственное войско и смущающего врага, — как это всегда бывало прежде, — нам приходилось теперь ждать его нападения и защищать от него свои города и села.
Но если стратегически мы вынуждены были стать обороняющеюся стороною, то наши храбрецы генералы, Андронников, Бебутов, Врангель, тактически всегда переходили в наступление и первые наносили молодецкие удары двигавшемуся в наши пределы сильнейшему врагу, не считая его сил…
Битва под Башкадыкларом произошла 19-го ноября 1853 г., всего через пять дней после громкого поражения под Ахалцыхом 18-тысячного турецкого корпуса Али-паши 7-тысячным отрядом кн. Андронникова, прикрывавшего подступы к Гурии и Мингрелии. В отряде кн. Бебутова было всего 10.000 пехоты и 3.000 конницы, но зато это были истые кавказские войска, закаленные в битвах с горцами, привычные не останавливаться ни перед какими препятствиями, трудами и опасностями. Тут были прославленные боевыми подвигами куринцы, ширванцы, грузинцы, эриванцы; тут были никогда не знавшие отступления и страха знаменитые нижегородские драгуны, были наши неизменные и незаменимые казаки.
Ахмед-паша двигался из Карса на Александрополь с армиею в 36.000 человек и с 46-ю орудиями, стало быть, почти в тройных силах против русских. Бебутов встретился с турками на равнине, изрезанной глубокими речными оврагами, у подножия Караяла, который мы видим теперь почти у самой дороги нашей, и с разных сторон бросился на их линии и их батареи. Турки бились храбро и не раз заставляли отступать нападающих. В самую решительную минуту, когда отчаянная атака грузинского полка на турецкие батареи, не поддержанная запоздавшими эриванцами, была отбита энергическим встречным натиском турецкой пехоты, и грузинцы, потеряв множество людей, поспешно отступали назад, князь Бебутов, схватив из обозного прикрытия две роты эриванцев, бросился навстречу отступающим и крикнул им спокойным голосом: «Ну, братцы, теперь пора опять вперед!» Грузинцы остановились, выстроились и, одушевленные своим храбрецом-вождем, снова ринулись в атаку… Героями этого дня были главным образом эриванцы, овладевшие 20-пушечною батареею и опрокинувшие своим натиском главный центр турецкой армии. Разбитые на всех пунктах, турки в полном беспорядке ударились бежать к своему неприступному Карсу. 24 орудия, весь обоз и лагерь достались победителям; до 6.000 человек выбыли из неприятельского строя; но и наши потери были тоже тяжки. Зато, нравственное влияние этого жестокого поражения втрое сильнейшей турецкой армии было громадное. Кавказские горцы, нетерпеливо ждавшие разгрома наших сравнительно слабых сил, чтобы поголовно восстать и хлынуть из своих горных трущоб на беззащитные области Кавказа, — сразу одумались и почувствовали старую силу хорошо им знакомого русского оружия. К сожалению, наша геройская армия не могла воспользоваться вполне своими блестящими победами, ворвавшись вслед за бегущими турками в пределы их страны и уничтожив уцелевшие остатки их войск, прежде чем они успели бы оправиться и пополниться. Вина была, конечно, не в отсутствии энергии и мужества у военачальников, а в совершенной неподготовленности обозных, врачебных и боевых средств, необходимых для наступления в чужую землю. Во всем александропольском отряде князя Бебутова было, напр., всего-на-все шесть врачей!..
Эта хозяйственная неподготовленность нашей армии стоила нам очень дорого, потому что протянула азиатскую войну еще на два года.
Битва при Курюк-Даре разразилась уже не осенью, а в развал лета 1854 г. и, как нарочно, также против втрое сильнейшего врага и также через несколько дней после молодецкого дела под Баязетом генерала Врангеля — начальника эриванского отряда.
Селение Аргино, которое мы только что посетили, точно также как самая дорога, по которой мы едем, и все окрестности разъезда Курюк-Дара были полем этой второй славной победы князя Бебутова.
Гора Караял и тут играла важную роль, как во всех наших битвах в этой местности в 1853, также как в 1854, также как в 1877 годах. На ней главным образом сосредоточивался бой этого кровавого дня. Курюк-даринский бой был еще ожесточеннее, чем Башкадыкларский. Обе армии, словно по сговору, в одно и то же время двинулись друг против друга, но атаковали все-таки наши. Турки бились как львы; битва то и дело переходила в отчаянные рукопашные схватки. Наша железная пехота без одного выстрела лезла в штыки прямо на турецкие пушки. Резня была такая, что один только батальон грузинского полка потерял в несколько минут 450 человек, арабистанские полки турок были почти поголовно истреблены в беспощадной сече с эриванцами и грузинцами; а турецкий кавалерийский полк, бросившийся отбивать захваченные орудия, был также весь изрублен тверскими драгунами и линейцами Скобелева. Наша легкая артиллерия оказала здесь чудеса храбрости и проворства. Она снималась с передков почти у носа неприятельских рядов, обсыпала их тучами картечи и тотчас же уносилась обратно. Турки хотя и захватили вначале несколько наших орудий, но лихачи нижегородцы своими отчаянными атаками отбили и их, и много турецких орудий.
В конце концов, несмотря на всю свою стойкость и беззаветное мужество, турецкие полки дрогнули и побежали. Драгуны и линейцы преследовали и рубили бегущих, пока не изморили вконец и себя, и лошадей; охотники Лорис-Меликова и грузинская милиция дорвались даже до турецкого лагеря. Разбитые турки все-таки успели спастись в стенах Карса, и кн. Бебутов, также как и после Башкадыклара, был не в силах уничтожить их окончательно дальнейшим движением своего победоносного войска к стенам Карса. Победа эта стоила нам больших жертв: одних убитых и раненых офицеров оказалось 140, да около 3.000 рядовых (из них убито 578). Турецких же убитых было насчитано 3.000, не считая раненых и 2.000 попавших к нам в плен, вместе с 15-ю орудиями…
* * *
В Александрополь въезжаем по прекрасному мосту через Арпачай. Бывший наш пограничный казацкий пост на его берегу теперь вошел в состав целого городка новеньких казарм и конюшен северского драгунского полка. За ними на холме опять городок казарм бакинского полка, а немного дальше по дороге в город — еще третий казарменный поселок знаменитого в летописях кавказских войн кабардинского полка. С другой стороны, за крепостью, такие же многочисленные и обширные корпуса артиллерийских казарм; в Александрополе стоят постоянно артиллерийская бригада, летучий парк и крепостная артиллерия. Вообще, здесь центр войсковых частей разного рода, — готовых двинуться по первому сигналу — и на защиту Карса, и через турецкую границу. Это придает простому уездному городу эриванской губернии совершенно особенную физиономию и равняет его во многих отношениях с губернскими городами. Тут много хороших магазинов, четыре клуба, пять кондитерских, несколько фотографий. Войска проживают порядочно денег, и армянским торговцам есть на чем заработать.
В Александрополе мы посетили оригинальный и дорогой для русского сердца уголок, — так называемый «холм чести». Довольно крутая одинокая горка, обсаженная кругом деревьями и обращенная в зеленый садик, с аллеями и скамеечками, — служит вполне подходящим местом мирного успокоения после боевых трудов многочисленным героям русского воинства, офицерам и генералам, павшим на поле битвы или умершим во время походов от ран и болезней. Много славных имен, записанных в военные летописи Кавказа, читается на этих мраморных, гранитных и чугунных памятниках, сплошь усеявших собою и темя, и скаты этого холма героев. Она хоронятся тут с самого 1804 года, с тех самых пор, когда князь Цицианов овладел в первый раз турецким городом Гумри; хоронились в особом обилии после блестящей кампании 53–54 и 55-го годов, поддержавшей историческую славу русского оружия в печальные дни севастопольского погрома; хоронились и в последнюю турецкую войну 1877 г., которой память еще так свежа у всех здешних жителей. Гранитный храм-часовня сурового цвета, сурового вида, осеняет своим золотым крестом эту общую боевую могилу русских орлов, словно пастырь, благословляющий поверженных кругом его воинов… Русские люди с особенным благоговением посещают этот тихий священный уголок, возбуждающий столько чувств и воспоминаний.
Турецкий город Гумри стоял на очень важном перепутьи караванных путей из Карса и Эрзерума — с одной стороны в Тифлис, с другой стороны в Эривань. Кроме того, здесь сходился узел рубежей трех соседних государств — грузинского, турецкого и персидского. Быстрины и обрывистые берега Арпачая делали, к тому же, этот город удобным для защиты. Поэтому турки и учредили здесь исстари укрепленную таможню и пограничный сторожевой пост. Гумри и значит по-турецки «таможня». Император Николай I велел переименовать турецкий Гумри в русский Александрополь, в честь Государыни Александры Феодоровны, и построил на его крутых холмах сильную для того времени крепость, сообщающую и теперь Александрополю весьма воинственный вид, хотя она, собственно говоря, давно уже разжалована из действительных крепостей в артиллерийский и интендантский склад, служа удобным резервом всякого рода для Карса, обращенного, по взятии его в 1877 году, в громадную первоклассную крепость.
В Александрополе, как во всяком молодом городе, мало любопытного для путешественника. После присоединения его к России, его заселили главным образом армяне, бежавшие из турецких владений от притеснений турок; он сохранил и до сих пор характер армянского города; русские тут только войска и чиновники. Мы зашли, однако, в нашу православную церковь св. Георгия. Этот маленький храм почему-то построен не в русском вкусе, с многочисленными золотыми маковками и кокошничками, в которых столько наивной прелести и какого-то радостно-светлого выражения, а в обычном, порядочно нам надоевшем своим сухим однообразием, грузино-армянском стиле шестигранной башни с заостренною пирамидою крыши.
Да и прячется эта церковка в каком-то узеньком переулочке, как раз сзади обширного и сравнительно великолепного армянского собора, словно на задворках его. Невольно приходит в голову, что было бы очень кстати именно здесь, на далекой окраине, среди чуждых племен и религий, проявить русскому православному храму особенное величие и красоту, а не стираться так скромно и бедно перед иноверными храмами.
Нас интересовали особенности церковной службы армян, религия которых, в сущности, очень близка к православию во всех главных догматах, и мы отправились в большой армянский собор. Армяне только в конце VI-го века отделились от греческой церкви; их просветитель св. Григорий чтится как святой и православною церковью. На первых трех вселенских соборах, восставших против лжеучений Ария, Нестория и Евтихия, армяне оставались в полном единении с константинопольским, иерусалимским и александрийским духовенством, и только четвертый вселенский собор, собранный в Халкедоне, вследствие ошибочных толкований смысла его постановлений, был отвергнут армянскими епископами, по инициативе первенствующего епископа их Авраама.
Собор армянских епископов в Дувине, тогдашней столице армянского царства, осудил в 596 году, как еретиков, всех защитников учения халкедонского собора и воспретил всякое сообщество армян с греками. Не позволялось даже вступать с ними в торговые договоры. Такое полное отчуждение от вселенской церкви одной из христианских церквей, со всех сторон окруженной язычеством и мусульманством, имело очень гибельное влияние на ее собственную судьбу, лишив армянскую церковь могущественной поддержки византийских императоров. Но попытки воссоединить и примирить церкви все-таки продолжались с обеих сторон еще в течение нескольких веков, под влиянием благоразумнейших из вождей той и другой церкви. Даже в IX веке знаменитый константинопольский патриарх Фотий, — при котором началось и отпадение римской церкви, — употреблял все старания убедить армянских епископов в их ошибочном толковании постановлений халкедонского собора и рассеять предрассудки армян против греков, — и почти успел в этом.
С другой стороны, армянский патриарх Нерсес Благодатный, в XII столетии, на собранном в г. Хромкле многочисленном соборе армянского духовенства, добился почти окончательного примирения с греческою церковью, но после его смерти ненависть армян к грекам, воспитанная многовековою историею, одержала верх, и рознь между церквами увеличилась еще больше. Римские папы тотчас же постарались воспользоваться таким удобным для них обстоятельством и стали искусно действовать через монашеские ордена и открываемые ими училища в пользу соединения армянской церкви с римскою. Таким образом возникла мало-по-малу поныне существующая армяно-католическая церковь. В то же время и внутри армяно-григорианской церкви, страдавшей под игом мусульманских завоевателей, произошло пагубное для нее разделение, остающееся и до сих пор: епископ Сисский был признан самостоятельным католикосом армянской церкви для Малой Азии, Сирии и Палестины; епископ маленького островка на озере Ване также объявил себя самостоятельным католикосом Ахтамарским и подчинил себе ближайшие местности, так что католикос Эчмиадзина хотя и продолжал считаться старейшим между ними, но епархия его уже была сильно ограничена, особенно после того, как, с завоеванием турками Византии, Магомет II перевел в Константинополь армянского епископа Бруссы, со всею его паствою, и сделал его независимым от Эчмиадзина патриархом армян, населявших турецкие владения в Европе.
Нужно изумляться, какие неуловимые схоластическая тонкости послужили причиною такого крупного события, как отпадение армянской церкви от греческой. Человеку, не искусившемуся в хитросплетенных изворотах средневековой диалектики, просто непонятен даже общий смысл мнимой разницы в учении их. Наиболее искренние из армянских архипастырей и богословов всегда сознавали это и при состязаниях с греческим духовенством на различных соборах открыто признавались, что не видят существенной разницы между исповеданием веры греков и армян. Католикос Захария, которому Фотий писал свое послание, приведен был в крайнее удивление, как армяне в течение стольких лет оставались в неведении об истинном содержании определений халкедонского собора, и как могли они обвинять его в поддержке ереси Нестория, разделявшего Христа на два лица, когда собор этот подтверждал осуждение первыми тремя соборами и лжеучения Нестория, и лжеучения Евтихия, сливавшего в одно оба естества Спасителя.
А католикос Нерсес на соборе в Хромкле не противился признать два естества во Христе, но только желал удержать и прежнее армянское исповедание единого естества, вместе с тем осуждая учение Евтихия о едином естестве Христа, как ересь, оскорбительную для христианской церкви.
«Мы не разделяем с Несторием единого Христа на два лица, — писал Нерсес в своем исповедании веры, — и не смешиваем с Евтихием в единое естество, но признаем с великим Григорием Богословом, что во Христе два естества: Бог и человек. Если же говорим: единое естество, то потому что научились этому от православных учителей церковных и в особенности от св. Кирилла. Итак, признаем с св. Кириллом единое естество слова, воплотившееся по причине неизреченного соединения, и с св. Григорием исповедуем два естества, по их неизменности и непреложности. Согласно преданию св. православных отцов, предаем проклятию тех, которые допускают единое естество Слова, воплотившееся по превращению и изменению одного естества в другое».
И вот, подумаешь, эти мнимые мудрецы, так самоуверенно принимавшие на себя смелость анализировать до мельчайших тонкостей внутреннюю сущность неведомого и невидимого Бога и недоступную никому тайну воплощения Божия, сами безнадежно путавшиеся в лабиринте своей казуистической софистики, — позволяли себе во имя охранения истины и евангельского учения любви и мира — публично проклинать, отлучать от своего общения, изгонять из отечества, заточать в темницы, — тех из собратьев своих, которые с такою же искренностью и такою же самонадеянностью, как они сами, стремились постигнуть непостижимое, определить неопределимое, но только рознили с ними в каких-нибудь неуловимых оттенках мысли.
До того доводит людей даже и самых лучших намерений дух нетерпимости и неуважения к свободе других.
* * *
Армянский собор в Александрополе совсем той же архитектуры, как и древние храмы, которые мы видели в Эчмиадзине, Ани и Абаранском ущелье. Он очень красив и велик. С первого взгляда внутренность его напомнила мне русские храмы; тот же многоярусный иконостас, увенчанный крестом, Евангелием и сосудами св. Тайн. Только иконостас этот не спереди, а сзади престола, отделяет собою помещение ризницы, где одеваются священники. Алтарь же на высокой солее всегда открыт и только в редкие минуты богослужения затягивается занавесом; другой, маленький занавес закрывает, кроме того, престол, когда священник причащается св. Тайн. Живопись на иконостасах — современной итальянской школы. Престол с полочками, как у католиков, и все полочки уставлены свечами. Службу совершал старый архимандрит, сурового вида, со многими священниками. Оригинальны митры и ризы армянских архимандритов. Митра, увенчанная крестиком, окружена кольцом высоких и узких золотых образков с ликами святых; такие же золотые или серебряные, закругленный сверху таблички с изображением двенадцати апостолов — составляют стоячий ворот ризы.
Может быть, по незнанию языка, только я не нашел решительно никакого сходства с нашим богослужением. Архимандрит благословляет народ как-то боком, не обращаясь к нему; священники все время поют, кадят и потрясают рипидами с бубенчиками. Вместо риз, на священниках и дьяконах, а может быть, и причетниках, — какие-то мятые, по пятки длинные халаты с темными крестами на спине, на ногах — туфли без задков. Очень часто поет подолгу и на всю церковь один священник, а другие в это время скрываются в темной ризнице. Кроме священников, поет и хор. Он собирается ниже солеи, перед алтарем, в пространстве, отгороженном от публики решеткою. Кантор, в полосатом стихаре, управляет десятком мальчиков в белых коленкоровых стихарях и выводит, не жалея себя, самые замысловатые модуляции. К хору этому сошли один раз в течение обедни несколько священников в черных ризах, постояли, поклонились друг другу и ушли. Поклонов, вообще, очень много в армянском богослужении. Народ тоже не раз должен кланяться друг другу в известных местах обедни; это исполняется благоговейно, со сложенными на груди руками. Но богомольцев вообще очень мало, да и то все простонародье, почти одни старики и женщины. Женщины, как у магометан, помещаются назади, на хорах. Немногие из них, опять-таки по-мусульмански, сидят на ковриках, ближе к середине. И стоят армяне в своей церкви как мусульмане, вытянув ладони вперед и вверх, и садятся на пол по-мусульмански, поджав под себя ноги. Конечно, это внешность, не имеющая значения и говорящая только о многовековом иге мусульман над этим народом, так стойко защищавшим свое христианство. Меня особенно заинтересовал обряд, который происходил в сторонке, во время слишком долго длившейся обедни. На одном из ковриков сидела молодая, богато одетая родильница с младенцем на руках, окруженная своими домашними. Она вручает своего ребеночка мальчику лет десяти, который несет его, провожаемый такими же крошками-ассистентами, к нише в боковой стене, где выдолблена каменная купель крестообразной формы; туда наливают из ведра теплой воды, зажигают кругом свечи, является священник в митре, более простой, чем у архимандрита, в белой старой ризе, крайне неказистого вида, и совершает крещение младенца, передавая его обратно принесшему мальчику. Мать вновь пеленает хорошенько ребенка, и тогда священник несет его на солею в алтарь и держит сначала перед боковым престолом, читая какие-то молитвы, потом перед главным престолом, где прилегает вместе с ним на пол, не переставая причитывать…
При непонимании смысла пения, все эти бесчисленные, утомительно долго повторяющиеся внешние обряды производят очень странное впечатление, мало напоминающее простоту и сердечность истинно-христианской молитвы.
XI На батареях Карадага
Простившись с нашим спутником, Степаном Ив. К-ном, которому давно уже пора было ехать домой, и на беду которого Алагёз за последние две ночи весь с макушки до пяток покрылся снегом, прихватившим и шоссейную дорогу, — отправились мы рано утром на поезд, отходивший в Карс.
Признаюсь, об этой новой, еще совсем не осевшей и далеко не оборудованной железной дороге мы еще в Тифлисе слышали столько ужасающих рассказов, читали в газетах про столько кровавых катастроф следовавших иногда по нескольку одна за другою, — что не без жуткого чувства готовились сесть в поданный поезд вместе с нашим инженером-строителем, который нисколько не обнадеживал нас в этом отношении; действительно, от дороги, едва оконченной вчерне, открывшей только временное движение и не имевшей еще настоящего служебного персонала, необходимого для ее эксплуатации, невозможно было и требовать, чтобы ее ничтожный по числу и по вознаграждению временный состав нижних служащих, — из которых каждый вынужден был исполнять в одиночку работу троих, — успевал все предусмотреть и все предупредить. Но, перекрестившись, надо было пускаться в путь, на спасительный русский «авось»! С нами отправился и старший участковый инженер, г. Р., человек бывалый и опытный, успевший прекрасно познакомиться со всеми местными условиями края, и потому очень интересный для меня.
Позавтракал с нами на прощанье, в компании К-на и нескольких молодых инженеров, на недостроенном еще обширном александропольском вокзале, и наш недавний знакомец, субботник Попов. Выпили за здоровье друг друга и особенно за то, чтобы целыми доехать до Карса, и расселись по своим вагонам.
Инженер Р. производил изыскания уже начатой другой железной дороги из Александрополя в Эривань, и мог поэтому сообщить нам точные сведения о ней.
Дорога — стратегическая и вместе транзитная; она должна идти на Сардар-Абад, мимо Эчмиадзина, на Нахичевань и Джульфу. От Джульфы предполагается персидская железная дорога, для чего уже производятся предварительные изыскания партиею наших инженеров. Хотя армяне и жалуются, что новая дорога совсем не заходит в Эривань и проходит мимо Эчмиадзина, но их жалобы неосновательны, по мнению г-на Р. Стратегическая и транзитная дорога должна быть по возможности короче; заезд же на Эривань заставил бы каждый пуд груза и каждого пассажира платить даром за несколько десятков верст и терять полдня времени. Между тем уже утверждена ветка на Эривань от главной линии, — следовательно, все товары Эривани найдут себе свободный выход; а от Эчмиадзина дорога проходит всего версты две, три, и он не имеет ни малейшего торгового значения.
Да и Эривань, по мнению Р., все равно, не могла бы при железной дороге сохранить свое теперешнее значение складочного места для окрестного хлопка, идущего теперь через Акстафу в Тифлис и Москву. Лодзинские и московские фабриканты, покупающие здесь хлопок и имеющие свои плантации, конечно, при постройке железной дороги стали бы прессовать свой хлопок уже не в Эривани, а на ближайших станциях железной дороги, откуда бы и отправляли прямо в Тифлис и далее.
Особенные трудности для проведения этой дороги представляет Алагёз; со всех других сторон он дает массы воды, а с той стороны, где его огибает новая дорога по пути к Сардар-Абаду, он не дает ровно ничего; у подножия его стелется настоящая библейская пустыня, — ни жителей, ни полей, одни камни. Там оказалось необходимым устроить крайне дорогой и трудный водопровод. Пришлось поднимать воду из Арпачая на огромную высоту в запасный бассейн, и уже оттуда пускать воду вниз по чугунным трубам, зарытым в земле. Сооружение это стоит до 800.000 рублей.
Курдов Алагёза Р. знает отлично. Он не раз бывал в их селениях и даже гостил у них. В 1895 г., всего через месяц после убийства пристава Монастырского, который преследовал одного убийцу-курда, курдские деревни праздновали освобождение из тюрьмы своего земляка и приглашали к себе на пир Р. Он ехал через их селения с урядником пристава, самым отчаянным из разбойников, не успевшим только попасться. Курды встречали его вооруженными отрядами, богато разодетые, с дорогим оружием, и целою сотнею джигитовали вокруг его коляски.
* * *
Между Александрополем и Карсом тянется так называемое Духоборье. Земли, покинутый турками, ушедшими за нашу границу после присоединения Карсской области, правительство заселило русскими сектантами, сосланными в Закавказье, особенно духоборами. Эти трудолюбивые, трезвые и умные люди в короткое время превратили пустынный край в житницу Кавказа и сами достигли такого благосостояния, о котором жители коренной России не имеют понятия. К великому прискорбию всех честных людей, неумелые меры местной администрации привели к необходимости выселить громадное большинство этих незаменимых хозяев вон из отечества и обезлюдить хуже чем бедствиями войны эту прежде цветущую местность. Русские пограничные рубежи, без того заселенные почти везде татарами, курдами, армянами, лишились через это могучего русского ядра, которое становилось было надежнейшим оплотом русского влияния и русской власти в этих далеких враждебных окраинах. Эту несчастную меру можно сравнить только с безумным кровопусканием из истощенного организма, нуждающегося в усиленном подъеме своего питания.
Духоборские опустевшие селения встречаются нам одно за другим и производят гнетущее впечатление каких-то громадных кладбищ.
Вот Кирилловка, куда начинают понемножку переселяться несколько семейств с Кубани. Ее караулят теперь чепары. Большие, чистые избы духоборов и их хозяйственно устроенные обширные дворы отдаются переселенцам за определенную плату. Пустые стоят также Спасовка, Покровка, Терпенье, переименованное, по приказу местного начальства, в «Плодородное», и много других сел.
Говорят, будто в последнее время возвратилось два, три семейства духоборов из Канады, где хозяйство требует слишком больших денег и не под силу многим из них, привыкшим к дешевому вольному хозяйству наших окраин.
Духоборы, по словам наших спутников, ушли, впрочем, не все. Процентов десять их осталось на старых местах и подчинились всем требованиям правительства. Остались именно так называемые «мясники», допускающие употребление мяса; все же остальные, вегетарианцы, — или травоеды, если хотите, — ушли в Америку. О причине их ухода говорят здесь разно. Одни уверяют, будто они слышать не хотели не только о солдатчине, но вообще ни о какой службе; а большинство стоит за то, что их не умели уговорить и уяснить им дело, что с ними обращались слишком резко и грубо, — казаки, будто бы, без церемонии грабили у них все. Духоборов возмущало особенно то обстоятельство, что им не позволяли откупаться от военной службы, между тем как всем кавказским татарам дозволено платить деньги вместо отправления воинской повинности.
Продаю, конечно, за что купил, не подтверждая и не отрицая фактов, переданных мне местными жителями.
Что духоборы были вообще народ мирный и послушный — это утверждают здесь единогласно все, кто жил с ними. Р. видел своими глазами, как всего только два чепара вели в тюрьму целое население духоборской деревни; эти рослые, здоровые, закаленные в труде люди шли смирно, как стадо овец, распевая псалмы, радуясь своему мученичеству; а женщины их сидели и стояли на скалах кругом дороги, по которой их гнали, и тоже пели им в напутствие священные гимны. Даже простой народ плакал, глядя на эту трогательную картину, напоминавшую библейские времена.
У духоборов не полагается священных книг. Они признают, как уверяли меня, одну «животную книгу», — «написанную в сердце живую совесть человеческую», — и на этом основании считают справедливым подчиняться только Богу, а не людям.
* * *
Село Терпенье — за станциею «Ставка Караял»; тут еще осталось несколько богатых «мясников» из духоборов. Недавно одного из них убил и ограбил рублей на семьсот разбойник Тали-Юсуф. Он — житель соседней татарской деревни Ак-бабы и, как рассказывают, сделался разбойником совсем случайно. Он завел себе винтовку, вопреки строгому запрещению; александропольский уездный начальник узнал про это и вызвал его в город, чтобы отобрать оружие. Тали-Юсуф не захотел расстаться с приобретенною драгоценностью, которая для него была дороже жены и детей; он скрылся из города; послали вдогонку за ним чепаров, поднялась перестрелка, — и Тали-Юсуф вынужден был после этого уйти в горы и стать разбойником.
Спасовка, — или, по прежнему татарскому названию, Шах-Налар, — очень близко от железной дороги, слева, у Карс-Чая. Правильно разбитые дворы ее очень похожи на хохлацкие; такие же опрятно причесанные, смазанные белою глиною, соломенные крыши, только более плоские. Там уже шевелятся кое-где переселенцы. Правительство скупило у духоборов, уходивших в Канаду, их дома, по 250 руб. за двор, также как все сено и солому, остававшиеся в их дворах, чтобы переселенцы могли чем-нибудь кормить в первое время свой скот. Конечно, уплаченные суммы будут взыскиваться потом с переселенцев, но с раскладкою на несколько лет.
Против Спасовки, на левом берегу Карс-Чая — историческая в некотором смысле гора, на которой духоборы, под влиянием учителя своего Веригина, торжественно сожгли все свое оружие и постановили никогда более не осквернять им рук своих. Духоборье справа и слева окружено по соседним горам селениями курдов и татар, против которых долгое время приходилось им вести постоянную войну, защищая свои стада и дома. Поэтому духоборы, набрав много денег во время турецкой войны, обзавелись дорогим оружием и сделались ловкими стрелками; в то же время избыток средств вредно отразился на их нравственности; они стали развратничать и пьянствовать, позабыв основные правила своей секты. Но Петр Веригин, сделавшийся их духовным вождем после смерти их известной учительницы, Лукерьи Васильевны Калмыковой, — своими страстными речами убедил их исправиться, бросить водку и кутежи, сжечь оружие, не есть мяса и строго преследовать всякий разврат.
* * *
Несмотря на близость Карс-Чая, станции карсской железной дороги довольно бедны водою. Вода здесь везде, начиная от станции Караяла до самого Карса, с минеральными солями, как и на баку-тифлисской дороге. Поэтому приходится брать хорошую воду в духоборском селе Гореловке, в трех верстах от станции Башкадыклар, поднимать ее машинами и по трубам проводить до станции; тут даже в поездах вы всегда увидите вагон-цистерну для воды, которую развозят по работам и отчасти по станциям.
К станции Башкадыклар подъезжаешь тремя очень глубокими выемками в скалистых стенах, напоминающими туннели своего рода; по ним можно судить, каких трудов стоило прорубание дороги сквозь эти крепкие как гранит породы. За станциею влево за горою, большое озеро Чалдыр-Гел; это прекрасное озеро, протянувшееся на 18 верст высоко в горах, полно форели и всевозможной дикой птицы: лебеди, бабы-птицы и всякая другая дичь кишмя-кишит там, и наши инженеры, строившие дорогу, развлекались от своих тяжелых трудов и однообразной жизни интересною охотою на его роскошных берегах.
Уже на первой станции, Караяле, мы наткнулись на крушение поезда. С нами в вагоне, кроме инженеров, ехал еще исправлявший должность карсского губернатора, генерал Г., сопровождаемый местным окружным начальником. Оказалось, что путь поврежден и загроможден упавшими вагонами, и что придется обождать, пока его расчистят. Мы все, вместе с генералом Г., отправились осматривать сокрушившийся поезд, довольные в душе, что эта беда пришлась не на нашу долю. По счастью, пострадало всего только три человека, да и то сравнительно легко, так что один из раненых, после перевязки фельдшера, отправился пешком куда-то домой. Поезд был товарный, и несчастье произошло от самой пустой причины: в одной из ступенек вагона откололась половина доски; прикреплявший ее винт с гайкою, вследствие этого, провалился и повис несколько ниже, чем при доске, а через это он зацепил, при проходе поезда, за рычаг стрелки, — рычаг повернулся, сбросил стрелочника в ровик и направил вторую половину поезда, уже продвинувшего свои передние вагоны по одному пути, — на другой путь; понятно, что поезд, растягиваемый в разные стороны, стал рваться, коверкая и опрокидывая вагоны, сбивая рельсы.
Страшно было смотреть на эти тяжелые железные полосы, ссученные словно пенечная веревка, на эти железные громады, изломанные словно картонные домики, лежавшие вверх колесами с распоротым брюхом, будто убитые колоссальные животные. Толпа народа стояла в бесплодном раздумье над ними, как над трупами утопленников, только что вытащенных из воды.
Генерал Г. и наши инженеры допытывались от участников крушения подробностей катастрофы, и все заставляло думать, что действительно виною ее был этот незамеченный вовремя злополучный винт.
* * *
«Ставка Мацра» — последняя станция перед Карсом. Названа она в память той «ставки Мацры» в которой находился главнокомандующий нашею армиею, великий князь Михаил Николаевич, при взятии Карса в 1877 году, — которая, однако, была не здесь, а на пять верст выше, на горе.
Мацра — высшая точка карсской дороги, на 6.055 футов от уровня моря. Станция Барс уже на 30 сажен ниже.
В Карс мы приехали уже вечером и не стали осматривать его до утра.
В гостинице «Имперьял» нам отвели два маленьких, но довольно чистеньких номера, по 1 р. 50 к.; стол тоже оказался порядочный и недорогой. Прежде всего нужно было добыть билеты на право завтрашнего осмотра крепости и фортов, для чего мы с зятем тотчас же отправились в крепостной штаб. Там, однако, уже не было никого из начальства, и пришлось сноситься телеграфом, с адъютантом. Получив его обещание прислать разрешение, мы поручили писарю принести нам его в гостиницу и с удовольствием уселись за поздний, но зато достаточно плотный обед, или, вернее, ужин. Выспались отлично, и в 81/2 часов утра у крыльца уже ждала нас приличная коляска парою, нанятая за 3 руб. для поездки во все форты. Еще рано утром, только вскочив с постели и открыв настежь широкое окно, мы с женою любовались, не отрывая глаз, на оригинальный вид, стоявший перед нами, словно какая-то чудная, фантастическая картина в раме окна. После вчерашнего дождика, моросившего с перерывами почти целый день, утро сияло жаркое и яркое, какого не бывает даже и в июле у нас, на холодной Руси. На фоне синего южного неба вырезалась прямо перед нами своими резкими черными силуэтами капризно изломанная коническая скала, а высоко на макушке ее и по ее обрывам — зубчатые стены и башни старой турецкой цитадели, увенчанной русским флагом. Плоскокрышие кубики турецких домиков, с их чуть слепленными балкончиками и решетчатыми окнами, живописно лепятся со всех сторон по обрывам и уступам этой защитной скалы, взлезая на голову один другому, карабкаясь вверх со дна долины словно ступени лестницы; такие же каменные кубы и деревянные балкончики, перемешанные с темно-зелеными пирамидами тополей, с стройными иглами минаретов, с куполами мечетей и бань, насыпаны беспорядочною кучею у подножия скалы, в глубокой котловине между суровыми, голыми горами, ощетинившимися жерлами пушек и насыпями батарей…
Город сначала уходит вниз, в эту глубокую лощину, по берегам Карс-Чая, потом поднимается круто на горы и к подножию крепостной скалы. Общий вид его издали — азиатского города; но когда едешь по улицам, то видишь уже много по-европейски построенных домов, магазинов, лавок, фаэтоны извозчиков, хотя и мало по-европейски одетой публики среди турецкой и татарской толпы. Солдаты, офицеры — на каждом шагу.
Направляясь в крепость, мы заехали в очень древний собор Карса, построенный, как думают, в X-м столетии. Этот собор 12-ти апостолов был сначала армянский, потом лет четыреста он принадлежал грекам, потом был обращен турками в мусульманскую мечеть. После присоединения Карса к России, поднялся ожесточенный спор между армянами и греками, — кому отдать древнюю святыню. Император Александр III очень просто разрешил этот спор, обратив собор в русский православный, и сделал его главным войсковым и городским храмом во имя св. Михаила Архангела.
Собор в общеармянском стиле, с двенадцатигранною башнею, крытою тяжелыми каменными плитами, с основанием о десяти выступах. Кругом окон и дверей, по карнизам — обычная каменная резьба, а в простенках — вырезанные на камне же фигуры святых младенчески неумелого рисунка, доходящего в иных подробностях своих до нелепости и безобразия. Уже этот первобытный характер скульптуры, далеко не похожий на гораздо более художественные изображения древних храмов Ани и Эчмиадзина, подтверждает глубокую древность карсского собора.
Славная грузинская царица Тамара владела некоторое время Карсом, и местные жители уверяют, будто она-то первая и дала теперешнее имя городу. По местной легенде, когда Карс взят был грузинами после кровопролитного боя, то из ущелья, где было множество убитых, неслось такое зловоние от разлагающихся трупов, что царица сказала с отвращением: «Этот город нужно назвать „харс“ (т. е. „вонь“).
В книгах, однако, дается другое объяснение имени „Карс“, которое производят от грузинского слова „кари“ — „двери или ворота“, — „Карис-Канаки“ („город-двери“), — обозначая, будто бы, этим важное положение города на главном пути из азиатской Турции в Грузию.
Действительно, Карс издревле играл роль порубежной крепости между Турциею, Персиею, Армениею и Грузией. Особенно сильно укрепили его турки во время своих войн с персами в XVI-м столетии при султане Мураде III.
Это не помешало, однако, нашим кавказским молодцам под предводительством Паскевича с налета овладеть в 1828 году Карсом, ворвавшись в него вслед за разбитыми турецкими войсками.
* * *
Проехали мимо дома военного собрания на ту сторону реки, едем через турецкую часть города, облепившую кругом цитадель. Высоко над нашими головами висит словно какая-то изумительно картинная декорация, забравшаяся на вершину нагроможденных друг на друга скал, неприступная средневековая крепость с ее зубчатыми стенами, спалзывающими вниз по отвесным обрывам; висят над нашею головою, стоя друг на друге, и эти своеобразные азиатские дома, со вторым этажом шире первого, с третьим этажом шире второго, открывая теперь изблизи все домашние тайны своих грязных двориков, лесенок и балкончиков; широкие и огромные глиняные купола поднимаются как могильные курганы на турецких банях, поросших вениками. Толпа тут такая же восточная, как и жилища: турецкие и армянские бабы, с укутанными лицами, турки в курточках и в широчайших шароварах, словно сваливающихся с них, жалкие и словно смущенные своим новым положением.
Когда мы объехали, наконец, скалу цитадели, то очутились в глубоком живописном ущелье, со всех сторон заслоненном горами; солнце еще не успело заглянуть в это глухое провалье, и в нем еще стояла прохладная сырость и полутьма ночи. Пенистый быстрый поток Карс-Чая гудит внизу, извиваясь между сдавившими его громадами горных круч. На этой стороне — цитадель, вздернутая Бог знает как высоко, к самым облакам; к ней поднимается со дна ущелья почти отвесная каменная лестница, устроенная уже русскими для удобного сообщения с фортами и городом.
Вся скала под цитаделью — в туннелях и тайных ходах, секрет которых тщательно сохраняется. Никто, кроме подлежащего начальства, не знает, где ходы к воде, где скрыты телеграфные и телефонные кабели; с подрядчиков, строивших эти подземные коридоры, взяты, говорят, строжайшие подписки о сохранении тайны. Мы теперь в громадной природной котловине, отовсюду защищенной неприступными горами и неприступными фортами. Внутри этого мешка можно спрятать безопасно целую армию, а уже во всяком случае безопасно передвигать ее, куда требуется. Здесь, глубоко внизу, на берегу реки, дома военных инженеров и дом коменданта Карса, соединенный особым мостиком с мухлисскими высотами. Крутизны гор, обставивших своими естественными стенами это отлично укрытое и вместе просторное ущелье, изрезаны словно налинованными на них белыми зигзагами чрезвычайно пологого и гладкого шоссе, по которому не только могут легко двигаться во все стороны колонны пехоты и эскадры конницы, но даже может на всех рысях нестись на самый верх гор, к грозным фортам Карадага и Мухлиса, самая тяжелая артиллерия. Между горою Карадага и мухлисскими высотами устроена еще колоссальная каменная лестница совершенно римской грандиозности, в несколько сажен ширины, с бесчисленным множеством великолепных гранитных ступеней, сходящих с Мухлиса на дно котловины, к руслу Карс-Чая, перехваченному таким же прочным мостом, и потом поднимающихся на такую же высоту, таким же множеством широчайших ступеней, по кручам Карадага к форту Рыдзевского. Мне говорили, что в обеих лестницах полторы тысячи ступеней и стоила она 200.000 рублей. Полки пехоты могут сбегать и взбегать по этим роскошным лестницам, не изнуряя себя, как прежде, на лазанье через отвесные обрывы по непроходимым тропинкам. Будь у турок, во время последнего ночного приступа русских, такие удобные сообщения между фортами, — кто знает, удалось ли бы нашим храбрецам-кутаисцам остаться хозяевами неожиданно захваченного Карадага, господствовавшего над всем городом, и принудить на другое утро сдаться неприступный Карс. Можно представить себе, однако, каких денег должно было стоить нам, все вместе — эти лестницы, туннели, мосты и шоссе, соединившие теперь между собою решительно все, даже самые отдаленные форты Карса. Уверяют, будто одного шоссе проведено внутри крепостных верков не менее 30-ти верст. На самом берегу Карс-Чая, под защитою карадагской горы, построены три каменных домика под железной крышей, окруженные выше головы земляным валом. Это — склады динамита, помещенные в самом недоступном уголке ущелья. Как раз против них, под мухлисскими высотами — несколько больших складов хлеба и разных съестных припасов для гарнизона. Склады эти несгораемые, потому что построены каменными сводами, под железом, без малейшего участия дерева.
* * *
Коляска наша с четырьмя седоками легкою рысью вкатилась по превосходному шоссе, обнесенному оградой, на самый верх карадагских высот.
На половине дороги стоит крепкий замок военной тюрьмы, сложенный из тесанного трахита. Это — центральный пункт, перерезающий отступление из Карадага, из цитадели и из других мест. Мимо нескольких входов в туннели, просверливающие гору в разных направлениях, добрались мы и до фортов Карадага. Слева все время провожали нас, хмурясь, черные пушки форта Рыдзевского, на котором виднеется небольшой памятник погибшим на нем героям. Взятие его стоило нам многих жертв, во взять его все-таки было необходимо, потому что выстрелы его страшно поражали русских, когда те ворвались в Карадаг. Пороховой склад стоит отдельно, тоже весь из одного камня и железа, и тоже огороженный выше крыши своей земляным валом и утыканный целым лесом ветвистых и перистых громоотводов. Через высокий земляной вал мы подъехали к железным воротам каменного форта, сложенного также из обделанных глыб трахита. Его окна-бойницы закрываются огромными железными ставнями. Вообще, здесь нигде не увидишь ничего кроме железа, земли и камня, — ни одного куска дерева. Мы попросили вызвать к нам офицера, заведующего фортом, и представили ему билет, выданный нам из крепостного управления. Тотчас же к нам был отряжен старший фейерверкер, который и повел нас пешком по всем батареям форта. На пути к нему присоединился еще зачем-то крепостной жандарм, старослуживый воин, оказавшийся, кстати, из воронежской губернии, богучарского уезда, — стало быть, вроде земляка; он, с своей стороны, всячески старался дополнять объяснения не особенно разговорчивого артиллериста. Карадагские форты — это целый лабиринт земляных валов, уставленных пушками, и глубоких рвов, тянущихся во всевозможных направлениях; каждая пушка защищена сзади и с боков высокими и широкими земляными насыпями, которые предохраняют ее от выстрелов, и вместе с тем не дают ядру или бомбе, попавшим-таки в помещение этой пушки, поражать своими осколками прислугу соседних орудий. Пушки тут всевозможных родов, — медные, чугунные, стальные; эти черные длинные чудовища бьют настолько далеко, что могут осыпать неприятеля шрапнелью, не подпуская его на пять верст до крепости, а бомбами и гранатами — даже за 8 верст. Все это — орудия своего русского литья. Глубокие и широкие наружные рвы выложены по своим эскарпам и контр-эскарпам трахитовыми камнями, и в них проведены в разных местах через толщи скалы потерны для незаметного выхода войск в эти самые рвы. Впереди рвов, на некотором расстоянии — ложементы для стрелков, чтобы обстреливать из ружей атакующего врага, когда он приблизится настолько, что крепостные орудия уже не могут действовать против него. На углу карадагских высот, обращенном к цитадели и городу, — ровная круглая площадка, на которой в прежнее время, при турках, вращались по рельсам под углом 90® две огромные крепостные пушки, — на которые у них была особенная надежда. Тут же около — турецкий каменный форт Зиарет, сохранивший на своих стенах даже врезанную в них старую доску с турецкою надписью; в подвале этого форта погребен какой-то очень чтимый турецкий святой, к которому до сих пор ходят на поклонение мусульманские богомольцы. Вероятно надпись доски относится к этому магометанскому святому. Фадеев, геройский командир кутаисского полка, взял Карадаг, пройдя как раз под этими вращающимися громадными пушками, к воротам Зиарета. Он ехал по круче верхом на коне во главе своих храбрецов.
Когда наши войска, в ночь с 5-го на 6-ое ноября 1877 года, были двинуты на штурм Карса, туман и нетвердое знание местности вызвали много опасных неожиданностей. Еще раньше два батальона кутаисского полка, под начальством Фадеева, совершенно случайно забрели в укрепления турецкого форта Гафиза, и взяли его молодецким натиском; во их не поддержали, и утром они очистили форт, забрав пленных. В ночь же общего штурма войска наши то и дело ошибались в направлении своих атак и натыкались на неодолимые преграды. Правый берег Карс-Чая вокруг Карса был сплошь покрыт фортами, которые не все были известны начальникам атакующих колонн. Несмотря на беззаветное мужество наших генералов, офицеров и солдат, целый ряд ночных атак окончился сначала полною неудачею; князь Меликов с своею колонною, захватив форт Сувари, двинулся было через предместья Карса к сильному форту Чим, на гористой левой стороне реки, но был убит, и его отряд вынужден был отступить не только от Чима, но и от Сувари… Комаров также был отбит от Чима. Отчаянная атака Граббе на Канлы также не удалась, и храбрец-генерал пал одним из первых на валах форта. Во рвах Тохмаса — углового и передового форта карсских укреплений левой стороны, — пал другой наш храбрец — Бучкиев, и отряд его отступил с большими потерями.
В это время три батальона кутаисцев с своим славным полковником Фадеевым опять-таки случайно зашли в сумраке ночи слишком вправо от назначенного им пути и попали под перекрестный огонь форта Гафиза и устроенной у подножия Карадага траншеи с батареею, откуда их немилосердно били турецкие штуцерники. Фадеев тотчас же двинул своих молодцов-кутаисцев на убийственную для них батарею, и после жесточайшей схватки выбил оттуда турок, которые в беспорядке бежали спасаться, кто в город, кто на Карадаг. Фадеев бросился за ними, и его молодцы-кутаисцы, бесстрашно карабкаясь по отвесным обрывам скал, ворвались вслед за бежавшими врагами в неприступнейший из турецких фортов.
В 10 часов вечера на Карадаге уже развевался русский флаг. Шесть отчаяннейших турецких приступов к Карадагу были отбиты с огромными для них потерями.
Это геройское дело сразу изменило весь ход штурма. Алхазов после упорного боя взял форт Гафиз. В 5 ч. утра взят был также после жестокой сечи Канлы.
Долее других отстреливался и производил большие опустошения на Карадаге соседний с ним форт Араб-Табия. Рыдзевский, долго бомбардировавший его, стал уже отступать, думая, что штурм совсем не удался, но, получив на пути приказ штурмовать Араб-Табию, бросился на его окопы, и через четверть часа грозный Араб был уже в русских руках. Теперь этот форт и называется именем Рыдзевского. Тогда защитники фортов мухлисских и шорахских высот бежали, не дожидаясь новых атак. Гуссейн-паша, комендант Карса, успел бежать всего с сотнею всадников; остальной гарнизон Карса, без порядка бросавшийся спасаться, кто куда мог, был перехвачен нашими отрядами и сдался. Проскочило на волю только триста всадников, а 9.000 солдат остались военнопленными; взято было 303 орудия и множество всяких припасов. Но и наших храбрецов-солдат пало на валах Карса около 3.000.
Поручик Войнарович первый взорвал ворота Зиарета, форт был взят, а за ним и другие батареи Карадага. Цитадель сдалась на другой день без выстрела.
Теперь устроили батарею и ниже форта Зиарета, на полугоре, чтобы лучше защищать тот именно склон горы, по которому поднялся на Карадаг с своими кутаисцами полковник Фадеев. Сейчас же внизу — туннель для прикрытия солдат и артиллерийских снарядов. Капитан, начальствующий над карадагским фортом, вышел к нам на несколько минут и тоже объяснил нам кое-что нас интересовавшее.
Из Карадага пришлось отправиться, опять-таки мимо тюрьмы, в старую турецкую цитадель. Она теперь не имеет значении защитного укрепления, а обращена в казармы и военные склады.
Но она, тем не менее, сохранила вполне свой воинственный и романтический вид средневековой крепости. По очень крутой и длинной каменистой лестнице поднялись мы на самый пик скалы, где стоит мачта с горделиво развевающимся русским военным флагом, и откуда стреляет обыкновенно в полдень и в зорю сигнальная пушка…
С высоты башни — великолепнейший вид на город, утопающий в тумане своих дымков у ног утесистой скалы, на снежные цепи гор, обложившие кругом Карс по горизонту, — Алагёз, Аладжу и разные другие, — на суровые валы и стены Карадага, владычествующие высоко над этою высоко забравшеюся цитаделью и готовые разгромить ее по первому мановению; на всю картину окрестных скал, хмурящихся черными бойницами и черными пушками своих фортов, и глубоко провалившегося между ними темного ущелья Карс-Чая, что свинцово-синею змеею опоясывает и эти скалы, и город. У самых ног наших виднелся военный собор, и нам было видно, словно с птичьего полета, полковой парад на площади перед собором, по случаю исполнившейся сегодня двадцати-двух-летней годовщины взятия Карса 6 ноября 1877 года.
Трудно представить себе что-нибудь живописнее, оригинальнее и выразительнее этой старой турецкой цитадели, торчащей птичьим гнездом на макушке своих утесов, в грозной обстановке современной неприступной крепости…
* * *
Из цитадели мы отправились через превосходно устроенный мост на мухлисские высоты. Проехали мимо громадных корпусов военного госпиталя с отдельною церковью, с поэтическим памятником доблестному врачебному персоналу, самоотверженно погибшему от тифа, при лечении бесчисленных больных кавказской армии. На высокой пирамиде серого трахита — громадная чаша из черного камня, обвитая медным змием, с крылом и лавровою ветвью; на стенках памятника начертаны на мраморных досках длинные скорбные списки врачей, фельдшеров и сестер милосердия, положивших душу свою за страдающих братьев.
За госпиталем мы переехали так называемую „главную ограду“, упирающуюся с левой стороны в форт Александра Второго (прежний „Вели-Паша“) и спускающуюся до нижних утесов над самым городом. Ограда эта не кажется ни грозною, ни неприступною: вал довольно низкий, за ним — широкий ров с каменным эскарпом и контр-эскарпом, за рвом — гласис, покатый под гору, на ровной и открытой площади которого так удобно пушкам крепости скашивать ядрами и картечью ряды наступающего врага; валы и рвы главной ограды охватывают с турецкой стороны все мухлисские высоты. Но и перед ними есть еще отдельно разбросанные другие, передовые форты, — форт „Бучкиев“ (прежний Тохмас), „генерал Рооп“, „Лорис-Меликов“. Это — уже крайний оплот Карса со стороны турецкой границы.
Мы съехали в лощину и опять поднялись на легкий изволок, чтобы посетить форт Тохмас. Он остался в том самом виде, как был при турках, каким мы взяли его. Точно также и другие дальше форты. Только Карадаг приведен в вполне современное вооруженное состояние. Форт Тохмас — огромный четырехугольник валов, уставленных пушками и окруженных рвами, на углу крутого спуска в довольно глубокую лощину. По середине его — каменный блокгауз с плоскою крышею, на которую тоже ставят пушки. Рвы совсем не облицованы камнем и местами обвалились. Земляных треверсов для защиты пушек от выстрелов — очень мало. За контр-эскарпом форта устроен равелин из земляных ложементов под всевозможными углами, для обстрела подходящего врага в каком бы ни было направлении. Нам любезно показывали и объясняли свое военное хозяйство капитан, начальствующий фортом, и молодой артиллерийский поручик, лихо проскакавший сюда верхом из Карса мимо нашей коляски. Пункт, на котором стоит Тохмас — самый опасный, потому что очень близко от форта, за высокими холмами — такие же ущелья и долины, в которых может безопасно скрываться от наших выстрелов большое войско. Эти „мертвые пространства“ — прескверная вещь для крепости; ничего не стоит быстро перебежать из такой засады до рвов форта прежде, чем выстрелит хотя одна пушка, и неожиданно овладеть валами. В форте Тохмасе и других передовых фортах постоянно делаются пробы, чтобы подготовиться к отражению нечаянных ночных нападений: стреляют светящимися ядрами, которые загораются, ударяясь о землю, пускают светящиеся ракеты, вспыхивающие высоко вверху и далеко освещающие окрестности; ко всякой лощинке, ко всякому пригорку здесь все давно пристрелялись, и по таблицам стрельбы каждый фейерверкер отлично знает, под каким углом, куда навести пушку. За день до нашего приезда в Карс, здесь был генерал Фрезе, помощник командующего войсками, и производил пробную ночную стрельбу из фортов по подвижным мишеням, расставленным на дальних горках, также с помощью светящихся ракет. По рассказам капитана, стрельба оказалась поразительно меткая — от 75 до 95 % попали в цель.
Форт Тохмас назван „Бучкиевым“ по имени храброго полковника, который в 1854 году был ранен на этом форте, а в 1877 г. убит при его взятии.
Он стоит настолько высоко, что отсюда хорошо виден весь город Карс, и Карадаг, и Мухлис, и далекая равнина с востока от Карса, по которой рассеяны на холмиках многие низенькие форты, когда-то пролившие много русской крови. Тут и знаменитое „Канлы“, составившее теперь собою форт Лазарева, и форт Граббе, форт Алхазов, форт Чавчавадзе, форт Комаров. Канлы защищался долее всех других турецких фортов правой стороны, и наших погибло очень много на его валах. Войска, которые были двинуты против Тохмаса, наткнулись неожиданно на теперешний форт Комарова, существования которого не подозревали, и должны были сперва взять его.
Капитан объяснил нам, что, в случае войны и осады Карса, войска и батареи будут выдвинуты еще дальше передовых фортов, на все соседние холмы и горки.
Форт Тохмас-Табия гораздо более полон воспоминаний 1855 г., чем 1877 года. Это был главный очаг кровопролитного и несчастного для нас боя при неудавшемся штурме 17-го сентября 1855 года, под начальством Н. Н. Муравьева. Я уже был в это время студентом старших курсов и жадно следил по газетам за ходом роковой для нас войны. Мое молодое русское сердце обливалось кровью, читая о страшных потерях наших в геройской, но бесплодной борьбе на шорахских и чахмахских высотах.
Наш талантливый и умный главнокомандующий, задумав этот штурм, по-видимому, очень мало знал о действительном состоянии карсских укреплений, которые так легко были захвачены русскими во времена Паскевича, но которые в пятидесятых годах были приведены в неприступное положение энергическими стараниями английских инженеров и офицеров, Вильямса, Тисделя, Лека и Томсона, засевших вместе с 26.000 турками за валы Карса и главным образом руководивших его защитою, заодно с неустрашимым и талантливым венгерцем Кмети, — тем самым Измаилом-пашею, который, собственно, и отбил все отчаянные приступы русских войск к фортам Карса, и один только из турецких вождей не сдался потом русским, а ушел из Карса.
Правда, Муравьев почти все время отказывался от мысли штурмовать Карс и хотел заставить его сдаться тесною блокадою, во время которой он одерживал одну победу за другой над отдельными отрядами турок, пытавшихся нападать на него или прорывать блокаду. Но когда печальный оборот на крымском театре войны позволил Омер-паше высадиться с значительным отрядом в Абхазии и Мингрелии, с целью идти на освобождение Карса, а падение Севастополя настоятельно потребовало какого-нибудь блестящего реванша на азиатском театре войны, где и войска нетерпеливо ждали решительного боя, — Муравьев не счел возможным отлагать долее взятие Карса и двинул свои войска, в ночь на 17-е сентября, несколькими колоннами на приступ передовых укреплений левого берега, господствовавших над всеми фортами.
С всегдашнею своею отвагою и решимостью бросились наши виленцы, тульцы, ряжцы, белевцы на кручи и скалы, увенчанные сильнейшими батареями, но, далеко не добежав до стен и валов их, измученные этим карабканьем по обрывам, попали под губительный перекрестный огонь траншей и фортов и падали сотнями, тысячами, залегали в неприятельские рвы, за трупы товарищей, и целыми часами безнадежно отстреливались от осыпавших их отовсюду гранат, картечи и пуль; врывались много раз в окопы и форты, и устилали их своими трупами. Один генерал за другим, один полковник за другим, бесстрашно бросавшиеся в атаку впереди своих полков, выбывали из строя, убитые и раненые, и команда то и дело переходила от нового начальника к новому, от генералов чуть не к обер-офицерам, расстраивая и смущая отряды… Генералы Ковалевский и князь Гагарин, полковник Шликевич, Серебряков, Ганецкий, Москалев, Лузанов, Брещинский и множество майоров, капитанов, поручиков были убиты или опасно ранены.
Тохмас-Табию пришлось брать генералу Майделю с отборным цветом кавказского войска, с ветеранами мингрельского, грузинского, эриванского и др. полков. Храбрецы гренадеры опрокинули массы турок, овладели одним из лагерей, захватили батарею с орудиями и даже ворвались в самый редут Тохмас-Табии, но, поражаемые изо всех соседних турецких батарей, не имея лестниц, чтобы взлезать на отвесные стены редутов, не могли держаться на захваченных местах и отливали назад, устилая путь мертвыми и ранеными. После Майделя три раза водил на отчаянный штурм Тохмаса-Табии своих рязанцев храбрый полковник Кауфман; он тоже овладел было двумя редутами, переколов там всех защитников, но перекрестная канонада из Тохмас-Табии и Вели-Паша-Табии обращала поле битвы в сплошное жерло огня и делала бесплодным всякое геройство. Только изумительному присутствию духа Кауфмана (впоследствии правителя Средней Азии) и его быстрой сообразительности рязанцы обязаны были тем, что могли пробиться мимо центральных фортов Карса на соединение с частями войск, действовавших против другой линии укреплений, потеряв менее трети людей.
После полудня русские войска, потеряв всякую надежду на успех штурма, были отведены назад; по официальному донесению Муравьева, у нас выбыло из строя около 7.500 человек, — из них более 250 одних генералов и офицеров; и быть может, эта цифра была еще несколько уменьшена против действительности.
Однако, эта прискорбная неудача не смутила твердого духом Муравьева, и, обложив еще теснее Карс, он имел счастье все-таки овладеть им со всеми его войсками и орудиями, за что и получил в награду прозвание Муравьева-Карсского. 16 ноября того же 1855 года, всего через два месяца после злополучного штурма, русская кавказская армия вступила в ворота Карса, и в тот же день Муравьев доносил государю: „Карс у ног Вашего Величества. Сегодня сдался военно-пленным изнуренный голодом и нуждами гарнизон сей твердыни Малой Азии. В плену у нас сам главнокомандующий исчезнувшей тридцатитысячной анатолийской армии, Мушир Васиф-паша; кроме него, восемь пашей, много штаб и обер-офицеров и вместе с ними английский генерал Вильямс со всем его штабом. Взято 130 пушек и все оружие“.
* * *
Теперешние укрепления Карса произвели на меня очень внушительное впечатление. Это уже не крепость, как понимали ее в старину — тесное место, окруженное стеною и башнями. Это — целый громадный воинский стан, занявший собою пространство в десятки квадратных верст, целая система отдельных крепостей, взаимно помогающих друг другу и разобщенных на многие версты друг от друга. Миллионы затратили на эту ясность турки, миллионы, хотя опять-таки турецкие, затратили на нее потом англичане, из дружбы к России посылавшие на защиту и укрепление Карса своих инженеров и генералов; не один, должно быть, миллион затратила, наконец, Россия, чтобы эту неприступную твердыню обратить в более неприступную, в первоклассную пограничную крепость, достойную великого государства.
Можно даже думать, что при теперешнем состоянии Карса ни один из наших возможных азиатских врагов не подумает и попытаться брать его, так что, по всей вероятности, удары турецкой армии, если они когда-нибудь будут, направятся уже не на Карс, а на Эривань, где не встретит врага ни одна сильная крепость…
Хотя мое патриотическое чувство, еще не освободившееся от диких инстинктов животной борьбы, переполняется горделивым удовлетворением при сознании народной силы, так блестяще проявленной в этом несокрушимом оплоте нашего государственного рубежа, — но вместе с тем другое, более грустное чувство шевелится в тайниках души, и делается жалко и больно, что трудовые заработки стольких нуждающихся, бедно и тесно живущих людей должны идти не на улучшение их собственного быта, не на умножение света и добра в среде человечества, а на орудия взаимного истребления, — что столько молодых и здоровых сил, цвет своего отечества, отрываются на многие годы от мирного и плодотворного труда, для того, чтобы, вооружившись с ног до головы, быть готовым каждую минуту столкнуться в озлобленной схватке с народом-соседом, осыпать без счета ядрами и пулями, яростно колоть и рубить своего брата-человека… И как не вспомнить с благодарным чувством, бродя среди этой сплошной страны всяких человекоубийственных устройств и снарядов, — именуемой крепостью Карсом, — великодушной попытки нашего молодого Государя прекратить, наконец, общим согласием правительств и народов безумное взаимное соревнование государств огнем и мечом, пушками и армиями, и возвратить бесплодно растрачиваемые теперь на вооружения и крепости сотни миллионов народного заработка их истинному назначению — посильному улучшению внутренней жизни народов!..
Евгений Марков
1901

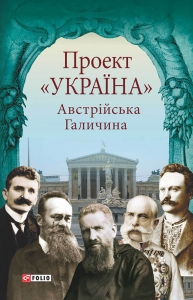


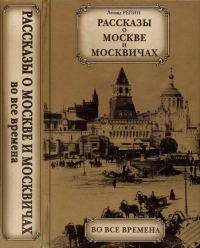
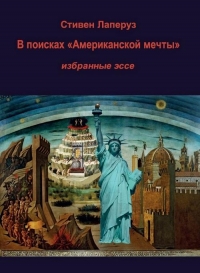
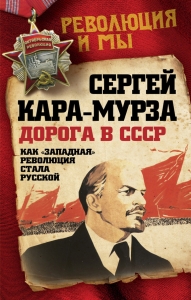
Комментарии к книге «Русская Армения», Евгений Львович Марков
Всего 0 комментариев