Анджей Иконников-Галицкий Самоубийство империи. Терроризм и бюрократия. 1866-1916
© А. Иконников-Галицкий, 2012
© ООО «ТД Современная интеллектуальная книга», макет 2012
© А. Веселов, оформление, 2012
Издательство Лимбус Пресс®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
***
Часть первая. Перед вратами ада. 1866-1883
Тяжёлый пистолет Дмитрия Каракозова
Этот выстрел рассёк надвое русскую историю. Днём весенним и солнечным, в понедельник 4 апреля 1866 года, примерно через четыре часа после удара Петропавловской пушки, Россия вступила в эпоху политического терроризма. Открыть новую эру суждено было высокому, светловолосому, хмуро-молчаливому молодому человеку с длинным лошадиным лицом, низким голосом и тяжёлым взглядом – Дмитрию Каракозову. Пуля, приготовленная им для императора Александра II, не достигла цели; вернее сказать, поразила совсем иную цель: самосознание нации и будущее страны. Именно она, тысячекратным рикошетом отразившись от блёклых невских небес, принесла смерть Сипягину и Столыпину, Володарскому и Урицкому, Николаю II, Мирбаху, Кирову, бессчётным жертвам Гражданской войны и сталинских репрессий… Тут не могло обойтись без самого дьявола, а он большой мастер запутывать следы. Вокруг дела Каракозова до сих пор клубится облако недоговорённостей, загадок и тайн.
Высокий блондин в чёрном пальто
18 августа 1866 года. Петропавловская крепость, дом коменданта. Тот самый зал, в котором сорок лет назад судили декабристов. Заседание Верховного уголовного суда по делу Дмитрия Каракозова, Ивана Худякова, Николая Ишутина и других (всего одиннадцать имён). Председатель суда – князь П. П. Гагарин; члены суда: принц П. Г. Ольденбургский, действительные тайные советники В. Н. Панин, А. Д. Башуцкий, М. М. Карниолин-Пинский, адмирал Н. Ф. Метлин. Секретарь суда – действительный статский советник Я. Г. Есипович. В качестве прокурора выступает министр юстиции Д. Н. Замятнин. Вводят главного обвиняемого.
– Ваше имя, фамилия?
– Дмитрий Владимирович Каракозов.
– Ваше вероисповедание?
– Православное.
– Ваше звание?
– Дворянин.
Секретарь даёт справку: фамилия Каракозовых в герольдии не утверждена и в дворянские книги не записана.
Зачитывается обвинительный акт:
«4 апреля 1866 года, около 4 часов пополудни, когда Государь Император, по окончании прогулки в Летнем саду, выйдя на набережную Невы, приблизился к своему экипажу, неизвестный человек, стоявший в толпе народа, собравшейся у ворот сада, выстрелил в священную особу Его Императорского Величества. Провидению угодно было сохранить драгоценную для России жизнь возлюбленного монарха. <…> Сделавший выстрел побежал вдоль Невы по направлению к Прачешному мосту, но был задержан городовым унтер-офицером дворцовой команды Степаном Заболотиным (бляха № 66), который вырвал у него двуствольный пистолет, другой курок которого был взведён, и унтер-офицером жандармского эскадрона Лукьяном Слесарчуком, и доставлен в III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии».
Косноязычие полицейского документа корректируется показаниями свидетелей. В тот день, вскоре после полудня, к городовому Артамону Лаксину, дежурившему возле боковой калитки сада, подошёл молодой человек и попросил пропустить его. Лаксин перед тем получил указание калитку никому не отворять: государь приедет гулять по обыкновению в Летнем саду, нехорошо будет, если его побеспокоит какой-нибудь челобитчик, из тех, что вечно докучают самодержцу прошениями. Молодому человеку Лаксин дал от ворот поворот, но его внешность и манеры вызвали смутную тревогу. Одет мастеровым: пальто дешёвое и картуз; а по речи – вроде из образованных. Руки белые, не рабочие. Настойчив. Явно чем-то взволнован. Получив отказ, не ушёл, а принялся слоняться поближе к главному входу.
Там, у ворот, обычно в это время собиралась толпа. Всякому охота посмотреть на царя, прогуливающегося под липами и клёнами сада. Городовой хотел дать знать о подозрительном незнакомце, но поблизости никого из начальства не оказалось, а поднимать шум и свистеть, когда с минуты на минуту государь может подъехать, дисциплинированный Артамон не решился.
Вот показался царский экипаж. Государь в сопровождении нескольких господ в мундирах вышел из кареты. Верноподданные зеваки скинули шапки. Слегка кивая красивой головой на обе стороны, государь прошествовал под ещё не оформившуюся сень чёрных деревьев. Всё происходило обычным порядком. Сделав несколько кругов по влажным аллеям, улыбнувшись весеннему солнцу, император двинулся к выходу, сопровождавшие его военные – за ним. Когда эта маленькая группа выходила из сада, толпа, долго и терпеливо ждавшая у ворот, инстинктивно надвинулась; из неё вдруг выскочил высокий молодой человек, тот самый, в чёрном пальто, сделал движение рукой… Раздался громкий хлопок… Закричали… Царь резко обернулся, его благообразное лицо исказилось мгновенным страхом. Молодой человек, оттолкнув кого-то, бросился бежать по набережной. Запутался в полах пальто. Настигли, повалили, принялись колошматить. Полицейским пришлось сделать несколько выстрелов в воздух, чтобы остановить самосуд.
Подняли, подвели к царю. Тот стоял возле экипажа. Уже овладел собой, но лицо было бледно. Впоследствии нашлись очевидцы, якобы слышавшие диалог царя и несостоявшегося цареубийцы:
– Ты поляк?
– Нет, чистый русский.
– Почему же ты стрелял в меня?
– Потому что ты обманул народ – обещал землю, да не дал.
Этот разговор, конечно же, стопроцентная легенда. Что было сказано на самом деле, и было ли – никто достоверно не знает. Царь сел в экипаж и уехал, приказав генерал-адъютанту Тотлебену доставить злоумышленника в III Отделение. Ещё не затих стук колёс царской кареты, а уже родилась новая легенда: царя, мол, спас от неминучей смерти человек из толпы. «Отцовство» этой легенды приписывали Тотлебену. Якобы он успел заметить, что стрелявшего толкнул под локоть бедно одетый человек лет двадцати пяти – Осип Комиссаров, крестьянин Костромской губернии, Буйского уезда, Молвитинской волости, села Молвитина. Много позже участник следствия А. А. Черевин (тогда – жандармский офицер, в будущем – последний начальник III Отделения) писал не без иронии: «Нахожу весьма политичным изобресть подобный подвиг; это простительная выдумка, и даже полезно действует на массы». Комиссаров – уроженец тех же самых мест, что и Иван Сусанин. Грешно было бы не сделать из него спасителя священной особы возлюбленного монарха.
«Пересол верноподданнических заявлений»
Злоумышленник был доставлен в III Отделение, расположенное неподалёку, на Фонтанке, у Пантелеймоновского моста. На расспросы об имени-звании вначале отвечать отказался, потом назвался Алексеем Петровым, крестьянином. При личном досмотре, как явствует из обвинительного акта, у арестованного были отобраны «1) фунт пороха и пять пуль; 2) стеклянный пузырёк с синильной кислотой, порошок в два грана стрихнина и восемь порошков морфия <…>; 3) две прокламации „Друзьям рабочим“ <…>; 4) письмо к неизвестному Николаю Андреевичу; 5) маленький лоскуток бумаги с несколькими написанными карандашом словами, из которых можно было разобрать только одно – Кобылин». Наличие сильнодействующих ядов свидетельствует о намерении злоумышленника совершить самоубийство. Прокламация, написанная чётким, красивым почерком на двух сторонах листа, простая и ясная:
«Братцы, долго меня мучила мысль, которая не давала мне покоя. Отчего любимый мною простой народ русский, которым держится вся Россия, так бедствует?» (Вопрос, что называется, на засыпку; сейчас, через сто сорок лет, он актуальности, мягко говоря, не утратил.) «Отчего рядом с нашим вечным тружеником, простым народом – крестьянами, фабричными и заводскими рабочими и другими ремесленниками – живут в роскошных домах, дворцах люди, ничего не делающие, тунеядцы: дворяне, чиновничья орда и другие богатеи, и живут они на счёт простого народа, чужими руками жар загребают, сосут кровь мужицкую». Кто же виноват? Ответ берётся понятно откуда. «Захотел я узнать, что умные люди насчёт этого думают. Стал читать книги, много книг перечитал о том, как люди жили в прежние времена. И что же, братцы, я узнал? Что цари-то и есть настоящие виновники всех наших бед». Надо царя убить, и рай наступит. И тогда «русский народ сумеет управиться… сам собою. Будет у всех достаток, так не будет и зависти… все будут равны, и заживёт радостно и честно русский рабочий народ».
Мотивы покушения следователям стали ясны: социализм. Тут вспомнили: несколько дней назад бдительные петербуржцы доставили в III Отделение несколько таких же листков, исписанных тем же аккуратным почерком. Арестованный не отпирался: экземпляров прокламации он изготовил около сотни.
А за стенами здания на Фонтанке уже поднималась волна неслыханного общенационального шума. За царя молились в церквах; на вечерних представлениях в театрах публика вместе с актёрами пела «Боже, царя храни!». Молебны и пение гимна повторились на следующий день, через день, ещё через день… 5 апреля газеты опубликовали первые письма, восславляющие Провидение за чудесное спасение царя-освободителя. 6 апреля газетные столбцы состояли в основном из этих приветственных воплей, несущихся из всех углов необъятной России; поток их не иссякал еще две недели. О свершившемся чуде говорили всюду: на светских приёмах, в школах, в университетах и в кабаках. Верноподданническая радость объединила богатеев и бедняков, аристократов и прощелыг, учёных и неучей в одном экстатическом порыве любви к государю. Немалая часть этой любви была перенесена на Осипа Комиссарова. Государь пожаловал ему права дворянства; петербургские дворяне по подписке купили ему имение где-то там, в Буйском уезде. Университетские профессора скинулись на создание школы его имени в селе Молвитине. В петербургском светском обществе Осип Иванович Комиссаров-Костромской стал модной персоной, его зазывали на рауты, его чествовали на обедах, перед ним вставали в театре…
Министр внутренних дел П. А. Валуев (его отставка с этого поста была не за горами, но он об этом ещё не знал) записал в дневнике: «Пересол разных верноподданнических заявлений становится утомительным. Местные власти их нерассудительно возбуждают канцелярскими приёмами». О Комиссарове Валуев отзывается скептически: «Не доказано при следствии, чтобы он отвёл руку или пистолет убийцы». Тотлебен, по мнению министра, «первый пустил в ход эту повесть, и, вероятно, действовал под влиянием мгновенных впечатлений и на основании непроверенных сведений».
Скороспелому любимцу общества Осипу Комиссарову, надо сказать, всё это ничего хорошего не сулило. Через полгода интерес к его незначительной персоне поубавился, в свете толковали уже о другом: о манерах невесты наследника престола датской принцессы Дагмар, о новых любовных увлечениях немолодого уже государя… Комиссарова встречали дежурными кисло-сладкими улыбками, как знаменитого тенора, лишившегося голоса. Потом заметили: земляк Сусанина стал сильно пить, буянить. Его сплавили куда-то на службу в провинцию, офицером в полк. Отношения с товарищами по службе не сложились, в семье тоже не ладилось: в пьяном виде однажды стрелял в жену, едва не убил. Вынужден был уйти в отставку, поселился в своём имении, жил там в полном забвении, пока не повесился в припадке белой горячки… Такова, во всяком случае, общепринятая версия его гибели. Это всё случилось много лет спустя.
Уверение Фомы
Нам, привыкшим ко всяким преступлениям и не знающим запретов ни на что, трудно (да и невозможно) понять то колоссальное впечатление, которое произвёл на русское общество выстрел 4 апреля. Не то чтобы к личности царя относились как к святыне: ещё в XVII веке приказные избы были завалены делами о непристойных ругательствах в адрес помазанника Божия. Не то чтобы царей в России никогда не убивали: всего за сорок лет, с 1762-го по 1801 год, три законных государя – Пётр Фёдорович, Иван Антонович и Павел Петрович – приняли насильственную смерть. Но тут был один мотив: убиенные правители являлись, с точки зрения их убийц, да и большой части общества, царями по тем или иным причинам «ненастоящими», неправильными, а потому опасными для самой монархии. В отношении Александра Николаевича никто ничего подобного не мог помыслить. Уж если кто и был царём по всем правилам, так это он, первый за полтора столетия законно унаследовавший престол и законно царствующий монарх, освободитель крестьян. А на царя милостию Божией ещё никто никогда в России руки не подымал. Это было всё равно что пытаться взорвать Солнце.
5 апреля распоряжением государя дело о покушении было передано Следственной комиссии, учреждённой четыре года назад для расследования особо опасных государственных преступлений. 8 апреля председателем её вместо старика П. П. Ланского был назначен жёсткий, умный и в меру циничный граф М. Н. Муравьёв («вешатель», как прозвали его недруги после подавления польского восстания 1862-63 годов). Арестант был переведён из камеры III Отделения в сверхсекретный Алексеевский равелин Петропавловки. Муравьёв лично участвовал в допросах. А допросы велись непрерывно. Арестанта хоть и не пытали, но не давали спать, держали на хлебе и воде. Добиться результатов удалось не сразу.
Прежде всего – установить личность. Помогли найденные при нём вещи. Откуда стрихнин и морфий? Стали искать, и вышли на ординатора Второго военно-сухопутного госпиталя доктора Кобылина, чьё имя было нацарапано на бумажке, завалявшейся в кармане преступника. В арестанте перепуганный Кобылин опознал своего знакомого, прозывавшегося Дмитрием Владимировым. Владимиров недавно приехал из Москвы, по каким-то причинам не имел паспорта; Кобылин приютил его и помог устроиться в гостиницу. В какую? В «Знаменскую», возле Николаевского вокзала. За несколько дней до покушения Владимиров зашёл к Кобылину, и, жалуясь на сильные боли, попросил выписать морфия и почему-то стрихнина. Что Кобылин и сделал.
Прислуга из «Знаменской» подтвердила: да, это жилец 65-го нумера, вот уж несколько дней как пропавший. Сделали обыск в комнате – нашли письма. По ним установили некоторых московских знакомых арестанта. Их задержали, допросили. И выяснили настоящее имя преступника.
Дмитрий Владимирович Каракозов. Родился в 1840 году в селе Жмакино Сердобского уезда Саратовской губернии. Отец – мелкий служащий с сомнительным дворянством, мать – мещанка, урождённая Ишутина (эта фамилия скоро замелькает на страницах следственного дела). Оба родителя, к счастью, умерли, позора и горького сожаления о сыне-цареубийце не изведали. Дмитрий окончил Пензенскую гимназию, в 1861 году поступил в Казанский университет на юридический факультет, через два месяца был оттуда исключён за участие в студенческих беспорядках, некоторое время работал письмоводителем у мирового посредника, в 1863 году вновь принят в Казанский университет, но через год перебрался в Московский. Там вошёл в кружок студентов, возглавляемый его двоюродным братом Николаем Ишутиным (неотправленное письмо, отобранное при аресте, адресовано именно ему). Со многими членами кружка Каракозов был знаком по Пензенской гимназии. (Заметим: учителем в этой гимназии был Илья Николаевич Ульянов… Но следствию эта фамилия, за четыре года до рождения в семье Ульяновых сына Володи, ничего, естественно, не говорила).
Кружком Ишутина занялись особо. Надо признать: следствие хорошо поработало. Десятки свидетелей допрошены, многие арестованы. Ишутинцы стали давать показания. Особенно усердствовали двое: Игнатий Корево и Осип Мотков. Выяснилось, что у Ишутина и Каракозова был в Питере приятель, молодой, но начинавший приобретать известность литератор «прогрессивного» направления, Иван Худяков. Не так давно Худяков ездил за границу, где установил контакты с русскими эмигрантами и тамошними социалистами. После его возвращения деятельность кружка, дотоле ограничивавшаяся разговорами на вольные темы да наивными попытками создания коммун в духе «сна Веры Павловны», потекла в ином направлении. Появляется тайная организация с пугающим названием «Ад». Даже что-то вроде программы оказалось, правда, очень невнятное: «Создавать кружки…», «намекать, что существует что-то такое…», «располагать жизнью каждого из членов в случае измены или намерения изменить». Цель: «Низвергнуть существующий порядок вещей и установить социальную республику».
Ситуация прояснялась. В кругу Ишутина и Худякова вынашивались революционные планы, возможно, связанные с «Европейским революционным комитетом» (то, что этот комитет – миф, вымысел Худякова – не знали тогда ни арестанты, ни следователи). Под влиянием нигилистических идей Ишутина и Худякова впечатлительный и не совсем здоровый Каракозов проникся намерением осуществить цареубийство. В начале Великого поста, в феврале 1866 года, он, втайне от товарищей, отбыл в Петербург. Купил пистолет. На протяжении всего поста писал прокламации и готовился к решительному деянию. Напряжение росло, Каракозов пребывал на грани нервной горячки. Это болезненное состояние заметил добрый доктор Кобылин и прописал пациенту лекарства (несколько странные, правда…). Настала Пасха, прошла Светлая седмица. 3 апреля – неделя уверения Фомы: «…аще не вижу на руку его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра его, не иму веры». Каракозов решился.
Туман загадок
К середине июля расследование было закончено. Суд совершался с 18 по 24 августа. 31 августа оглашён приговор Каракозову: смерть через повешение. (Спешили, чтобы успеть сделать самое неприятное до приезда в Петербург датской принцессы, невесты наследника престола.) 1 сентября Каракозов написал прошение о помиловании: «Преступление моё выше всякой меры, оно так ужасно, что я, Государь, не смею и думать о малейшем хотя бы смягчении заслуженного мной наказания. Но клянусь, Государь, в последние минуты, что если бы не ужасное болезненное состояние, в котором я находился со времени моей тяжёлой нервной болезни… я не совершил бы этого ужасного преступления. А теперь, Государь, прошу у Вас прощения как христианин у христианина и как человек у человека». На прошении сверху Александр II карандашом начертал: «Лично я в душе давно простил ему, но как представитель верховной власти, я не считаю себя вправе прощать подобных преступников». Каракозов был повешен 3 сентября на Смоленском поле. Казалось бы, всё.
Не всё. В деле Каракозова и вокруг него витает множество загадок, странных и зловещих, почти мистических. Даже номер бляхи городового – 66, почти число Зверя. Или вот судьбы участников. Любопытно: из них раньше всех мир сей покинул… председатель следственной комиссии Муравьёв! Умер 29 августа 1866 года. Современники мрачно шутили: как, мол, следователь встретит своего подследственного там, в раю… Или в аду? (Из «Ада» земного в ад вечный…) Замятнину и Валуеву повезло больше: они просто распрощались с министерскими постами. О трагической судьбе Комиссарова мы уже говорили. Финал Ишутина и Худякова оказался ещё мрачнее: оба они лишились рассудка и умерли в тяжком безумии в тюремных больницах. Главный источник информации для следствия, Осип Мотков, не прожил после суда и года. Приговорённый к четырём годам каторги, он бежал из Нижнеудинского острога, был пойман и умер в июле 1867 года в иркутской тюрьме от туберкулёза в возрасте двадцати лет.
От людских судеб, коими управляет Провидение, обратимся к вещественным доказательствам: ими потусторонние силы редко интересуются. Удивление вызывают аксессуары покушения. Неиспользованный яд, неудобное и даже нелепое оружие – тяжёлый двуствольный пистолет… Однако самая главная странность заключается в том самом неотправленном письме, обнаруженном в кармане Каракозова. Для непосвящённого этот текст – тайнопись. «Дорогой друг! Свинья, брат, ты, Николай Андреевич, не сумел поставить вопрос прямо», и далее, о каком-то документе: «Ты ведь очень хорошо понимал, как мне нужна эта вещь для того, чтобы выгодней обставить дело, и время потрачено на совершенно ненужную поездку, которая не принесла результата… Знакомые мои, о которых я тебе говорил, предполагают начать дело очень скоро – но это дело не наше… Ты понимаешь, что если произойдёт такой афронт, то ведь один чёрт на дьяволе, и К. может тем или другим способом обеспечить себе спокойное и безмятежное существование». Далее идёт вовсе непонятная речь о каких-то акциях, кредитных обществах и дивидендах.
Разумеется, следствие не могло не заинтересоваться содержанием письма. Автор согласился дать пояснения только 4 мая, после очной ставки с адресатом – Ишутиным, когда таить его имя уже не имело смысла. Согласно этим пояснениям, под литерой К. в письме скрыт брат государя, великий князь Константин Николаевич. Более того, существуют силы, желающие возведения его на престол. «Когда я писал Ишутину и высказывался о существовании Константиновской партии, то точно так же говорил ему о моём желании сблизиться с этой партией и действовать таким образом, чтобы партия эта видела во мне представителя от московского студенческого общества», – поясняет Каракозов следователям. Эти сведения подтверждаются показаниями Корево: «Ишутин говорил, что легко может быть, что Каракозов подкуплен партией в. кн. Константина, потому что, как он прибавлял, Каракозов говорил, будто он сошёлся с некоторыми из членов этой партии».
Разумеется, ни версия о связи всенародно проклятого «нигилиста» с партией великого князя, ни даже намёки на существование такой партии не могли прозвучать публично. Следствие в этом направлении было свёрнуто, или, по крайней мере, строго засекречено. Если кто-то об этом получал информацию, то разве что граф Муравьёв… И тут – эта его несвоевременная смерть… Нет, мы ничего не утверждаем. Во всяком случае, сам факт наличия у Каракозова планов вступления в контакт с действительными или мнимыми сторонниками «царя Константина» резко меняет хрестоматийные представления о «пламенном революционере», превращая его в агента дворцового заговора. Надо сказать, что состав «ишутинского» кружка тоже как-то больше соответствует идее заговора «в верхах». В нём, как в масонской ложе, преобладают молодые дворяне из хороших семей. Аристократ князь Оболенский, богатые дворяне Юрасов и Ермолов, гусарский офицер Спиридов… Все они могли быть приняты в самом высоком петербургском обществе.
На этом странности не заканчиваются. Почему письмо оказалось в кармане Каракозова в день покушения? Ведь ясно, что оно попадёт в руки властей и в случае задержания, и в случае гибели его автора. Человек идёт на цареубийство – и кладёт в карман конспиративный документ, содержание которого не может не заинтересовать следствие… Почему вообще письмо не было отправлено? Да и интонация его – спокойная, даже ироническая – не вяжется с ситуацией покушения…
Загадки, загадки… И вот ещё: аккурат накануне каракозовского выстрела, в Мариинской больнице скончался Николай Ножин, приятель многих фигурантов дела 4 апреля. Обстоятельства его смерти до того заинтересовали Следственную комиссию, что начато было отдельное расследование. И оно дало любопытные результаты.
Загадочная смерть литератора Ножина
Этот человек идеально подходил для роли героя своего времени. И по возрасту – молод, почти что юн. И по внешности – сер, невзрачен, худ. И по характеру – целеустремлён, беспощаден. И по своим резким, радикальным, «нигилистическим», как тогда говорили, взглядам, и по несомненной, хотя и не проявленной талантливости. Базаров, Рахметов, Раскольников, Ставрогин в одном лице. Он и умер – по официальной версии – от тифа, как Базаров. По мнению же некоторых, покончил с собой, как Ставрогин. А может, был отравлен? Вот, правда, такой исход не значился в описаниях судеб героев. Он умер, и от него осталось несколько статей в захудалом журнальчике, да незаконченное учёное исследование про каких-то морских чудищ. Впрочем, нет: осталась ещё история болезни и смерти, странным образом вплетённая в апокалиптический узор нарождающейся русской революции.
«Вскрытие может быть интересным»
«Пётр Лаврович. Передайте, пожалуйста, Курочкину (адрес которого мне неизвестен), что Ножин умер сегодня утром, в восемь с половиной часов. В момент смерти я его не застал, но пришёл по окончании агонии. Курочкин, может быть, знает его родных, или его знакомые захотят его если не похоронить, то быть, по крайней мере, на казённых похоронах. Если не будет до завтра особенных препятствий, то я вскрою его, тем более что вскрытие может быть интересным».
Автор этого несколько необычного письма – П. Ф. Конради, врач, а в недалёком будущем – редактор либеральной газеты «Неделя». Адресат – П. Л. Лавров, идеолог революционного народничества, духовный отец поколения молодых безумцев, которых обыватели и власти именовали «нигилистами». Дата: 3 апреля 1866 года. Когда Конради писал эти строки, наверняка где-то рядом тикали часы. Доктор не знал, что отсчитывают они мгновения, оставшиеся до рокового события у ворот Летнего сада. Приехавший из Москвы в Петербург студент Каракозов уже купил пистолет, из которого завтра будет стрелять в императора Александра II. Это случится примерно через 25–30 часов. Мы не знаем, удалось ли доктору Конради провести «интересное вскрытие». Грохот выстрела 4 апреля заглушил все иные шумы, нарушил планы, спутал многие исторические пасьянсы.
3 апреля вечером Лавров переправил письмо Курочкину с припиской: «Многоуважаемый Николай Степанович, посылаю Вам в оригинале печальную записку Конради. Жалею, что молодые силы погибли рано, хотя я не сочувствовал Ножину, но искренне жалею о нём». Этот Курочкин, Николай, лидер кружка вольнодумной молодёжи, брат известного поэта, политического сатирика и издателя леворадикальной «Искры» Василия Курочкина. Через несколько недель Николай Курочкин будет арестован и предстанет перед Следственной комиссией по делу Каракозова. Выпустят его только в августе.
Фигурантом следственного дела станет и усопший Ножин. 29 апреля жандармское перо выведет каллиграфическую надпись на пустой ещё папке для бумаг: «Производство высочайше утверждённой в С.-Петербурге Следственной комиссии. О кружках знакомых коллежского секретаря Николая Ножина и причине его смерти». Папка быстро росла и пухла. Дело (сто тридцать семь листов) было закончено, закрыто и сдано в архив III Отделения только 18 февраля 1867 года – через пять с половиной месяцев после казни Каракозова. Стало быть, для властей оно представляло особый интерес, было выделено в отдельное производство.
Заметьте: следствие ведётся «о причине смерти». В ней, значит, заключается нечто интригующее. Равно и доктор Конради предполагает какую-то особенную причину этой смерти, если с несколько каннибальским азартом предвкушает «интересное вскрытие». Известный писатель-народник Николай Михайловский в «Литературных воспоминаниях», написанных ровно через четверть века, обмолвился: «В самом конце марта 1866 года Ножин опасно заболел, говорят, тифом. Заболел он на квартире у Курочкина, откуда его пришлось отправить в больницу, и там его быстро скрутило…» В мемуарном романе «Вперемежку» (Ножин изображён там как молодой гений науки Дмитрий Бухарцев) Михайловский восклицает: «Он умер при таких странных и до сих пор не вполне для меня ясных условиях…» Каких – не уточняет.
Особенности жанра допроса
Писатель-демократ в своей мемуарной прозе обходит молчанием одно обстоятельство, а именно: он был допрошен по делу Ножина в качестве свидетеля. Протокол допроса сохранился в той самой жандармской папке. Датирован он 3 августа. К этому времени следствие по делу Каракозова уже было завершено, обвинительный акт составлен. Имя Ножина в нём не упоминалось. Но оно было названо в сообщении Следственной комиссии, напечатанном 2 августа в газете «Северная почта». Каракозов, говорилось в нём, через посредство опасного революционера Ивана Худякова, имел контакт с «кружком крайнего нигилиста Ножина… который находился в сношениях и в связях и переписке с заграничными агитаторами». Стало быть, Михайловского вызвали для дачи показаний на следующий день после того, как связь Ножина с преступлением 4 апреля стала достоянием гласности.
Протокол допроса, или, как тогда говорили, запись показаний, – своеобразный литературный жанр, рождающийся в состязании кошки с мышью. Каждая его фраза – норка, в которую пытается юркнуть свидетель, пряча новые обстоятельства дела. «С Ножиным познакомился около года тому назад… Ножин жил в то время на Выборгской стороне, дома и улицы не помню… У Ножина бывал я довольно часто… О том, что Ножин отлучался из дома в исходе Великого поста, незадолго перед своей болезнью, – не слыхал. На вечере у Ножина, на котором было человек 20–30 гостей, был и я… Видел на вечере Н. Курочкина, Зайцева, Згоржельского и многих морских кадет, которых ни прежде, ни после того не встречал».
Из ответов явствует, каковы были вопросы. Следователь, гвардии капитан Васильчиков, интересуется кругом знакомых Ножина. И ещё – специально – какой-то отлучкой Ножина из дома, имевшей место «в исходе Великого поста», то есть, дней за 10–12 до выстрела Каракозова. Свидетель мгновенно гасит любопытство следователя относительно второго пункта: «не слыхал». А вот по первому – отвертеться невозможно… Допрос – всегда насилие и часто торг. Следователь принуждает допрашиваемого расстаться с сокровищами тайных знаний; тот прячет их по дальним карманам и отдаёт, припёртый к стенке. Можем примерно реконструировать диалог между Васильчиковым и Михайловским.
Васильчиков: Вы с Ножиным были тесно связаны, и сами это признаёте.
Михайловский: Ну, не так уж и тесно… В основном, по работе в журналах…
Васильчиков (усмехается): Были, были. И в силу этого не могли не присутствовать на собраниях в его доме, о которых мы знаем от других свидетелей. Не отпирайтесь. Итак, присутствовали?
Михайловский (неохотно): Да, присутствовал. Раза два.
Васильчиков: Кого же вы там видели?
Михайловский: Я уже называл имена лиц, бывавших в этом доме.
Васильчиков: Да, вы назвали тех, о ком вам известно, что нам о них известно. А ещё? (Закуривает папиросу.) Николай Константинович, ваше запирательство бессмысленно и может лишь повредить вам. Бывая у Ножина на сходках, вы не могли не видеть кого-то ещё.
Михайловский (тихо): Я не знаю их по именам. Нас не представили.
Васильчиков: Ну-с, хорошо. А выглядели они как? Их приметы?
Михайловский: Затрудняюсь вспомнить.
Васильчиков: Я вам помогу. Видели ли вы там людей в форме морского ведомства? Отвечайте прямо. Вы уже поняли, нам многое известно.
Михайловский: Да, я видел у Ножина многих морских кадет, которых ни прежде, ни после того не встречал.
Вот эта последняя фраза попадает в протокол. Нашли то, что искали. Значит, у следствия были данные о каких-то связях Ножина с морским ведомством.
Портрет нигилиста
Да, а кто же такой этот Николай Дмитриевич Ножин? Вот портрет, написанный Михайловским: «Представьте себе молодого человека лет двадцати четырех-пяти, среднего роста, очень худого, чуть-чуть сутулого, с узкими и низенькими плечами, с волосами серо-пепельного цвета, жидкими и мягкими, такого же цвета маленькими усами и едва пробивающейся бородёнкой, длинным носом и неопределённым цветом лица… Глаза у него были голубые и поражали по временам необыкновенною живостью и блеском, а по временам такой упорной сосредоточенностью, что она казалась почти тупостью». Характерный неброский, чуть ущербный, но целеустремлённый тип демократа-шестидесятника. Образ жизни и быт соответствующий: «Он лето и зиму носил одну и ту же трёпаную и засаленную шотландскую шапочку без подкладки и клетчатый, чёрный с зелёным, плед».
Сведений о Ножине сохранилось не много. Родился в 1841 году. Родители – богатые помещики. Отец умер рано; мать вторично вышла замуж за аристократа Делагарди. Николая отдали в одно из самых привилегированных учебных заведений России – Александровский лицей, который он благополучно закончил в 1861 году. Служил очень недолго, вышел в отставку в чине коллежского секретаря (чин X класса, третий снизу в иерархии статских чинов). С семьёй порвал, уехал за границу. Там общался с учёными-биологами, проникся свежим тогда эволюционным учением Дарвина. А заодно установил разнообразные контакты с революционерами, как русскими эмигрантами, так и европейцами. Ближе всего сошёлся с буйным и неукротимым «архангелом Михаилом» революционного разрушения – Бакуниным. Потом путешествовал ещё, где – неизвестно; опубликовал научное исследование о жизни морских беспозвоночных, сделавшее ему репутацию весьма перспективного молодого естествоиспытателя. Вернулся в Петербург то ли в конце 1864-го, то ли в начале 1865 года. Стал сотрудничать в «Книжном вестнике», двухнедельном журнальчике демократического направления. Поселился поначалу в копеечной квартире на Выборгской стороне.
Михайловский кривил душой, говоря Васильчикову, что не помнит адреса Ножина. В доме на Выборгской он бывал нередко, о чём свидетельствует эпизод в упомянутом романе «Вперемежку». Главный герой, Тёмкин (в котором угадывается автор), приходит к Бухарцеву (Ножину) и наблюдает там картину исследовательской работы. На столе стоит таз с водой, в тазу плавают рыбины, у которых… вырезаны глаза! Несчастные существа – жертвы научного эксперимента: изменится ли цвет их чешуи вследствие слепоты, и если да, то как именно? Антураж непритязательный: сырая, холодная, грязная комната, книжные полки из некрашеных сосновых досок, трёхногая железная кровать в углу и книги, книги, книги… Жилище учёного нигилиста.
Между тем очень скоро Ножин попал в поле зрения властей предержащих. И вовсе не из-за выцарапывания рыбьих глаз. Из официальной справки, имеющейся в деле Ножина: «В сентябре 1865 г. за Ножиным и лицами, кои по наблюдению полиции заявили своё учение о нигилизме, повелено иметь негласно бдительный надзор (подчёркнуто в подлиннике. – А. И.-Г.) с тем, чтобы местное начальство, в случае надобности, принимало против них более строгие административные меры в пределах предоставленной власти». Примечателен не сам документ, а тот факт, что постановление о негласном контроле за Ножиным было «высочайше одобрено». По каким-то причинам Александр II лично заинтересовался особой скромного коллежского секретаря.
Немногочисленные исследователи, занимавшиеся судьбой Ножина, объясняли установление за ним секретного наблюдения следующим инцидентом. Николай Дмитриевич похитил из дома матери и отчима… свою родную сестру и пытался нелегально вывезти её за границу. Сколь бы странно и романтически ни выглядела эта история, вряд ли она повлекла бы личное вмешательство государя в обыденную полицейскую работу. Дело было, конечно же, в каких-то политических связях и планах Ножина. Между тем, состав его «кружка» известен: Курочкин, Михайловский, Худяков и прочие – молодые литераторы, известные своим вольнодумством, но не более. Заграничные связи, Михаил Бакунин, Николай Огарёв – это уже серьёзнее. Однако, до каракозовского выстрела российские власти не склонны были придавать политической деятельности эмигрантов слишком уж большое значение. Возникает ощущение, что какие-то контакты Ножина не проявлены, имена не названы. Почему? Не потому ли, что их нельзя было называть?
Тени в чёрных шинелях
Вопрос о людях в военно-морской форме серьёзно заинтересовал следователя Васильчикова. 31 августа (в день оглашения приговора Каракозову) в деле Ножина появляется рапорт полицейского офицера Проценко. Кажется, в январе месяце 1866 года, проезжая мимо дома, где в это время проживал Ножин, он увидел ярко освещенные окна и, будучи знаком с квартирной хозяйкой, решил зайти. «При входе в коридор я увидел на вешалке очень много верхнего платья штатского, а в том числе несколько военных и юнкерских шинелей морского ведомства» – сообщает памятливый блюститель порядка.
– Что это за бал у вас сегодня? – поинтересовался Проценко.
– Да квартирант наш, студент Ножин, справляет новоселье, – ответила хозяйка. – Они бы ещё кутили, да ваш полицейский мундир их испугал.
Действительно, участники вечеринки (или сходки?) стали быстро расходиться. Но Проценко успел расслышать фамилии некоторых гостей: Курочкин, разумеется, затем Михайлов (Михайловский?) и ещё – Лебедев. Этот Лебедев – шурин уже известного нам Худякова, одного из главных обвиняемых по делу 4 апреля, и сам фигурант этого дела. Таким образом, от показаний Проценко тянутся нити в двух направлениях: в сторону злоумышленников, причастных к попытке цареубийства, и в сторону некоей группы морских юнкеров и офицеров. Интересно, что следователь, положивший немало труда, чтобы выудить у свидетелей информацию о чёрных шинелях, совершенно не пытается развить эту тему дальше, установить имена. То ли ему и так всё ясно, то ли он чего-то боится. Какое-то имя не должно быть названо.
Что это за имя – догадаться нетрудно. Начальником всех военных моряков в России был генерал-адмирал и морской министр великий князь Константин Николаевич, родной брат императора, председатель Государственного совета. Он имел репутацию либерала и являлся лидером влиятельной правительственно-придворной группировки. 4 апреля по взбудораженному каракозовским выстрелом Петербургу пронёсся слух: к покушению причастна «партия великого князя Константина». Об этом упоминает в своих мемуарах сенатор Я. Г. Есипович, в 1866 году – секретарь Государственного совета, назначенный также секретарём Верховного уголовного суда по делу Каракозова. Герцог Лейхтенбергский и его невеста принцесса Мария Баденская, бывшие свидетелями покушения, прямо от ворот Летнего сада помчались в Государственный совет, заседавший в это время под председательством Константина. Кое у кого из современников сложилось впечатление, что в окружении великого князя ждали вестей с места происшествия, а стало быть, знали о готовящемся покушении. Есипович упоминает о ведшихся шёпотом разговорах, мол, великий князь нарочно затягивал заседание Государственного совета, дабы при получении известия о гибели императора тут же добиться провозглашения себя регентом или даже возведения на престол. Есипович называет всё это «нелепостями», но бывает ли дым без огня?
О планах возведения Константина на престол говорил несколько лет спустя Худяков, ссыльнопоселенец в Верхоянске. Его слова старательно записал собеседник, чиновник Восточно-Сибирского генерал-губернаторства Трохимович и, конечно же, донёс куда следует. В чиновничьем донесении упоминается и Каракозов: он якобы должен был по приезде в Петербург вступить в контакт с «партией Константина». Худяков, правда, был умелым мистификатором, да к тому же там, в Верхоянске, у него уже начинали проявляться признаки душевной болезни. Но слухами о заговоре в пользу Константина земля и раньше полнилась. Бывший министр Валуев в своём «Дневнике» делает запись по поводу смерти старшего сына Александра II, цесаревича Николая, скончавшегося в Ницце в мае 1865 года: «В Москве уже пущен слух, будто цесаревича отравили великий князь Константин Николаевич или его супруга „Константиниха“». О многом говорит и тот факт, что Константин Николаевич, являвшийся председателем Верховного уголовного суда, был полностью отстранён от участия в следствии по делу Каракозова, а судебные заседания вместо него был назначен вести князь П. П. Гагарин.
Мимоходом заметим, что, вне зависимости от реальных намерений Константина, возможность обрести верховную власть в случае внезапной смерти брата-самодержца у него была. Наследник цесаревич Александр был очень молод, к правлению не подготовлен (наследником стал менее года назад, после кончины старшего брата), влиянием в правительственных кругах и в обществе не располагал. У Константина, наоборот, в правительстве и в обществе было много сторонников. С теми или иными оговорками к их числу можно отнести министра внутренних дел Валуева, министра юстиции Замятнина, военного министра Милютина, управляющего Государственным банком барона Штиглица… И разную властную мелочь, вроде того же Есиповича.
Весьма любопытно, что первой реакцией царя Александра II на покушение стали кадровые перестановки. Уже 4 апреля уволен (по прошению) начальник III Отделения старик князь В. А. Долгоруков, и на его место через неделю назначен энергичный граф П. А. Шувалов. 8 апреля председатель Следственной комиссии П. П. Ланской заменён графом М. Н. Муравьёвым. Смысл новых назначений ясен. О непримиримо враждебном отношении Муравьёва к Константину Николаевичу, об их конфликте во время польских событий все в высшем обществе знали. После внезапной смерти Муравьёва главой «антиконстантиновской» группировки станет Шувалов. «Перебор людишек» продолжается и дальше: вскоре обер-полицмейстером Петербурга вместо генерал-лейтенанта Анненкова становится близкий к царской семье Ф. Ф. Трепов; с ключевого финансового поста уходит Штиглиц. Ходят слухи об отставке Валуева и Замятнина; сие, правда осуществилось не сразу – в течение двух лет первый из них был заменён Тимашевым, второй – графом Паленом. Оба новых министра никак не связаны с «партией Константина».
Но вот вопрос:
Была ли такая партия?
В явном виде, разумеется, нет, да и не похож Константин Николаевич, антиквар и виолончелист, на заговорщика. Но в неявном – нечто подобное существовало. Упоминания об этом нет-нет да проскочат в материалах дела о покушении 4 апреля. Мы уже цитировали письмо Каракозова Ишутину, где речь идёт об этом предмете. На суде тоже кое-что прозвучало.
Из показаний Николая Ишутина на судебном заседании 18 августа: «Он (Каракозов. – А. И.-Г.) мне говорил, что сошёлся с какою-то партией в Петербурге». Далее: «Ишутин: Худяков мне говорил, что он слышал от кого-то, что такая партия в Петербурге существует, и сказал, что заграничный комитет имеет сношения с этой партией. – Председатель (князь П. П. Гагарин): Вы потом сказали, что вы именно слышали от Худякова, что эта партия, петербургская так называемая, будет заниматься таким устройством общества, которое будет полезно только для высших слоев общества, но не для народа, что потому вы, с вашей стороны, намерены составить народную партию? – Ишутин: Да, я говорил о народной партии».
Недомолвки устраняются показаниями самого Каракозова в заседании 20 августа: «Я ему (Ишутину. – А. И.-Г.) говорил, что в Петербурге есть партия, которая, хотя личность я не называл, но сказал, что имею сношения с этой партиею… – Член суда принц Ольденбургский: Какая же партия в Петербурге, на которую вы указываете? – Каракозов: Я ему говорил о той партии, которую я называю Константиновскою партиею. – Председатель кн. Гагарин: Отпустите Каракозова!». Немедленно по произнесении запретного имени Каракозов выведен из зала суда.
Интересно, что это за «личность», не названная Каракозовым, через которую осуществлялась связь между молодыми «нигилистами» и «партией Константина»? Каракозов, Великим постом только приехавший в Петербург, хорошо знал здесь лишь Ивана Худякова. Этот последний был накоротке с Ножиным, коего титуловал своим «близким приятелем». У Ножина постоянно бывали молодые люди в форме морских офицеров. По своему происхождению и лицейскому образованию Ножин мог быть принят в хороших петербургских домах (Михайловский мимоходом упоминает о его попытке работать учителем в некоем аристократическом семействе). Лучшего кандидата на роль связного между революционно-«нигилистическим» кружком Ишутина-Худякова-Каракозова и либерально-аристократической «партией Константина» трудно подыскать.
В этом контексте внезапная смерть молодого здорового человека не может не вызвать подозрений. А смерти предшествовала та самая загадочная «отлучка» Ножина из города, о которой расспрашивал Михайловского следователь. Из материалов дела явствует, что 16 марта в Питер приехал некто Орлов, давний знакомый Ножина, и заночевал у него на квартире. Хозяина дома не было; не появился он и на следующий день, и через день… Никто из друзей не знал, где он. Только 19 марта к вечеру Ножин вернулся. То была Лазарева суббота. В церквах вспоминали, как Иисус Христос воскресил своего друга Лазаря на четвёртый день после смерти. В странном соответствии с евангельским повествованием, Ножин объявился на четвёртый день после своего исчезновения. О причинах отсутствия он поведал друзьям… Но, как на грех, именно тот лист, где записаны были их показания, таинственным образом исчез из следственной папки. Сохранилось только неуверенное упоминание Орлова о поездке Ножина в Петергоф. А может, не в Петергоф? Может, и не в Петергоф. Может, в Стрельну. Там, между прочим, находилась любимая усадьба генерал-адмирала – Константиновский дворец…
Возможно, в эти дни Ножин тайно встречался и с Каракозовым. Такое предположение выдвигал ещё один из первых исследователей дела 4 апреля Евгений Колосов. Собрав все сведения (в основном циркулировавшие как слухи) о неестественной причине смерти Ножина, Колосов предположил, что между ним и Каракозовым могли возникнуть несогласия относительно покушения, и что Каракозов мог отравить Ножина, боясь с его стороны помехи своим планам. В самом деле, Каракозов все эти дни носил при себе яды, в том числе медленно действующий морфий. По данным следствия, Ножин заболел в четверг или пятницу на Пасхальной неделе; 2 апреля, в субботу, ему стало резко хуже, его отвезли в Мариинскую больницу. В этот же день Каракозов, согласно его показаниям, купил на базаре пистолет, предназначавшийся для покушения.
А может быть, и другое. Ножин выполнил роль связующего звена между «партией Константина» и группой Каракозова, и стал не нужен. И даже опасен: как претендент на весомую политическую роль в случае успеха, и как лишний свидетель в случае провала заговора. Партия, «полезная только для высших слоев общества», не имела оснований церемониться с идейными убийцами, героическими разрушителями; она лишь использовала их в своих интересах.
Каракозова повесили. Через два месяца светское общество Петербурга отпраздновало свадьбу цесаревича Александра и принцессы Дагмар, в православии Марии Фёдоровны. Мир в императорской семье и в среде властной элиты был восстановлен – до поры до времени. Никто не мог тогда знать, что молодой супруге наследника предстоит пережить гибель всех своих детей и внуков в революционной смуте. Копаться в тёмных обстоятельствах нелепого выстрела, совершённого нелепым человеком у ворот Летнего сада, было сочтено излишним. В деле Ножина появилось заключение: «Умер от сильного расстройства внутренних органов… Причина болезни… крылась в самом организме». На этом расследование закончилось.
Бубновые тузы, «червонные валеты»
Состояние русского общества с конца XVII века и до сего дня можно охарактеризовать одним словом: раскол. В истории России это не событие, а процесс. Изредка принимая явные формы, как во времена протопопа Аввакума и Стеньки Разина, а чаще развиваясь скрыто, ползуче и незаметно, раскол духовный, политический, нравственный и культурный столетиями грыз русскую душу, корёжил устои российского государства. Во второй половине XIX столетия он обрядился в красные одежды революционного движения. Революция в России была делом не какой-то малой, фанатичной и озлобленной части общества, а делом всей нации. В этом деле по-своему участвовали и низы, и верхи, и аристократия, и чернь, и богатые, и бедные. Народ российский рассыпался, как колода карт. Незримая рука тасовала эту колоду, избирая козырную масть, побивая старшую карту младшей. В раскладе революционного процесса (до того, как вихри 1905-го и 1917 годов разметали и перевернули всё и вся) главными были четыре карты. Пиковые короли – высшая имперская бюрократия, опора и ограда престола, делавшая всё возможное для ниспровержения этого престола. Бубновые тузы – деятельные и алчные капиталисты, не знающие предела своим желаниям, готовые (прямо по Марксу) на всякий риск и всякое злодейство ради ста процентов прибыли. Червонные валеты – вожди и учителя преступного мира, авантюристы, комбинаторы, волки-одиночки и серые кардиналы криминальных сообществ. Рядом с этими тремя силами наивные романтики революционного подполья, «нигилисты» и бомбометатели, выглядели всего лишь трефовыми шестёрками. А государь император, самодержец всероссийский, мало-помалу превращался в джокера, которого вообще можно выкинуть из колоды…
Пиковые короли
В комедии А. Н. Островского «Волки и овцы», опубликованной в 1875 году, есть такой персонаж – Василий Иванович Беркутов, «помещик, представительный мужчина средних лет с лысинкой, но очень живой и ловкий». Он в два дня обводит вокруг пальца всю губернскую аристократию с её вечно препирающимися партиями «либералов» и «крепостников», запугивает одних, задабривает других, забалтывает третьих, а напоследок блистательно женится на богатой дуре-помещице и прибирает к рукам её перспективное, но бесхозное состояние. По сюжету пьесы, Беркутов является в губернский город из Петербурга, где у него имеются какие-то «важные дела». Такой тип деловых хищников формировался в первое пореформенное десятилетие в коридорах министерств и департаментов, комитетов и экспедиций, в блистательных и вороватых рядах высшей имперской бюрократии.
XIX столетие в России было временем стремительного роста государственного аппарата управления. Количество чиновников в столице Российской империи за первую половину столетия выросло вчетверо (при том что население города за тот же период увеличилось в два раза). Ко времени отмены крепостного права во всех «статских» учреждениях Петербурга и в полиции числилось около 20 тысяч служащих, имеющих гражданские чины со II по XIV класс Табели о рангах. Реформы 1860-х годов дали новый толчок развитию управленческих структур: к 1870 году армия чиновников Петербурга насчитывала уже почти 28 тысяч человек. Это не удивительно: все преобразования, начиная с отмены крепостного права, осуществлялись административным способом, при минимальном участии общественности; их главный деятель – государев служилый человек, чиновник. Разрастались новые ветви древа власти: такие, например, как Петербургский окружной суд и Судебная палата, Градоначальство и Городская дума, Департамент полиции и Департамент неокладных сборов. Но главное – не количественный рост всевозможных департаментов и не умножение чиновничества. Главное то, что в руках лиц, стоящих на верхних ступенях административной пирамиды, концентрировалась неслыханная дотоле власть: управление всё более и более мощными финансовыми потоками.
Эпоху, последовавшую за отменой крепостного права в России, обычно именуют эпохой капиталистической. Можно бы уточнить: государственно-капиталистической. Начиная со времён Строгановых и Демидовых, все великие состояния делались в России с использованием государственного ресурса и при поддержке государства. В первой половине XIX века источниками богатства были казённые подряды, государственные заказы (прежде всего, военные), да ещё, пожалуй, винные откупа, приносившие до 300–400 % дохода. После «Великих реформ» объём государственных заказов значительно вырос, прежде всего – за счёт введения всеобщей воинской обязанности и роста армии. Появились и новые источники обогащения: спекуляция землёй, возведение финансовых пирамид, именуемых «частными банками». Прибыльным делом стало строительство железных дорог. Тут государственное регулирование было всепроникающим, но зато казна щедро одаривала железнодорожных тузов налоговыми льготами, ссудами и гарантиями. В частности, гарантировался выкуп частновладельческих земель, если через них проходила полоса строящейся железной дороги. Именно с этим связана афера, которую проворачивает в губернском городе столичный делец Беркутов. Львиную долю имения богатой вдовы Купавиной составляет лес, цена которому сегодня – грош. Но Беркутов, вращающийся в петербургских «сферах», знает, что через этот лес в скором будущем пройдёт железная дорога, и выкуп земли гарантирован. Следовательно, запрашивать можно будет втридорога. Имение становится куском настолько лакомым, что ради этого стоит даже жениться. Разумеется, информация эта добыта у столичных чиновников не бесплатно.
Распределение государственных подрядов и заказов, особенно при осуществлении масштабных строек и во время войн, приносило чиновникам высшего звена существенные блага в виде явных и неявных взяток. И, что всего важнее, делало их влиятельными, могущественными вершителями судеб людей и денег. Индустриальная эпоха безмерно расширила возможности чиновничества в этой сфере. Если до 1870-х годов самыми выгодными подрядами были сухарный (заготовка сухарей для армии) и суконный (обеспечение армии сукном для обмундирования), то технический прогресс выдвигает на первый план поставки металла, взрывчатых веществ, медикаментов, производство винтовок и пулемётов, строительство крейсеров и броненосцев, обеспечение войск и флота углём, керосином, бензином. С присоединением России к мировому капиталистическому пиршеству соблазнительным блюдом становятся ещё и концессии за границей, в Иране, Китае, Корее. Это уже совсем иные масштабы производства, иные финансовые потоки, иные размеры «благодарности». Тут уже речь шла не о каких-то банальных взятках, а об образовании мощных групп влияния, в которых тесно переплетались интересы капиталистов и амбиции государевых слуг, вплоть до самого высшего сановного слоя – директоров департаментов, министров и даже великих князей, родственников императора.
Вокруг престола плотными рядами выстраивалась властная сановная бюрократия. В период своего становления она была кровно заинтересована в сохранении самодержавия, как в громоотводе, защите от народной ненависти. Но по мере осознания своего могущества пиковые короли не могли не задаться вопросом: а нужен ли им государь император, хозяин Земли Русской? Не лучше ли будет, превратив царя в марионетку, править от его имени? Для достижения этой цели надо изолировать самодержца от народа, запугать его революционной угрозой, сломить его волю, навязать ему якобы неизбежную и, конечно же, выгодную им, пиковым королям, конституцию. Эта задача облекалась в формы периодически возникающих планов «диктатуры» или регентства, но чаще – в формы «конституционных проектов», таких, как проект Земской думы, разрабатываемый в окружении великого князя Константина Николаевича в 1860-х годах, схожий с ним проект Лорис-Меликова, утверждённый вариант которого лежал на столе Александра II в день его гибели 1 марта 1881 года, туманный проект Святополк-Мирского, взбудораживший либеральные умы осенью 1904 года… Заключённая в них политическая доктрина называлась «умеренным либерализмом». Суть её в освобождении высшей бюрократии от ответственности как перед государем, так и перед народом, который от этих куцых конституций не получал ровным счётом ничего.
Высшая бюрократия скоро добилась бы своей цели, если бы не жесточайшая конкуренция и вражда в её собственных рядах. Каждый сановник мечтал первым дотянуться до заветного жезла власти, каждый ненавидел соперников, каждый под личиной изысканной светской любезности прятал гримасу ненависти. Вокруг престола постоянно кипела незримая борьба. Как только один из пиковых королей начинал в этой борьбе побеждать, против него тут же объединялись остальные. В придворных и правительственных кругах всё время возникали и распадались противоборствующие союзы. Их вожди могли иметь репутацию либералов или консерваторов, но по сути дела цель у них была одна и та же: превратить государя в орудие своих амбиций. «Партия Константина», «партия Яхт-клуба» и «партия императрицы» при Александре II, «Священная дружина» и «партия реакции» во главе с Победоносцевым при Александре III, группировки Витте и Плеве, столкнувшиеся в смертельном противоборстве при Николае II… Каждый из трёх последних русских самодержцев сознавал свою всё возрастающую зависимость от верноподданных сановников, и каждый знал одно средство сохранения «Богом данной» власти: стравливать между собой властные группировки, провоцировать и раздувать конфликты между ними. Разгадка многих поступков, даже некоторых черт характеров царей – деда, отца и сына – в необходимости постоянно лавировать между негласными союзами и скрытыми намерениями своих сановников, поддерживать одних против других, возносить ничтожных и низвергать успешных, и всё это делать с изысканной любезностью и с выражением государственного величия на лице.
Высшие сферы Российского общества были пропитаны уксусом и желчью вражды, честолюбия, корысти. Люди в шитых золотом мундирах искали новых средств для достижения амбициозных целей. Их взоры всё чаще обращались в сторону хмурых и фанатичных разрушителей всякого рода – революционеров, «бомбистов», вождей зарождающихся криминальных кланов. Неудивительно поэтому, что крупнейшим революционным потрясениям 1905-го и 1917 годов предшествовала сильнейшая раскачка общества сверху. В этом деле высшей имперской бюрократии активно помогали её соперники-союзники —
Бубновые тузы
Словосочетание «бубновый туз» в приложении к дореволюционной России помимо прямого смысла может иметь два переносных значения. В каторжных тюрьмах на бушлаты заключённых, особо опасных преступников, нашивались красные ромбы – на спину и на грудь – чтобы конвоирам удобнее было целиться в случае попытки побега. Такие нашивки, а также их матёрые носители, не без иронии именовались «бубновыми тузами». Но тузами, и, несомненно, звонкой бубновой масти, называли также преуспевающих дельцов, новых русских богачей, промышленников, капиталистов, банкиров и биржевых спекулянтов – тех, кто успел нажить пресловутый «миллион», сделавшийся символом эпохи.
В перестроечное и постсоветское время сложилась традиция изображать деятелей первого русского капитализма в идиллических тонах: они-де и патриоты, и прогрессисты, и меценаты, и для рабочих своих – отцы родные. Рискнём разочаровать читателя: капиталисты сто лет назад мало отличались от тех, которых породила бандитская «прихватизация» 1990-х. Благотворительность и просветительство, конечно же, подавались к их столу «на сладкое», но в основе своей это была публика жестокая, алчная, авантюристичная и крайне беспринципная. В представлении российских фабрикантов, заводчиков и банковских воротил, цель оправдывала любые средства. Беззаконие было в этой среде явлением обычным, хотя и тщательно скрываемым под личиной солидного благообразия.
По своему составу и происхождению «бубновые тузы» – народ чрезвычайно пёстрый. В поэме «Современники» Николай Алексеевич Некрасов так описывает эту пестроту:
Во-первых, тут были почётные лица В чинах, с орденами. Их видит столица В сенате, в палатах, в судах. Служа безупречно и пользуясь весом, Они посвящают досуг интересам Коммерческих фирм на паях. Тут были плебеи, из праха и пыли Достигшие денег, крестов, И рядом вельможи тут русские были, Погрязшие в тине долгов. […] Сидели тут рядом тузы-иноземцы: Остзейские, русские, прусские немцы, Евреи и греки и много других — В Варшаве, в Одессе, в Крыму, в Петербурге Банкирские фирмы у них — На аки, на раки, на берги, на бурги Кончаются прозвища их.Некрасову можно верить: он был вхож в эти круги. Его описания подтверждаются документальными источниками. Согласно переписи 1869 года, в Петербурге всего насчитывалось 8732 предпринимателя. Из них в мещанском и ремесленном сословии числились 3054 человека, в крестьянском сословии – 2756 человек, иностранцев – 1081 человек, и лишь четвёртое место занимали купцы и почётные граждане – 713 человек. Дворян в этой компании не много: 162 человека, около 2 %. Впрочем, таким же был процент дворян в общем составе населения России. В капиталистическую деятельность удачно вписались русские женщины: в 1869 году прекрасный пол составлял около 12 %, а к 1900 году – более четверти общего количества столичных предпринимателей.
Разумеется, приведённые данные учитывают не только «бубновых тузов», но и владельцев мелких предприятий. Однако и в первых рядах российских миллионщиков мы видим выходцев из самых разных сословий, наций и стран. Князья Вяземский, Оболенский и Тенишев; купцы, нередко с древней старообрядческой родословной, такие, как Рябушинский, Коновалов, Гучков, Морозовы; выходцы из крестьян – Жуков, Обухов, Смирнов, Мальцев, Елисеевы; представители еврейских кланов – Поляковы, Гинзбурги, Мейеры, Гвайеры; всевозможные инородцы – Бенардаки, Мурузи, Манташевы; и иноземцы – Розенкранц, Торнтон, братья Нобели, Лесснер… Настоящий капиталистический интернационал.
Для всей этой публики единственной мерой ценности был финансовый успех, а прогрессивным считалось то, что ведёт к успеху. Никакое грязное деяние не вменяется во грех, если через него достигается прибыль. Некрасов вкладывает в уста одного из персонажей своей поэмы фразу, которая сделалась знаменем эпохи:
Подождите! Прогресс продвигается, И движенью не видно конца: То, что нынче постыдным считается, Удостоится завтра венца…Но успех и прибыль в России недостижимы без поддержки властей. Между «бубновыми тузами» и «пиковыми королями» складывались тесные и взаимовыгодные отношения, но союз этот, основанный на корысти, не был искренним. Как бы успешно ни функционировали постоянно обновляющиеся схемы передачи скрытых взяток (говоря по-современному, откатов) в обмен на правительственные гарантии, субсидии, заказы, подряды, как бы торжественно ни произносились тосты за сановных покровителей на «концессионных» обедах – словом, как бы тесно ни сплетались ветви дерев капиталистического леса со сложно извитыми ветвями российской государственности, представители крупного капитала не могли чувствовать себя комфортно и уверенно. У них было три врага: чрезмерная алчность той самой бюрократии, с которой они вынуждены были жить и дружить; ненависть, которую извечно питал и питает к богатству народ русский; наконец, самодержавная власть, не дающая капиталистам легальной возможности определять политику страны. Российские богачи постоянно вели борьбу с этими тремя врагами. Часто эта борьба принимала уголовные формы. Мошенничества, подлоги, финансовые махинации, а порой и более тяжкие преступления, вплоть до убийств, в этой среде совершались нередко.
В конце 1860-х годов много шуму наделал судебный процесс финансового туза Плотицына, пророка и вождя скопческой секты. Помимо вопиющих фактов сектантского изуверства, вскрылись и всевозможные коммерческие проделки этого человека, которому новообращённые отдавали все свои сбережения. Ко всему прочему выяснилось, что, требуя от последователей «наложения малой и большой божественной печатей», то есть частичного или полного оскопления, сам он не только не проделал над собой эту операцию, но завёл себе целый гарем из числа последовательниц.
В 1875 году весь Петербург судачил по поводу процесса миллионщика Овсянникова, владельца огромных складов, заправилы хлебного и сухарного производства. Он был обвинён в поджоге принадлежащей ему мельницы с целью получения страховки. На пожаре серьёзно пострадали несколько человек. Овсянников был осуждён, но добился освобождения от наказания.
Среди фигурантов уголовных дел – крупные домовладельцы братья Мясниковы, обвинявшиеся в подлоге завещания, и владелица золотых приисков Людмила Гулак-Артемовская, которая в обмен на интимные ласки добивалась у высокопоставленных сановников принятия решений, выгодных ей и её деловым партнёрам, и барон Фитингоф, замешанный в финансовые махинации, творимые под прикрытием возглавляемого им банка, и инженер Путилов, хозяин знаменитого завода, вложивший несметные суммы своих и чужих денег в прокладку морского канала и умерший под следствием… И это только те дела, которые удалось довести до суда.
Но уголовщина – невинное баловство по сравнению с другой сферой интересов «бубновых тузов». Чем дальше, тем внимательнее приглядывались они к революционному подполью. Привыкшие всё покупать и продавать, они надеялись купить энергию, кровь и жизнь разрушителей режима, чтобы с их помощью низвергнуть старую власть. А потом установить новую, такую, которая будет им послушна. Они были уверены, что это у них получится, что финансовой уздой они смогут крепко держать революцию и править ею. В этой дьявольской гордыне – разгадка того удивительного факта, что крупнейшие финансовые и промышленные магнаты сделались спонсорами революционного подполья. Хорошо известно, что крупные суммы передавали революционерам, в том числе и террористам, такие тузы всероссийского масштаба, как Морозовы или Манташевы. Они делали это почти в открытую, другие (например, Гинзбурги или Рубинштейны) – так скрытно, что и до сих пор их доля в общей плате за революцию не поддаётся установлению. Но, так или иначе, революция в России была совершена не на деньги японского или германского генштаба, а на деньги русских капиталистов.
Червонные валеты
Пятьдесят три года, протекшие с отмены крепостного права до начала Мировой войны, были для всей России годами неуклонного, постоянно ускоряющегося роста преступности. В первое же пореформенное десятилетие в несколько раз выросло количество имущественных преступлений, подлогов, мошенничеств. Середина 1870-х годов ознаменовалась лавиной злостных банкротств, банковских крахов, преступники скрывались, прихватив денежки своих разорённых вкладчиков. Вслед за этим поднимается волна преступлений против личности – на почве корысти, неприязненных отношений, ревности, зависти, аффекта. В начале XX века число убийств увеличилось втрое по сравнению с дореформенными временами; грабежей и разбоев – в 8-10 раз. Особую растерянность и тревогу в обществе вызвала эпидемия самоубийств, впервые захлестнувшая образованную молодёжь в начале 1880-х годов и затем повторявшаяся регулярно, примерно раз в десятилетие.
Именно в это время криминальная тема становится одной из ведущих в русской литературе: в пьесах Островского и Сухово-Кобылина, в романах Достоевского и Крестовского, в повестях Гаршина и Чехова. Литература, как всегда, чутко отреагировала на изменение менталитета нации. «Лучи света», рождённые новыми представлениями о сверхценности свободной личности, всё глубже проникали в «тёмное царство» сословных традиций. Под их воздействием таяли культурные и социальные запреты, казавшиеся вечными. Вместе с освобождением творческих сил народа, этот процесс нёс и освобождение от безусловных табу на самоубийство, убийство, воровство, хулиганство (именовавшееся тогда «озорным поведением»). В мире индивидуальностей совершить преступление несравненно легче, чем в мире жёсткого коллективизма.
Как и у всякого проявления индивидуальной свободы, у преступности в пореформенной России скоро нашлись свои идеологи и организаторы. На рубеже 1860—1870-х годов произошло знаменательное событие: родилась организованная преступность. В обеих столицах наших, в Петербурге и в Москве, появились устойчивые преступные сообщества, деятельность которых была теснейшим образом связана с растущим и крепнущим капитализмом. Об этом свидетельствуют громкие судебные процессы, будоражившие общество в те годы.
В 1869 году в Петербургском окружном суде рассматривалось дело отставного гвардии прапорщика Левицкого и группы его соучастников, исключительно дворян. Их обвиняли в подделке ломбардных билетов и других ценных бумаг. Безрукий Левицкий, ветеран Севастопольской обороны, отмеченный за храбрость наградами, организовал цепочку: добыча подлинных билетов, переделка их номинала на более высокий и сбыт. На суде Левицкого признали виновным, остальных оправдали. Не прошло и года, как Левицкий был доставлен из тюрьмы и вновь предстал перед судом вместе с отставным гвардии корнетом Янковским и мелким чиновником Боровиковым. Им инкриминировали подделку банковских билетов. На этот раз суд оправдал Левицкого. Спустя несколько месяцев после его освобождения, при попытке сбыта фальшивых купонов выигрышного займа, был задержан некий дворянин Христинич. Как оказалось, его разыскивали ещё по первому делу Левицкого. Следствием был обнаружен чемодан, доверху набитый фальшивыми деньгами, ценными бумагами, оттисками и заготовками. В 1869–1871 годах прошли и другие судебные процессы, связанные с подлогами, изготовлением и сбытом фальшивок, в ходе которых имя безрукого главаря периодически выплывало на поверхность. По одному из дел к суду было привлечено семнадцать человек: дворяне, чиновники, отставные офицеры, купцы, мещане, русские, поляки, евреи. Сходство составов преступления и наличие постоянных фигурантов, выступавших то в качестве свидетелей, то в качестве обвиняемых, наводит на мысль о возглавляемом Левицким преступном сообществе, многие участники которого были знакомы по службе в Измайловском и Гусарском гвардейских полках.
В Петербурге ещё не отгремели отголоски судебных речей на процессах по делам гвардейской шайки, когда новая вереница преступлений с одним и тем же составом участников заставила изрядно потрудиться полицию Москвы. Газетчики придумали этому пёстрому сообществу колоритное название: «Клуб Червонных валетов». Следствие продолжалось шесть лет, суд состоялся только в феврале – марте 1877 года. Поддерживал обвинение прокурор Московского окружного суда Н. В. Муравьёв. Для него это дело открыло путь к славе и высоким чинам: через семнадцать лет он сядет в кресло министра юстиции и будет занимать его вплоть до революции 1905 года.
Процесс «червонных валетов» потряс воображение тогдашней публики широтой криминальной сети. На скамье подсудимых – сорок восемь обвиняемых. Православные соседствовали с мусульманами и евреями; рядом с мещанами и крестьянами сидели дворяне и офицеры. Список фамилий подсудимых читался, как справочник по национальному вопросу: Петров, Неофитов, Огонь-Догановский, Левин, Мейерович, Массари, Эрганьянц… Двое из них – Николай Дмитриев-Мамонов и Всеволод Долгоруков – принадлежали к знаменитым аристократическим родам, были славны своими богатыми и влиятельными родственникам, имена которых использовали для обделывания тёмных дел. Следствие вскрыло массу фактов: образование контор типа «Рогов и копыт», создатели которых получали залоги от принятых на работу служащих и с деньгами скрывались; выманивание денег и векселей якобы для «верного дела» под обещания сказочных прибылей; спаивание и обирание «клиентов»; изготовление и использование подложных векселей и завещаний; мошенничества со страховками и тому подобные дела. Подсудимые Плеханов и Неофитов ещё во время отсидки в Московском тюремном замке в 1872 году организовали прямо там, в тюрьме, мастерскую по изготовлению фальшивых бумаг. Они же разработали проект создания некоей преступной ассоциации. Возможно, под впечатлением только что прогремевшего на всю Россию «нечаевского дела» (о нём речь впереди), отцы преступного синдиката вознамерились создать законспирированную криминальную организацию во главе с председателем, с советом из трёх авторитетных членов, с общим капиталом, лабораторией по изготовлению поддельных документов. Планировали вести и агентурную работу: внедрять своих людей на важные посты в государственных учреждениях.
«Авторитеты» типа Неофитова и Плеханова (фамилия обязывает) характером своей деятельности напоминают вождей подпольных революционных партий – Нечаева, Михайлова, Желябова. Другая обвиняемая по делу «червонных валетов», некая Башкирова, авантюристка высшей пробы, похоже, оказалась прообразом полумифической героини своего времени, Соньки Золотой Ручки. Башкирова, иркутская мещанка, провела детские годы в Ситхе, русской колонии в Америке, дружила с индейцами. После передачи Ситхи Соединённым Штатам поселилась в Николаевске-на-Амуре, оттуда бежала, скиталась в тайге; жила в прислугах у адмирала, сошлась с молодым флотским офицером. Потом каким-то образом оказалась в Японии. Возвращаясь оттуда, попала в шторм, чудом спаслась, добралась до Владивостока. Там довольно быстро нашла себе другого офицера, но он ей скоро наскучил. Отправилась искать счастья на Запад. В Иркутске мошеннически выманила крупную сумму денег у тамошнего губернатора. Затем, где-то на Урале, завела роман с одним состоятельным немцем и уехала с ним в Москву. Благодаря своему любовнику, познакомилась с миллионщиком Славышенским, очаровала его. Этот богач, юрист по образованию, оказывал услуги «червонным валетам». Башкирова, бросив немца, активно включилась в тёмные дела его шайки. И в конце концов хладнокровно пристрелила своего пожилого возлюбленного, когда тот стал выказывать признаки скупости и ревности.
Дело «червонных валетов» закончилось лишь частичным торжеством правопорядка: присяжные не признали факт существования преступного сообщества. В результате девятнадцать подсудимых были оправданы, а из двадцати девяти осуждённых большинство отделалось незначительными сроками заключения. Между тем устойчивые криминальные сообщества не только продолжали расти, но порой приобретали своеобразную политическую окраску.
В 1874 году в Петербургском окружном суде группа лиц – отец и сын Ярошевичи, акушер Колосов, библиотекарь Медико-хирургической академии Никитин и другие – обвинялась в подделке акций Тамбовско-Козловской железной дороги. Главарём шайки был Ярошевич-старший, прожжённый авантюрист, организатор ещё одного преступного сообщества, занимавшегося в шестидесятых годах похищением денег и ценностей из писем на петербургском почтамте. Он был осуждён, бежал за границу, но поддерживал связь с сыном. Производство фальшивых акций было налажено в Брюсселе, оттуда они ввозились в Россию. От организаторов этого чисто уголовного предприятия тянулись нити к революционному подполью и к политической эмиграции. Член шайки Никитин по службе был знаком со многими участниками петербургского нечаевского кружка, в основном состоявшего из студентов Медико-хирургической академии. Другой подсудимый, Колосов, пытался играть роль агента-двойника, одновременно работающего на преступников и на секретную полицию. На суде он утверждал, что ездил за границу, выполняя спецзадание: установить слежку за Карлом Марксом, а заодно выкрасть и вернуть в Россию самого Нечаева. Злоумышленники были приговорены к ссылке в «не столь отдалённые места Сибири». Но дело их продолжили новые «червонные валеты», а также —
Трефовые шестёрки,
адепты революционных сект. И первой из них была «Народная расправа», порождение главного беса русской политической преисподней – Сергея Нечаева.
Об этом человеке написаны книги. Уголовно-политический скандал вокруг созданной им организации стал достоянием криминальной хроники и вдохновил Достоевского на написание пророческого романа «Бесы». Напомним читателю содержание нечаевской истории.
Тут, конечно, не обошлось без совпадений-предзнаменований, которыми нечистая сила любит уснащать выпестованные ею сюжеты. В том самом апреле 1866 года, отмеченном судьбоносным каракозовским выстрелом, в те самые дни, когда столичная публика захлёбывалась в экстатических восторгах по поводу чудесного спасения возлюбленного монарха, на Николаевский вокзал Петербурга третьим классом из Москвы прибыл молодой человек блёклой наружности, скромно одетый, с жиденькими семинарскими усиками и с неожиданно пристальным взглядом глубоко посаженных серо-стальных глаз. Молодой человек не проявил интереса ни к красотам Северной столицы, ни к обстоятельствам недавнего покушения, о котором толковали в Петербурге все – от министров до извозчиков. Впрочем, обсуждать столичные новости скромному приезжему было не с кем: с министрами он не общался, услугами извозчиков за неимением денег не пользовался, да и вообще в этом городе у него знакомых не водилось. Звали молодого человека Сергей Геннадьев Нечаев, мещанин из Иваново-Вознесенска, восемнадцати лет от роду. Приехал в столицу держать экзамен на звание учителя церковно-приходской школы. С собой привёз маленький узелок с пожитками, скромный багаж знаний, почерпнутых у провинциальных наставников и у друзей – московских студентов… Да ещё безграничное честолюбие и болезненную память о своём происхождении. Отец нашего героя был рождён дворовой девкой от богатого барина и записан после отмены крепостного права в мещанское сословие.
В Петербурге Нечаев довольно скоро добился первой своей цели: получил учительское свидетельство, устроился работать – сначала в школу при храме Андрея Первозванного на Васильевском острове, а потом в школу при церкви св. Сергия, что на углу Литейного и Сергиевской. И снова совпадение: через улицу от школьного здания как раз в то время строится Дом предварительного заключения, в котором предстоит побывать многим из тех, с кем Нечаева сведёт в Петербурге судьба. Сергиевскую же церковь снесут через шестьдесят шесть лет, и на её месте построят здание приёмной НКВД-МГБ-КГБ, организации, воплотившей в жизнь многие нечаевские мечтания…
А мечтал он, как оказалось, о беспощадном разрушении существующего мира, для чего ему необходима была тотальная власть над душами людей. К осуществлению этой главной задачи Нечаев приступил осенью 1868 года. В Петербурге он обжился, свёл знакомство с широким кругом радикально настроенной молодёжи. Тут моден был социализм с французским прононсом, но на русский лад, по Фурье, Бланки, Прудону и Чернышевскому. Более всего товарищей завелось у Нечаева среди студентов Медико-хирургической академии. Из них несколько человек снимали вскладчину жильё в доме (ныне не существующем) поблизости от Домика Петра I, что на Петровской набережной. Там частенько проходили их полулегальные сходки. (В этом же скромном доме, облюбованном небогатыми съёмщиками, чуть раньше поселилась, перебравшись из Москвы, капитанская вдова Феоктиста Засулич с дочерьми… Но это сюжет следующего рассказа.) На сходках Нечаев вербует сторонников, проповедуя крайне радикальные взгляды. Он эпатирует студентов и курсисток призывами к терроризму а-ля Каракозов и разрабатывает принципы подпольной организации, представляющей собой нечто среднее между обществом политических заговорщиков и тайной сектой сатанистов.
Уже тогда проявилось главное качество этого не особенно умного, малообразованного, до вульгарности невоспитанного человека: дьявольское умение подчинять своей воле окружающих людей. Не говоря уж о девицах (те просто превращались в податливый воск под взглядом Нечаева), но прожженные и пропитые зрелые мужи – Бакунин, Огарёв, тюремные надзиратели – в скором времени испытают на себе силу его личности. Впрочем, как писал Пушкин: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!». Многие, многие русские люди искали предводителя в борьбе против сложившегося миропорядка. Такого вождя, который бы не отказался взять на себя ответственность за любое совершённое в этой борьбе злодеяние. Нечаев не знал сомнений и мук совести. Поэтому его гипноз действовал.
Всё же, среди петербургской «передовой» молодёжи в Нечаева-вождя не все поверили. Тогда он скрывается, разыграв комедию своего якобы ареста и побега из Петропавловки. Полгода скитается за границей, сводит дружбу с упомянутыми Бакуниным и Огарёвым. И, заручившись их поддержкой, осенью 1869 года под чужим именем, в тёмных очках и с наклеенной бородкой, как шпион из дурного детектива, появляется в Москве. Теперь он – известный в «свободолюбивых» кругах человек, осенённый авторитетом первоверховных апостолов революционной эмиграции. Автор страстных антиправительственных прокламаций и потрясающего текста, известного под названием «Катехизис революционера». Пересказывать его невозможно, цитировать было бы слишком долго. Скажем так: эта должностная инструкция профессионального разрушителя поражает сочетанием абсолютного отрицания существующего мироустройства с сектантским фанатизмом и фашистской брутальной истеричностью. Даётся санкция на любую ложь и любое злодейство ради великой цели – разрушения всего и вся. Провозглашается конспирация, основанная на принципе многостепенного посвящения в тайны секты и нерассуждающего подчинения низших высшим. Ставится ближайшая конкретная задача: истребление лучших (именно лучших, а не плохих) служителей существующего общества. Существующее общество названо «поганым». Это не ругательство, во всяком случае, не только ругательство. Слово «поганый» (от латинского «paganus» – деревенский, непросвещённый) в русском языке означало – «языческий». То есть посвященные – члены революционной Нечаевской секты – окружены миром непосвящённых, язычников, которых надо либо истребить, либо превратить в орудия. Орудия чего? Разрушения. Лучшее средство разрушения – преступление. Ему поётся гимн: «Мы соединимся с лихим разбойничьим миром: этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую всесокрушающую силу – вот наша организация, конспирация, задача».
С таким идейным багажом Нечаев приступает к сколачиванию в Москве своего «ордена меченосцев» – под зловещим именем «Народная расправа» – на сей раз преимущественно из числа студентов Петровской земледельческой академии. Но люди, даже слабые, зависимые, сбитые с толку, не хотят быть просто дешёвыми картами, трефовыми шестёрками в его руках. По крайней мере, не все хотят. Один из участников только что родившейся организации, студент с абсолютно усреднённым прозванием – Иван Иванович Иванов – вдруг бунтует: вздумав проявить самостоятельность, намеревается выйти из странной игры. Нечаев устраивает его убийство, после чего бросает своих соучастников на произвол судьбы и скрывается за границей.
Из рапорта начальника московского губернского жандармского управления И. Л. Слёзкина главному начальнику III Отделения графу П. А. Шувалову: «25 ноября на берегу пруда, находящегося в совершеннейшей глуши за садом Петровской земледельческой академии, верстах в 1½ от самого здания академии, найден труп студента академии Ивана Ивановича Иванова, со всеми признаками насильственной смерти: голова разбита и, кроме того, прострелена сзади пулею, вышедшей в левый глаз; шея затянута шарфом, к которому привязан кирпич, ноги в коленях и около ступней связаны бечевою, к которой также привязан кирпич. Ограбления нет».
Дело об убийстве Иванова было раскрыто полицией довольно быстро. Первые же арестованные сразу выдали других членов организации. Летом 1871 года в Петербурге состоялся процесс по «делу нечаевцев». Обвиняемых – восемьдесят четыре человека, из коих непосредственных участников убийства четверо, остальные – «политические». Процесс, конечно, поразил общество ужасными и отвратительными подробностями убийства, но приговор заставляет задуматься. Более половины подсудимых – сорок четыре человека – были оправданы, а из осуждённых лишь пятеро приговорены к каторге и ссылке, остальные – к незначительным срокам заключения. Притом свыше сотни арестованных по «нечаевскому делу» были освобождены от преследования ещё до суда. Возникает ощущение, что следствие намеренно раздувало масштабы нечаевской организации, стараясь поразить общество и запугать власть революционно-заговорщицкой угрозой.
Сам Нечаев будет арестован через год в Швейцарии, выдан русским властям и умрёт в 1882 году в «секретном доме» Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Но его дело надолго переживёт его самого. Главным образом потому, что наиболее дальновидные слуги и враги самодержавия убедились во взаимовыгодности своего существования. Государственная охрана нуждается в революции, чтобы расширять сферу своего влияния. Революция нуждается в жестокости государственной охраны, чтобы вербовать в свои ряды новых приверженцев. Более полутораста человек, молодых, ищущих свой жизненный путь, были арестованы вследствие случайной причастности к «нечаевскому делу», просидели по году и более в тюрьме, а затем были освобождены за отсутствием в их действиях состава преступления. Из тюрьмы они вышли убеждёнными врагами существующего общественно-политического строя. В каждом из них теперь скрывался будущий Нечаев.
Долгое эхо выстрела Веры Засулич
Покушение Веры Засулич на петербургского градоначальника Трепова в 1878 году – один из самых знаменитых террористических актов в истории России. От других политических покушений его отличает удивительная простота и ясность сюжета. Молодая женщина, безумная фанатичка (с точки зрения одних), героическая защитница униженных и оскорблённых (с точки зрения других) наказала царского сатрапа, а в его лице всю бесчеловечную власть, за беззаконие и произвол. Так как в России власть всегда бесчеловечна и всегда творила, творит и собирается творить беззаконие и произвол, эта версия всегда будет находить у нас понимание. Но так ли всё просто на самом деле? В этом стоит разобраться. Тем более что историческое значение выстрела Веры Засулич в чём-то даже более очевидно, чем значение покушения Каракозова. Эхо этого выстрела отозвалось в смертоносном гуле политического террора, который именно с 1878 года становится постоянным звуковым сопровождением гимнов и маршей Российской империи.
Молодая, без особых примет
Утром 24 января 1878 года градоначальник Петербурга генерал-адъютант Фёдор Фёдорович Трепов в своём недавно обставленном, ещё пахнущем свежим деревом кабинете на Гороховой, 2, занимался вполне рутинным делом: готовился к приёму просителей. Стрелка бронзовых настольных часов приближалась к римской цифре X. Градоначальник встал, слегка одёрнул мундир, выпрямился во весь свой императорский рост и двинулся к двери, ведущей в приёмную, на ходу принимая соответствующий сану величественно-милостивый облик. В высоком зеркале отразились: немолодая, но статная фигура в генеральском мундире, твёрдый овал лица и правильные черты, неумолимо свидетельствующие о том, о чём шептались в Петербурге, но вслух говорить избегали: настоящим отцом Трепова был государь император Николай Павлович. Ровно в десять, с последним ударом часов, генерал-адъютант собственной рукою отворил дверь и вступил в приёмную. Там было многолюдно, витал лёгкий шум приглушённых разговоров. При появлении Трепова все притихли, все лица обратились к нему. По правую и по левую руку от него, как ангелы в деисусном чине, склонились в почтительных полупоклонах подчинённые: офицер для особых поручений майор Курнеев, надворный советник Греч и дежурный офицер участковый пристав Цуриков. В сопровождении этой свиты Трепов двинулся вдоль строя просителей.
Впоследствии свидетели вспоминали об этой минуте различно. По словам Курнеева и Цурикова, первой в ряду ожидающих стояла бледная сероглазая молодая женщина в шляпке и долгополой тальме. Согласно письменным показаниям Трепова, до неё он ещё от кого-то принял прошение. Впрочем, это не существенно. Подойдя к бледной и сероглазой, градоначальник благосклонно глянул на неё, а затем – вопросительно – на Курнеева.
– Свидетельство о благонадёжности, ваше высокопревосходительство, – полушёпотом произнёс Курнеев, почтительно наклоняясь к треповскому аксельбанту.
– А, так, так. Позвольте? – обратился Трепов к женщине, беря из её рук бумагу.
«Всё понятно, – подумал он, невнимательно слушая довольно-таки сбивчивую речь просительницы. – Накуролесила, небось, с нигилистами по молодости, а теперь, как есть нечего стало, хочет поступить в учительницы. Видно – не из богатых».
Трепов любил бедных. И всегда старался показать другим, а прежде всего себе, что любит их. В его голове мгновенно сложился короткий ответ, который он изволит начертать на прошении по окончании приёма: «Выдать госпоже… Как её?.. – Трепов глянул в бумагу, – дворянке Козловой свидетельство, дабы работала».
Он ещё раз окинул взглядом невзрачную фигурку в длинной серой накидке. «Пускай честным трудом хлеб добывает. Развели с этими политическими: их бы высечь по-отечески, да отпустить – кто в молодости не увлекался? – а их судят, шум на весь мир делают». Трепов был очень раздражён со вчерашнего дня. Вчера был вынесен судебный приговор по процессу, тянувшемуся целых три месяца. И что? Из ста девяноста трех юнцов и юниц, привлечённых к суду за преступную пропаганду социальных учений, осуждены всего шестьдесят четыре, а остальные освобождены прямо в зале суда. Теперь они, отсидевшие в предварительном заключении кто год, кто два, а кто и три с лишним, озлобленные и радостные, разлетелись по городу, им внимают, их встречают как героев лохматые студенты и глупенькие курсистки. Беспорядки в городе обеспечены – а кто будет отвечать перед государем? Не жандармы, не судейские, а он, Трепов.
Градоначальник слегка кивнул этой просительнице, передал исписанный лист Гречу и двинулся дальше. Следующей в очереди стояла какая-то старушка. Трепов обратил лицо к ней, готовясь слушать… В этот момент он неким странным чувством ощутил внезапную перемену в приёмной. Как будто что-то непонятное и страшное, как общий вздох, пролетело и мгновенно растворилось в воздухе. В следующий момент он почувствовал очень сильный удар в левый бок и понял, что падает. Услышал громкий отвратительный треск. В голове мелькнуло: «Стреляют? Почему стреляют?» Инстинктивно схватился за левую сторону мундира. И осознал, что лежит на полу, а по его мундиру расползается что-то горячее и липкое. Боль ощутил позднее. Почти не слыша шума и криков, заставил себя встать. Его уже поддерживали под руки. Стараясь сохранить твёрдость шага, дошёл до дивана. Лёг. Велел вызвать врача.
И краем глаза увидел: эту маленькую, сероглазую, схватили и, кажется, бьют. Прекратить! Как смеют? Бить женщину в приёмной градоначальника! Впрочем, скомандовать уже не мог: голос, неожиданно оказавшийся слабым, не пробивался сквозь крики офицеров и визги дам.
«Сохраняла полное спокойствие»
Из петербургских газет.
25 января 1878 года. «Накануне, в 11-м часу утра в приёмной градоначальника одна из просительниц левой рукой выстрелила в генерал-адъютанта Трепова из револьвера, спрятанного под тальмой. Пуля попала в верхнюю часть таза с левой стороны и, раздробив кость, проникла ниже и засела внутри…». «На допросе арестованная заявила, что она – дочь поручика, домашняя учительница Елизавета Ивановна Козлова, 23-х лет от роду. Покушение своё Козлова объяснила тем, что заинтересована делом государственного преступника Боголюбова…». «Генерал-адъютант Трепов, раненый, дошёл до дивана сам и потребовал докторов. Последние признали рану опасной».
27 января. «Назвавшись Козловой, виновная скоро отреклась от этого имени… Некоторые соображения заставили обратиться к „нечаевскому делу“, при просмотре которого обратило на себя внимание сходство примет Козловой с приметами Веры Засулич, привлекавшейся по делу Нечаева… Мать Веры, Феоктисту Засулич, немедленно отыскали, она признала свою дочь». «Дознание осуществляется жандармским ведомством… На допросах в Градоначальстве и в III Отделении Засулич сохраняла полное спокойствие. Самообладание изменило ей только тогда, когда против неё был установлен фотографический прибор. Она усиленно старалась гримасами исказить своё лицо».
4 марта. «Предварительное следствие по делу Засулич вчера закончено и направлено к товарищу прокурора Петербургского окружного суда. Следствие было проведено судебным следователем 1-го участка города Петербурга Кабатом под наблюдением местного прокурорского надзора в соответствии с Судебными установлениями 20 ноября 1864 года».
Из обвинительного заключения, зачитанного 31 марта 1878 года в заседании Петербургского окружного суда с участием присяжных (председательствующий А. Ф. Кони):
«Дочь капитана Вера Ивановна Засулич, 27 лет, обвиняется в том, что с целью лишить генерал-адъютанта Трепова жизни, приобрела револьвер и, явившись в один из приёмных дней в канцелярию градоначальника, выстрелила ему на близком расстоянии в левый бок… Обвиняемая… объяснила, что преступление совершено ею с заранее обдуманным намерением, причём последствия произведённого ею выстрела – смерть Трепова или нанесение ему тяжёлой раны – были для неё безразличны, так как она, тем или другим способом, желала отомстить градоначальнику за его распоряжение о наказании розгами арестанта Боголюбова». Револьвер – пятизарядный «Бульдог» – прилагается в качестве вещественного доказательства.
Из показаний на суде свидетеля Курнеева: «Подсудимая Засулич была введена мною в числе прочих и поставлена первою… Когда вошел градоначальник, он принял от неё прошение и повернулся к следующей просительнице, и когда начал говорить с нею, я сделал подсудимой знак глазами, чтобы она вышла… Когда я сделал знак, чтобы она вышла, она сделала движение, как будто хотела выходить, и в этот момент последовал выстрел.
Председательствующий Кони: В каком расстоянии она стояла?
Курнеев: В полшаге».
Показания Курнеева в основном подтверждаются показаниями свидетелей Греча, Цурикова и других, присутствовавших тогда в приёмной канцелярии градоначальника. Обстоятельства покушения ясны. По инициативе защиты, суд переходит к изучению мотивов преступления. А именно, к опросу свидетелей того самого происшествия с политическим заключённым Боголюбовым, о котором, как о причине своего поступка, заявила подсудимая.
О «позорном розгосечении»
Тут самое время познакомить читателя с главной героиней процесса, а также поведать об инциденте с Боголюбовым.
Вера Ивановна Засулич родилась в 1851 году в семье небогатого отставного капитана; рано умершего отца почти не знала. Обучалась в Москве в частном пансионе, который закончила в 1867 году, выдержала экзамен на домашнюю учительницу, недолгое время работала в секретарской должности при мировом судье в Серпухове. Осенью 1868 года перебралась в Петербург. Нашла кое-какой заработок в переплётной мастерской, заодно определилась в Сергиевскую приходскую школу, осваивать новомодные методики обучения. Учителем в этой школе был Сергей Нечаев, тот самый. С Нечаевым осьмнадцатилетняя Вера встречалась и на студенческих сходках, проходивших в том же доме, где они жили с сестрой и матерью, и, конечно же, подпала под его демоническое влияние. Результат: увлечение идеями революционного заговора и исполнение некоторых конспиративных поручений Нечаева. 30 апреля 1869 года Засулич была арестована и пробыла в заключении, преимущественно одиночном, почти два года. В нечаевском процессе, однако, не участвовала: в марте 1871 года освобождена от суда и выпущена из-под стражи за отсутствием доказательств вины. Через три недели снова арестована без предъявления обвинения и выслана в административном порядке из Петербурга в город Крестцы Тверской губернии; как сама потом говорила на суде – в чём была, без вещей, с несколькими рублями в кармане. Выжила благодаря помощи добрых людей. Затем новые ссылки: Тверь, Солигалич, Харьков… В 1876—77 годах (надзор с неё сняли в 1875-м) была замешана в деятельности революционного кружка в Киеве, впрочем, сведения об этом туманны. В 1877 году официально числилась проживающей в Пензенской губернии.
Как раз летом этого года в Петербурге, в Доме предварительного заключения, произошло событие, малозначительное само по себе, но породившее вереницу роковых последствий.
13 июля Трепов по каким-то делам приехал в Дом предварительного заключения. Эта новейшая питерская тюрьма боковой стеной примыкала к зданию Судебных установлений (Литейный, 4), а двумя фасадами выходила на Шпалерную и Захарьевскую улицы. В то время там содержалось много «политических» – подсудимых по двум большим процессам о пропаганде, а также по «делу о преступной демонстрации у Казанского собора 6 декабря 1876 года». Среди этих последних был один, бывший студент, проходивший по делу под фамилией Боголюбов (настоящая фамилия, как выяснилось позже, Емельянов). Суд над «казанцами» состоялся ещё в марте, Боголюбов был приговорён к каторге, но пока рассматривалась кассационная жалоба, содержался в Доме предварительного заключения. Он как раз прогуливался в специально отведённой для этого части двора в компании кого-то из товарищей по несчастью, когда через двор проходил Трепов в сопровождении начальника Дома майора Курнеева. Трепов пребывал в раздражённом состоянии. Его вообще бесила эта возня с молодыми дураками и дурами, воображающими себя борцами за правду. Он был убеждён, что революционная пропаганда в России находит наилучшую подпитку в этих высосанных из пальца политических процессах. Кроме того, его мучили постоянные интриги, которые плелись против него в Министерстве внутренних дел, в Министерстве юстиции, в III Отделении, даже здесь, в тюремном ведомстве. Да ещё вести с фронта: турецкая война, начавшаяся три месяца назад с такой помпой, идёт худо, затягивается, а значит, все эти карьеристы, великие князья и генералы, долго ещё будут оставаться там, выслуживать чины и награды, пока он здесь один борется со всевозможными беспорядками.
На глаза ему попались несколько прогуливавшихся заключённых. Остановившись, Трепов начал по-генеральски громко выговаривать Курнееву: почему подсудимые по одному делу гуляют вместе, хотя общение между ними запрещено? Его слова долетели до слуха Боголюбова, который, видимо, из лучших побуждений, желая устранить недоразумение, крикнул что-то о том, что он, мол, вовсе по другому делу, нежели эти. Трепова разозлило внезапное вмешательство заключённого. Он, в свою очередь, прокричал что-то резкое, вроде «Тебя никто не спрашивает!» И даже – «В карцер его!» Точно, конечно, никто не запомнил слов, произнесённых в запальчивости градоначальником. Дальше вроде бы случилось так, что, возвращаясь через тот же двор, Трепов вновь столкнулся с Боголюбовым. Его окончательно взбесило невыполнение приказа. По обычной для российских начальников привычке, он сорвал зло на том, кто был под рукой, а именно, на Боголюбове. То ли ударил и сбил с него шапку, то ли всего лишь замахнулся на него с грубой бранью. Свидетельства очевидцев весьма противоречивы. К несчастью, Трепов обладал громким командирским голосом, его услышали в камерах, окна которых выходили во двор. Через мгновение все обитатели этих камер, измученные скукой одиночного заключения, приникли к решёткам. В бешенстве Трепов крикнул подбежавшему Курнееву, указывая на арестанта: «Высечь негодяя!» Или что-то в этом роде. Опять же, свидетели вспоминали разное. Несомненно то, что в камерах при этой сцене поднялся страшный шум. Кричали, били кружками о решётки. Многомесячное душевное напряжение нашло наконец выход. Выкрикивали какие-то лозунги, смысл которых сами не понимали; из окон женского отделения неслись вопли, как из глубин ада. Словом, всеобщая истерика и бунт. Боголюбова увели, а Трепов уехал в самом отвратительном расположении духа.
В самом деле, как быть? В Доме предварительного заключения – беспорядки. За это кого-то надо примерно наказать. И тут ещё эта опрометчиво брошенная фраза про «высечь». Телесные наказания вроде бы законами отменены, хотя в отношении осуждённых на каторгу их, помнится, в каких-то случаях применять можно. А вот отступать от своего слова, даже выкрикнутого в запальчивости, нельзя: какой же иначе будет авторитет, какое уважение к власти? И Трепов поехал в Министерство юстиции посоветоваться, в глубине души надеясь, что там ему скажут: сечь нельзя!
Но директора департамента Кони, на которого надеялся Трепов, не оказалось на месте. (Потом, по словам Кони, Трепов будет жаловаться ему: «Я ведь солдат, я – человек неучёный, юридических тонкостей не понимаю!» И с трогательной наивностью сообщит, что лично послал Боголюбову в утешение чаю и сахару.) Пришлось идти к министру юстиции графу Палену. Этот неожиданно зло заявил, что он считает решение высечь арестанта совершенно правильным, что вообще их всех сечь надо. Деваться было некуда. Вечером того же дня Трепов отправил в Дом предварительного заключения офицера с приказом подвергнуть заключённого Боголюбова двадцати пяти ударам розгами. (Весьма замечательно, что исполнял приказ полицмейстер Дворжицкий: через три с половиной года именно он будет сопровождать императора в его роковом пути по Екатерининскому каналу навстречу бомбам Рысакова и Гриневицкого.) Экзекуция совершилась во дворе, её можно было видеть из окон. Вслед за этим Боголюбова перевели в тюрьму Литовского замка, а арестантов Дома предварительного заключения, особенно бурно участвовавших в беспорядках этого дня, побросали в карцер.
В общем, история вполне нелепая, а значит, для России обыкновенная. В последующие дни известия о розгосечении и бунте в Доме предварительного заключения просочились в газеты. Курнеева на всякий случай перевели в Градоначальство, офицером для особых поручений. Впрочем, тогда, летом 1877 года, всё это дело общественного интереса не вызвало. Тем более что в печатных публикациях не было названо имя Трепова. Да и вообще имена названы не были. О Боголюбове скоро позабыли. И вот, в январе – этот неожиданный выстрел.
«Невиновна!»
Разумеется, первое предположение, родившееся 24 января во всех умах: покушавшаяся – любовница или невеста Боголюбова, мстящая за своего униженного возлюбленного. Тогдашнее общество очень любило такие кровопускательные мелодрамы. Судебно-следственные власти в определении характера дела исходили именно из этой версии. И хотя вскоре выяснилось, что Засулич вовсе не была знакома с Боголюбовым и никогда с ним не виделась, это не помешало квалифицировать её преступление как совершённое на почве личной мести.
По странному стечению обстоятельств, как раз 24 января 1878 года в свою должность вступил новый председатель Петербургского окружного суда Анатолий Фёдорович Кони, тот самый, у которого Трепов 13 июля искал и не нашёл ответа на вопрос «Что делать?» В его карьере и жизни процесс Веры Засулич вскоре сыграет роковую роль (как, впрочем, и в жизни других ключевых участников). Тем зимним утром Кони не успел ещё толком осмотреться в кабинете на Литейном, 4, как получил известие: в Трепова стреляли, он ранен, стрелявшая задержана. Тут же отправился на Гороховую. Там он застал министра юстиции графа К. И. Палена и прокурора Петербургской судебной палаты А. А. Лопухина. При виде Кони Пален воскликнул, обращаясь к Лопухину и как бы продолжая начатую беседу: «Да! Анатолий Фёдорович проведёт нам это дело прекрасно». Кони поинтересовался: «Разве оно уже настолько выяснилось?» – «О, да! – ответил за Палена Лопухин, – вполне, это дело личной мести, и присяжные её обвинят, как пить дать». Так, во всяком случае, Кони излагает этот разговор в воспоминаниях, опубликованных много лет спустя. И далее вспоминает о том, как, собираясь уходить, повстречал на лестнице самого хозяина Земли Русской. «По лестнице шёл государь навестить Трепова, останавливаясь почти на каждой ступеньке и тяжело дыша, с выражением затаённого страдания на добром лице, которому он старался придать грозный вид, несколько выпучивая глаза, лишённые всякого выражения».
Было определено: политического шума не поднимать, дело квалифицировать как уголовное и расследовать обычным порядком, то есть не в Особом присутствии Сената, а в окружном суде с участием присяжных. Но так как покушение совершено всё-таки на человека государственного, следствие вести при участии жандармерии.
Следствие шло как по маслу. Обвиняемая полностью признала факт совершения ею покушения. Орудие преступления налицо. Показания многочисленных свидетелей сходились во всех существенных деталях. Через месяц они собраны и подшиты, дело сдано прокурору, день суда назначен, и вот он уже наступил. Обвинителем выступает товарищ прокурора Кессель, защиту осуществляет присяжный поверенный Александров. Определён состав присяжных: несколько почтенных чиновников, двое купцов, дворянин, студент… В общем, средний класс. Зал суда между тем заполнился публикой. Интерес к делу проявился нешуточный, мест для рядовой публики не хватало, у подъезда здания Судебных установлений с утра стала собираться толпа. Рассказывали, что в зале, на скамье для особо почётных присутствующих, сидит сам министр иностранных дел канцлер князь Горчаков. Что в ложе прессы видели мрачный лик Достоевского. В обвинительном приговоре не сомневались; знатоки юридических тонкостей обсуждали только: дадут «со снисхождением» или «без снисхождения»? Склонялись к тому, что «со снисхождением». «А там судья выпишет два-три года тюрьмы, тем и закончится», – авторитетно заявляли пророки.
Судебный процесс начался в одиннадцать утра и шёл без сучка и задоринки. Похоже, прав был прокурор палаты Лопухин: дело абсолютно ясное. Таким оно оставалось до седьмого часа вечера, когда присяжные удалились на совещание. Около семи часов вышли из совещательной комнаты. Старшина присяжных надворный советник Лохов протянул председательствующему вопросный лист. Оглашённый вердикт имел эффект землетрясения. «Невиновна!»
Переполох на Воскресенском
«Всё смешалось в доме Облонских». Один Кони, пожалуй, смог в эту минуту совладать с собой и, в полном соответствии с законом, почти твёрдым голосом объявил, обращаясь к скамье слева: «Подсудимая, вы оправданы!»
В зале как будто что-то надломилось. Так, наверное, надламывается горная порода в момент извержения вулкана. Аплодировали, кричали, стонали от восторга. Кто-то ринулся на улицу сообщить о происшедшем. Через несколько минут всё пространство улицы на углу Литейного и Шпалерной кипело и клокотало всеобщим потрясающим душу ликованием. Адвокат Александров, вышедший на крыльцо, был тут же подхвачен десятками рук и понесён неведомо куда – как оказалось, к славе. Толпа не собиралась расходиться, а только росла, несмотря на опускающиеся сумерки. Из неорганизованной массы индивидуумов она мгновенно преобразилась в осмысленную силу, именуемую словами «антиправительственная манифестация». Выкрикивали какие-то фразы, напоминающие тосты. Длинные речи были не нужны: все и так понимали друг друга. Ждали Героиню. Время шло. Она не появлялась.
Что такое? Почему? Схватили? Похитили? Казнили? Нет. После оглашения приговора Вера Ивановна, капитанская дочь, отправилась в свою камеру – собирать вещи. Не спешила, даже села попить чайку напоследок. Она, конечно, чувствовала страшную усталость и, как это не удивительно, разочарование. Ждала эшафота, мученичества, а тут… «Подсудимая, вы не виновны». Как будто и не было ничего.
Зато вокруг все суетились. Начальник Дома предварительного заключения, назначенный после Курнеева, полковник Фёдоров вместе с ответственным за охрану суда полицмейстером Дворжицким (опять тот же Дворжицкий!) решали непростую задачу: через какие двери выпустить оправданную, чтобы по возможности не привлечь внимания толпы и собственного начальства. Но по извечной российской привычке, все двери оказались наглухо запертыми и заваленными всяким мусором, кроме той единственной, выходящей на Шпалерную, через которую обычно выпускали освобождённых. Толпа уже перетекла туда. Сгущались сумерки, когда Засулич вышла. Под приветственные клики нескольких сотен глоток села в кем-то подогнанную карету. Карета медленно тронулась, сопровождаемая неубывающей толпой. Это странное шествие с каретой во главе, напоминавшее то ли шутовские похороны, то ли южноамериканский карнавал, потекло по Шпалерной, свернуло на Воскресенский проспект… На углу Воскресенского и Фурштатской шествие упёрлось в преграду: полиция и конные жандармы. Что произошло дальше в тусклом освещении уличных фонарей – никто толком описать не мог. В толпе вспыхнула мгновенная уверенность: жандармы присланы похитить народную героиню. Началась сумятица и драка, посреди которой грянули выстрелы. Ни тогда, ни потом не удалось выяснить, кто стрелял. Люди кинулись врассыпную. Через несколько минут перекрёсток опустел. Итог бессмысленной стычки подвели к ночи: один убитый студент, одна раненая курсистка, один контуженый жандарм, рядовой.
Примерно в тот час, когда на Воскресенском всё стихло, полковник Фёдоров получил за подписью прокурора Судебной палаты Лопухина предписание, прочитал его, протёр глаза и снова прочитал. «Содержать Веру Засулич под стражей». Подпись. Росчерк. Спустя годы Фёдоров вспоминал, что сначала принял эту бумагу за мистификацию, «так как всему Петербургу уже было известно об освобождении Засулич, а тем более прокурору, из канцелярии которого четыре часа тому назад я получил предписание о немедленном её освобождении». Примерно в то же время полиция и жандармерия получили приказ арестовать оправданную Веру Засулич. Это тоже был начальнический бред. Засулич скрылась, несколько недель жила по разным адресам, где её почему-то никак не могли разыскать «царские ищейки», затем выехала за границу, летом того же года объявилась в Швейцарии, где и обосновалась надолго. Ни тогда, ни после компетентные органы Российского государства так и не обратились к правительству Швейцарии с просьбой о её выдаче.
Тайны следствия
Дело Засулич до вынесения судебного приговора казалось простым министру Палену и прокурору Лопухину; после суда оно тоже казалось простым вечно фрондирующей российской общественности. Покушение на почве личной мести превратилось в героический акт возмездия царскому сатрапу. Между тем во всей этой истории есть нечто совершенно загадочное. А именно – следствие. Оно от начала до конца строится на одной-единственной версии, притом выдвинутой самой подследственной. Факты и обстоятельства, которые могут поставить под сомнение убедительность этой версии, во внимание не принимаются.
При знакомстве с материалами дела возникает масса вопросов, а внятных ответов на них нет. Ну, во-первых: почему в качестве причины покушения избрано рядовое, в общем-то, и не особо резонансное происшествие с Боголюбовым? И почему новая Шарлотта Корде твёрдо знает, кому и за что нанести удар – как будто сама присутствовала полгода назад в тюремном дворе? Ведь имя Трепова нигде публично не было названо в связи с бунтом в Доме предварительного заключения. От кого пензенская ссыльная Засулич получила точную информацию о боголюбовском инциденте? В ходе следствия эти источники выявлены не были. На суде председательствующий поинтересовался: «От кого знаете?». «От знакомых», – ответила Засулич. Председательствующий удовлетворён.
Ещё более изумляет нарочитое невнимание следствия к обстоятельствам подготовки покушения. Засулич приезжает в Петербург, когда – тоже не выяснено, видимо, в конце декабря (прошло уже полгода после инцидента в Доме предварительного заключения). Через посредника, так и оставшегося неизвестным,[1] приобретает револьвер, потом через того же посредника меняет его на другой, более мощный. Как только оружие готово, она под именем Елизаветы Козловой является на приём к Трепову, хорошо зная, что он бедным просительницам в аудиенции не отказывает. И производит свой выстрел. Тут видно не только «заранее обдуманное намерение», тут проступают контуры плана и тени соучастников. И опять же, следствие не пытается выяснить, кто этот таинственный незнакомец, дважды появлявшийся в оружейном магазине Лежена, чтобы приобрести подходящее оружие. Вера Засулич просто заявляет следствию, что револьвер по её просьбе купил ей знакомый, а для чего пятизарядный «бульдог» предназначался – этого он не знал и к «акту возмездия» никакого отношения не имеет. И следствие, и суд верят ей без колебаний. А нам, прямо скажем, поверить в это трудно. «Купи, пожалуйста, мне револьвер, и помощнее!» – не самая заурядная просьба, с которой может обратиться молодая женщина к приятелю. «И он послушно в путь потек» и возвратился с оружием, даже не поинтересовавшись, зачем оно нужно! Но допустим, допустим, что есть такие верные друзья, готовые без лишних вопросов выполнить любую прихоть женщины. Но ведь и в этом случае «таинственный незнакомец» – свидетель, чьи показания могут оказаться важными для обвинения. Ведь вызвали же на допрос Лежена-младшего, продавца в магазине своего папаши. А покупателя, которому Лежен из рук в руки передал смертоносный ствол, не только не нашли, но даже не попытались выяснить, как его зовут.
Поразительно, что ни во время предварительного следствия, ни на суде не был допрошен никто из знакомых Засулич (кроме её матери, при участии которой была установлена личность стрелявшей). Поразительно, что ни у следователей, ни у прокурора, ни у судей не возник вопрос: зачем Засулич, идя на подвиг ради возмездия, пыталась скрыть свою личность, причём настолько тщательно, что даже при фотографировании «усиленно старалась гримасами исказить своё лицо»? Возникает ощущение, что следственные и судебные власти больше всего на свете боялись выявить связи Засулич, обнаружить факты, указывающие на то, что она действовала не в одиночку, что покушение на Трепова есть результат хорошо спланированного заговора.
Может показаться, что мы ломимся в открытую дверь. Давно понятно: Вера Засулич – революционерка, действовала по заданию революционного подполья. Однако эта, ещё одна «простая» версия, основывается не на фактах, а на заявлениях, столь же непроверенных, как и заявления Засулич на следствии. Они сделаны задним числом, в мемуарах, её соратниками по более поздней революционной деятельности. Сама она в своих весьма отрывочных и неполных воспоминаниях обходит молчанием всё, что предшествовало покушению. Заметим: общероссийского революционного подполья в то время не существовало. И трудно понять, почему Засулич, проведшая семь лет в ссылке вдали от Петербурга и ничем особенным за эти годы себя не проявившая, вдруг получает от одного из петербургских революционных кружков задание: убить Трепова. Но даже если это было так, всё равно остаётся необъяснённым то упорство, с которым в ходе следствия отбрасываются все указания на наличие у Засулич сообщников, на существование политического заговора против Трепова.
Разумеется, на эти странности не мы первые обратили внимание. Ещё Кони в воспоминаниях о деле Засулич указывает на почти маниакальное стремление представить покушение как поступок мстительницы-одиночки, что, по его мнению, было особенно странно «со стороны министерства, которое ещё недавно раздувало политические дела по ничтожнейшим поводам». Он же называет имя человека, неуклонно проводившего эту линию: прокурор Судебной палаты Лопухин. И объясняет такое поведение личными качествами Лопухина и его карьерными интересами.
Такое объяснение, по меньшей мере, недостаточно! Следователь Кабат, ведший дело Засулич, подчинялся не Лопухину, а прокурору окружного суда (этот пост годом раньше занимал Кони, а после него – Желеховский). Обвинительный акт подписывал не Лопухин, а товарищ прокурора окружного суда Кессель. Дознание проводили и в предварительном следствии участвовали жандармские офицеры, никак не связанные по службе с Лопухиным и вообще с Министерством юстиции, а подчиняющиеся III Отделению. Наконец, с первого до последнего дня следствие контролировал министр юстиции, генерал-прокурор Пален, непосредственный начальник Лопухина.
Итак, если действительно было принято решение – во что бы то ни стало представить стрелявшую в Трепова женщину одинокой Немезидой, – то оно было принято на самом высоком уровне. Возможно даже, выше Палена. А выше министра в служебной иерархии Российской империи стоял только император.
Вспомним: тот же Кони сообщает о своей встрече с государем на лестнице в здании Градоначальства. Анатолий Фёдорович спустился вниз и отправился по своим делам, а Александр Николаевич поднялся наверх, в приёмную, где находились в это время Пален и Лопухин. Вне всякого сомнения, между ними и государем состоялся разговор. И, судя по всему, были получены (или сообща выработаны) некие установки. Установки эти родились не из обстоятельств самого дела – тогда бы их легко было изменить в процессе следственной работы – а на основании внешних соображений политического характера. Только таким образом можно объяснить все странности следствия. Ход (и, как казалось, исход) дела был предопределён верховной властью ещё тогда, когда даже личность стрелявшей не была установлена. Верховную власть, в отличие от общественности, интересовала не она, а Трепов. Он лежал, раненый, в соседней комнате, а здесь, в приёмной Градоначальства, решалась его судьба.
Несущиеся в танце
На протяжении 1860—1870-х годов за широкой спиной самодержавной власти шла непрерывная глухая борьба придворных группировок. Они не имели названий, чёткой идейной ориентации и определённого состава. Это была своеобразная кадриль, в которой партнёры сходились, расходились, менялись местами в зависимости от личных амбиций и политических обстоятельств. В глазах всезнающей и обо всём догадывающейся столичной общественности они представали как «либеральная» и «консервативная» партии, но считать их таковыми по существу можно очень условно. Центром притяжения так называемых «либералов» был двор великого князя Константина Николаевича; точкой опоры их противников – покои императрицы Марии Александровны и наследника престола Александра Александровича[2]. А так как столичная общественность в основной своей массе была настроена либерально и даже, пожалуй, отчасти революционно, то «партия Константина» имела в Петербурге немалое влияние. Самодержцу, конечно, приходилось лавировать между сторонниками жены и сторонниками брата. В какой мере сама императрица Мария Александровна и великий князь Константин Николаевич участвовали в этих политических танцах – определить непросто. Всё ведь было прикрыто золотошвейным покровом верноподданнических фраз. Однако либеральные реформы первой половины 1860-х годов проводились под непосредственным руководством Константина. Одним из главных порождений этих реформ стала судебная система образца 1864 года, открытое и гласное судопроизводство, суд присяжных. Под эту систему перестроено было и Министерство юстиции, ставшее на полтора десятилетия главным прибежищем правительствующих либералов.
Вообще, в ходе этих самых реформ «партия Константина и Конституции» слишком уж явно стала забирать верх над «ретроградами». Нужно было восстановить баланс. И тут гремит выстрел Каракозова. Начинается «реакция». Во всяком случае, так это прозвали в вольнодумных петербургских салонах. Министр внутренних дел П. А. Валуев заменён А. Е. Тимашевым, министр юстиции Д. Н. Замятнин – графом К. И. Паленом. Те, прежние, уже срослись с «константиновской» линией. Эти, новые, – «консервативны», стало быть, потянут в другую сторону. Но главное «посткаракозовское» назначение – граф П. А. Шувалов, «Пётр IV», как его называли либеральные петербургские языки, восшедший на престол начальника III Отделения и шефа жандармов. Он – личный враг Константина и на долгие годы подлинный лидер «партии ретроградов».
Амбициозного и властного Шувалова надо было кем-то уравновесить. Почти одновременно с жандармерией обретает нового главу и петербургская полиция: обер-полицмейстером столицы назначен Трепов. Это назначение было особо продумано государем. Человек, близкий по крови и далёкий от борьбы придворных кланов, малообразованный, но добросовестный и надёжный – Трепов как нельзя лучше подходил на роль центра, неподвижной точки опоры, по обе стороны от которой будут подниматься и опускаться чаши политических весов.
Трепов оправдал ожидания самодержца. Прежде всего, он оказался в высшей степени на месте в качестве хозяина города. Через несколько лет он получает звание градоначальника, при нём создаётся мощная структура городского управления – Градоначальство, в котором, помимо управления полицией, сосредоточены санитарные, пожарные, градостроительные, статистические и прочие службы. Даже публичные дома и канализация находятся в ведении градоначальника. Трепов вникает во всё, управляет всем, принимает всех и взыскивает за всё. При нём в столице ведутся большие и многообразные работы: строится Центральная водопроводная станция и прокладывается водопровод, проводится конная железная дорога (конка), возводится второй постоянный мост через Неву – Литейный, упорядочивается нумерация домов, мостятся улицы, развивается уличное освещение. Реформируется городская полиция. Для борьбы с преступниками создаётся Сыскное отделение во главе с великим сыщиком Иваном Дмитриевичем Путилиным. Издаётся газета «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции». Предпринимаются первые попытки улучшить условия труда и быта рабочих. Словом, не случись того выстрела в январе 1878 года, Трепов вошёл бы в историю как лучший петербургский градоправитель.
По складу личности Трепов был прямолинеен, вспыльчив, грубоват, прост в общении (пожалуй, иногда даже простоват), ответственен и верен слову. В общем, личность довольно-таки симпатичная, особенно на фоне хитроумных и напыщенных карьеристов-царедворцев. Недаром убеждённый либерал А. Ф. Кони в своих воспоминаниях только о нём одном из всех «царских сатрапов» отзывается с нескрываемой (хотя и чуть-чуть ироничной) симпатией. В силу таковых своих качеств петербургский градоначальник долгое время оставался вне придворных партий и, по-видимому, не участвовал в их тайной борьбе. Но в середине 1870-х расстановка сил вокруг престола вновь стала меняться.
Внешне это проявилось в том, что в обществе стали циркулировать слухи о чрезмерно устойчивой привязанности государя к прекрасной княжне Катеньке Долгоруковой. На этот роман императора до сих пор принято смотреть сквозь дымчатое стекло сентиментально-лирического жанра. Однако личная жизнь носителя высшей власти всегда есть часть политики. У Александра II было немало мимолётных увлечений раньше, и это никого не волновало, не исключая его собственного семейства. Ситуация с Долгоруковой оказалась принципиально иной, потому что политические обстоятельства вокруг складывались по-иному. Можно не сомневаться, что в опочивальне молодой возлюбленной стареющий император отдыхал не только от общества своей законной жены, но также и от политических амбиций её окружения. Чем отчётливее проявлялось намерение самодержца поставить на место зарвавшуюся «партию императрицы», тем прочнее становилась его симпатия к фаворитке, тем большую известность эта связь приобретала в обществе, тем быстрее вокруг «второго двора» складывалась группировка вельмож, обиженных Шуваловым, Тимашевым и прочими «ретроградами». По сути дела, эта группировка была вторым изданием «партии Константина». Надо сказать, что сам великий князь Константин Николаевич с подчёркнутой любезностью относился к пассии своего брата. И именно из окружения великого князя исходят первые приглушённые слухи о том, что государь тяготится своим законным браком и начинает подумывать о его расторжении.
Истинные намерения Александра II, конечно же, никому неведомы. Но одно только допущение такой возможности создавало в кругах, близких к власти, новую политическую ситуацию. Ибо за вопросом о браке неминуемо следовал вопрос о престолонаследии.
Согласно закону об императорской фамилии, брак государя мог быть расторгнут в случае измены царицы, её неспособности родить наследника, её душевной болезни. Императрица Мария не изменяла мужу, родила ему пятерых сыновей и никаких признаков сумасшествия не проявляла. Единственным реальным поводом для расторжения брака оставалось положение закона, гласившее, что брак может быть признан изначально недействительным в том случае, если при его заключении стороной невесты был утаён факт её болезни, каковая могла бы повлиять на здоровье потомства. Тут, действительно, имелась зацепка: в обществе было хорошо известно о болезненности императрицы, а её первенец Николай Александрович умер в 1865 году совсем молодым, от туберкулёза. Но признание брака изначально недействительным автоматически делало незаконными всех детей от этого брака. Следовательно, наследник цесаревич Александр Александрович утрачивал права на престол, равно как и его братья. И вот тогда наследником становился великий князь Константин Николаевич, а вслед за ним – его потомство. Разумеется, для «партии Константина» такой оборот событий был наиболее желанным. Для вельмож из «партии императрицы» он означал крах карьеры.
В 1874 году в светских салонах Петербурга шёпотом заговорили о неслыханном скандале в Мраморном дворце, резиденции Константина. Его старший сын великий князь Николай был обвинён в краже драгоценных камней с оклада фамильной иконы. Обстоятельства этого дела очень подозрительны и заставляют предполагать провокацию. Поначалу расследование вёл Трепов, как глава петербургской полиции, и вёл, судя по всему, к оправданию молодого великого князя. Но внезапно он был отстранён от дела, расследование передано Шувалову и засекречено. (Тут не будет лишним заметить, что за всем семейством Константина ещё раньше был установлен секретный жандармский надзор: агенты регулярно доносили Шувалову о каждом шаге великого князя и его сыновей, вплоть до того, сколько времени провёл каждый из них наедине с любовницей, а потом Шувалов докладывал обо всём этом лично государю.) Итог, ставший известным публике, – признание Николая Константиновича душевнобольным, лишение титула и прав наследования и ссылка под надзор. Семейство Константина было страшно скомпрометировано, его «партии» нанесён чувствительный удар. Сделано всё это было с ведома Александра II и под его контролем. Кто бы ни был истинным похитителем фамильных ценностей, история эта сыграла на руку врагам Константина, а самодержец использовал её, чтобы вновь уравновесить силы противоборствующих группировок. На сей раз Трепов был втянут в околопрестольную борьбу, вольно или невольно оказавшись на стороне Константина, а его отношения с Шуваловым ухудшились до крайности. Впрочем, этот последний сразу же по окончании дела был отправлен с глаз долой, послом в Англию. В обществе внезапное падение Шувалова связывали с возросшим влиянием Екатерины Долгоруковой.
Этот и последующие годы ознаменовались ростом радикализма в молодёжной, по преимуществу студенческой среде. «Хождение в народ», культ Чернышевского и Некрасова, чтение эмигрантских изданий – лавровского журнала «Вперёд!» и ткачёвского «Набата», – сходки, распространение листовок, отпечатанных в подпольных типографиях, размахивание красным флагом во время той самой манифестации у Казанского собора, за участие в которой был осуждён Боголюбов. Наконец, образование «Земли и воли», рыхлой организации без определённой программы и структуры… Всё это было достаточно мелко и никакой опасности для престола и отечества не представляло. Неизвестно, разгорелось бы революционное пламя или угасло по мере взросления горящих сердец, если бы не старательное раздувание оного путём организации грандиозных политических дел и судебных процессов, апогеем которых стал процесс ста девяносто трех пропагандистов. Кто всеми силами старался напугать власть и общество угрозой со стороны «нигилистов»? «Партия императрицы», ибо она получала повод обвинить врагов-либералов в распространении опасного вольнодумства. И «партия Константина», которая каждый, самый робкий шажок революционеров использовала как повод для разговоров о необходимости новых реформ. Неумелые, неорганизованные, по-молодому торопливые попытки «принести счастье народу» были истолкованы как широкое политическое движение, несущее в себе угрозу государству и обществу. Были раздуты устрашающие по масштабам и нелепые по результатам политические процессы. За всем этим не скрывалось ничего, кроме игры честолюбий. Амбициозные сановники и вожди несуществующих революционных армий играли на руку друг другу.
А что же на самом деле?
В цитированных воспоминаниях о деле Засулич А. Ф. Кони обмолвился, что, посетив раненого градоначальника в день покушения, Александр II более не навещал его и вообще «стал к нему хладеть». И объясняет Кони это тем недовольством, которое в государе вызвала якобы произнесённая Треповым фраза о пуле, предназначавшейся императору. Если такая фраза действительно прозвучала, то значит, Трепов увидел за покушением на себя заговор против царя. Прав он был или нет, но в той ситуации, которая сложилась вокруг престола, стороной, заинтересованной в гибели царя, была, безусловно, «партия императрицы». Со смертью Александра II снимался вопрос о наследнике и о политическом будущем сторонников этой «партии».
Интересно, однако, что эта фраза, по предположению Кони, вызвала крайнее неудовольствие государя и даже охлаждение его к верному слуге. Очевидно, огласка версии заговора в пользу наследника (именно так должны были истолковать слова Трепова «информированные» головы) давала в руки противоположной стороне слишком сильное оружие. Возможно, и самого Трепова царь заподозрил в содействии «партии Константина». Это могло стать одной из причин истолкования покушения как дела сугубо личного.
С другой стороны, если Трепов действительно после 1874 года в какой-то степени сблизился с «партией Константина», то противоположная группировка была заинтересована в том, чтобы максимально скомпрометировать его в глазах той самой либеральной публики, которая служила опорой «партии Константина» в обществе. Надо сказать, что у Трепова, как у всякого сановника, оказавшегося на пересечении интересов противоборствующих группировок, было много врагов со всех сторон. С министром внутренних дел Тимашевым его отношения были сложными, с товарищем министра князем Лобановым-Ростовским, курировавшим работу тюрем, – натянутыми, с директором Департамента полиции Косоговским – прямо враждебными. Что уж говорить о III Отделении! Тут градоначальника терпеть не могли – и вследствие его личной вражды с Шуваловым, и в силу извечной неприязни между полицией и жандармерией.
Сотрудники III Отделения вели следствие по «политическим» делам и постоянно вербовали агентов в революционной молодёжной среде. Они были хорошо информированы о нарастающей в этих кругах ненависти к власти, во многом спровоцированной бессмысленными репрессиями, о том, что среди этой молодёжи всё больше сторонников индивидуального террора, что там ждут не дождутся, когда явится герой с кинжалом возмездия в руках. В этих обстоятельствах в поле зрения жандармских офицеров попадает Вера Засулич, безвинно пострадавшая, горящая желанием на исходе молодости совершить подвиг ради счастья человечества. Как орудие для нанесения удара по Трепову она идеальна: тиха, чиста, самоотверженна, терпелива – словом, идеал русской девушки. Даже сербская фамилия пригодилась: борьба сербов за независимость от Турции привлекала куда более пламенный интерес столичной общественности, нежели действия русской армии на Балканах. В общем, образ Веры Ивановны как нельзя лучше подходил для постановки пьесы в жанре «Красавица и Чудовище». Особенно по контрасту с Треповым – сильным, грозным, облечённым властью. Надо было указать ей врага, направить её руку. Вот и направили – чины III Отделения через своих агентов в среде революционной молодёжи.
Это, конечно, предположение. Но оно находит косвенное подтверждение в той старательности, с которой следствие (проходившее, напомню, при участии жандармерии) избегало выяснения каких-либо имён и обстоятельств, связанных с подготовкой покушения. И в отсутствии серьёзных попыток разыскать Засулич после суда или добиться её выдачи швейцарскими властями. И в том глухом молчании, которое хранила сама Засулич до самой смерти. Нет, конечно, она никогда не стала бы сознательной участницей жандармского заговора. Но во время следствия и суда, возможно, поняла, чьим она сделалась орудием. И поэтому так равнодушно приняла свалившуюся на неё после судебного оправдания славу, так неохотно вспоминала о своём террористическом подвиге, а в скором времени и вовсе порвала связи с революционно-террористическими кругами.
Что касается Трепова, то в отношении него враги достигли своей цели. После 24 января, и в особенности после 31 марта, «потерпевшего» возненавидели все. В глазах общества он сделался пугалом и зверем. Даже до сего дня чуть ли не во всех словарях про этого, в сущности, доброго человека пишут: «Прославился жестоким обращением с заключёнными…», «был ранен Верой Засулич, мстившей за беззаконную расправу над Боголюбовым…». Но, как всегда бывает в таких случаях, добившись своих ближайших целей, режиссёры, стоявшие за кулисами событий, оказались не способны предвидеть их далеко идущие последствия. Об этих последствиях, судьбоносных и грозных, – рассказ в следующей главе.
Бомба, пуля и кинжал
Зло, войдя в сердце человека, выходит из него многократно умноженным. Привычка к произволу и начальственное самодурство, свойственные в России представителям власти, подтолкнуло Трепова к совершению неправедного поступка: унизительному наказанию арестанта Боголюбова. Это зло, так сказать, среднего размера, вошло в сердце Засулич и навело её на совершение зла большего: покушение на жизнь старика-градоначальника. Бесы, вырвавшиеся из-под её тальмы вместе с револьверной пулей, разлетелись по душам и сердцам многих русских людей, поселив в одних злорадство и карьерные вожделения, в других – дьявольскую уверенность в том, что можно и нужно добиваться торжества справедливости путём убийства. Три года, последовавшие за роковым 24 января 1878 года, принесли России настоящую эпидемию политических терактов. Это был только первый пароксизм болезни. Но при внимательном изучении его «клинической картины» становится ясно, что террористическая инициатива снизу была успешна потому, что регулярно находила поддержку и содействие сверху.
Унесённые ветром
Приговор по делу Засулич был опротестован прокурором и кассирован Сенатом. Вызванный им скандал спровоцировал изменения в законодательстве: из ведения суда присяжных были изъяты дела о неповиновении и сопротивлении властям, о насильственных действиях и угрозах в отношении должностных лиц, об оскорблении начальников подчинёнными. Словом, произошло очередное укрепление вертикали власти – вполне в духе российской бюрократии. Но главным политическим следствием преступления и оправдания Засулич стали масштабные перестановки в правящих кругах – по сути дела, полная «смена караула».
Отставки, громкие и тихие, начались уже в мае 1878 года. Первым, после длительной беседы с глазу на глаз с императором, подал в отставку министр юстиции граф К. И. Пален. Сменивший его Д. Н. Набоков провёл в Министерстве большую чистку. Среди первых уволены были товарищи прокурора Петербургского окружного суда В. И. Жуковский и А. И. Андреевский – за то, что честно отказались выступать обвинителями на процессе Засулич. При том бездарно проигравший дело Кессель благополучно остался в рядах юстиции. А. Ф. Кони, несменяемый судья, удержался в кресле председателя Окружного суда, но, по истечении судейского срока, надолго удалился от дел.
Чуть позже волны кадрового землетрясения докатились и до Министерства внутренних дел. Министр А. Е. Тимашев, орёл из Особого корпуса жандармов, отлетел в политическое небытие вскоре после Палена. Зато его враг и предшественник, матёрый чиновник и мастер бюрократических игр П. А. Валуев на короткое время вынырнул из мглы: был назначен на пост председателя Комитета министров. (Должность сама по себе скорее почётная, чем связанная с реальной властью, но к ней прилагалось председательство в Особом совещании министров по изысканию мер для укрепления государственной безопасности; название витиеватое и грозное.) Как в Министерстве юстиции, так и в Министерстве внутренних дел отставка первого лица потянула за собой изменение всего руководящего состава. Ушёл и товарищ министра князь А. Б. Лобанов-Ростовский, давний недруг Трепова. Этот сановник занимал по совместительству должность с трудновыговариваемым названием: председатель Комитета по заведыванию Домом предварительного заключения. Естественно, что начальник этого самого Дома полковник Фёдоров тоже был отрешён от должности. Обстоятельства его отставки особенно курьёзны и в то же время показательны. Он был примерно наказан за то, что выпустил оправданную, а следовательно, свободную, Веру Засулич из тюрьмы. По высочайшему повелению посажен на гауптвахту на семь суток и… одновременно представлен к ордену. При этом ему было «убедительно рекомендовано» сразу после гауптвахты отправиться в отпуск с сохранением жалованья, а по окончании отпуска подать прошение об отставке. При этом же тихонько сказано, что место отбывания семидневного наказания он может выбрать сам, и что в его послужной список соответствующая запись занесена не будет. Ясно: «он не виноват, но он виноват» – потому что должен же кто-то быть виноватым.
Странное решение своей судьбы Фёдоров выслушал из уст исправляющего должность градоначальника генерала Козлова (по иронии судьбы – носителя той же фамилии, под которой пыталась скрыть свою личность Засулич). Но сам Козлов ненадолго задержался в доме на углу Гороховой улицы и Адмиралтейского проспекта. Градоначальство вскоре тоже подверглось кадровой перетряске. Самое удивительное, что отставка и немилость постигли жертву покушения – Трепова. Надо сказать, крепкий организм шестидесятипятилетнего генерал-адъютанта быстро справился с ударом, нанесённым 24 января. Ко времени суда он уже был вполне здоров, хотя пуля, которую так и не смогли извлечь врачи, засела где-то под генеральской печенью. Тем не менее ему, сановнику, столпу империи, так же, как и скромному служаке полковнику Фёдорову, было «рекомендовано» числиться больным, затем взять отпуск «для поправки здоровья»… Понятно, от кого «рекомендация» исходила. «Поправив здоровье», Фёдор Фёдорович подал прошение об отставке. Вслед за ним ушёл Козлов, ушёл начальник Сыскного отделения, гордость и легенда русского сыска, Иван Дмитриевич Путилин. Преемником Трепова на посту градоначальника стал генерал Зуров, которого Кони, не обинуясь, называет ничтожеством.
Разумеется, сам по себе приговор 31 марта и даже спровоцированные им беспорядки не могли быть причиной таких катаклизмов в околоправительственных кругах. За волной отставок 1878 года видится иное, а именно: стремление самодержца избавиться от сложившихся властных группировок, радикально обновить своё окружение, возможно, даже ценой смены политического курса. Судьба Засулич, кровь Трепова, жизнь студента Сидорацкого, погибшего в бессмысленной перестрелке на углу Воскресенского и Фурштатской – всё это было использовано как повод для того, чтобы вновь «перебрать людишек». Одновременно возобновляются разговоры о лично-семейных планах царя; сам он готов осуществить неслыханное: поселить свою беззаконную возлюбленную в главной императорской резиденции, в Зимнем дворце. «Партия императрицы» в ужасе, вокруг престола назревает новая схватка неявных политических сил.
И тут на помощь самодержцу в его стремлении осуществить «смену караула» приходят революционеры-террористы.
Эпигоны
Хмуроватым, предвещающим дождь утром 4 августа 1878 года шеф жандармов и главный начальник III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютант Мезенцов по обыкновению своему – для здорового моциону – вышел на просторную и малолюдную в этот час Михайловскую площадь. Сановного Николая Владимировича в его прогулке сопровождал подчинённый, жандармский полковник Макаров. Почтенные господа шествовали, степенно и неторопливо беседуя, блистая гвардейской выправкой на фоне таких же прямых, как их спины, копий ограды Михайловского дворца. Внезапно наперерез им быстрой походкой двинулся хорошо одетый молодой человек, темноволосый и смугловатый, в облике его безошибочно угадывалось что-то военное, офицерское. Видимо, это «что-то» загипнотизировало полковника и генерала: Мезенцов несколько удивлённо глянул на решительно приближающегося молодцеватого незнакомца, но ничего дурного не успел заподозрить. Макаров, правда, боковым зрением увидел, что вслед за первым в их сторону двинулся и второй молодой человек с опасным блеском в глазах…
Но полковник ничего не смог предпринять. Неожиданно прямо перед ним произошло нечто такое, что случается только в дешёвых приключенческих романах. Этот, первый, приблизился к Мезенцову вплотную, в руке его сверкнула сталь. Коротко размахнувшись, он точно и сильно всадил кинжал по рукоятку в сукно генеральского мундира слева от блестящего ряда пуговиц. На мгновение оба замерли в каком-то скульптурном, неестественном единстве… Затем незнакомец отдёрнул руку и бросился бежать, а Мезенцов, беспомощно хватая воздух, стал оседать на торцовую мостовую. Очнувшийся Макаров закричал что-то и кинулся было за убегающим, нелепо замахиваясь зонтиком, единственным оружием, которое было в его руках. Но тогда тот, второй, выхватил из кармана револьвер и пару раз выстрелил в Макарова. Полковник инстинктивно шарахнулся в сторону, почувствовал с отрадой, что выстрелы не причинили ему вреда… И увидел, как оба злодея впрыгивают в стоящий поодаль изящный кабриолет, запряжённый прекрасным беговым рысаком. Ещё мгновение – кабриолет рванул с места и через считанные секунды исчез за углом. Макаров бросился обратно. Генерал-адъютант Мезенцов, скорчившись, лежал на мостовой; под ним темнела расплывающаяся лужа крови. С нескольких сторон к нему бежали городовые.
Шеф жандармов скончался через полчаса. Несмотря на все усилия полиции и жандармерии, отыскать убийцу и его сообщника, конечно же, не удалось. Впрочем, имя человека, подобно Бруту, средь бела дня заколовшего кинжалом главу политической полиции России, вскоре стало известно и следствию, и его друзьям-революционерам. Он сам через некоторое время объявился за границей. Сергей Михайлович Кравчинский, писатель, известный под псевдонимом Степняк. Родился в 1850 году в семье военного врача, окончил Орловский кадетский корпус и Петербургское артиллерийское училище (вот откуда военный вид и офицерская выправка). Служил недолго, по выходе в отставку участвовал в кружках социалистов-вольнодумцев, к которым в начале семидесятых годов прочно приросло наименование «народников». В 1877 году вместе с группой друзей примкнул к «Земле и воле», организации бестолковой, аморфной, не имеющей ни чёткой программы, ни определённого состава. Там молодому энергичному отставному артиллеристу было скучно. И вот – выстрел Засулич. Сразу понятно стало, что делать. Кравчинский опубликовал в подпольной печати восторженный панегирик Вере Ивановне, написанный в таком стиле, в каком самый влюблённый на свете гимназист не найдёт решимости обратиться к предмету своих платонических восторгов. Затем решил тоже совершить подвиг. Нужен был предмет и повод.
Тут, как раз в мае, в вольнодумных салонах Петербурга распространилось известие: государь отклонил ходатайство о смягчении участи осуждённых по процессу ста девяноста трех. Собственно, осуждено было шестьдесят четыре человека, из них большинство отсидело свой срок ещё до суда, так что ожидавших либо каторги, либо государевой милости оставалось всего двадцать восемь. При этом сами судьи, выносившие приговор, приложили к нему прошение о смягчении. 23 января 1878 года, когда выносился приговор, никто не сомневался в том, что государь проявит снисхождение и сократит срок тюрьмы и каторги до минимума, а возможно, и вовсе освободит заблудших молодых овец от наказания. Но после истории с оправданием Засулич, ни о каких послаблениях речи быть не могло. Тем не менее в обществе нашли виновного в немилости государевой. Вроде бы о нежелательности смягчения приговора докладывал царю начальник III Отделения Мезенцов. И вот, трое молодых людей – Сергей Кравчинский, его приятель Александр Баранников (тоже бывший офицер) и некто Лев Дейч – выносят Мезенцову «смертный приговор». И Кравчинский, пылая энтузиазмом, решает: орудием возмездия на сей раз будет кинжал. Использование револьвера после Засулич выглядело бы слишком уж явным эпигонством. Баранников вызвался его «прикрыть». Те двое на Михайловской площади и были – Кравчинский и Баранников.
Баранников через два с половиной года попадёт в руки жандармов и умрёт в «секретном доме» Петропавловской крепости. Кравчинский до самой смерти (под колёсами лондонского поезда в 1895 году) будет избегать воспоминаний об убийстве 4 августа. Один Дейч в мемуарных записках о Кравчинском оставит краткий рассказ об этом террористическом акте. Из рассказа Дейча следует, во-первых, что сами «пострадавшие от произвола царских сатрапов» осуждённые, мстить за которых вызвался Кравчинский, всеми силами пытались повлиять из тюрьмы на заговорщиков, отговорить их от исполнения задуманного убийства. Не удалось. Во-вторых, что план теракта был осуществлён с поразительной лёгкостью: два месяца слежки за жертвой, обеспечение способа и путей бегства – и дело в шляпе. И третье: на убийство Мезенцова террористов вдохновил пример Засулич.
К слову сказать, это был не первый случай восторженного подражания акту 24 января. Ещё до суда над Засулич, в феврале 1878 года, в Киеве молодым борцом за правду Осинским было совершено покушение на прокурора Котляревского. А в мае, там же, в Киеве, ещё один искатель справедливости по фамилии Попко убил жандармского следователя барона Гейкинга. Как будто жандармы и прокуроры виноваты в том, что в мире существуют зло и неправда! Но, конечно, киевские теракты не имели такого резонанса, как удар кинжалом на Михайловской площади.
Успех окрыляет. Средство для решения проклятых вопросов было найдено.
Стрельба возле Певческого моста
Год 1879-й вошёл в историю России как год тревожный, полный роковых предвестий и мрачных ожиданий. В самом его начале, в январе, по Петербургу распространились прокламации какого-то непонятного «Северного союза русских рабочих». В них ясно ставилась цель: «Ниспровержение существующего политического и экономического строя государства как строя крайне несправедливого». В остальном программа Союза крайне эклектична. Среди требований – свобода слова, печати, собраний и сходок; замена постоянной армии вооружённым народом; уничтожение паспортной системы и свобода передвижения; наконец, прекращение преследований по политическим делам, а заодно – уничтожение сыскной полиции. Во всём этом – смешение мотивов либеральных песен с анархическими, и даже с такими, в которых слышатся блатные аккорды преступного мира. Вслед за появлением прокламаций, по заводам и фабрикам столицы прокатилась волна стачек. Рабочие вроде бы собирались идти с прошением к градоначальнику Зурову, или даже к самому наследнику престола. Не успели. Закончилась эта январская вьюга тем, чем только и может закончиться любое проявление социальной активности в царстве государственно-капиталистического деспотизма: столкновениями рабочих с полицией, арестами и бездумными административными расправами.
Как выяснилось впоследствии, одним из составителей программы полумифического «Северного союза» был рабочий-столяр Степан Халтурин, из крестьян Орловской губернии. Поучаствовав в январе 1879 года в шараханьях нестройных рядов питерских пролетариев, он разочаровался в возможностях рабочего движения. Новых единомышленников он нашёл среди землевольцев, вдохновлённых примером Засулич и Кравчинского. Им надо было во что бы то ни стало превзойти своих предшественников. Не какой-нибудь там градоначальник или шеф жандармов должен стать объектом их социальной мести, а сам царь. И новое бессмысленное злодеяние не заставило себя ждать.
2 апреля, ранняя весна. Государь император отправился на свою традиционную дневную прогулку. После покушения Каракозова прошло тринадцать лет без двух дней – можно было подзабыть испытанный тогда страх. Но револьверы и кинжалы, направленные на ближайших сановников, не давали успокоиться. Места для столь любимых Александром II (как и двумя его венценосными предшественниками) пеших прогулок приходилось теперь выбирать с осторожностью, поближе к Зимнему дворцу, который казался ещё гранитной скалой безопасности. Набережные Невы, Дворцовая площадь, Мойка… Охрана государя была усилена, но кому хочется всё время ходить под конвоем? Приблизившись к широкому Певческому мосту, император дал знак своим спутникам, чтобы те чуть поотстали. Кругом не видно ничего подозрительного, а побыть в одиночестве так необходимо. Заложив правую руку за спину, а левую по-военному держа вертикально-неподвижно, как бы придерживая саблю, государь величественно вступил на дугообразный подъем моста. И тут перед ним возник, как из-под земли вырос, какой-то человек, кажется, молодой, внешности неприметной. Впрочем, разглядеть его властелин великой империи не успел. Но успел, к своему счастью, увидеть в руке человека чёрный ствол и, прежде чем оттуда вырвалось адское пламя, рванулся в сторону. Выстрел, другой, третий, четвёртый, пятый! Необъяснимым образом вспомнив то, чему его обучали на военных занятиях лет сорок назад, Александр Николаевич метался, отпрыгивая и приседая, уклоняясь от пуль, инстинктивно придерживая левой рукой фуражку. Пять выстрелов – пять промахов. Всё.
Подбежавшие охранники повалили стрелявшего на землю; он пытался проглотить что-то, как потом оказалось, яд, но его скрутили. Царь уже стоял по-прежнему величественно-прямо, но дышал тяжело, хрипло, лицо его, и без того бледное, было бескровнее обычного, губы посинели.
Личность стрелявшего была вскоре установлена, да он и не таился. Из протокола допроса, произведённого в тот же день: «Зовут меня Александр Константинович Соловьев, коллежский секретарь из дворян Петербургской губернии… Я окрещён в православную веру, но в действительности никакой веры не признаю. Ещё будучи в гимназии, я отказался от веры в святых… Отрекся даже и от верований в Бога, как в существо сверхъестественное. Служил учителем в Торопецком уездном училище до 75 года; затем решился жить среди народа и преимущественно в Нижегородской губ. В Петербург прибыл в декабре, постоянной квартиры не имел; то ночевал у родных… то где попало, даже на улицах. Сознаюсь, что намерен был убить государя, но действовал я один – сообщников у меня не было. Мысль об этом возникла у меня после покушения на жизнь шефа [жандармов]».
Следствие и суд были ещё более скорыми, чем по делу Засулич. 25 мая Верховный уголовный суд вынес приговор – смерть через повешение, и 28 мая долговязое, нескладное тело Александра Соловьёва задёргалось в петле на традиционном месте казней – Смоленском поле.
Видимо, следствию и тут «всё было ясно». «Действовал один» – ну так действовал один. Правда, на сей раз связями государственного преступника занялись более внимательно, кое-кого даже арестовали. Но самого-то главного жандармские следователи так и не выявили. Соловьёв был хорошо известен в том кругу вчерашних студентов-пропагандистов, вдохновлённых образами Засулич и Кравчинского, которые уже полным ходом, со всей возможной решительностью и самоотверженностью, создавали первую настоящую террористическую организацию в России. Через три месяца после казни Соловьёва она обретёт чёткую структуру и имя, под которым войдёт в историю: «Народная воля».
Империя на динамите
Об истории «Народной воли», обо всех деталях террористической охоты, организованной её вождями на русского царя, мы рассказывать не будем – эта тема достойна отдельной книги. Напомним только основные факты в хрестоматийном изложении.
Ещё весной 1879 года несколько землевольцев – решительных сторонников террора – объединяются в группу, для которой придумывают гимназическое название: «Свобода или смерть!» Собравшись 15 июня на пикник в лесочке под Липецком, фанатики – среди которых будущий узник Шлиссельбургской крепости Николай Морозов, будущий создатель «адских машин» и проекта космической ракеты Николай Кибальчич, будущий ренегат и монархист Лев Тихомиров – выносят смертный приговор Александру II. В августе террористическая организация окончательно сложилась и обрела имя: «Народная воля». В её рядах, кроме названных, появляются: творец конспирации Александр Михайлов, прирождённый лидер Андрей Желябов, уже известный нам соучастник убийства Мезенцова Александр Баранников. Чуть позже состав пополняется прекрасными и самоотверженными представительницами знатных дворянских родов: Верой Фигнер и Софьей Перовской. Первое покушение они готовят на железной дороге в ноябре 1879 года: закладывают под рельсы взрывные устройства в трёх местах на пути следования царского поезда. Но царский поезд трижды избегает крушения, под откос оказывается пущен поезд свиты. Народовольцы не падают духом. Примкнувший к ним Степан Халтурин предлагает новый дерзкий план: взорвать царя в его собственной резиденции, в Зимнем дворце. Он, хороший столяр и плотник, устраивается во дворец на работу и тайком, фунт за фунтом, проносит в карманах взрывчатые вещества и все материалы, необходимые для взрывного устройства. Ужасную мину – три пуда (полцентнера) динамита – он закладывает в воздуховодной трубе под полом Белой столовой, в которой государь обычно обедает в кругу семьи. 5 февраля 1880 года гремит страшный взрыв, убиты и ранены десятки человек – прислуга, солдаты – но царь, опоздавший на несколько минут к обеду, остаётся невредим.
Халтурин успевает скрыться (его поймают через два года в Одессе, в связи с другим покушением, и повесят). Но результатом взрыва становится изменение политического курса. Уже через четыре дня создаётся Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка во главе с графом М. Т. Лорис-Меликовым. У нового государственного мужа широчайшие полномочия и двуединая программа действий: беспощадная борьба с крамолой и уступки обществу в виде продолжения либеральных реформ. В скором времени он становится министром внутренних дел, ему переподчиняется Особый корпус жандармов, III Отделение упраздняется вовсе, а все правоохранительные структуры империи соединяются в том же министерстве под управлением Департамента полиции (директор барон И. О. Велио – личность малоприметная, но в апреле 1881 года его сменит Вячеслав Константинович Плеве – запомним это имя). Агентура Департамента внедряется в круги революционеров. Поздней осенью начинаются аресты среди активистов «Народной воли», но эти провалы только подталкивают вождей к действию.
Под руководством Андрея Желябова в конце года разрабатывается новый план: закладка взрывного устройства в подкоп под Малую Садовую улицу, по которой царь регулярно ездит в Михайловский манеж. Одновременно – подготовка заговора среди офицеров (для этого Желябов создаёт при «Народной воле» тайную военную организацию). Работа над осуществлением плана идёт буквально наперегонки с действиями полиции. В декабре-январе один за другим в лапы полиции попадают руководители народовольческого подполья (правда, почти все непосредственные участники готовящегося покушения по странному стечению обстоятельств остаются на свободе). Наконец всё готово и день покушения назначен: 1 марта 1881 года.
И надо же, за день до роковой даты, в гостинице на Невском (дом 66), во время конспиративной встречи арестован Желябов. Что делать? Софья Перовская берет руководство в свои руки. К 1 марта, не надеясь полностью на ту штуку в подкопе, она готовит ещё четырёх исполнителей с ручными бомбами. Как в воду глядела: в этот день царь поехал не по Малой Садовой, а по Итальянской. Всё пропало? Только не для Софьи Перовской! Смешавшись с толпой, она продолжает наблюдение. Вот царский экипаж отъехал от врат Манежа, в сопровождении эскорта покатил в сторону Михайловской площади и остановился перед Михайловским дворцом. Теперь всё стало ясно: царь отправился пить чай к великой княгине Елене Павловне; отсюда до Зимнего дворца нет другого пути, кроме как по Екатерининскому каналу. Туда Перовская переводит своих бомбометателей. Долгое, томительное ожидание. И вот, царская карета выворачивает на набережную канала. Минута, вторая, третья… Взрыв. Бомба, брошенная Николаем Рысаковым, повреждает карету, но царь жив и невредим. Он подходит к схваченному Рысакову, начинает его допрашивать… В это время сзади, никем не останавливаемый, приближается юноша в студенческой шинели и с размаху кидает оземь смертоносный свёрток. Взрыв. Террорист и царь, оба смертельно ранены. Царь скончается от страшных ран и огромной кровопотери вечером того же дня. Личность убийцы ещё надо будет установить; для опознания его голову отделят от туловища, поместят в банку, зальют спирто-формалиновой смесью и будут показывать всем, кто мог его знать. Так выяснят имя: Игнатий Гриневицкий.
Софья Перовская и создатель бомб Николай Кибальчич будут арестованы в ближайшие дни и уже в конце марта предстанут перед судом вместе с Желябовым, Рысаковым, Михайловым и Гельфман. Первые пять будут по приговору суда повешены 3 апреля; беременной Гельфман смертная казнь будет заменена тюрьмой. Оставшиеся на свободе народовольцы попытаются продолжить борьбу, но безуспешно. В течение последующих трёх лет эта страшная террористическая организация будет практически полностью разгромлена. Граф Лорис-Меликов уйдёт в отставку, а его умеренно-конституционный проект будет надолго предан забвению.
Явление зверя
Всё это общеизвестно. Во всём этом много загадок, много стечений обстоятельств, находящихся на грани вероятного. Их исследование мы отложим до другого времени. Но вот на что стоит обратить внимание. С появлением этой удивительной организации, несколько лет державшей в страхе огромную империю, терроризм в России выходит на совершенно новый уровень развития. И в новую фазу вступают странные, парадоксальные взаимоотношения смертоносного подполья с сияющими вершинами государственного аппарата.
«Народная воля» была окружена плотной пеленой мифов во время своего существования, туман легенд остался в её истории до сих пор. Невозможно точно установить её состав и количество реальных участников, а следовательно, понять её настоящие масштабы. Современникам народовольческого террора она казалась всесильной, вездесущей, бесчисленной, аки песок морской. Сейчас мы по именам знаем чуть ли не всех её активных деятелей. Но сколько народу оказалось втянуто в её орбиту, в каких углах страны и в каких государственных учреждениях существовали её отделения – это и теперь доподлинно неизвестно. Несомненно только одно: это была первая настоящая подпольная политическая организация в России, обладающая жёсткой структурой, действующая по всем законам конспирации и, главное, имеющая чётко поставленные задачи. Правда, и тут остаются неясности: например, каковы были планы действий народовольцев в случае успеха террора? Но, по крайней мере, программа-минимум – убийство царя – абсолютно проста и очевидна.
С этим связана первая тайна «Народной воли». Эффективная, пусть даже немногочисленная, подпольная организация требует денежных затрат. Надо нанимать конспиративные квартиры, изготовлять поддельные документы, обеспечивать постоянные переезды с места на место, в том числе путешествия за границу для связи с политической эмиграцией, печатать листовки, прокламации, газеты в секретных типографиях… Если можно поверить в то, что революционно-вольнодумные кружки и слабо организованные объединения, подобные «Земле и воле», могли существовать «вскладчину», на скудные пожертвования своих братьев-студентов, да на редкие дары богатых соучастников, то народовольческое подполье, несомненно, имело постоянные и немалые источники финансирования. Тем более что народовольцы избрали новую для России тактику террора – использование взрывных устройств. Создание таких смертоносных чудовищ, даже при фанатичном энтузиазме и гениальной изобретательности «главного техника партии» Николая Кибальчича – это и оборудованные лаборатории, и дорогостоящие материалы. Вообще, бомба дорого стоит по сравнению с пулей и кинжалом.
Как осуществлялось финансирование народовольческого террора? На этот вопрос внятного ответа нет. Конечно, использовались средства, собранные среди сочувствующих, в том числе эмигрантов и иностранных социалистов. Есть упоминания о двадцати тысячах рублей, полученных народовольцами Якимовым и Зацепиной при заключении ими фиктивного брака и пожертвованных на нужды организации. Упомнают и об одиннадцати тысячах, полученых по завещанию после казни землевольца Лизогуба. Этих денег могло бы хватить на издание подпольной газеты, на скромное содержание полутора десятков профессиональных борцов за свободу, на один серьёзный теракт, но никак не на осуществление систематической подпольной «динамитной» деятельности. Можно сказать с уверенностью: источники денежной поддержки своего дела революционеры могли найти только в России и только у сильных мира сего. И тут нельзя не вспомнить о совпадении интересов некоторых властных лиц и группировок с задачами народовольцев. Самодержавие мешало одним и будило ненависть других. Да к тому же ещё эти попытки самодержца избавиться от усиливающейся опеки со стороны собственного окружения, эти перетасовки сановной колоды, эти странные матримониальные планы, вызывающие у большинства вельмож постоянную неуверенность в своём будущем… Всему этому очень желательно было бы положить конец.
И другая загадка: поразительная неуспешность правоохранительных структур в борьбе с террористами. В течение одиннадцати месяцев, прошедших после взрыва на железной дороге, народовольческая организация оставалась неуязвима, невидима для полиции и жандармов. А между тем террористы изготовляли свои мощные бомбы не в лесу и не в подземных пещерах, а в столице, на квартирах, в многолюдных жилых домах, можно сказать, у всех на виду. Вопиющий факт: 29 ноября 1879 года при аресте народовольца Квятковского, тесно связанного с Халтуриным, у него был обнаружен подробный план Зимнего дворца с обозначением места предполагаемой закладки бомбы. Бумага эта попала в руки сыщиков через десять дней после взрыва на железной дороге и за шестьдесят восемь дней до взрыва в Зимнем. И вплоть до 5 февраля оные сыщики так и не смогли разгадать значение добытого документа. Конечно, можно объяснять это неготовностью охранных структур к борьбе с революционным подпольем. Однако же терроризм в России начался не осенью 1879 года, а гораздо раньше, можно было бы и научиться. Притом как раз первый теракт, каракозовский, был расследован куда лучше, чем последующие. В этом отношении показателен случай с Соловьёвым, а также эпизод с ещё одним политическим покушением.
20 февраля 1880 года Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, только что назначенный председателем Верховной распорядительной комиссии, собирался отправиться по важным вельможным делам из своей квартиры на Большой Морской, возле Почтамтского переулка. Слуга подал шинель, швейцар распахнул дверь, и генерал вышел на ступени крыльца. Карету ещё не подали. Лорис-Меликов огляделся вокруг, вдохнул сыроватый февральский воздух, подумал что-то о нерадивости кучера… В это время к подъезду подбежал молодой человек, выхватил револьвер и почти в упор выстрелил. Генерал среагировал мгновенно: бросился на стрелявшего, повалил его, вырвал из руки оружие. Тут и охрана подоспела. Пока вязали злоумышленника, Михаил Тариэлович осмотрел себя: ран не было, зато шинель продырявлена пулей. Задержанный, как выяснилось, Ипполит Млодецкий, то ли поляк, то ли польский выкрест. А, ну раз поляк, то всё ясно. Борец за «неподлеглость» и враг России. На следующий день он был осуждён, а ещё на следующий – казнён.
Поразительная торопливость! Как будто специально сделано, чтобы подследственный не успел ни о чём рассказать. А ведь Млодецкий был связан с «Народной волей», за которой охотились все «ищейки царизма». Но связи не выявлены, возможный свидетель уничтожен. Снова та же история, что и в деле Засулич, и при расследовании покушения Соловьёва.
Ничего не изменило объединение полиции и жандармерии под управлением Департамента полиции и создание при нём отдела, ведающего секретной агентурой. Прошло более полугода, прежде чем им удалось выйти на след руководителей «Народной воли», и то защитники правопорядка всё время, как нарочно, в опасной игре с «бомбистами» запаздывали на один ход. Да и суд над «первомартовцами», и их казнь совершились так поспешно, так много вопросов оставили без ответов, что невозможно отделаться от мысли: кому-то нужно было если не спасти «Народную волю», то, по меньшей мере, затянуть борьбу с ней на неопределённый срок.
Но самое главное, самое далеко идущее последствие этого странного вальса террористов и власти – торжество двойничества и провокации. Рождённая в кружках нечаевцев, вскормленная хитроумными подчинёнными графа Шувалова, провокация по-настоящему взрослеет и обретает себя в народовольческие времена. Ею равно пользовались и революционеры, и охранители устоев. Хорошо известно, что осенью 1880 года жандармам удалось завербовать близкого к руководству партии народовольца Ивана Окладского, сыгравшего потом немаловажную роль в сыске и изобличении многих своих товарищей. Но с противоположной стороны такого рода попытки были предприняты ещё раньше. «Народная воля» ещё не оформилась вполне, а Желябов, создавая «Военную организацию», лелеял планы внедрения своих агентов в штабы войск, в структуры государственной власти и, прежде всего, в III Отделение и Департамент полиции. В 1880 году ему это удалось: в Департамент полиции был принят на службу неприметный и очень исполнительный сотрудник, Николай Клеточников. Более полугода он, завоевав полное доверие департаментского начальства, добывал и передавал руководству «Народной воли» секретную, жизненно важную информацию, и лишь в декабре был раскрыт. Обычно его деятельность, его провал и гибель представляют как пример фанатичного служения делу революции. Но точно ли так слепо было руководство Департамента? Не использовали ли Клеточникова для установления контактов с руководством «Народной воли»? События последующих лет покажут, что такой вариант вполне возможен. Обе стороны окончательно осознают ту истину, которую когда-то проповедовал Нечаев: охранителям режима выгодна активность революционеров, ибо она безмерно расширяет пределы жандармской власти; врагам режима выгодна жестокая бесчеловечность властей, потому что она мобилизует под знамёна революционной борьбы новых и новых сторонников. Провокация с обеих сторон неизбежна. Вскоре она станет основной формой взаимоотношений между террористами и империей.
Полицейский револьвер против революционного лома
16(29) декабря 1883 года в самом центре Петербурга, в доме № 91 по Невскому проспекту, в квартире под роковым нумером «13», был зверски убит жандармский подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин, глава секретной полиции России. История его убийства представляет собой невероятный клубок провокаций, загадок, романических приключений и политических интриг. И последствия сего происшествия были великие: революционное подполье в дьявольском акте совокупилось с произволом бесчеловечного государства – и породило чудовище по имени «провокация». Предательство, ложь, коварство и безудержное стремление к власти становятся отныне основными мотивами поведения политических деятелей России вплоть до наших дней.
Женевский визитёр
Традиционная версия происшедшего сложилась из показаний, данных соучастниками убийства на суде в мае-июне 1887 года, и из воспоминаний их товарищей-народовольцев. Наиболее связен рассказ Льва Тихомирова, одного из вождей «Народной воли», впоследствии перешедшего в монархический лагерь. Тихомиров, в свою очередь, о многих обстоятельствах преступления повествует со слов его организатора и участника Сергея Дегаева. Вот эта версия в основных чертах.
После «дела 1 марта 1881 года» «Народная воля» переживала трудные времена. Аресты, казни, эмиграция. К началу 1883 года на свободе оставались лишь три авторитетных деятеля: Вера Фигнер, продолжавшая борьбу в российском подполье, Мария Ошанина (Оловенникова), жившая в Париже, и Лев Тихомиров, укрывшийся в Женеве. Весной 1883 года в дверь квартиры Тихомирова постучался неожиданный гость: народоволец Сергей Дегаев, примчавшийся (по поддельным документам) в свободную Швейцарию из России. За разговорами о буднях революционного подполья Дегаев вдруг сделал хозяину страшное признание. Вот уже полгода, как он завербован жандармами. Это случилось во время ареста, в декабре 1882 года. Вербовал подполковник Судейкин; он заморочил голову импульсивному, нестойкому революционеру фантасмагорическими планами объединения подполья и полиции против самодержавия; организовал Дегаеву побег в обмен на осведомительство. За полгода Дегаев выдал Судейкину несколько десятков, если не сотен, товарищей по партии (в том числе свою главную покровительницу, доверчивую Веру Фигнер); раскрыл шифры и пароли; провалил множество конспиративных квартир. Из-за его предательства Судейкин полностью контролирует народовольческое подполье в России. Но Дегаев раскаялся; что же ему теперь делать?!
Тихомиров потрясён; но он не теряет ясности мысли. Что ж, содеянное ужасно, карой должна стать смерть. Или… Дегаев может смыть позорное пятно и искупить вину перед партией, если, продолжая сотрудничество с полицией, заманит в ловушку и убьёт кого-нибудь из архиважных государственных мужей. Дегаев оживляется: как же, не об этом ли шла у него речь с Судейкиным? Тот, полностью доверяя своему сверхценному агенту, делился с ним планами: опираясь на силы «Народной воли», устроить убийство самого министра внутренних дел, тупого реакционера и мракобеса Д. А. Толстого. Судейкин беспринципен и бесконечно честолюбив; Толстой вставляет ему палки в колёса; Судейкин разрабатывает макиавеллиевскую комбинацию: убить министра, запугать тем самым правительство и государя, потом арестовать кое-кого из революционеров, доказав таким манером свою эффективность и незаменимость, стать после этого во главе госуправления, подчинить себе волю царя, и тогда… Тогда всё возможно, даже реформы в социалистическом духе. У Дегаева голова кружится от такого плана, но Тихомиров мыслит трезво. Нельзя доверяться Судейкину, злейшему врагу революции и жандарму до мозга костей. Играя на доверии и притворясь соучастником, заманить в ловушку и от имени партии казнить самого Судейкина – вот это было бы истинным искуплением вины. На том и порешили. Дегаев получил от Исполнительного комитета «Народной воли» задание: убить Судейкина. И поехал в Петербург – выполнять.
К убийству были привлечены надёжнейшие: Николай Стародворский и Василий Конашевич. Контролировали дело поляк Куницкий и друг Маркса несгибаемый Герман Лопатин. Решено было убить Судейкина на конспиративной квартире (туда Судейкин являлся, по словам Дегаева, не только для секретных переговоров; но, будучи сладострастником, наведывался с «девочками»). Нанята роковая квартира была на имя Яблонского; под сим псевдонимом скрывался Дегаев. Он должен был заранее спрятать в дебрях квартиры Стародворского и Конашевича, вооружённых ломами; Судейкина заманить туда якобы для важной беседы. Остальное, как говорится, дело техники. Покушение несколько раз срывалось. Наконец, 16 декабря 1883 года, Судейкин явился…
О подробностях убийства – потом; а теперь поближе познакомимся с главными персонажами.
«Один гад» жрёт «другую гадину»?
Сначала о Судейкине. Год рождения 1850-й; убит в тридцать три года: подходящий возраст для мученической кончины. Офицер Киевского губернского жандармского управления, десять лет без особых успехов тянул служебную лямку; к 1879 году дослужился до капитанского чина. И вдруг – взлёт. Образовалась «Народная воля»; её оружие – политический террор. Судейкин активно включается в борьбу с крамолой – вот она, деятельность, в которой раскрываются его незаурядные сыщицкие способности. Благодаря ему в 1879–1880 годах разгромлено народовольческое подполье в Киеве. И тут – 1 марта 1881 года страшный взрыв в Петербурге на Екатерининском канале. Царь убит; в правительственных кругах кадровые перемены. Либеральный министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов теряет влияние; выдвигается директор Департамента полиции, молодой, энергичный и честолюбивый В. К. Плеве. Ему нужны помощники, тоже энергичные и честолюбивые. По инициативе Плеве Судейкин переведён на должность начальника секретной агентуры Петербургского губернского жандармского управления. Есть где развернуться: с апреля по декабрь 1881 года при участии руководимой им службы в столице арестовано более двухсот народовольцев. В декабре, уже в чине майора, Судейкин получает новое высокое назначение: указом государя создана Общероссийская секретная полиция (в России это – первая и единственная спецслужба в полном смысле слова); Судейкин – её «особый инспектор», то есть руководитель. В начале следующего года – и подполковничий чин в подкрепление должности; неплохой прыжок: из капитанов в подполковники; из провинциальных жандармов – в начальники тайного, и потому никем не контролируемого ведомства.
В 1882–1883 годах Судейкин идёт от успеха к успеху; аресты – сотнями; награда – личная милость государя; за захват одного из активистов «Народной воли» Судейкину из царского кармана пожаловано пятнадцать тысяч рублей (годовое жалованье министра), за другого – ещё пять тысяч. Залог успехов – блистательная система вербовки. Принцип гениально прост: жандарм идёт к арестанту не как враг, а как тайный друг и единомышленник. Свой среди чужих. «Положа руку на сердце, милостивый государь… Здесь нас никто не слышит… Ей-богу, я держусь ваших взглядов. Долой самодержавие. Но я должен скрывать, сами понимаете. Нас не так уж мало среди полицейских чинов. Нужно установить связи с революционным подпольем – я очень, оч-чень в этом смысле на вас надеюсь… Конечно, придётся выдать кого-то из ваших, но зато вы – в тылу врага… Мы устроим вам побег. Будем бороться вместе… Подпишите!» Действовало. «Народная воля» тоже стремилась внедрить своих людей во вражий стан. Эдакое взаимное коварство.
Теперь о Дегаеве. Родился в 1857 году, окончил кадетский корпус, служил в артиллерии (как и Кравчинский). В 1879 году связался с народовольцами; вышел в отставку в чине штабс-капитана (быстро рос: за пять лет – из юнкеров в штабс-капитаны! способности и честолюбие!). С 1880 года – член лелеемой Желябовым народовольческой военной организации. Ничем выдающимся себя не проявил до осени 1881 года. Тогда, после арестов, уничтоживших ядро народовольческой секты в России, близорукая Вера Фигнер ввела его в состав практически несуществующего Исполнительного комитета. В это самое время был ненадолго арестован его брат Владимир; этот юноша-офицерик пытался внедриться в охранку по заданию народовольца Златопольского; в результате попал в сети Судейкина. Стал ли Владимир сознательным осведомителем – сказать трудно, но именно он познакомил Судейкина с братом. Жандарм и отставной артиллерист проявили друг к другу взаимный интерес. Сергей Дегаев неоднократно встречался с Судейкиным в 1881–1882 годах: якобы брал у подполковника чертёжную работу на дом. В конце 1882 года Фигнер отправила Дегаева в Одессу налаживать подпольную типографию. Тут-то он и попался. Арест грозил виселицей. И тогда Дегаев из темницы воззвал к Судейкину.
Судейкин примчался на зов. В тюремной одиночке между ним и Дегаевым был заключён союз. В обмен на осведомительство Судейкин организовал Дегаеву побег. В январе 1883 года Дегаев явился к собратьям по партии, был принят восторженно и, после ареста Фигнер (в феврале), фактически возглавил то, что осталось от «Народной воли» в России. Разумеется, контроль за его действиями осуществлял Судейкин.
К этому времени разброд и шатания в народовольческом движении достигли степени раскола. Главное противостояние – между «стариками», немного блаженными участниками «хождения в народ», адептами индивидуального террора, исповедниками бланкизма, прудонизма, нечаевщины и прочих романтических глупостей, и «молодыми», более прагматичными деятелями, заглядывавшимися уже на марксизм. Среди «молодых» лидировали Стефанович, Якубович, Лопатин; «стариков» из «чудного далека» пытался вдохновлять Тихомиров, из «узилища» – Вера Фигнер. Отношения обострялись; молодые винили стариков в провале стратегии и пытались перехватить тайные нити управления. На их взаимном остервенении играл Судейкин. Из Дегаева он, по-видимому, собирался сделать нового лидера партии, способного низвергнуть «стариков» и объединить «молодых».
Как думал поступить Судейкин с контролируемой им революционной организацией в дальнейшем? В 1882 году после доброго Лорис-Меликова и дипломатичного Н. П. Игнатьева в должности министра внутренних дел и шефа жандармов оказывается припадочный Д. А. Толстой. Шеф и покровитель Судейкина Плеве отнюдь не был этим обрадован, ибо сам метил в министры. Тогда в «Вестнике „Народной воли“» был напечатан разговор Плеве с Судейкиным.
«Плеве: Вам следует быть очень осторожным, голубчик. Ваша жизнь самая дорогая для России после жизни государя.
Судейкин: Ваше превосходительство забываете жизнь графа Толстого…
Плеве (после раздумья): Конечно, конечно, мне было бы очень жаль его как человека… Но признаться – его смерть была бы полезна для России».
Этот разговор Тихомиров записал со слов Дегаева, а тому якобы сообщил о нём Судейкин, так что достоверность сомнительна. Но между министром и главой Секретной полиции действительно были трения. Видимо, Судейкин вынашивал планы превращения «Народной воли» в орудие борьбы против Толстого, в средство собственного продвижения к власти.
И ещё: в первые два – три года царствования Александр III держал скипетр нетвёрдо: у него были серьёзные оппоненты в государственном аппарате, сложившемся при его отце (Лорис-Меликов, Набоков, Милютин, Адлерберг…); были соперники в императорской семье: великие князья Константин и Николай Николаевичи – бывший председатель Государственного совета и бывший главнокомандующий. В этих условиях, обостряемых революционным террором, не исключались никакие варианты смены власти, вплоть до переворота. С такими козырями, как секретная полиция и подпольная террористическая организация, Судейкин мог пускаться в самую фантастическую, самую рискованную игру.
«Замочили» в сортире
Вернёмся к основной версии убийства. Она непротиворечива, целостна, сценична, но вся построена на субъективно-психологических мотивах. Поступки персонажей объясняются изгибами их картинно-книжных характеров. Дегаев – мятущаяся душа, идеалист и мрачный честолюбец, совестливый злодей, готовый и на подвиг, и на подлость. Судейкин – умён, коварен, властолюбив, дьявольски хитёр и азартен до безрассудства. Оба трепещут пред призраком Исполнительного комитета «Народной воли»; один идёт на всё, чтобы уничтожить его, другой в решающий момент подчиняется его грозному авторитету.
Если отказаться от психологем в духе сентиментально-кровавых романов того времени, если не усматривать в Дегаеве Раскольникова, в Судейкине – смесь Порфирия Петровича, Лужина и Свидригайлова, а проанализировать их поступки с точки зрения целесообразности и здравого смысла, то обнаруживается много невероятного. Необъяснимым представляется признание, сделанное Дегаевым Тихомирову в Женеве. Сам Тихомиров, пытаясь растолковать его, впадает в наивную беспомощность: «При разговорах со мной в нём пробудилось прежнее уважение к старым деятелям Исполнительного комитета… Он стал предполагать, что я угадываю его тайну… Вся эта сложность впечатлений потрясла его, сбила с толку…» Рассказ мог стоить Дегаеву жизни; «уважение», «предположение», «впечатление» – недостаточная база для такого риска. Было ли признание – во всяком случае, такое?
Между прочим, один из «молодых» соратников Дегаева И. И. Попов в своих мемуарах заявляет, что не помнит ни о каком отъезде Дегаева весной 1883 года из Петербурга. Тихомиров же пишет, что он несколько дней общался с Дегаевым до признания, после чего тот пробыл в Женеве ещё несколько дней. С учётом дороги, Дегаев должен был отсутствовать в Питере дней десять-двенадцать; трудно представить, чтобы тесно сотрудничавший с ним Попов не заметил этого.
Но – допустим. Допустим, что Тихомиров пишет правду. Допустим даже, что соображениями конспирации объясняется тот странный факт, что он скрыл предательство Дегаева от довереннейшего товарища по партии – Германа Лопатина. (В результате Лопатин оказался на грани провала, но сумел самостоятельно раскусить Дегаева.) Перейдём к самому убийству – в том виде, как оно описано в наших источниках.
Итак, 16 декабря 1883 года. Дегаев ждёт Судейкина на квартире; Стародворский и Конашевич с ломами наизготовку затаились в гостиной и в спальне… (Что за странное, неудобное орудие – эти ломы! Почему ломы? Сколько помнится, ни один теракт в истории не был осуществлён при помощи ломов. Единственный смысл их применения – бесшумность: бац по голове, и кончено. Запомним это.)
Время – между тремя и четырьмя часами дня. Судейкин подходит к роковому дому. Он не один, а с неким Судовским, своим родственником и подчинённым. (Почему с Судовским? На секретные встречи посторонних не приглашают.) Вот они подходят к дому, поднимаются по лестнице, звонят в дверь… (Странно: опытнейший сыщик идёт на конспиративную квартиру даже не проверив, «чисто» ли там. Чего, казалось бы, проще: установить наружное наблюдение за квартирой, оно бы непременно установило, что в ней не один человек, а трое. Но «наружки» нет, или она молчит. Судейкин недрогнувшей рукой крутит ручку звонка.) Дегаев открывает; они с Судейкиным идут в комнату, Судовский мешкает в прихожей. В комнате Дегаев достает револьвер и стреляет… Но почему-то не в Судейкина, хотя это был бы простейший способ покончить с ним; а если и в Судейкина, то так, что не причиняет ему существенного вреда. Судейкин бросается бежать – но не к входной двери, что было бы естественно, а в противоположную сторону, в гостиную, прямо в объятия Стародворского. Стародворский бьёт Судейкина ломом – промахивается, начинается бешеная гонка по квартире. Тем временем Конашевич кидается в прихожую и «гасит» Судовского, тот, надо полагать, смирно стоит и ждёт, когда его начнут лупить; дождавшись, покорно падает без чувств, но живой. Стародворский тем временем гоняется с окровавленным ломом за Судейкиным. Ни Судейкин, ни Судовский, офицеры жандармерии, находящиеся при исполнении, не делают ни малейшей попытки воспользоваться служебными револьверами. Вместо этого подполковник бросается в сортир и пытается запереться там – надёжное укрытие от трёх вооружённых ломами мужчин! Стародворский настигает его и проламывает череп несколькими ударами. Тут же, у стенки, забрызганной кровью и мозгами, создатель российской секретной полиции испускает дух. Заметим: соседи не слышат ничего – ни выстрелов, ни криков, ни топота, ни шума падения тел. Звукоизоляция!
Сделав своё дело, убийцы неторопливо выходят из квартиры, предварительно удостоверившись, что Судейкин мёртв, но почему-то забыв сделать то же в отношении валяющегося у самой двери Судовского. Свидетель убийства остаётся жив – на радость следствию. Дегаев сразу уезжает на Варшавский вокзал, оттуда поездом в Либаву, оттуда пароходом за границу. Стародворский и Конашевич скрываются некоторое время, но уже в феврале оба арестованы и опознаны Судовским…
Да, поверить трудно; на каждом шагу – бессмыслица. К чему ломы, если грохочет выстрел, и можно чисто и гарантированно продырявить человека из револьвера? Что за фантастическая беспечность многоопытного сыщика, не давшего себе труда проверить, кто в квартире? Почему одна жертва спокойно ждёт, когда её прикончат, а другая мечется по углам – вместо того, чтобы воспользоваться оружием? Не было оружия при себе? Но это уже совершенно необъяснимо: два спецагента идут на задание – и не берут с собой револьверы! И так далее. Приходится признать, что с точки зрения здравого смысла описанная сцена убийства – невероятна. Всё было иначе. Как?
Паутина
Дегаев легко и беспрепятственно смылся за границу. (Почему этого не сделали Стародворский и Конашевич? Вопрос остаётся открытым.) Избавленный от преследования со стороны русской полиции и со стороны товарищей по партии, в разгроме которой он сыграл ведущую роль, Дегаев обосновался в США, где преспокойно дожил до старости. Оба его подельника были сысканы, арестованы и дали признательные показания, взяв всю вину на себя. Именно из показаний Стародворского, и только из них, следует, что руки Дегаева не замараны кровью, и что Судейкина прикончил он, Стародворский. Суд вынес ему смертный приговор, волею государя заменённый на бессрочную каторгу. Отсидев восемнадцать лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, он был помилован в августе 1905 года. Между тем, когда в 1917 году открылись архивы Департамента полиции, выяснилось, что за время отсидки Стародворский периодически получал денежные суммы за сотрудничество. То есть работал осведомителем. Интересно, зачем деньги приговорённому к пожизненному заключению? Приходится предположить, что наказание для Стародворского носило условный характер: кто знает, отбывал он его в одиночке, или гулял под чужим именем на свободе? Можно предположить, что и до ареста он был секретным сотрудником полиции – агентом Судейкина. Но тогда весь расклад того рокового дня существенно меняется.
Судейкин в сопровождении Судовского идёт на квартиру, где ждут два его же тайных агента, Дегаев и Стародворский (может быть, и три – о Конашевиче мало что известно, а Судейкин далеко не всю агентуру заносил в полицейские списки). Зачем идёт? Очевидно, чтобы встретиться с кем-то шестым. Этот Шестой – переговоры с ним крайне важны для Судейкина – силён и опасен; отсюда – конспирация и меры предосторожности в виде группы своих людей. В планы Судейкина должен был быть посвящен Судовский, но на следствии он ни словом не обмолвился о Шестом. Дегаев и Тихомиров тоже о нём ни гугу. Если Шестой существовал, то это был некто, упоминание о ком в связи со зверским, нашумевшим убийством жандармского подполковника равно компрометировало и революционеров, и власть. Следовательно, сам он имел отношение и к высшей власти, и к революционным кругам. Был человеком известным и влиятельным. Мог вести с начальником Секретной полиции некие тайные переговоры по вопросу, представляющему нешуточный взаимный интерес.
Любопытный факт: одновременно с раскручиванием дегаевской истории «Народная воля» сразу по нескольким каналам вступила в контакт с другой тайной организацией, имя коей – «Священная дружина», она же «Добровольная охрана», она же «Земская лига». Многообразие имён, в котором звучит странная таинственность. Тут хотелось бы разобраться. Но беда в том, что о «Священной дружине» очень мало надёжных сведений. Упоминает о ней экс-премьер-министр Сергей Юльевич Витте в своих мемуарах, но сочинение сие полно лестного для автора вымысла и в целом малодостоверно. Учёные исследователи избегали этой темы: и до революции, и при Советской власти в ней таилась идеологическая опасность. Дело в том, что эта странная организация представляла собой зеркальное отражение или тень революционного подполья в высших сферах имперской бюрократии.
Прежде всего – централизация и конспирация. Если верить существующим источникам, «Священная дружина» была выстроена на нечаевских принципах и почти полностью копировала структуру «Народной воли». Во главе – Центральный комитет и исполнительные комиссии, под их контролем – петербургское, московское попечительства и провинциальные инспектуры, коим, в свою очередь, подчиняются низовые организации – «пятёрки». Каждый участник пятёрки знает только четырёх товарищей и одного вышестоящего руководителя. Каждый руководитель «ведёт» одну пятёрку и имеет контакт с одним членом ЦК. Все пользуются конспиративными псевдонимами-прозвищами. Существовала ли эта разветвлённая тайная сеть в реальности, или вожди «Дружины», так же, как и вожди «Народной воли», слухами о ней стращали противника – определённо сказать невозможно. Рядовой состав организации нам неизвестен. А вот состав руководства поражает воображение обилием чинов, титулов, званий.
Вот только некоторые лики из этой портретной галереи. Павел Павлович Демидов, князь Сан-Донато, егермейстер двора его императорского величества, один из богатейших людей России и… Италии. Генерал Ширинкин, дворцовый комендант. Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, прозвище «Набольший», начальник гатчинской дворцовой охраны, с 1882 года – министр двора и уделов (между прочим, свояк П. А. Шувалова, бывшего шефа жандармов). Жандармский генерал Смельский. Банкир Гинзбург. Генерал Дурново. Генерал Безобразов. Наконец, «душа сего общества», граф Павел Петрович Шувалов, известный в свете как «граф Боби», двоюродный брат того же бывшего шефа жандармов, адъютант великого князя Владимира Александровича, брата царя. Если добавить, что организация пользуется покровительством министра внутренних дел Н. П. Игнатьева, что ходят слухи о членстве в ней самого великого князя Владимира Александровича, что с ней сотрудничает бывший начальник Петербургского сыскного отделения И. Д. Путилин, что в её создании принимал участие близкий к Лорис-Меликову политический авантюрист генерал Фадеев, что, наконец, через него в сей блистательный круг проник молодой да ранний Сергей Витте, будущий глава правительства и «великий визирь», то станет ясно, что более сиятельного состава не придумаешь. И вот эта компания сильных мира сего создаёт тайную, подпольную, конспиративную организацию. Для чего?
Официальная цель – борьба с крамолой, но можно не сомневаться, что цель реальная, – борьба за власть. Тем более что взрыв на Екатерининском канале не сплотил политическую элиту империи, а лишь породил в её среде новые группировки. Первые годы нового царствования ознаменованы противостоянием двух великокняжеских кланов: племянников-Александровичей и их дядьев-Николаевичей. Средства для борьбы хороши все, в том числе использование революционного подполья.
«Священная дружина» возникла весной 1881 года, и чуть ли не первым делом её представители начинают искать контактов с «Народной волей». Некий литератор Николадзе, сотрудник знаменитого «Современника», и в то же время человек, близкий к «графу Боби», мчится в Париж и в Женеву, устанавливать связи с народовольцами-эмигрантами (Тихомировым, Оловенниковой). Другой порученец – Мальшинский – вступает в контакт с эмигрантским публицистом Драгомановым, близким и к русским народникам, и к украинским националистам, передаёт ему деньги, о чём-то совещается. В результате на свет появляется журнал «Вольное слово», по видимости – антиправительственный, революционный, а на самом деле – контролируемый «Священной дружиной».
Подробности контактов между подпольщиками-аристократами и подпольщиками-террористами неизвестны. О них скупо упоминает в мемуарах Вера Фигнер. Герман Лопатин впоследствии высказывал мнение, что в этих переговорах участвовал Дегаев и, более того, что он был агентом «Священной дружины». Идеолог консерватизма, могущественный наставник двух императоров Константин Петрович Победоносцев в письме Александру III утверждал, что «Священная дружина» финансирует женевское издание «Правда» (название многообщающее), в котором печатаются прямые призывы к терроризму и к революции. И пугал царя существованием некоего тайного «правительства „Священной дружины“». Наконец, сам Судейкин в ноябре 1882 года подал рапорт царю, в котором обвинял «Священную дружину» в сотрудничестве с «Народной волей». При этом, однако, умалчивал, что сам, с ведома директора Департамента полиции Плеве, вёл переговоры с Исполнительным комитетом «Народной воли» о поддержке рождённого в недрах «Священной дружины» проекта Земского собора.
Как бы ни были хаотичны эти факты, они говорят о том, что в 1881–1882 годах полным ходом осуществлялось взаимодействие между тремя силами: битой, но не разбитой «Народной волей», сановными честолюбцами из «Священной дружины» и секретной полицией Судейкина. Взаимодействие это имело целью взятие власти, и было замешано на взаимной подозрительности и ненависти. В конце 1882 года «Священная дружина» (не без участия Департамента полиции) была официально упразднена. Но в реальность её исчезновения мало кто поверил. Знакомый нам генерал Козлов (теперь он – московский обер-полицмейстер) в письме к Плеве, написанном сразу после убийства Судейкина, обронил фразу: «Я допускаю возможность всякого с их стороны бесправного дела, направленного в отмщение за упразднение дружины». Сам Судейкин годом раньше просил у государя защиты от возможной расправы со стороны «дружинников».
Чтобы кровь стыла в жилах
А теперь в свете этих фактов посмотрим на обстоятельства убийства Судейкина. Что несомненно? То, что Судейкин вместе с Судовским пришёл на конспиративную квартиру и был убит ударами лома по голове. Лом – не тот предмет, который просто так хранят в квартире. Значит, он был заготовлен специально для убийства. Ломом можно убить бесшумно и наверняка, да и пронести его в находящуюся под наблюдением квартиру, замаскировав под связку реек, легче, чем, скажем, топор. Но почему такое брутальное орудие убийства? Почему не яд, не кинжал, не удавка? Очевидно, потому, что нужно совершить убийство жуткое, поражающее воображение жестокостью исполнения. Именно такого убийства можно ждать от злодеев-бомбистов, а никак не от заговорщиков-аристократов. В убийстве ломом – элемент инсценировки: всё должно выглядеть как зверская расправа фанатиков революции над слугой режима. А бесшумность необходима для того, чтобы успеть спокойно ликвидировать лишние улики и покинуть место преступления. И, кстати, оставить в живых свидетеля, который, перед тем как получить удар по голове, успел увидеть именно то, что нужно организаторам расправы.
Если это так, то убийство было совершено вовсе не по указанию Исполнительного комитета «Народной воли» (уже фактически не существовавшего к этому времени), а, скорее, вследствие сговора между Дегаевым и высокопоставленными конспираторами из круга «Священной дружины». У них были основания для того, чтобы постараться избавиться от чрезмерно активного, честолюбивого и слишком много знающего подполковника. Скорее всего, и он, направляя свои стопы к дому № 91 по Невскому проспекту, шёл не на рядовое рандеву с агентом, а на организованную этим агентом важную встречу с кем-то из руководства «Дружины». Оружия не захватил, возможно, по уговору, рассчитывая, в случае чего, на помощь троих своих сотрудников. Предмет переговоров тоже вполне понятен: назначенный после отставки Игнатьева министр внутренних дел Д. А. Толстой был бельмом на глазу как у Судейкина, так и у адептов «Дружины». Известно, что Воронцов-Дашков ненавидел Толстого; в этой ненависти он сходился и с революционерами, и с Судейкиным. Почему бы не организовать против «реакционного» министра народовольческий теракт? Почва для секретной встречи глав трёх тайных организаций – Воронцова, Судейкина, Дегаева – была. Но и соперничество между ними было жестоким – слишком уж схожи их цели и средства.
Что произошло на квартире Яблонского, по каким конкретно причинам был убит Судейкин, кто нанёс ему страшные удары – ответить на эти вопросы через сто двадцать пять лет после убийства невозможно. Несомненно одно: 16 декабря 1883 года обнаружился страшный факт сращения политической элиты России, её спецслужб и боевых террористических организаций. Эта тема получила развитие в дальнейшем, актуальна она, надо признаться, и в наши дни.
…Из пяти (или шести?) действующих лиц трагедии, разыгранной в доме № 91 по Невскому проспекту, больше всех повезло Дегаеву: пережив остальных, он умер в 1920 г. в Вермингтоне, штат Южная Дакота, и был похоронен на местном кладбище как почтенный профессор математики Алексендер Пэлл.
Вместо заключения к части первой. Сонька Золотая Ручка – талант, опередивший время?
Эта женщина – знамение эпохи и символ криминальной фортуны. Образ, составленный из парадоксов. Её прозвище стало именем нарицательным, а настоящее имя потонуло в безвестности. Истории про похищенные ею миллионы передавались из уст в уста, а прожила она чуть ли не полжизни в нищенской обстановке ссыльнокаторжного поселения. Носила титул королевы преступного мира, но вынуждена была терпеть побои пьяного сожителя, осуждённого за убийство. В своих деяниях, сделавшихся легендами, она является то как провинциальная мещанка, то как столичная аристократка, то как бесшабашная соблазнительница, то как верная супруга и добродетельная мать. Репортёр и писатель Влас Дорошевич, повидавший её на Сахалинской каторге, подвёл итог её жизни в нескольких словах: «Перенесла она так же много, как и совершила». А что совершила? Следуя парадоксальной и провокационной стилистике её образа, можно сказать: она стоит у истоков женской эмансипации в России, подобно Софье Ковалевской, Марии Тенишевой или Александре Коллонтай, подобно женщинам-террористкам, в чьих ручках не дрожал револьвер. Как Вера Засулич и Софья Перовская доказали, что в революционной деятельности слабый пол не уступает сильному, так Сонька Золотая Ручка установила равенство женщин и мужчин в криминализованном российском сознании.
В тумане мифов
Реальный человек, носивший это прозвище, скрыт за плотной пеленой легенд. Нет достоверных и подлинных её изображений, кроме единственной фотографии, сделанной уже в сахалинской каторжной тюрьме, на излёте жизни. Её настоящее имя, время и место рождения трудно определить. Установлено: родилась в Варшаве в небогатой еврейской семье; рано вышла замуж, перебралась в Одессу. Там, видимо, началась её криминальная карьера, но при каких обстоятельствах – неведомо. Вообще о её реальной биографии мало что известно. Она несколько раз вдовела, выходила замуж, переезжала из города в город, из страны в страну, меняла фамилию и даже имя, по-разному указывала свой возраст. Поэтому найти в дебрях бесчисленных архивов подлинные документы, дающие возможность пролить свет на перипетии её жизни, весьма непросто. Научная биография самой знаменитой преступницы дореволюционной России пока что не написана. После лет десяти бурных криминальных похождений она была осуждена под именем Софьи Блювштейн. Под этим же именем стала героиней криминальной хроники, а впоследствии – персонажем сахалинских репортажей Чехова и Дорошевича.
Блювштейн – фамилия мужа, кажется, третьего. Софья – имя, которое она сама себе придумала. Почему Софья? Непонятно. Можно, пожалуй, отметить, что это имя в русской истории носили женщины непростые. Софья Палеолог, супруга Ивана III (тоже, кстати, от рождения именовавшаяся по-другому – Зоя), пересадившая на русскую почву традиции последней византийской императорской династии, а на московский герб – царьградского двуглавого орла. Царевна Софья Алексеевна, соперница Петра Великого и первая женщина-правительница Российского государства. Как не вспомнить и Софью Перовскую… Но эта подвижница революционного террора, сочетавшая ангельскую внешность с железной непреклонностью смертницы, вписала себя в историю цареубийством 1 марта 1881 года, когда имя Софьи Блювштейн уже фигурировало в полицейских протоколах. Вообще говоря, Софья по-гречески значит «хитроумие» (обычно переводят как «мудрость», но это неточно). Великомученица Софья – мать святых сестёр Веры, Надежды и Любови; то есть, иносказательно – родоначальница трёх главных христианских добродетелей. В русской литературе все Софьи, Сони и Сонечки – нежные, но твёрдые, привлекательные и своевольные девушки; в их судьбах лиризм соединён с трагизмом. Так или иначе, наша героиня выбрала себе имя очень точно. Золотая Ручка, великая мошенница и королева криминала, обязательно должна быть Сонькой, как, скажем, предводительница матросов-анархистов времён Гражданской войны могла именоваться только Марусей, и никак иначе.
Ещё одна особенность мифического образа Золотой Ручки. Все биографические легенды сходятся на том, что слава звезды преступного мира пришла к ней в Петербурге. Сюда она якобы приехала в начале 1870-х годов из Одессы, и здесь совершила разные из ряда вон выходящие криминальные подвиги. Скажем сразу: никакими документами эта версия не подтверждается. Правда, большая часть архивов Петербургской полиции и окружного суда, в которых можно было бы отыскать истину, погибла во время Февральской революции. Но ни в криминальной хронике тогдашних столичных газет, ни в отчётах градоначальника нигде не упоминается имя Софьи Блювштейн, или какое-либо иное имя, которое могло принадлежать ей. Знаменитый И. Д. Путилин, возглавлявший Петербургское сыскное отделение с середины шестидесятых годов до конца семидесятых, тоже ни словом не обмолвился о ней в своих мемуарах.
Робин Гуд в юбке с турнюром
Только бытописатель девиантного Петербурга Владимир Михневич, не называя имён, упоминает о некоей «элегантной даме еврейского происхождения, обладавшей „золотыми ручками“», которая была «виновницей одной из цветущих эпох карманного воровства на железнодорожных станциях и в других публичных местах». По словам Коломенского Кандида (таков был газетный псевдоним Михневича), сия дама «не имела среди своей братии соперников в искусстве отрезывания саквояжей и вытаскивания бумажников» и «была основательницей целой школы „карманной выгрузки“, организовала правильную шайку карманников, действовавших под её руководством, по её инструкциям и указаниям». Если речь здесь идёт действительно о Софье Блювштейн, то её смело можно назвать создательницей одного из первых организованных преступных сообществ в Петербурге, да и вообще в России. «Сама она, – продолжает Михневич, – выходила на „работу“ только в чрезвычайных случаях, когда предвидилась значительная добыча… Например, у одного благочестивого купца, во время проезда его с богомолья, из Колпина в Петербург, в вагоне, когда он чуть-чуть вздремнул, члены ассоциации вышеупомянутой „золотой ручки“ вырезали, вместе с карманом, бумажник, вмещавший в себе тридцать тысяч денег и ценных бумаг».
Михневич краток, но можно дополнить и расцветить его рассказ. Вот поезд отправляется от станции Колпино в Петербург; вот – вагон первого класса, чистая публика. В купе влезает, сопя и отдуваясь, этакий купчина, этакий толстый боров с красной харей и тяжёлой золотой цепочкой на пузе. Задний карман его сюртука оттопыривается: там лежит туго набитый бумажник. Купец благодушен: съездил на поклонение, замолил грехи. Вслед за богомольным толстосумом в купе впархивает молодая интересная особа в платье с турнюром, в шляпке с вуалеткой, из-под коей блестят чёрные живые глаза. Садится напротив и скромненько так молчит, только изредка бросает острые взоры на случайного попутчика. Ну, как-нибудь там начинается разговор. Может быть, со слов: «Ах, какие трубы интересные, и чего это они так дымят?» (за окошком ведь Ижорский завод проплывает). Или ещё с каких-нибудь фразочек, рисующих женское любопытство, беспомощность и прочие очаровательные качества, взывающие к мужской поддержке. Знакомство завязано. Через десять минут купец увлечён, очарован, готов продолжить знакомство до любых дозволенных природой пределов. И не чует в азарте, как тихо отворяется дверь купе, тонкая фигура, подобная тени, проскальзывает внутрь, натренированная рука одним лёгким движением взрезает карман – и видение исчезает вместе с толстым бумажником. На перроне дамочка нежно прощается с «милым папашей», не забыв обнадёжить его насчёт скорой встречи. И лишь через четверть часа, очнувшись от сладких грёз, дабы расплатиться с извозчиком, купчина обнаруживает дыру на месте кармана. И с сокрушённым сердцем, крестясь и задыхаясь, бежит в полицию.
Так, или примерно так, создавались многочисленные повествования о подвигах Золотой Ручки. Всё это если и не было правдой, то было похоже на правду. Образ бесшабашной, обаятельной мошенницы, легко и весело обманывавшей надменных аристократов и алчных толстосумов, вызывал у массового читателя (слушателя) сочувствие и симпатию. Перескажем парочку этих легенд, не заботясь о достоверности.
Легенда первая. Колье за сумасшедшую цену
Раз, летом 187… года, в один из дорогих ювелирных магазинов на Невском вошла богато одетая, приятная во всех отношениях миниатюрная дама, брюнетка с аристократическими манерами. Осмотрев украшения, она выбрала одно: великолепное бриллиантовое колье стоимостью семьдесят пять тысяч рублей.
– Какая прелесть, – обратилась она к хозяину магазина (назовём его господин Фаберже), – как мне нравится эта вещь! Я покупаю её! Ах да, у меня нет с собой денег, но мой муж немедленно расплатится с вами. – И добавила конфиденциальным тоном: – Мой муж – профессор Балинский.
– Сам профессор Балинский! Знаменитый врач! Отец русской психиатрии! – воскликнул Фаберже. – В чём же дело? Я готов поехать с вами к вашему мужу и принять деньги или вексель из его рук, ежели он одобрит вашу покупку. Впрочем, конечно одобрит: как можно отказать такой очаровательной женщине… – И так далее.
Дама положила колье в сумочку и в сопровождении самого Фаберже отправилась на квартиру Балинского. Профессор вёл приём.
– Подождите здесь одну минуту, я предупрежу мужа.
И дама, мимоходом извинившись перед посетителями, уверенно вошла в кабинет. Через несколько минут вышла, поманила ювелира гантированной ручкой: супруг ждёт его. Фаберже вошёл; Балинский принял его очень любезно.
– Рад вас видеть, милостивый государь, премного о вас наслышан. Ну право же, можно ли так переутомляться? Как же, как же, бриллиантовое колье, знаю, знаю-с, семьдесят пять тысяч… А вообще как вы себя чувствуете? Хорошо ли спите? Не страдаете ли головными болями?
Лишь через четверть часа профессор и ювелир поняли, что стали жертвами мошенницы: профессору она объявила, что её несчастный муж, тот самый знаменитый ювелир Фаберже, ожидающий приёма за дверью, страдает манией получения денег за какое-то бриллиантовое колье. Так прекрасная обманщица, которой, конечно же, была Сонька Золотая Ручка, замкнула обоих своих «мужей» друг на друга, и, не теряя времени, скрылась с добычей.
Легенда вторая. Похитительница регалий
В середине семидесятых годов в великосветском обществе Петербурга разразился скандал: у военного министра Милютина украли знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного. Надо понимать, что это значило. Осыпанные драгоценными камнями крест и звезду, золотую цепь с орлами, а также орденскую ленту носили при парадном мундире, в торжественных и официальных случаях надевать их было обязательно. Бедняга министр, один из самых влиятельных вельмож из окружения государя, оказался в нелепом, беспомощном положении: без орденов нельзя было появиться на торжественной церемонии, при дворе, на приёме. Светские острословы немало позабавились над обворованным генералом, на радость его политическим противникам. Заодно пролетел слух: тут не обошлось без прекрасной незнакомки. В самом деле, как ещё воры могли получить доступ к личному гардеробу и к потайной шкатулке, хранящейся в опочивальне по соседству с кабинетом министра?
Не успели вдоволь посудачить об этой истории, как новая пропажа обнаружилась в аристократическом доме Дурасова, церемониймейстера Двора Его Императорского Величества. Из шкатулки, что хранилась в супружеской спальне, исчезли бриллиантовое колье и серьги вельможной супруги стоимостью семьдесят тысяч рублей (цена вполне приличного поместья или двухэтажного каменного дома в центре Петербурга). При том замок шкатулки не был повреждён; следовательно, вор спокойно воспользовался ключом. Кто это мог быть и как попал он во святая святых семейственного обиталища? Опять незнакомка?
Но кульминацией серии краж драгоценностей в наиаристократичнейших домах Петербурга стало похищение золотых с бриллиантами часов из рабочего кабинета великого князя Константина Николаевича в Мраморном дворце. Обнаружив пропажу, великий князь, родной брат государя, генерал-адмирал и и председатель Государственного совета, лично обратился в полицию. Сыщики опросили прислугу Мраморного дворца и выяснили: в день похищения несколько человек видели неизвестную молодую особу, поднимающуюся по лестнице, что ведёт в жилые покои великого князя, а затем спускающуюся обратно. Чьи-то глаза даже углядели (к великому смущению полицейских чиновников), как таинственная миниатюрная брюнетка проскользнула в кабинет Константина Николаевича, и, спустя некоторое (довольно продолжительное) время, выскользнула оттуда. Однако из собственноручно заверенных показаний его императорского высочества следовало, что в это самое время он почивал в своём кабинете, в том самом, и никуда не отлучался…
Разумеется, Сонька Золотая Ручка (то была она) нашла способ близко познакомиться с министром, придворным сановником и с самим великим князем, и, усыпив их внимание своими чарами, похитила драгоценности.
Сеанс магии с её разоблачением
Не будем больше морочить читателя. Хотя про Софью Блювштейн рассказывали обе эти и многие другие, не менее красочные истории, на самом деле она не похищала ни колье у Фаберже, ни часов у великого князя. В краже брильянтов госпожи Дурасовой повинилась горничная Поля, действовавшая по указке любовника. Похитительница генеральских и великокняжеских регалий была сыскана полицией, и на суде без тени раскаяния поведала о содеянном. Ею оказалась питерская мещанка Ольга Разамасцева, которую участник событий характеризует как «бойкую девушку двадцати двух лет, с миловидным лицом, большими живыми чёрными глазами и постоянной весёлой усмешкой». Образ, очень похожий на Золотую Ручку, но всё же не она. Что же касается легенды про ювелира и психиатра, то вне зависимости от того, кто впервые совершил эту остроумную мошенническую проделку, она давно стала бродячим авантюрным сюжетом, кочующим по страницам книг и сценариям кинофильмов.
Эпоха искала свою криминальную героиню и лепила её образ из фрагментов самых разных биографий. Вот Золотая Ручка под видом актрисы, столичной знаменитости, выманивает крупные деньги у провинциального миллионщика, ловеласа и мецената. Вот, в образе интересной вдовушки, аристократки, знакомится в поезде с молодым гвардейским офицером – и вскоре исчезает в дорожном тумане с его чемоданами и кошельком. А там, смотришь, она уже в крупном банке получает деньги по фальшивым бумагам, которые подделал для неё околдованный её прелестью банковский служащий. Историй множество, и порой они разыгрываются одновременно в разных концах империи, и даже за границей.
Несомненно следующее: Софья Блювштейн совершила ряд крупных мошенничеств, за что трижды подвергалась аресту. В первый раз умолила московского градоначальника отпустить её ради троих малюток-дочерей, которых кроме неё некому содержать и воспитывать (что являлось сущей правдой). Во второй раз, арестованная и заключённая в тюремный замок в Смоленске, в ожидании суда соблазнила надзирателя, полицейского офицера, тот устроил ей побег и сам бежал вместе с ней. Какое-то время они скитались вместе, потом наскучили друг другу и разошлись. Наконец, арестованная за границей, в Австро-Венгрии, Софья Блювштейн была выдана российской Фемиде. (Тут есть нечто общее с Нечаевым: он тоже был арестован за границей и депортирован; он тоже, хотя, естественно, иным способом, сумел склонить тюремщиков к организации побега, правда, не удавшегося.) Затем попытка побега, суд. В 1883 году об этом суде трубили все газеты. Приговор: ссылка «в места весьма отдалённые». Побег оттуда, поимка, отправка на Сахалин, сечение розгами, закование в кандалы и помещение в одиночную камеру Александровской каторжной тюрьмы.
Там, как тюремную знаменитость, повидал её в 1890 году Чехов. «Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн – Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у неё кандалы; на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и тёплою одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, выражение лица у неё мышиное. Глядя на неё не верится, что ещё недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков…»
Владелица квасной лавки
Криминальная деятельность Соньки Золотой Ручки со всеми её романтическими сюжетами продолжалась от силы лет десять-двенадцать и принесла ей великую славу. Ссыльно-каторжная жизнь Софьи Блювштейн тянулась куда дольше. Через девять лет после Чехова (и, стало быть, через шестнадцать лет после суда) на каторжную достопримечательность пришёл поглазеть ещё один бытописатель Сахалина – Влас Дорошевич. Этой встрече в его книге посвящен отдельный очерк. Героиня к этому времени, отбыв тюремный срок, переведена на поселение.
Детали портрета, наружного и психологического. «Маленькая старушка с нарумяненным, сморщенным, как печёное яблоко, лицом, в ажурных чулках, в стареньком капоте, с претензиями на кокетство». «По манере говорить – это простая мещаночка, мелкая лавочница». «Она ещё кое-как владеет правой рукой, но чтоб поднять левую, должна взять себя правою под локоть». (Следствие почти трёхлетнего пребывания в кандалах. Дорошевич обращает внимание на мрачную каламбурность ситуации: Золотая Ручка – сухорукая старуха.) «Бьётся как рыба об лёд, занимается мелкими преступлениями и гадостями, чтобы достать на жизнь себе и на игру своему сожителю». И итог: «Право, для меня загадка, как её жертвы могли принимать Золотую Ручку то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку. Вероятно, разгадка этого кроется в её хорошеньких глазках, которые остались такими же красивыми, несмотря на всё, что перенесла Софья Блювштейн».
Заметим, однако, что преступления, которыми добывала себе кусок хлеба ссыльнопоселенная Софья Блювштейн на Сахалине, не все были такими уж мелкими. Она и её сожитель Богданов (о коем сама Софья говорила Дорошевичу, что он за двугривенный кого угодно зарежет) подозревались в убийстве местного лавочника Никитина и краже пятидесяти шести тысяч рублей (огромная сумма по меркам каторги) у поселенца Юрковского. Доказать ничего не удалось. Конечно, широкомасштабная торговля запрещённым на каторжном острове спиртным, скупка и перепродажа краденого, а также несколько попыток побега – мелочи по сравнению с убийством… Кстати, и по части шинкарства и притоносодержательства тоже ничего доказать не удалось. Официально после отбытия каторги и выхода на поселение Софья Блювштейн числилась владелицей квасной лавки.
«– Шут её знает, как она это делает, – говорит мне смотритель поселений, – ведь весь Сахалин знает, что она торгует водкой. А сделаешь обыск – ничего, кроме бутылок с квасом». Похоже, Дорошевич прав: «разгадка этого кроется в её хорошеньких глазках».
Сколь бы ни была трагична судьба «королевы преступного мира», приговорённой к вечному прозябанию на негостеприимном острове с убийцей-сожителем, как бы ни было нам жаль несчастную мать, разлучённую с дочерьми, о судьбе которых она даже не получала известий, всё же приходится констатировать: эта натура осталась несломленной. Натура, конечно, преступная (впрочем, что есть преступление? несовпадение установок личности и общества?). Но – деятельная, упорная и свободолюбивая. Совершенно новый для тех времён тип женщины. Пожалуй, слишком новый. Родись наша героиня на полстолетия позже – быть ей комиссаршей при какой-нибудь конной армии, или комсомольско-партийной богиней в алом кумачовом платочке. А то, может быть, и первой в истории женщиной-послом, или лётчицей, или народной артисткой… Впрочем, и в своей эпохе она не одинока: формирующийся в России тип женщины, смелой, решительной до жестокости и самостоятельной, тип женщины-лидера представлен ровесницами Софьи Блювштейн Софьей Перовской, Верой Засулич, Верой Фигнер. Кто знает, каким путём самоутверждения пошли бы они, если бы родились и выросли в шальном и жуликоватом мире варшавского или одесского мещанства. Кто знает, как повернулась бы судьба нашей героини, повстречай она в ранней юности какого-нибудь демонического революционера типа Сергея Нечаева…
Так или иначе, криминальный образ Соньки Золотой Ручки неотразимо обаятелен. Хочется верить, что она – талант, опередивший время. И что поэтому последние годы её жизни потонули в безвестности, и где находится её могила – доподлинно неизвестно.
Историческая справка
К середине 1880-х годов в России наступает временная политическая стабилизация. После разгрома «Народной воли» революционный террор угас, а обстоятельства дела Дегаева – Судейкина сильно скомпрометировали революционное подполье в глазах общества. С 1883 по 1901 годы не совершено ни одного террористического акта. Попытка небольшой группы экстремистов (в составе которой – Александр Ульянов) организовать покушение на Александра III в 1887 году была раскрыта, её участники арестованы, некоторые из них казнены. Однако ностальгия по терроризму жила во многих сердцах.
На исходе 1890-х годов в связи с промышленным подъёмом, ростом городов, обострением аграрного и рабочего вопросов, активизируются всевозможные радикальные, в том числе и революционные организации. В 1898 году из нескольких групп марксистов образуется Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). В те же годы многочисленные кружки революционеров-народников, крестьянских социалистов, анархистов, национал-социалистов, действующих в России и в эмиграции, ищут почву для объединения. Их идеология по-прежнему замешана на дрожжах терроризма.
14 февраля 1901 года прогремел выстрел в приёмной Министерства народного просвещения. Министра Н. П. Боголепова смертельно ранил Пётр Карпович, бывший студент Московского и Юрьевского (Дерптского, ныне Тартуского) университетов, исключённый из них за участие в студенческих политических выступлениях. Убийство Боголепова стало первым за восемнадцать лет успешным политическим терактом в России. Его обстоятельства очень схожи с обстоятельствами покушения Веры Засулич на Трепова.
Покушение Карповича поначалу было воспринято обществом как поступок террориста-одиночки, едва ли не как случайное недоразумение. Между тем в том же 1901 году группа народников-экстремистов во главе с Григорием Гершуни создаёт хорошо законспирированную подпольную Боевую организацию социалистов-революционеров. Её цель – осуществление террористических актов против представителей власти. Боевая организация тесно связана с другими подпольными и эмигрантскими революционно-народническими группами, которые в 1902 году объединились в партию социалистов-революционеров (ПСР, эсеры). Среди эсеров – немало ветеранов народничества, уцелевших народовольцев, участников «хождения в народ» и террора конца 1870-х – начала 1880-х годов.
Появление партии эсеров и её Боевой организации совпадает с обострением борьбы группировок в верхах. К началу XX века основное противостояние происходит между группировкой министра финансов С. Ю. Витте и «московской» группировкой, пользующейся покровительством великого князя Сергия Александровича, дяди императора Николая II. За каждой из группировок стоят, помимо всего прочего, интересы крупного капитала. Одно из направлений, где происходят острейшие столкновения их интересов – дальневосточная политика России, проникновение в Маньчжурию, Северный Китай и Корею. На этом фоне 2 апреля 1902 года неизвестный, назвавшийся адъютантом великого князя Сергия Александровича, убивает министра внутренних дел, союзника Плеве, Д. С. Сипягина. Вскоре выяснилось: убийца – Сергей Балмашов – действовал по поручению Боевой организации эсеров. Никто тогда не знал, что почти с самого начала в составе Боевой организации находится штатный агент Департамента полиции, двойник, гений провокации Евно Азеф. Вскоре Азеф хитроумно устраивает арест Гершуни, после чего устанавливает свой контроль над Боевой организацией.
С убийств Боголепова и Сипягина начинается вторая жизнь революционного терроризма в России. В деятельности террористов идейный фанатизм тесно переплетается с провокацией, двойничество становится постоянным явлением, а за спинами агентов-исполнителей видятся тени крупных политических фигур, представителей высших кругов имперской бюрократии.
Невский проспект
Мануфактурные склады
Крюков канал и канал Грибоедова
Уличные музыканты
Открытие храма
Конка на петербургской улице
Открытие памятника Александру III
Часть вторая. Шествие в бездну. 1902–1916
Вместо вступления к части второй. «Убилей» подкрадывался незаметно
Празднование двухсотлетия Петербурга в 1903 году аккуратно уложилось между двумя событиями: 15 мая в столицу привезли гроб с телом застреленного революционерами уфимского губернатора Богдановича; 19 мая в версте от Николаевского (ныне Московского) вокзала, у Американского моста через Обводный канал, сошёл с рельсов военный поезд, задавило насмерть одного солдата. А так – праздники проходили приятно, весело, при ясной и тёплой погоде, плюс 20 по Цельсию. Правда, без президентских визитов обошлось, но мэры и бургомистры нескольких десятков европейских городов съехались. Город починили, покрасили, убрали цветами; на воде устраивали регаты, в садах и парках – народные гулянья. Ещё с неделю городские обыватели догуливали, доедали и допивали; газетчики дописывали статейки на праздничную тему. Потом в Сербии грянула революция, внимание общества переключилось на кровавое убийство короля Александра и королевы Драги. О юбиляре, как водится, стали забывать – до следующего юбилея.
Да, кстати: день основания города отмечали в пятницу 16 мая (по новому стилю – 29-го). Почти ровно посередине между двумя политическими терактами. После убийства министра внутренних дел Сипягина прошло 409 дней, до убийства его преемника Плеве оставалось 425 дней.
При свете трёх миллионов свеч
Сведения из доклада Инвентарной комиссии Петербурга от 1(14) апреля 1903 г. Площадь города, расположенного на 19 островах, – 75,375 кв. вёрст; улиц в нём 681, общей длиной 375 вёрст (плюс набережные и бечевники – 111 вёрст); площадей 76, не считая военных плацев. Мостов 174, парков и общественных садов 53. Зданий 18931; в них 137 тысяч квартир, обитаемых полуторамиллионной расой столичного населения (в среднем 11 жильцов на квартиру! Густо!). Жизнь сих 1500000 освещали уличные светильники суммарной силой 2712600 свеч. Воды, поступающей по 473-вёрстному водопроводу, питерские жители потребляли ежедневно 25 млн вёдер (многовато! верь статистике!). Что ещё? Ах да, стоимость недвижимого имущества в этом городе оценивалась примерно в 1748 млн рублей, из каковой суммы на госимущество приходилось 876 млн рублей (50 %), на недвижимость городского управления 209,7 млн рублей (12 %), частной же недвижимости считалось на 663 млн рублей (38 %).
В докладе не говорится о том, сколько преступников и злодеев обитало в этих квартирах, крутилось на этих улицах и площадях, пряталось от света этих фонарей. Данные полицейских отчётов позволяют констатировать: криминогенная обстановка в столице в пред– и послеюбилейные дни была стабильной. Ограниченность городского бюджета, из коего финансировались праздничные мероприятия, не позволяла слишком развернуться аферистам. В дни праздничных гуляний лихо поработали карманники; впрочем, о готовящемся нашествии гастролёров-«щипачей» со всей России и из царства Польского полиция предупреждала ещё в конце апреля. Преступники и их жертвы встречали двухсотлетие кто как умел.
За две недели до юбилейных дней, к примеру, некто Ясницкий, по документам числившийся нарвским мещанином, топал себе, никого не трогал, по Петергофскому шоссе где-то между Путиловским заводом и Автовой деревней; свернул в Школьный переулок. Тут к нему подвалили два оборванца (дело было вечером, темнело). Попросили закурить; мещанин робко пролепетал, что не курит. Потребовали денег; тот, дрожа, полез рыться в карманах – ни гроша, увы, не нашёл. Тут его стукнули по голове, повалили, отлупили до потери сознания, да так и бросили. Лишь ночью несчастный был доставлен в Обуховскую больницу на Фонтанке: туда свозили жертв несчастных случаев со всего города. Слава Богу, жив остался.
Эпизод совершенно в духе нашего времени. Как будто ничего не изменилось за сто лет; разве что сегодня такие происшествия (по данным статистики) случаются вдесятеро чаще. Участок Петергофского шоссе, где не повезло Ясницкому, в те времена был опасным местом, как сегодня любая плохо освещенная парадная или сумеречный проходной двор. Репортёр меланхолически замечает: «Школьный переулок мало населён, вовсе не вымощен, не освещается и выходит на Горячее поле, откуда бродяги делают набеги на шоссе».
До боли знакомое
А вот сценка, как будто сегодня срисованная с натуры. Невский; возле Гостиного Двора аврал: красят, мостят, развешивают украшения. Старушка пытается выяснить у лотошника смысл суеты. Цитируем «Петербургский листок» от 4(17) мая 1903 года:
«– Убилей готовят. Питеру в обед двести лет.
– Те-те-те, догадалась, знаю. Стало быть, разукрашивать начали? Вот была бы радость, если бы и на нашу сестру с этих пор внимание обратили и обед улучшили бы…
– А ты откуда?
– Из городской богадельни, родименький, со двора к внучке отпросилася.
– Для вас, баушка, состязания будут устроены: лазанья на мачту, бег на приз и всякое прочее…
– Полно?! Семьдесят второй год человеку и вдруг на мачту!
– Ну что ты, братец, врёшь? – вмешивается в разговор плотник. – Состязаться на Неве будут. На яликах».
Старуха уходит, качая головой и бормоча: никак она не может понять, как это в семьдесят два года будет она на яликах по Неве кататься.
Подготовка к «убилею» сто лет назад была куда менее шумной и масштабной, чем в наши дни. Обошлось без громких финансовых скандалов. Но множество мелких штрихов, отмеченных репортёрами тогдашних питерских газет, создаёт картину, нам до боли знакомую. Тут и заседания юбилейной комиссии, у которой одна проблема: мало денег. На этом основании были, например, отвергнуты такие соблазнительные планы, как организация международного шахматного турнира, проведение автогонок по улицам города и мотогонки на Каменноостровском велодроме. Петербургский шахматный клуб имени Чигорина и энтузиасты автомобилизации, столичные Козлевичи, получили из здания на Думской лаконичный ответ: «Отказать за неимением средств». Тут и поднесение всевозможных подарков и «поздравлялок» представителям городских властей. Из любви к «граду Петрову» даже общество караимов торжественно вручает Городской управе художественно исполненный адрес к двухсотлетию. Тут и украшательская лихорадка, связанная со стремлением хоть как-то прикрыть «исподнее» великого города. Вот, пишут об украшении Знаменской площади (ныне пл. Восстания), где перед двухсотлетием была воздвигнута помпезная триумфальная арка, призванная увенчать собой парадную перспективу Невского: «Это массивное сооружение несколько замаскировывает безобразие деревянного забора, оградившего центр площади перед Николаевским вокзалом». Как видим, «безобразие забора» пережило столетие, переменив деревянную сущность на бетонную и отодвинувшись с площади в сторону Лиговского проспекта, где ограждает сейчас знаменитую яму имени РАО «ВСМ».
О другом забавном совпадении. В недавние дни трёхсотлетия города на Думской башне можно было созерцать малопристойный рекламный плакат рыжебородого шоумена Романа Трахтенберга с «девочками». Сто лет назад, в мае 1903 года, за неделю до городского праздника, медицинская общественность Петербурга широко отмечала двацатипятилетие деятельности врача, хирурга и анатома Густава Трахтенберга. Репортёр «Петербургского листка» титулует его мастером анатомического театра; театр нынешнего Трахтенберга тоже не без оснований можно назвать анатомическим…
А вот эпизод скорее драматичный, нежели забавный, но тоже остроактуальный. 16(27) мая, в самый день основания города, когда парадный центр столицы сиял праздничными церемониями и шумел народными гуляниями, на скромной Калашниковской (ныне Синопской) набережной от ветхости обвалился балкон трёхэтажного дома: как видим, жилой фонд Питера и сто лет назад находился в перманентно-аварийном состоянии. Как раз перед самым обрушением на балкон вышло подышать свежим майским воздухом семейство купца Строгонова. К счастью, когда балки затрещали, купеческие детишки успели в панике запрыгнуть обратно в комнату; но купчихе Пелагее Строгоновой не повезло: она рухнула вместе с балконом на мостовую, и хоть жива осталась, но с тяжкими ушибами и переломом ноги была доставлена в больницу.
Смех и слёзы в окружном суде
Накануне праздника происходили и совершенно оригинальные события. 7(20) мая в окружном суде на Литейном, 4, рассматривался прелюбопытный иск молодого купца Бажанова о возмещении материального ущерба, причинённого ему владельцем парикмахерской. Дело было так. Купец собирался жениться; перед самым венчанием отправился в цирюльню. Его усадили в кресло, парикмахер принялся брить – и столь темпераментно, что острой бритвой отхватил клиенту кусочек носа. Кусочек-то малюсенький, три миллиметра всего, однако ж кровь хлынула, заливая свадебный фрак и пластрон. Обалдевший жених, зажимая рану платком, кинулся в церковь, где его уже ждали… Увы, появление жениха во образе гоголевского майора Ковалёва вызвало в публике издевательский хохот и насмешки; раздосадованная невеста в слезах бросилась из церкви вон; свадьба расстроилась. Вместе с носом и невестой Бажанов лишился и приданого – десяти тысяч рублей. Вот о взыскании этой суммы с виновного цирюльника и просил потерпевший. Суд, хихикая в кулак, постановил удовлетворить его иск частично.
Не до смеху было присутствовавшим на заседании по делу Полькина. Сей мещанин, тайный торговец водкой и содержатель «угловой» квартиры (то есть, квартиры «с углами», сдававшимися внаём) в доживающей свой век грязной и преступной «Вяземской лавре», обвинялся в истязаниях жены, повлекших её смерть. Репортёр газеты «Новое время» так назвал заметку из зала суда – «Человек-зверь». Было за что. С утра до вечера присяжные выслушивали показания свидетелей и экспертов о том, как муженёк бил жену, морил голодом, выгонял в одной рубашке на мороз, а когда она, заболев чахоткой, лежала в жару и просила воды – влил ей в рот нашатырного спирта. Надо сказать, подобного рода драмы разыгрывались в Петербурге с удивительным постоянством, о них, ужасаясь, писал ещё Достоевский. Присяжные слушали, негодовали, а потом вынесли вердикт: «Виновен, но заслуживает снисхождения». 22 мая 1903 года осуждённый Полькин отправился отбывать срок – восемь лет каторги.
Другое дело, слушавшееся в ходе «праздничной» майской сессии окружного суда, выдержано в стиле модной тогда душещипательной мелодрамы. Канцелярист Андреев убил девицу Евдокию Кураеву. Честная девушка Дуня работала белошвейкой (специальность с сомнительной репутацией!) в мастерской Энгбертса на 5-й Рождественской улице (ныне 5-я Советская). Гуляя в парке, познакомилась с молодым служащим Андреевым. Он пил, но был обаятелен; они сблизились. Она корила его за пьянство; он клялся бросить, но запивал снова. Она стала его избегать (не обошлось и без вмешательства подруг). Наконец, светлым весенним днём он встретил её у мастерской; был нетрезв; уговаривал всё забыть, всё начать сначала; она его прогнала. Он пошёл, вернулся и ударил её ножом в грудь – насмерть. На вскрытии узнали, что осьмнадцатилетняя Дуня уж два месяца носила под сердцем ребёнка… Похоже, что на суде все пролили слезу по поводу несчастных загубленных жизней – все, кроме обвиняемого. Газетчик удивлённо констатирует: «Андреев как-то апатично отнёсся к убийству своей бывшей невесты»; но тут же для равновесия добавляет: «Из дома предварительного заключения он писал брату: „Присмотри за её могилой и рядом купи место для меня“». Сентиментальные люди. И приговор получился сентиментальный: два с половиной года тюрьмы «за нанесение раны в состоянии запальчивости и раздражения без намерения убить».
Ну, а современному читателю небезынтересно будет узнать ещё об одном судебном разбирательстве тех юбилейных дней. Некто Даниельсон подал иск на некоего Аскарханова, обвиняя его в нарушении авторских прав. Аскарханов солидным тиражом издал перевод «Капитала» Маркса, в котором Даниельсон опознал свой, лишь немного искажённый перевод тридцатилетней давности, авторизованный самим Марксом. Заметим: Н. Ф. Даниельсон, известный в радикальных кругах литератор-народник, издал перевод «Капитала» ещё в 1872 году; книгу эту власти не считали крамольной, она свободно распространялась в России; на переводе Даниельсона выросли первые поколения русских марксистов. Экспертами на процессе, проходившем всё там же, на Литейном, 27 мая, выступали «легальные» марксисты М. Антонович и П. Струве. Аскарханова присудили к штрафу в две тысячи рублей и выплате компенсации Даниельсону в размере пятнадцати тысяч рублей. А в это время марксисты-подпольщики уже покупали билеты в Брюссель, где в июле должен был состояться II съезд РСДРП…
«Звери-тигры бегут!»
Самое шумное – в прямом и переносном смысле – происшествие приключилось аккурат в день главных торжеств, 16 мая. Пока избранная публика наслаждалась зрелищем парусной регаты, а ещё более избранная присутствовала на приёмах с участием питерского городского головы Лелянова, мэра Парижа Девиля, обер-бургомистра Берлина Киршнера и прочих важных персон, для среднего обывателя были устроены гулянья с аттракционами; самое весёлое – в Александровском парке возле только что отстроенного Народного дома государя императора Николая II. Народу собралось множество; отцы семейств с жёнами и дочерьми прогуливались под липами, важно распивали чаи за столиками импровизированных кафе. Играл оркестр. Резвились дети. У ограды зоопарка работали карусели и прочие нехитрые увеселения. Вдруг среди праздничного благообразия раздались истошные крики: «Звери!!! Звери-тигры бегут!!!» Толпа шарахнулась от зоопарка к Народному дому; все мгновенно прониклись панической уверенностью, что дикие голодные хищники вырвались из клеток. Началось светопреставление.
«Женщины с детьми на руках с визгом метались из стороны в сторону, – пишет репортёр „Петербургского листка“. – Сидевшая за столами публика сорвалась со своих мест и ринулась к выходу. Бегущая толпа, опрокидывая столы с чайниками и тарелками, стулья и скамейки, кинулась к сетчатому забору и воротам… Был слышен ужасный визг женщин, затоптанных толпой». Главная давка произошла у узких входных калиток. Никакая полиция не могла остановить бегущих; те из городовых, кто сам не был подхвачен и унесён толпой, могли только оттаскивать кое-кого из публики к ступенькам Народного дома. Не все, правда, растерялись: как свидетельствует тот же очевидец, «громадную пользу принёс капельмейстер военного оркестра, который, видя панику среди народа, немедленно приказал играть». Бодрая музыка, хоть и сообщала происходящему сюрреалистический оттенок, всё же помогла мало-помалу угомонить толпу.
Суматоха постепенно улеглась. Жертв оказалось, к счастью, не много: один мужчина, три женщины и девочка одиннадцати лет получили тяжкие телесные повреждения и были увезены в больницу. Остальные отделались синяками, шишками, разорванными юбками, растоптанными шляпками да изодранными сюртуками. Правда, очень скоро выяснилось, что многие лишились своих кошельков и бумажников. При расследовании обстоятельств дела полиция пришла к выводу, что паника была спровоцирована шайкой карманников: кто-то из их агентов поднял крик про тигров, кто-то первым побежал. Остальные лихо поработали среди обезумевшей толпы. Виновных найти не удалось. Урок организаторам празднеств, урок народу: гуляй, но с умом; в толпу не суйся.
Всё же и в юбилейные дни не обошлось без кровавых уголовных драм. На исходе праздников город облетело известие: в доме № 8 по набережной Мойки найден труп женщины, задушенной, с окровавленным полотенцем, засунутым в рот чуть ли не до желудка. В убитой соседи опознали законную супругу губернского секретаря Мартемьянова. Сам Мартемьянов сразу же был задержан и, будучи приведён на место преступления, признался в убийстве.
По горячим следам выяснилось: Мартемьянов, хотя чин носил невысокий (XII класс Табели о рангах), но место имел доходное: в Главном штабе заведовал складом и жалованье получал 1200 рублей в год (по тем временам – прилично). До женитьбы несколько лет жил с крестьянкой Евдокией, прижил ребёнка. Однако не жениться же благородному завскладом на деревенской Дуне! Супругу губернскому секретарю подыскал его начальник по интендантской части, генерал, не названный в полицейском отчёте по имени. В те времена нередко случалось, что почтенные генералы обзаводились молоденькими содержанками; насладившись их невинностью или утомившись их темпераментом, приискивали им потом женихов. По-видимому, в данном случае так и было. Первое время счастливые супруги уживались неплохо. Правда, молодая родила девочку через два месяца после свадьбы; Мартемьянов, хотя и состоял в интимной близости с невестой до брака, ребёнка своим не признал. Ну да это бы ничего, но однажды, вернувшись со службы в неурочный час, он, как в дурном анекдоте, застал в спальне жены молодого соседа. С этого дня супруги начали ссориться, а Мартемьянов тайно возобновил связь со своей Евдокией. Супругу его, однако, волновали длительные отлучки мужа, и, главное, систематическое исчезновение денег из семейного кошелька (Дуня с ребёнком тоже ведь денег стоила). Начались ссоры, драки. Потом как-то раз жена тайком проследила, куда это ходит со службы муж. Он вернулся домой поздно, она накинулась на него с криками, слезами и угрозами, даже и с кулаками. Он схватил полотенце, она отчаянно сопротивлялась, и… Наутро там обнаружили труп.
Два дня петербуржцы передавали друг другу грязновато-кровавые подробности бытовой трагедии. На третий день из Сербии, из Белграда, пришли известия: расстреляна королевская семья со всей свитой, совершён военный переворот. О Мартемьянове забыли, как, впрочем, и о давке в Александровском парке, и о прошедших праздниках. Город вернулся на круги будничной жизни. Никто не мог знать, какие потрясения и испытания готовит Санкт-Петербургу третье столетие его истории.
Обречённый диктатор
Когда-то один остроумный иностранец назвал политический строй России XVIII века «самодержавием, ограниченным удавкой». То был намёк на обстоятельства гибели императоров Петра III и Павла I. Политический строй России XX века можно с тем же успехом определить как бюрократию, ограниченную бомбой террориста, приговором чрезвычайной «тройки» или пулей киллера. Принципиальной разницы между этими тремя разновидностями террора не имеется: «тройки» рождены той самой революционной властью, первые герои которой метали бомбы в высокопоставленных сановников; внуки и правнуки членов «троек» выясняют отношения при помощи наёмных убийц. С тем и перешли мы в век XXI-й.
15(28) июля 1904 года в Петербурге прогремел нежданный гром – предвестник грядущих революционных бурь. На Измайловском проспекте, возле Варшавского моста взрывом бомбы, брошенной участником эсеровской Боевой организации Егором Сазоновым, был убит министр внутренних дел Российской империи Вячеслав Константинович Плеве. Об этом убийстве сказано и написано много. И всё же, есть смысл ещё раз вернуться к кровавой драме, разыгравшейся более столетия назад. Очень уж показательны её обстоятельства: в ярком, хотя и неприглядном, свете рисуют они обычаи российской политической элиты.
Как сказано в учебнике
Вот традиционная версия одного из самых знаменитых политических убийств российской истории.
Плеве был назначен министром внутренних дел после убийства его предшественника Сипягина, весной 1902 года. Назначение не случайное: Сипягина застрелил революционер Балмашов, продолжатель дела «Народной воли»; совершил 2 апреля, накануне двадцать первой годовщины казни народовольцев, участников убийства Александра II. Плеве – как раз тот человек, под чьим руководством была двадцать один год назад раздавлена «Народная воля». В 1881 году, во время следствия по делу об убийстве Александра II, он был назначен директором Департамента полиции. То есть возглавил борьбу с крамолой. Не без его участия на виселице оказались Желябов, Перовская, Кибальчич, Рысаков, Михайлов; в тюрьме и на каторге – Тригони, Баранников, Фигнер, Гельфман… Список можно продолжить. Годы его пребывания во главе Департамента полиции – 1881–1884 – годы полного разгрома «Народной воли». Ко времени своего назначения на ключевой пост в правительстве Плеве пользовался репутацией мрачного реакционера и сурового гонителя революции. В самом деле, первый его шаг на новом поприще имел карательный характер: по его настоянию Балмашов был судим военным судом. Общегражданские суды не могли выносить смертные приговоры, а военные могли. И суд своим правом воспользовался: террорист был приговорён к смерти и повешен в мае 1902 года.
Два года пребывания Плеве у власти – апофеоз твердолобого консерватизма. Политика запретов. Тем временем истомлённое властным произволом общество строит оппозицию. За границей начинается выпуск журнала «Освобождение»; вокруг него объединяются радикальные либералы; их вождь Милюков за пламенную речь памяти апостола русского народничества Петра Лаврова посажен на полгода в тюрьму. Любопытный эпизод: в один прекрасный вечер прямо из камеры «Крестов» его привозят в дом Министерства внутренних дел на Фонтанке, 16; ведут – куда? – в кабинет Плеве (министр занимал казённую квартиру в том же доме). Плеве – сама любезность, усаживает арестанта за чайный столик, угощает, ласково беседует, – и вдруг, в упор, вопрос: «А как бы вы, Павел Николаевич, отнеслись к предложению занять пост министра народного просвещения?» Милюков поражён, но он не прост; в ответ он намекает, что согласился бы минимум на должность министра внутренних дел. Спустя тридцать лет эмигрант и бывший министр иностранных дел Временного правительства Милюков объясняет эту сцену так: то была попытка сломать, или вербовка. Коварство Плеве не знает границ.
Да уж, годы властвования Плеве – значимы в истории России. 1902 год – образована партия эсеров; 1903 год – II съезд РСДРП открывает эру ленинско-сталинской партии большевиков, боевого отряда пролетарской революции. Экономический кризис, стачки, в том числе и первая всеобщая (на юге России). Создание Союза освобождения, партии хоть и либеральной, но готовой рукоплескать революционному террору. Плеве всё душит и давит, всюду разводит сыщиков, переводит в Петербург начальника московской охранки С. В. Зубатова и даёт ему карт-бланш на создание подконтрольных полиции рабочих организаций. Он гнобит земства, запрещает рабочие собрания; он добивается отставки осторожного Витте и один определяет политику царя. Ходят слухи о предоставлении ему диктаторских полномочий. Да он и так фактический диктатор. Даже во внешней политике вместо министра иностранных дел великосветского педераста Ламздорфа (именуемого в коридорах власти «Мадам») – теперь тоже главенствует Плеве. Именно он якобы произносит знаменитую фразу о «маленькой победоносной войне». Сказано – сделано: на Дальнем Востоке под руководством ставленников и друзей Плеве – наместника адмирала Алексеева, военного министра Куропаткина, статс-секретаря Безобразова – проводится политика авантюр, ведущая к столкновению с Японией. Нападением японского флота на Порт-Артур 27 января 1904 года война началась.
Одновременно ЦК партии и боевая организация эсеров выносят министру смертный приговор. Каждый выстрел японских орудий, каждое поражение русских войск, каждый арест свободолюбцев в России громом отзываются в сердцах рыцарей террора: Савинкова, Покотилова, Сазонова, Каляева, Швейцера, пылкой Доры Бриллиант. Правда, есть тут ещё одна фигура: Евно Азеф, он же «Толстый», «Виноградов», «Липченко», «Иван Николаевич» и как там ещё? Никто пока не знает, что он двойник, что он, организатор охоты на Плеве, в то же время – тайный агент полиции. Террористы осуществляют поистине образцово-показательную операцию по устранению злодея-министра. Наружное наблюдение, бомбисты, переодетые извозчиками, изготовление динамита в гостинничном нумере, несчастный случай – взрыв, повлекший гибель одного из главных «бомбистов», Покотилова, – всё есть в этой остросюжетной пьесе. Наконец, после трёх неудачных попыток, 15 июля – свершилось! Плеве убит, Сазонов арестован, власти в замешательстве, армия откликается на событие поражением под Ляояном, общество – началом революционного брожения.
Кому он нужен, этот Плеве?
Всё это так. И во всём этом есть много удивительного. Как в недавние постсоветские времена в случаях с убийствами вице-губернатора Петербурга Маневича, депутата Госдумы Старовойтовой, магаданского губернатора Цветкова, генерала погранвойск Гамова. Вроде и схема преступления ясна, и мотивы понятны, и даже исполнители известны. Но в целом – что-то не складывается. Ну вот, например: Плеве живёт в том же доме, где располагается Департамент полиции и его Особый отдел, ведающий секретной агентурой. Плеве – преемник министра, убитого террористом. Казалось бы, из этого неумолимо следует: охрана самого Плеве и (уж особенно) дома на Фонтанке должна быть налажена на высшем уровне. А что мы видим? Полгода, с января месяца, группа участников боевой организации наблюдает за приездами-отъездами министра, слоняясь по набережной Фонтанки. Егор Сазонов, переодетый извозчиком, торчит часами в виду министерского подъезда; Швейцер, изображающий англичанина, прогуливается по Пантелеймоновскому мосту взад-вперёд, – и охрана не обращает на них никакого внимания. Тут ещё не лишне добавить: Сазонов уже был осуждён за революционную деятельность, бежал из ссылки (в царской России из ссылки только ленивый не бежал), за границей связался с Азефом, приехал снова в Россию – и вот теперь сидит на облучке, наблюдая за домом, в котором располагаются главные спецслужбы императорского Петербурга. Его дело с фотографией и описанием внешности лежит на полке в комнате второго этажа дворового флигеля этого самого дома. И его никто не задерживает, не замечает.
Бредовость ситуации отметил даже Савинков в своих воспоминаниях (тенденциозных и не всегда достоверных, но до сих пор составляющих основу многих «версий из учебников»). «В воротах Летнего сада я увидел Покотилова, – пишет он о неудачной попытке покушения 18 марта. – Он был бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно обозначались бомбы». (Прямо как в анекдоте: Штирлиц шёл по коридору гестапо; за его спиной волочился красный парашют с серпом и молотом. Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.) Далее: «Каляев настолько бросался в глаза, настолько напряжённая его поза и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы, что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми были усеяны мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания». И резюме: «Я до сих пор ничем не могу объяснить благополучного исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей».
Одна случайность – случайность; четыре случайности подряд – это уже очевидная закономерность. 25 марта два террориста, переодетые разносчиками, с бомбами в лотках, караулят министра на набережных Невы и Фонтанки, и только случай не позволяет им взорвать министра ко всем чертям. 1 апреля происходит тот самый взрыв в Гранд-Отеле, жертвой которого стал Покотилов. Гром на всю столицу, но боевики продолжают свою деятельность беспрепятственно. Они до деталей успевают отследить распорядок дня, пути следования, внешний вид экипажа жертвы. 8 июля уже целых шесть террористов с четырьмя бомбами поджидают Плеве на Обводном канале, у Варшавского вокзала. Они знают маршрут следования царского сатрапа, но охрана даже не догадывается об их существовании. Три раза чудо спасало Плеве. Но он был обречён. И вот, 15 июля – удалось.
Всё это говорит только об одном: никакой реальной охраны у Плеве не было. Была декорация охраны, бутафория. Почему?
На этот вопрос пытались ответить все лица, причастные к событию. Сложилось три версии. Первую – версию сочетания благоприятных случайностей и самоотверженного героизма – сформулировал Савинков. Вторую высказал в 1909 году эсеровский публицист Владимир Бурцев. Именно он получил от А. А. Лопухина (директора Департамента полиции в период с мая 1902-го по июнь 1905 года) неопровержимые доказательства двойной деятельности Азефа. И выстроил логическую цепь: Азеф стал секретным сотрудником заграничной агентуры Департамента полиции в бытность известного деятеля политического сыска П. И. Рачковского начальником этой агентуры; стало быть, он – человек Рачковского. Плеве не любил Рачковского и летом 1902 года добился его отставки. Рачковский решил отомстить Плеве, убрать его с дороги, чтобы самому вернуться и продолжить карьеру (последнее удалось: через год после гибели Плеве Рачковский становится во главе всей политической полиции России). Он даёт деньги и указания Азефу, а тот устраивает теракт.
Третья версия принадлежит преемнику Рачковского по заграничной агентуре Л. А. Ратаеву, тоже непосредственному начальнику Азефа. В записке на имя директора Департамента полиции Н. П. Зуева, датированной октябрём 1910 года, Ратаев отвергает факт сотрудничества Азефа с Рачковским (по его словам, Азеф с Рачковским до 1905 года не встречался, а с 1899 по 1902 год работал под эгидой начальника Московского охранного отделения С. В. Зубатова). Провал же охраны объясняет просто: с приходом Плеве в Министерстве, Департаменте полиции и в охранных отделениях начались кадровые перетряски, совершенно дезорганизовавшие работу спецслужб. По сути дела, в своей гибели виноват сам Плеве, ибо, из властолюбия, разогнал всех опытных работников-профессионалов. Зволянский, Рачковский, Зубатов, да и сам Ратаев либо уволены, либо переведены на несоответствующие их уровню посты; во главе Департамента полиции поставлен бывший харьковский прокурор Лопухин, незнакомый с техникой полицейской работы; деятельность петербургской охранки парализована частой сменой начальников, а Особый отдел Департамента полиции, ведавший, в частности, агентурой, вообще разрушен с уходом оттуда самого Ратаева.
Итак, по одной версии полицейские просто придурки, по второй – «один гад сожрал другую гадину», по третьей – Плеве «сам себя высек». Во всех случаях виновата власть. Что же на самом деле?
Подарок от Председателя
Полагаем, что в известной мере правы все трое. Но есть ещё один дополнительный фактор, о котором Савинков, Бурцев и Ратаев либо не знали, либо предпочитали молчать. Вот, правда, Савинков обмолвился, рассказывая о подготовке следующего теракта, убийства великого князя Сергия Александровича: «В то время Боевая организация обладала значительными денежными средствами: пожертвования после убийства Плеве исчислялись многими десятками тысяч рублей». Благочестивое слово «пожертвования» можно смело заменить словом «плата»: ясно, что «многие десятки тысяч рублей» собирали не с мира по нитке. Итак, работа боевиков была оплачена. Кем?
Однозначно на этот вопрос за давностью лет ответить невозможно. Отчасти терроризм и прочие проявления подрывной деятельности финансировались японцами. Впрочем, суммы оттуда поступали невеликие, и то в основном после Кровавого воскресенья, когда революция в России стала явью. Есть ещё кое-какие соображения. Они появились ещё при жизни некоторых действующих лиц нашей истории. Известный публицист предреволюционной поры И. И. Колышко (печатавшийся также под псевдонимом Баян) опубликовал памфлет, направленный против уже покойного графа С. Ю. Витте. Мотивы, заставившие политического эмигранта наброситься, истекая желчью и ядом, на мертвеца, для нас сейчас не существенны. Но цитата красноречива: «Убили Плеве. Я никогда не видел Вас счастливее. Торжество так и лучилось из Вас. Вы решили сами стать министром внутренних дел… Вы метались от Мещерского к Сольскому, от Шервашидзе к Оболенскому, подстёгивая всех работать на Вас. Работали. Но Мещерский тут впервые Вам изменил, и в министры попал кн. Мирский». Поясняем: Сольский, Оболенский, Шервашидзе – влиятельные в императорском окружении сановники; Мещерский – редактор-издатель ультрамонархического журнала «Гражданин», к позиции которого прислушивался сам государь.
Колышко много лет был близок к правительственным кругам и знал, что писал. Его эмоциональная риторика удачно сочетается с воспоминаниями уже известного нам экс-директора Департамента полиции Лопухина. Этот высоко сидевший, но низко упавший после «Дела Азефа» мемуарист, о котором главная речь ещё впереди, указывает на существование целого заговора, направленного против Плеве. Участниками заговора были Мещерский, Витте и – кто бы вы думали? – Зубатов, на тот момент начальник Особого отдела Департамента полиции и непосредственный куратор Азефа. Зубатов, по версии Лопухина, сфабриковал письмо, якобы написанное одним «верным слугой царя» другому. В нём косвенно осуждалась деятельность Плеве и прямо доказывалось, что только Витте способен твёрдой рукой вести государственный корабль и вообще спасти монархию от гибели и революции. Письмо должно было подвергнуться перлюстрации. Затем надлежало организовать утечку информации из Особого отдела в редакцию «Гражданина» и через Мещерского довести содержание письма до высочайшего сведения. Однако один из агентов Зубатова выдал своего патрона и положил фальшивку на стол Плеве. Тот в нужном ему свете представил дело царю – и через день, 16 августа 1903 года, Зубатов был уволен со службы без прошения и производства в чине, а Витте – с властного поста министра финансов (который занимал двенадцать лет) пересажен в почётно-пустое кресло председателя Комитета министров.
Попытка Витте повалить противника и самому добиться диктатуры ударила рикошетом по нему и его сторонникам. Но он не сложил оружие и продолжил борьбу, теперь уже за пост министра внутренних дел. Устранить Плеве было ему нужно любым способом и любой ценой. У нового председателя несуществующего Комитета для этого были связи: для секретных контактов с нужными людьми в Департаменте полиции и в революционных кругах имелся специальный человек – чиновник для особых поручений Мануйлов (Манасевич), через него велись секретные переговоры с Рачковским, Лопухиным, с таинственными конспираторами из ЦК и Боевой организации партии эсеров. Были у Витте и деньги: в бытность министром он заручился поддержкой могущественных финансовых кругов в России и за рубежом. Тут, кстати, Лопухин вспоминает и другой эпизод (степень достоверности этих воспоминаний, конечно, проверить невозможно). Якобы Витте доверительно говорил ему однажды: «У директора Департамента полиции, ведь, в сущности, находится в руках жизнь и смерть всякого, в том числе и царя, – так нельзя ли дать какой-нибудь террористической организации покончить с ним…». Речь идёт о царе, но можно подставить и любое другое имя. По логике вещей, сюда просится имя Плеве.
Итак, Витте – самое заинтересованное в исчезновении Плеве лицо. Заинтересованы в этом были, каждый по-своему: Зубатов и Рачковский (вернуться во власть), Савинков со товарищи (казнить палача народовольцев), Азеф (получить побольше денег от тех и побольше почёта от этих). И Лопухин, который, веруя в грядущую победу либералов, искал дружбы с ними, тяготился консерватизмом и мрачным имиджем своего непосредственного начальника. И Ратаев, сосланный из карьерного Петербурга в галантный Париж. И даже сам государь, видевший непопулярность Плеве, тупиковую негибкость его курса. Известно, что Николай II готовил отставку Плеве ещё летом 1903 года, но история с заговором Витте – Зубатова – Мещерского заставила его отложить это намерение. А кто был заинтересован в том, чтобы Плеве был жив, здоров и крепко держался в министерском кресле? Пожалуй, никто.
Вот и разгадка. Плеве был обречён, потому что был слишком яркой, сильной фигурой, и при этом уже никому не был нужен. Своё дело он сделал. Подобно тому, как ильфо-петровская «Воронья слободка» не могла не сгореть, Плеве не мог не погибнуть. Разве что если бы ушёл в отставку. Но такие добровольно не уходят.
То, что произошло между январём и июлем 1904 года, скорее всего, выглядело примерно так. Эсеры искали жертву для заклания; жертва должна была быть высокопоставленной, и в глазах общественного мнения представлять «реакцию». Имя Плеве стояло в одном ряду с именами министра юстиции Муравьёва, московского генерал-губернатора Сергия Александровича, петербургского (потом киевского) градоначальника Клейгельса и другими. Азеф – прямо или косвенно – навёл справки у своего полицейского руководства (у Ратаева, Зубатова или Рачковского – не имеет значения, все трое ответили бы одинаково). Ему дали понять, что менее всего были бы огорчены трагической гибелью Плеве от рук «бомбистов». Был обсуждён и денежный вопрос: зная деловые качества Азефа, в этом сомневаться не приходится. Здесь более чем вероятно, что полицейское руководство (Зубатов или Рачковский) проконсультировались с Витте. Деньги нашлись. Началась техническая подготовка. Если даже охрана Плеве и замечала её следы, то тревожные сигналы глохли в коридорах дворового флигеля дома № 16 по Фонтанке. Полиция судорожно разыскивала Сазонова то на границе, то за границей, а он сидел в тулупе и шапке на облучке извозчичьей коляски прямо под окнами министерского дома и ощупывал под одеждой бомбу.
Всё это называется «система сдержек и противовесов». Или что-то вроде того. Как всегда, события пошли совсем не по тому пути, в направлении которого их толкали. Витте не получил окровавленного министерского портфеля. Лопухин был уволен менее чем через год после смерти своего патрона, а ещё через четыре года отдан под суд за связи с эсерами. Ратаев так и остался на вторых ролях в полиции; Зубатов – в отставке. Каляев, Швейцер, Дулебов, Сазонов, Дора Бриллиант погибли, не дожив до революции. Савинков до революции дожил – и умер в советской тюрьме. Азеф был разоблачён, скрывался и умер под чужим именем в Берлине. Один только действительный статский советник Рачковский пошёл на повышение и стал на короткое время вице-директором Департамента полиции, возглавив политический сыск. Впрочем, славы это ему не принесло.
А вся страна, с её стошестидесятимиллионным населением, понеслась в бездну внутренней смуты. Через полгода после убийства Плеве случилось Кровавое воскресенье.
Странная весна неудачливого министра
В сентябре – октябре 1904 года раскрутилась вереница событий, с лёгкой руки А. С. Суворина получившая название «весны Святополк-Мирского». Сколько она дала пищи для рассуждений в гостиных и салонах, сколько острых тем для газетных передовиц! Эта странная, холодная и бестолковая осенняя политическая весна послужила прологом зимней бури Кровавого воскресенья – и память о ней потонула в гуле и грохоте первой русской революции. Сейчас, когда президентская рать, регулярно перестраивая ряды под грохот перманентных терактов, воздвигает вертикаль власти, – полезно вспомнить о том, как столетие назад правящие круги Российской империи пытались осуществить перестройку государственного режима на фоне внешнеполитических провалов, военных неудач и нарастающего революционного террора.
Тишина после взрыва
Итак, 15 июля 1904 года эсер-террорист Егор Сазонов метнул бомбу в карету министра внутренних дел Российской империи В. К. Плеве. Погибли министр и его кучер; десять человек получили ранения. Влиятельнейший сановник был убит среди бела дня, в оживлённой части города – на Измайловском проспекте у Обводного канала. Символично и весьма любопытно: министр ехал к государю в Петергоф с докладом; в его портфеле лежали не простые документы: копии перлюстрированных писем серьёзных государственных мужей, доносы на них, полученные от секретных агентов. Среди прочего, эти конфиденциальные материалы содержали информацию о связях некоторых высокопоставленных особ с революционными организациями. Директор департамента общих дел Министерства внутренних дел П. Н. Дурново, назначенный после трагедии 15 июля временно исполнять министерскую должность и разбиравший бумаги покойного, рассказывал потом своему новому патрону в личной беседе: «Нельзя себе представить, что было у Плеве: всё полно перлюстрации и доносами на разных людей, в особенности на Витте, а доклад, который он вёз, когда был убит, был весь наполнен такого рода сведениями».
Многие осведомлённые современники в самой гибели Плеве усмотрели руку Витте. За год до своей гибели Плеве осуществил блистательную комбинацию по низвержению Витте с поста министра финансов. Витте, который сам неоднократно подставлял Плеве ножку в тёмных углах коридоров власти, затаил деятельную злобу. Беспринципный интриган и властолюбец, Витте в борьбе за политическое влияние действовал по принципу «все средства хороши, если ведут к цели». Любая политическая идеология была для него возможным средством в борьбе за власть. Государя он всеми силами старался уверить в своём лояльном консерватизме: поздравляя с рождением сына, пламенно желал царю «передать наследнику российскую державу в той её неприкосновенной сущности, в коей Вы её получили, то есть, самодержавною». В то же время заигрывал с либералами из оппозиционного полуподпольного «Союза освобождения», через них наводил мосты для связи с эсерами-«бомбистами». Содержал своих агентов в Департаменте полиции и в Охранном отделении. Если верить Лопухину, он не остановился бы и перед цареубийством. Но в тот момент Витте переиграл самого себя. Его тоска по министерскому портфелю была слишком откровенной, его креатуры оказывали на государя слишком явное давление. Государь сделал вид, что размышляет над кандидатурой на высший правительственный пост, а сам со свойственным ему тихим злорадством наблюдал, как пирог власти проносят мимо носа бывшего министра финансов.
Пауза затягивалась – странно, неприлично затягивалась. Где-то далеко шла русско-японская война. Официальное горе (очень скромное, впрочем) по поводу смерти Плеве сменилось официальной радостью по поводу рождения 30 июля наследника престола цесаревича Алексея; эта радость погасла в тумане официальных же недомолвок о поражении под Ляояном. А страна так и жила без министра внутренних дел – как будто он и не нужен вовсе. Главное ведомство, созидающее порядок в империи, никто не возглавлял, за него никто не отвечал. Околоправительственные вестники и сплетники устали обсуждать и предрекать. И вдруг, ровно на сороковой день после сазоновской бомбы (как будто специально ждал, чтобы душа Плеве отлетела), государь принимает решение: 25 августа вызывает к себе для беседы виленского, гродненского и ковенского генерал-губернатора князя Петра Даниловича Святополк-Мирского. Из кабинета царя Мирский вышел уже министром.
Либерал, он же консерватор
Личность Святополк-Мирского почти не попала в фокус внимания современников и потомков. О нём как о человеке, да и как о государственном деятеле известно не много, и всё что известно – весьма неопределённого свойства. Образ, сотканный из серых, неярких противоречий. Верный слуга престола, презираемый придворными консерваторами – и мягкий реформатор, отвергнутый либералами. Выпускник Пажеского корпуса, лейб-гусар, променявший саблю и ментик на голубой мундир начальника Отдельного корпуса жандармов. Честный бюрократ, долгие годы неторопливо поднимавшийся по служебной лестнице – и автор проекта государственных преобразований, воспринятого в верхах как чуть ли не революция. (Впрочем, проект этот не только ни в едином пункте не был реализован, но даже не был сколько-нибудь внятно сформулирован.) Всё, что мы знаем достоверного о его образе мыслей, характере и политической программе, известно нам из дневников его жены, княгини Е. А. Святополк-Мирской. Среди прочих записей там есть одна, раскрывающая до некоторой степени суть политического мировоззрения министра внутренних дел огромной державы, стоящей на пороге революции. «Не хотят понять, – жалуется министр супруге, – что то, что называется теперь либерализмом, есть именно консерватизм». Жалоба на власть имущих, в том числе на самого государя. Жалоба человека, обессиленного поиском компромисса с самим собой. Реформы для него есть способ сохранить окружающий мир в привычном, неизменном виде. Чтобы чего не вышло…
Всезнающий и умный А. С. Суворин в своём дневнике записал 17 сентября: «Святополк-Мирский, говорят, благородный и хороший человек. Но именно поэтому он ничего не сделает. Надо быть умным и дальновидным». Через три недели ещё запись: «3 октября был у кн. Святополк-Мирского. Беседовали около часу. Он производит впечатление искреннего человека, который действительно желает реформ, но видит, что это дело трудное… „Я боюсь, что нахожусь в положении человека, который выдал вексель на сумму, которую он уплатить не может…“ Жалуется на здоровье. Только три раза докладывал (государю. – А. И.-Г.), и всякий раз нервы расстраивались». И, наконец, последняя запись об этом человеке, 8 ноября: «Всем надоел полицейский режим. Но скоро ли, и как он кончится? У Святополк-Мирского не только характера, но и ума не хватит». Поставил Алексей Сергеич крест на Петре Данилыче.
Из этих и других деталей складывается портрет человека, севшего в залитое кровью двух предшественников министерское кресло. Честен, добросовестен, не чрезмерно умён, по характеру миролюбив, несколько нервен и потому часто жалуется на здоровье. Ярких, волевых черт в характере не наблюдается. Хороший человек, всем добра желает. Деятельность его, собственно, и началась с миролюбивых деклараций в духе нашего кота Леопольда. При его предшественниках полицейская власть жёстко противостояла обществу. Он начинает говорить о взаимном доверии между обществом и властью. Чего же лучше!
Уже во время той аудиенции, 25 августа, Мирский, как бы стремясь реализовать смысл своей фамилии, говорит царю: «Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией, необходимо примириться…» Далее – речь о веротерпимости, о частичной амнистии для политических заключённых, о расширении прав земств. Рабочих не надо преследовать за участие в сходках и стачках, по крайней мере, за экономические требования. Государь кивает, соглашается, и только по поводу сходок поднимает брови: «Конечно, это так, но кажется как-то странным». Мирский жалуется на своё неумение говорить публично, мол, сие может помешать ему в контактах с Государственным советом и общественностью. Государь признаётся: «Я тоже не умею говорить». Идиллия. Ободрённый Мирский приступает к главному: к давно лелеемой верноподданными либералами идее «призыва выборных в Петербург для обсуждения вопросов государственной важности»: это, мол, «единственное средство, которое может дать возможность России правильно развиваться». Государь как бы не слышит этих слов. Но ведь и не возражает. Мирский выходит из кабинета государя, отправляется домой и делится обнадёживающими впечатлениями с любимой женой. Из дневника коей мы и черпаем сведения об этой беседе.
О кадровой политике
Позволим себе заметить, что кадровая политика последнего русского императора до боли похожа на кадровую политику нынешней российской верховной власти. Основная идея: подбор лиц на руководящие посты по критерию управляемости, исполнительности и личной преданности. Ум, энергия, компетентность – не обязательны и даже не всегда желательны. Талант, самостоятельность в принятии решений, властная харизма – категорически неприемлемые качества.
За всё двадцатичетырёхлетнее царствование Николая Александровича в среде правящей элиты России появился лишь один действительно выдающийся (при всех своих недостатках) государственный деятель – П. А. Столыпин. Его назначение было вызвано экстраординарными обстоятельствами, революцией, и потом в течение пяти лет «хозяин Земли Русской» только и думал о том, как бы отделаться от слишком деятельного премьера. Отделаться помогли революционеры-террористы и чины Охранного отделения (об этом убийстве речь впереди). Все остальные премьеры, министры, командующие войсками и прочие высшие сановники империи – просто исполнительные посредственности, не смеющие «своё суждение иметь», а если и имеющие таковое, то ловко прячущие его в карман при первых проявлениях монаршего неудовольствия.
Представление о Николае II как о вялом, безвольном правителе (и уж, тем более, как о добром и святом царе) не соответствует действительности. В течение всего своего царствования он последовательно и старательно, хотя и тихо, без лишних слов, укреплял «вертикаль власти» именно в том духе и направлении, в каком это делается сейчас. То есть, всеми силами ограничивал участие общественности в политической жизни, укрощал ершистую и крикливую Государственную Думу до полной выдрессированности, назначал послушных губернаторов, безынициативных министров и безликих «технических» премьеров. Итогом его стараний стала та модель власти, которая сложилась к 1914 году. Полностью подконтрольная Дума, готовая проштамповать любой спущенный сверху законопроект, исполнительное и безынициативное правительство во главе с «техническим» премьером (кто он – Коковцов ли, Горемыкин, Штюрмер, Трепов, Голицын – не важно, ибо ни один из них не пытался даже на минуту стать самостоятельной фигурой на историческом поле). Именно такое послушное правительство оказалось бессильным перед грозным вызовом Мировой войны и до смешного беспомощным при первых ударах революционной стихии. Именно благонадёжные «центристы», лидеры проправительственных думских партий, октябристы, прогрессисты, аристократы и миллионщики – Родзянко, Гучков, князь Львов, Рябушинский, Коновалов – сделались первыми, хотя и невольными, вождями Февральской революции. Именно верноподданные генералы, командующие фронтами, 1 марта 1917 года единогласно потребовали от своего государя и главнокомандующего отречения от престола. Административно-бюрократическая «вертикаль власти», не имеющая опоры в живом мире, в обществе, исчезла в несколько дней, «аки тает воск от лица огня». И вот – анархия, распад, кровавый хаос.
Потом, уже в эмиграции, бывший главный священник русской армии протопресвитер Георгий Шавельский, сетуя, размышлял: неужели в огромной России, среди её стошестидесятимиллионного, умного и деятельного населения, не могло найтись нескольких сотен людей, честных, самоотверженных и талантливых, которые, взяв в руки бразды правления, вывели бы страну на твёрдый путь мирного развития и процветания? Конечно, такие люди были. Но путь во власть для них был затруднён, а со временем и вовсе заказан. Исполнительная посредственность медленно, но верно делала свою карьеру, а они уходили в оппозицию, в революционное подполье, а то и в террор.
Подбирая кандидатуру на вакантный министерский пост в июле – августе 1904 года, Николай II искал человека честного, благонамеренного, исполнительного, недалёкого и несамостоятельного. Важно ещё, чтобы его образ соответствовал ожиданиям – если не всего общества, то его верхов, настроенных в основном либерально. С их мнением государь не считаться не мог, хотя глубоко его презирал. Таким кандидатом и стал виленский генерал-губернатор, бывший товарищ министра внутренних дел, ушедший из министерства по несогласию с консерватором Сипягиным, князь Святополк-Мирский. Человек «благородный и хороший», полный благих намерений. В сущности же – исполнительная посредственность.
Конечно, благородный Мирский всё-таки лучше, чем беззастенчивый карьерист и властолюбец Витте – как, скажем, Фрадков или Зубков лучше, чем Березовский. Но, к сожалению, время ставило перед Россией задачи, решение которых посредственностям оказалось не по плечу.
Сеанс либеральной магии
Идиллические беседы и благодушные декларации составляют суть деятельности нового министра в первые недели пребывания на посту. В Вильне, где задержался на две недели в связи с открытием памятника Екатерине II, он даёт интервью иностранным журналистам из «Echo de Paris», «The Associated Press», «Local Anzeiger». Говорит, хотя и осторожно, о свободе земских органов самоуправления, о веротерпимости, о правах евреев. 16(29) сентября, уже в Петербурге, принимая чиновников своего ведомства, произносит: «Плодотворность правительственного труда основана на искренне благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы можно получить общественное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства».
Первое публичное выступление нового министра вызвало радостную общественную бурю и шум газетной листвы. Провозглашена «эра доверия». Уже на следующий день Суворин делает первую из цитированных нами дневниковых записей. 24 сентября его газета «Новое время» восклицает: «Струя свежего воздуха!», «Шаг вперёд впервые за сто лет!» Сам Суворин спрашивает риторически: «Разве слова министра – не веяние весны, не явный её признак?» Газеты подхватили суворинский образ. Сентябрь стал вдруг «весной Святополк-Мирского». Полился поток вольных мыслей и политической полемики: монархист Пихно в «Киевлянине», религиозный полулиберал князь Трубецкой в журнале «Право», радикальные конституционалисты в заграничном «Освобождении» и даже мрачный реакционер князь Мещерский в «Гражданине» – все спорят друг с другом, и все согласны в одном: в ожидании скорого, светлого политического лета, долженствующего последовать за внезапной весной. Главное ожидаемое, то, о чём говорят иносказательно, как дикари о могущественных лесных духах, – грядущее собрание народных представителей при государе. Кто-то видит в нём возрождённый допетровский Земский собор, кое-кому мерещатся парламент, Конституция, либеральное царство гражданских свобод.
Между тем настроения, царившие в обществе, в том числе среди простого народа, в котором государь так хотел видеть противовес оппозиционной интеллигенции, прекрасно показывает запись в дневнике того же А. С. Суворина, датированная 31 июля 1904 года. «Сегодня мебельщик Михайлов говорил мне: „Еду сюда с дачи по железной дороге. Разговор о новорожденном наследнике. Радуются. Вдруг какой-то господин очень громко говорит: „Странные какие русские. Завелась новая вошь в голове и будет кусать, а они радуются““. Все разом так и притихли. До чего вольно разговаривают, так просто удивительно». «Вольно разговаривала» в основном интеллигенция, но народ «вольно слушал». И мотал на ус. «Все притихли» – значит, задумались. До начала истребления царя, его семьи, министров, генералов, помещиков и прочих «бывших» (в том числе и депутатов Думы), как вшей, – оставалось тринадцать лет. До первого взрыва массового революционного насилия – меньше полугода.
Этого никто не знал, да и не хотели знать. Мирский стал символом грядущей свободы; земские собрания присылали ему приветственные адреса. Их наиболее активные деятели зачастили к министру с ходатайствами: разрешите, ваше сиятельство, провести общероссийский съезд представителей земств. В контексте времени это означало именно собрание депутатов от народа, ибо иных выборных, кроме земцев, в России не было. Мирский обнадёживал ходатаев, уповая на милостивую благосклонность, проявленную государем в ходе аудиенции 25 августа. Обнадёженные разнесли радостную весть по губерниям: земский съезд будет! Собравшееся в сентябре Бюро общеземских съездов под председательством Д. Н. Шилова, известного паладина земско-конституционной монархии, даже определило время и место проведения Первого съезда представителей земств: 6–7 ноября в Москве.
Прекраснодушные слова Мирского, бурно воспринятые либеральной интеллигенцией, сделали его заметной политической фигурой. Стали думать, что у него есть собственный политический курс, собственная воля. С этим не мог примириться государь. На аудиенции 9 октября царь прямо заявил министру: политических перемен не будет. О земском съезде – ни слова, но понятно было: идея не одобряется. Честный Мирский оказался в том самом положении, о котором говорил Суворину: выдал вексель, а оплатить не может. Весь октябрь пытался уговорить его величество, вырвать разрешение на собрание представителей если не при государе, то хотя бы при министре внутренних дел. В ответ – ни «да», ни решительного «нет». Тем временем привыкшие держать нос по ветру сановники из окружения императора почувствовали: положение Мирского пошатнулось. Против него начались интриги; право-монархическая пресса, месяц назад воспевавшая его курс в одном хоре с либеральной, теперь обрушила на него лавину нападок и насмешек. Московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов переименовал «эру доверия» в «эру попустительства» – и это определение было подхвачено правой печатью. Оживился и Витте: играя на трудностях, с коими столкнулся Мирский, стал оказывать ему двусмысленное покровительство, надеясь привлечь к себе, подчинить, сделать пешкой в своей партии.
А 6 ноября неумолимо приближалось; земское бюро вовсю готовило съезд. Последняя надежда Мирского – уговорить земцев хотя бы отложить съезд на месяц-другой, авось удастся уговорить государя, поднажать на него через вдовствующую императрицу или того же Витте… Ничего подобного: 29 октября министр услышал от земского бюро неумолимое «нет» – съезд должен состояться в срок; и вы же, ваше сиятельство, обещали… Взволнованная супруга записала в дневнике: «По-моему, тут есть даже доля подлости: пока их держали в страхе – молчали, а теперь, когда человек явился, который серьёзно хочет удовлетворить все разумные требования, они всё портят тем, что торопятся и хотят скандалы делать».
Пожалуй, так: хотели скандалы делать. Скандал и вышел. Съезд в последний момент был запрещён царём; исполнять государеву волю должен был Мирский. Из провозвестника свободы он тотчас превратился в царского сатрапа. «Земский съезд», полуподпольно проведённый на частных квартирах богатых и сановных петербургских лидеров движения, плавно перерос в «банкетную кампанию»: собираясь под видом банкетов в ресторанах и трактирах великой Руси, земцы отчаянно бранили власть, клеймили продажных министров, поднимали тосты за героев революции, призывали к борьбе с самодержавием. Призывы были услышаны: 28 ноября в Петербурге сотни студентов манифестировали под красными флагами. 21 декабря было получено известие о капитуляции Порт-Артура; через неделю в столице началась массовая забастовка. 9 января священник Георгий Гапон и его друзья-социалисты повели десятки тысяч рабочих под солдатские пули и казачьи нагайки. Мало кто помнит теперь, что Кровавое воскресенье, с которого началась в России революция, совершилось при самом нежно-либеральном министре внутренних дел Святополк-Мирском. Впрочем, если он и виноват, то (пользуясь тогдашней судейской терминологией) заслуживает снисхождения. Его падение было предрешено ещё в ноябре. Он склонился перед монаршей волей и предал своих друзей-земцев (впрочем, как и они предали его). Но он был слишком честен, чтобы нести бремя предательства. Несколько раз просил об отставке; в последний раз – 4 января; государь обещал уволить через неделю. 9 января он уже ничем не управлял, а после кровавых событий этого дня навсегда ушёл из политической жизни.
17 января Мирский был уволен. 18 января состоялось совещание министров, прообраз будущего «объединённого правительства». Председательствовал Витте.
Первая печать русского апокалипсиса
О Кровавом воскресенье я впервые узнал не из книг. Моя крёстная помнила этот день (ей было шесть лет тогда) как день великого страха. Жили они – отец, мать, четверо детей – за Нарвской Заставой, возле Путиловского завода. Утром в то воскресенье отец оделся по-праздничному, расцеловал детей и ушёл, торжественный, радостный, вручать прошение царю. Он был монархист, царя любил религиозной любовью. Шли часы. По улице побежали люди. Казаки скакали за бегущими. Из несвязных рассказов слепилась молва: солдаты стреляют в народ, стреляют по всему городу. Много убитых. Тысячи. Отец не возвращался. Ждали, не садились обедать. Стемнело. Слухи росли как снежный ком. Поздно вечером отец пришёл, бледный, растерянный, без шапки. Пробирался окольными улочками, прятался от казаков. Он никак не мог понять, что случилось. Случилось что-то ужасное, а что и почему – понять невозможно. Гнев Божий обрушился на Россию.
Увертюра Тетявкина
В движении событий, взорвавшихся винтовочными залпами 9 января 1905 года, более всего поражает несоразмерность причин и следствий.
В вагонных мастерских Путиловского завода мастер Тетявкин (хорошая фамилия! как будто нарочно подбирали!) уволил четырёх рабочих за какие-то мелкие производственные провинности. Может быть, зря уволил. Все четверо – Фёдоров, Уколов, Субботин и Сергунин – состояли членами вполне добропорядочной организации, «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». «Собрание» было создано годом раньше с благословения властей. Церемонию его официального открытия 11 апреля 1904 года почтил присутствием петербургский градоначальник Фуллон; даже сфотографировался с рабочими на память. Возглавлял организацию священник Георгий Гапон, тридцатитрёхлетний библейский красавец и модный проповедник, вхожий в рабочие кружки и в великосветские салоны столицы.
Согласно уставу «Собрание» было организацией благотворительной и просветительской. Безалкогольные чайные для рабочих, чтение книжек, помощь нуждающимся… Инициатива его создания принадлежала начальнику Особого отдела Департамента полиции С. В. Зубатову – тому, которого называли «гением политического сыска». Зубатов, правда, не дождался рождения взлелеянной им организации – был уволен без прошения за участие в политических интригах; но после него повивальными бабками «Собрания» успели поработать директор Департамента полиции Лопухин, предшественник Фуллона в должности градоначальника Клейгельс и даже министр внутренних дел, великий и ужасный Плеве. Словом, заподозрить гапоновскую организацию в неблагонамеренности было трудно.
Тетявкин и его прямой начальник директор завода Смирнов понимали, что за уволенных могут заступиться «Собрание» и Гапон, имевший связи в самом высшем обществе. Но пренебрегли этим обстоятельством. А может, и сознательно провоцировали конфликт. «Собрание» многих в Петербурге раздражало. Логика бюрократии: если мой соперник строит башню, то я должен добиться, чтобы на её месте вырыли яму. Чиновничья подковёрная свара ни на минуту не утихала возле престола Николая II: то, что благословил Плеве, непременно должен был разрушить Витте. В противовес «Собранию» при поддержке государственной Фабричной инспекции и при участии уцелевших зубатовцев создаются альтернативные общества. Плеве в июле 1904 года был убит, а Витте ничем не брезговал, чтобы вытеснить из властного поля ставленников покойного министра. Увольнение путиловских рабочих и позиция Фабричной инспекции, ставшей на сторону администрации завода, производят впечатление провокации: если «Собрание» не поддержит уволенных, то потеряет авторитет в рабочей среде; если поддержит – окажется в роли организатора конфликта на стратегическом производстве. Шла русско-японская война, Путиловский завод изготовлял столь необходимые на фронте крупнокалиберные орудия и пулемёты.
Гапон заступился за уволенных, но ходатайство – его личное, а затем и всего «Собрания», – было в грубой форме отклонено Смирновым и не поддержано фабричным инспектором Чижовым. 21 декабря взволнованные рабочие узнали об этом. На Путиловском заводе работало двенадцать с половиной тысяч рабочих, из них более тысячи – члены «Собрания».
Явление лже-мессии
Всякому апокалипсису, даже если он совершается в одной отдельно взятой стране, предшествует явление лжепророков. Настоящим лжепророком первой русской революции был священник Георгий Гапон. Отцы православной Церкви учат: покаянием побеждаются все греховные страсти, кроме гордости. Эта сатанинская страсть, овладевая человеком, может проявляться в формах, ничем не отличимых от святости. Одержимый гордыней человек абсолютно верит в свою непогрешимую правоту и этою верою увлекает массы людей за собой – в бездну. Несомненно, отцом Георгием ко времени его тридцатитрёхлетия демон гордости уже овладел без остатка. Гапон уверовал в себя как в нового Мессию. Многие уверовали в него. Прокурор Петербургской судебной палаты в служебной записке министру юстиции свидетельствует о Гапоне: «Большинство считает его пророком, явившимся от Бога для защиты рабочего люда». Пролетарский спаситель явился.
В его жизни удача переплеталась с несчастьем, но всегда, до последнего рокового взлёта, его путь осеняло незримое покровительство могущественных сил. Что это было – перст Божий, коварство диавола или просто земная протекция молодому одарённому красавцу из народа? Георгий Гапон родился в 1871 году на Полтавщине, в семье крестьянской, но достаточно зажиточной, чтобы дать любимому сыну образование. Окончил Полтавскую духовную семинарию, женился, принял сан, получил выгодный приход – как говорили, благодаря поддержке симпатизировавшего ему полтавского епископа Иллариона. Тихая жизнь кладбищенского батюшки, казалось, предначертана отцу Георгию. В 1898 году – трагедия: попадья умерла, оставив на руках мужа двух малюток. Овдовев, он, в нарушение обычаев русской Церкви, уклонился от принятия монашества. Детей оставил своим родителям, а сам отправился в Петербург, поступил в Духовную академию. И опять не без помощи свыше: вроде бы слово за него замолвил сам Победоносцев по ходатайству некоей набожной полтавской помещицы.
Что и говорить, отец Георгий умел нравиться женщинам. Его проповеди скоро становятся модными в салонах великосветских вдов, близких и ко двору, и к кафедре митрополита Петербургского Антония. Ему открыто покровительствуют С. П. Хитрово, вдова гофмаршала двора Его Императорского Величества, и вдова министра иностранных дел княгиня М. А. Лобанова-Ростовская. Их протекция решает всё. С 1900 года неженатый священник, студент второго курса Академии, начинает служить в большой и многолюдной Церкви иконы Божией Матери всех скорбящих Радости в Гавани, близ завода Балтийской верфи. Приход по преимуществу рабочий, что в скором времени сыграет решающую роль в судьбе нашего героя. Однако тут Гапон не поладил с настоятелем – и через несколько месяцев его переводят из Скорбященской церкви на удобное место настоятеля храма 2-го приюта Общества попечения о бедных и больных детях («Общество синего креста»). Одновременно он преподаёт Закон Божий в Детском приюте трудолюбия св. Ольги. Сии учреждения находятся под покровительством императрицы-матери. Через посредничество статс-дамы её императорского величества Е. Н. Нарышкиной молодой священник с огненным взором и античным профилем представлен государыне.
Покровительство высоких особ спасает его в скандальной ситуации, на которой оборвалась бы карьера любого другого священнослужителя. Летом 1902 года отец Георгий пропал из Петербурга. Вскоре выяснилось: бежал на родину, в Полтаву, с соблазнённой им юной воспитанницей Марией (по другим сведениям Александрой) Уздалёвой. (Забегая вперёд, скажем, что Уздалёва оставалась со своим соблазнителем в радости и в горе, до самой его жалкой гибели в 1906 году, и за три года совместной жизни родила ему двоих детей.) По всем канонам православной Церкви Гапон после этого должен был быть извержен из сана. Однако митрополит Антоний принимает иное решение: по возвращении в столицу священник-прелюбодей становится неофициальным консультантом владыки по вопросам участия Церкви в рабочем движении. В этом качестве вступает в контакт с петербургским градоначальником Клейгельсом и с переведённым недавно в Петербург Зубатовым, отцом-родоначальником легальных (то бишь, подконтрольных полиции) рабочих организаций. В переговорах с ними рождается идея «Собрания петербургских фабрично-заводских рабочих».
Идея оказалась плодотворной. «Собрание» вскоре стало многолюдным, его отделения растут как грибы: на Выборгской стороне, у Путиловского завода, у Невской Заставы, на Васильевском острове. Рабочие с интересом и со всё возрастающим благоговением слушали речи отца Георгия. Они знали, что батюшка силён своими связями, и потому надеялись: не выдаст, защитит, исхлопочет что-нибудь хорошее свыше. Вокруг него стало появляться сияние вождя и спасителя обездоленных. От сознания собственной исключительности – представитель высших в толпе низших, ходатай перед высшими за низших – у отца Георгия голова не кружилась, ибо верил он в свою звезду не меньше, чем в Вифлеемскую. Неудержимое природное честолюбие подсказывало ясный вывод: он – святой, Богом избранный для установления царства справедливости на Земле. Ему только что исполнилось тридцать три года. Возраст Мессии. Это придавало силы, бесконечно много сил. Гапон за всё берётся и всё успевает. Он как будто бы всюду одновременно: на собраниях в рабочих чайных, на благотворительных вечерах в светских салонах, в кабинетах вельмож…
И вот, его ходатайство грубо отвергнуто, слово его (пророка!) растоптано администрацией Путиловского завода.
«Политика – всё в их жизни»
Декабрь в Петербурге выдался беспокойный. 29 ноября у Казанского собора студенты (по разным данным от пятисот до пяти тысяч) пытались митинговать по поводу гражданских свобод и выборного представительства. Кончилось дело дракой с полицией; побили нескольких городовых, несколько десятков студентов было арестовано. 2 декабря в самом демократическом из столичных институтов – Технологическом – состоялся так называемый «бал» по случаю годовщины основания «альма матер»; на самом деле – политическая сходка, продолжение прерванного митинга. Речи против самодержавия звучали самые решительные. Корреспондент левой французской газеты «L'Humanite» Этьен Авенар писал: «Молодые отличаются страстной нетерпимостью… Политика – всё в их жизни».
В обществе носились неясные слухи о реформах; звучали неведомые, но сладкие слова: «Учредительное собрание», «всеобщее равное избирательное право». Ещё не отшумело эхо зажигательных студенческих речей, как 12 декабря появился государев указ, где в неопределённо-будущем времени говорилось о свободе печати, равенстве вероисповеданий, равноправии национальностей. Но главный пункт – это все знали – пункт об образовании выборного представительства, вычеркнут государем в последнюю минуту. Интеллигенция возмущалась, а более всех грустил министр внутренних дел князь Святополк-Мирский. Проект реформ разрабатывал он; изъятие оттуда ключевого пункта означало недоверие государя ему лично. Мирский подал в отставку (второй раз за три месяца пребывания в должности). Государь не возражал, но попросил остаться ещё на месяц, пока не подыщется преемник.
14 декабря интеллигенция собралась на банкет в доме Павловой; отмечали 79-летие восстания декабристов. Тут уж дали волю раздражению по поводу позавчерашнего указа. Произносили тосты за Конституцию, за Учредительное собрание; до того разлиберальничались, что выпили (все семьсот восемьдесят участников) за здоровье Егора Сазонова, революционера-террориста, убийцу Плеве, томившегося в царской темнице.
За всеми этими делами забыли о войне. Привыкли к тому, что где-то там далеко, за десять тысяч вёрст от брегов Невы, взрываются шимозы, Куропаткин отступает, а Порт-Артур героически выдерживает осаду. И вдруг – гром среди ясного неба: 22 декабря петербургские газеты напечатали весть о капитуляции Порт-Артура. Аккурат на следующий день после решительного отказа администрации Путиловского завода пойти навстречу ходатайству гапоновского «Собрания».
Картечное водосвятие
Конфликт на заводе вдруг оказался в фокусе общественного внимания. Вот, мол, наше правительство: конституцию не даёт, войну выиграть не может, рабочих бросает на съедение капиталистам. 27 декабря в василеостровском отделе «Собрания» на 4-й линии, дом 35, состоялось многолюдное заседание. Около трёхсот пятидесяти человек: рабочие, корреспонденты газет, представители интеллигенции и революционного подполья – эсеры, а возможно, и социал-демократы. Постановлено: 1) обратиться к администрации Путиловского завода с просьбой уволить Тетявкина и восстановить тех четырёх; 2) обратиться с жалобой в Фабричную инспекцию и к градоначальнику Фуллону; 3) если требования не будут удовлетворены, то «за дальнейшее спокойное течение жизни среди петербургских рабочих „Собрание“ не ручается». На следующий день рабочая делегация во главе с Гапоном отправилась к Фуллону, Чижову и Смирнову. Добрый Фуллон пообещал помочь чем может; Чижов заявил, что по уставу «Собрание» не вправе заниматься такими вопросами, а Смирнов вовсе рабочих не принял.
До 2 января продолжались переговоры с администрацией. Обстановка накалялась. Совершенно неожиданно рабочий мир Петербурга принял близко к сердцу путиловскую историю. Наболело. На заседания «Собрания» собирались толпы. Стали говорить о всеобщей забастовке. Всё происходило стихийно. Гапон чувствовал, что теряет контроль над событиями; но он пользовался авторитетом среди рабочих, его слушали с восторгом, когда он говорил то, что хотела слышать аудитория. Он поплыл по течению, был подхвачен тысячами рабочих рук. Нестись на гребне волны – наилучший способ убедиться в своём мессианстве. 2 января под его председательством «Собрание» решило: последний раз предъявить требования администрации, в случае отказа – начать стачку. 3 января двенадцать с половиной тысяч путиловских рабочих забастовали. И не просто забастовали, а пошли по другим заводам – уговаривать товарищей присоединиться к ним. 4 января остановился Франко-русский завод (ещё две с половиной тысячи рабочих), 5-го, в канун Крещения – Невский литейно-механический, за ним прочие. 7 января бастовало более ста тысяч, а 8 января – сто пятьдесят тысяч человек. Забастовали типографии, газеты перестали выходить.
Размах движения оказался неожиданностью для всех. Руководитель Петербургского комитета РСДРП большевик С. И. Гусев (Драбкин) растерянно писал Ленину в Женеву 5–6 января: «События развиваются со страшной быстротой… Забастовка расширяется, и, вероятно, станет всеобщей». Другой революционер, Д. Гимер, в воспоминаниях признаёт: «Все мы, и большевики, и меньшевики, и эсеры, были поставлены перед необходимостью так или иначе участвовать в назревающих помимо нас событиях».
И тут, как нарочно, событие одновременно курьёзное и зловещее произошло во время Великого водосвятия, совершавшегося 6 января, в день Крещения, на льду Невы перед Зимним дворцом, при участии государя. Одна из пушек, выставленных для салюта на стрелке Васильевского острова, шарахнула боевым снарядом, картечью. Попало по карнизу Зимнего, выбило несколько стёкол, зацепило царскую палатку, установленную на льду. Осколком стекла легко ранило адмирала Авелана, картечиной серьёзно задело городового. Стечение обстоятельств: фамилия пострадавшего стража порядка была – Романов. Происшедшее, скорее всего, явилось следствием обычного военного разгильдяйства. Но по городу поползли слухи о заговоре.
Сразу же после этого инцидента государь уехал в Царское Село.
Петиция
В эти-то дни в гапоновском окружении родилась идея обратиться с прошением к самому государю. Родилась одновременно во многих головах. Что может быть естественнее: на плохих начальников жаловаться царю. Впервые высказанная на одном из многолюдных собраний в конце декабря, мысль эта пошла гулять по отделам «Собрания», по заводам, по рабочим окраинам и скоро овладела умами. Ко дню Крещения стало известно: вручать прошение будут в воскресенье, 9 января, на площади перед Зимним дворцом. Стали готовить торжественное шествие. На многочисленных собраниях и сходках вырабатывали текст прошения. У него не было авторов, текст менялся на ходу. То одни, то другие энтузиасты вносили свою лепту. Редактировал Гапон, но сам он впоследствии признавался, что по решению сходок изменения приходилось вносить вплоть до вечера 8 января. Сомнительно, что кто-нибудь, кроме самого Гапона и узкого круга его приближённых, видел заранее этот документ в окончательной редакции. Содержание его эклектично: вполне понятные рабочие требования – восьмичасовой рабочий день, социальные гарантии – соседствуют с буржуазным чаянием политических прав и с интеллигентской мечтой об Учредительном собрании. Откуда-то почему-то залетело требование замены косвенных налогов единым прогрессивным подоходным. Некоторые строки как будто списаны с резолюций писательско-профессорских банкетов, подобных тому, что имел место 14 декабря, другие похожи на всеподданнейшие формулировки проекта Мирского, третьи слово в слово повторяют букву и дух социал-демократической плехановской «Программы-минимум».
Две особенности надо отметить. Неестественный пафос коллективного мученичества и тон скрытой угрозы по отношению к тому, у кого просят милости: «Мы дошли до того ужасного момента, когда смерть лучше, чем невыносимые страдания! Повели немедленно, сейчас же, призвать представителей земли Русской от всех классов, от всех сословий… Повели, чтобы выборы в Учредительное собрание произошли на основе всеобщего равного тайного голосования. Это самая главная наша просьба… главный бальзам на наши раны». И в заключение: «Повели и поклянись их (требования. – А. И.-Г.) удовлетворить… А не повелишь… – мы умрём здесь, на этой самой площади, перед твоим дворцом». Не правда ли, типичный стиль и образ мыслей рабочих? Отметим также, что термин «Учредительное собрание» заключал в себе явную провокацию: именно Учредительное собрание во Франции в 1792 году упразднило монархию и предуготовило гибель королевской семьи. Принять такую «главную просьбу» Николай II не согласился бы никогда в жизни. Но, похоже, об этом никто не задумывался – некогда было. Гапон упивался пророческим стилем прошения. Для остальных важно было не содержание бумаги, а сам факт движения от окраины к центру. Хожение к царю.
А что же власть?
А власть пребывала в блаженной бездеятельности. Обиженный Мирский сидел на чемоданах. Фуллон простодушно верил в благонамеренность Гапона и его организации. Начальник гвардии князь Васильчиков, добросовестный служака, ждал приказов и не рассуждал. Директор Департамента полиции Лопухин пытался угадать, кто будет назначен на место Мирского, и какую позицию занять ему самому – либеральную или ретроградную. Склонялся к мысли, что придёт Витте с осторожными либералами (того же ожидали министр юстиции Муравьёв и товарищ министра внутренних дел Дурново), так что охранительного рвения проявлять не стоит. В его рабочем столе давно лежало донесение секретного агента Виноградова, внедрённого в партию эсеров и участвовавшего в сентябрьской конференции российских оппозиционных и революционных организаций в Париже. Агент сообщал о решительных настроениях радикальной оппозиции, об обсуждаемых в её среде планах военного переворота и создания Временного правительства из представителей либеральной интеллигенции. Лопухин выжидал, когда ему будет выгоднее начать расследование по столь многообещающему делу. Он знал, что под фамилией Виноградов скрывается Евно Азеф, но не догадывался ещё, что этот человек – поистине дьявольский гений провокации.
Занятые вопросами собственного благополучия и карьеры, сановники обратили внимание на разворачивающиеся события лишь 7 января. Остановить движение, уговорить сто пятьдесят тысяч рабочих (с семьями – почти полмиллиона) не ходить к царю с прошением было уже невозможно. Вечером в пятницу собрались на совещание у Мирского: Муравьев, Васильчиков, Фуллон, Лопухин, начальник петербургской жандармерии Рыдзевский, министр финансов Коковцов. Фуллон несмело предложил арестовать Гапона. Но при аресте непременно пролилась бы кровь, Гапон всё время находился в толпе и под охраной рабочих. Отвергли. Оставалось одно: выставить по городу кордоны войск, дабы преградить путь от окраин к центру, не пустить людей на Дворцовую площадь, не прогневать государя. Подробности этого плана обсуждали генералы уже на совещании у Фуллона. Стрелять, конечно, не придётся, разве что для острастки, в воздух. Но на случай всяких провокаций боевые патроны раздать. На том и порешили.
8 января, в субботу ясную и морозную, рабочие вовсю готовились к шествию. Экзальтация в окружении Гапона достигла апогея. Резолюции неутихающих собраний становились всё напряжённее, всё фанатичнее. Их нарастающий предреволюционный гомон фиксирует всё тот же журналист-социалист Этьен Авенар. Заседание в том же доме 35 по 4-й линии, ораторствует рабочий: «Если он действительно наш царь, он должен нас выслушать… Ему нельзя не принять нас… Но если он не примет нас, не захочет нас слушать, мы будем судить его народным судом. Если он прикажет в нас стрелять… (голоса в толпе: „Нужно в него стрелять!“), если он разорвёт наше прошение… (голос в толпе: „Разорвать его самого на куски!“) Нет! Мы его отдадим на суд народа!» В аналогичных тонах, только без всяких «если», была выдержана прокламация большевиков, появившаяся в тот же день. «Сбросить его с престола, выгнать вместе с ним всю самодержавную шайку».
Пока такие листовки разлетались по столице, Фуллон приказал расклеить по городу своё обращение. «Никакие сборища и шествия по улицам не допускаются… К устранению всякого массового беспорядка будут приняты предписываемые законом решительные меры». Закон предусматривал использование войск для пресечения беспорядков только в случае введения военного положения. О таковом ясного объявления не последовало. Обращение градоначальника расклеили поздно и в малом количестве экземпляров. Большинство обывателей о нём не знало. Полиция никаких распоряжений о пресечении шествия не получила.
Вечером Мирский поехал в Царское Село с крайне неприятной миссией: докладывать о возможных беспорядках в столице. Передал государю один из гулявших по городу вариантов петиции. Вернулся поздно, привёз высочайшее повеление о введении военного положения. Это было на руку и ему, и Фуллону, и Лопухину: ответственность за то, что произойдёт завтра, с них снималась и перекладывалась на плечи командующего войсками Петербургского округа великого князя Владимира Александровича. Этот в обществе слыл за отъявленного реакционера. Ему приписывали фразу: «Нужно открыть жилы России и сделать ей небольшое кровопускание». С такого и взятки гладки. В тишине, при морозном лунном свете солдаты стали занимать позиции.
Уже совсем ночью на квартиру Мирского, в доме министерства на Фонтанке, 16, явилась делегация интеллигентов: писатели Горький и Семевский, историк Кареев, гласный Городской Думы Кедрин – всего десять человек. Пришли уговаривать не стрелять завтра в народ. Мирский устал за день и их не принял. Поехали к Витте; тот принял, посетовал, что сделать ничего не может. После того, как кровавые события совершились, ходатаев за народ арестовали: в полиции решили, что это и есть то самое Временное правительство, о котором информировал Лопухина «Виноградов».
Шествие
Ночью на перекрёстках горели костры: солдаты грелись. Утром, в десять часов, у отделов «Собрания» за Нарвской и Невской Заставами, на Васильевском, на Петроградской, на Выборгской сторонах стали собираться участники шествия. Настроение у всех было приподнятое, праздничное. Небо затянуло, но погода стояла приятная, морозная, безветренная. Толпы быстро росли, в них царствовало настроение самоотвержения, радостного единения во благом и великом деле. Наконец-то народ вместе со своим царём! Всё делалось организованно, дисциплинированно. Откуда-то добыли хоругви (как потом выяснилось, из часовен Общества трезвости и некоторых больниц). Принесли иконы, портреты царя. Собралось всего народу по городу тысяч триста – четыреста.
Около одиннадцати началось движение. От помещения нарвского отдела «Собрания» на Петергофском шоссе, дом 42, что возле Путиловского завода, двинулась колонна, во главе которой шёл сам Гапон. Рядом с ним – соратники, рабочие Васильев, Кузин, могучий кузнец Филиппов, пожилой путиловец с портретом царя, заодно сбоку – инженер с Путиловского завода, социалист Пётр Рутенберг (будущий убийца Гапона, но кто мог знать…). Все с непокрытыми головами. Двинулись с пением: «Спаси, Господи, люди Твоя…» (молитва о благоверном государе императоре Николае Александровиче). Впереди колонны, тоже без шапок – полицейские чины: помощник пристава путиловского участка Жолткевич и околоточный Шорников. Они были уверены: их долг – поддерживать порядок во время шествия. Останавливали транспорт, дабы дать дорогу портрету государя.
Немного не доходя Нарвских ворот, у моста через речку Таракановку (ныне несуществующую), колонна вдруг остановилась. Поперёк Нарвской площади стояли цепи солдат. Возникла странная пауза. Но в первых рядах снова запели «Спаси Господи» и «Отче наш», и колонна колыхнулась вперёд. Было слышно: что-то кричат офицеры с той стороны, но разобрать что – невозможно. Требование остановиться, разойтись, предупреждение о стрельбе – за пением просто не услышали. Из-за шеренг на толпу помчались конно-гренадеры. Толпа расступилась, сомкнулась за кавалеристами и снова двинулась. Никто ещё ничего не понимал. Раздался залп, потом второй, потом третий. Васильев, Филиппов, старик с царским портретом и полицейский Жолткевич были убиты сразу. После третьего залпа люди побежали в разные стороны. Гапона повалили на снег телохранители. Потом он скрылся.
Нечто подобное творилось на Васильевском, возле 4-й линии, у Благовещенского моста, на Петроградской стороне у Троицкого моста. На Шлиссельбургском шоссе обошлось без стрельбы, народ разогнала конница. Около двух часов толпа, до крайности взвинченная и уже неуправляемая – те, кому удалось пробиться с окраин, и просто зеваки – собралась у Дворцовой площади, со стороны Невского. На площади биваком расположились роты Преображенского полка. Видя, что толпа напирает, гвардии капитан Мансуров поднял одну роту и построил её поперёк площади, от Главного Штаба к Александровскому саду. Толпа не расходилась, оттуда раздавались яростные, злобные крики. Думая, что исполняет долг, Мансуров приказал солдатам дать предупредительный залп в воздух. Выстрелили вверх не целясь – и попали по деревьям сада, облепленным любопытными мальчишками. Потом последовали ещё залпы.
На Невском стреляли у Казанского, у Мойки. Кавалеристы и казаки носились взад и вперёд. Толпа то заполняла Невский, то разбегалась, спасаясь от сабельных ударов. Неистовое озлобление вдруг овладело людьми – с той и с другой стороны. Разбили стёкла во дворце великого князя Владимира. Подожгли газетные киоски. Где-то уже начали громить магазины. Из репортажей Авенара: «Проходит отряд пехоты с примкнутыми на ружьях штыками. Они не угрожают толпе, но эта последняя с тротуаров кричит в бешенстве: „Опричники! Кровопийцы!“ Офицеры, выведенные из терпения, приказывают атаковать, и толпа убегает в боковые улицы». «Я проходил к Казанскому собору, как вдруг увидел толпу, охваченную паникой, стремительно бежавшую мне навстречу. Её гнал отряд казаков». «На пересечении Невского и Литейного казаки летели на нас во весь опор. Я бегу вместе с другими… Решётчатые ворота одного дома раскрыты. Я… спрятался за одной из колонн… Один <казак> спешился и, отдав повод лошади товарищу, набросился на молодого рабочего, упавшего на землю, и стал его жестоко бить плетью и топтать сапогами…»
По официальным данным, 9 января в ходе беспорядков погибло девяносто шесть человек, ранено триста тридцать три. По неофициальным – от шестисот до семи тысяч погибших. Вероятнее всего, что-то между девятьюстами и полутора тысячами. Лишь к вечеру следующего дня в городе всё стихло. Это была тишина бездны. Прелюдия Гражданской войны и начало русского апокалипсиса.
Метель под Мукденом
«… – Простите меня! – вдруг вскрикнул Кимеров и упал навзничь. Я расстегнул его и увидел, что низ живота его пробит, передняя косточка отбита и все кишки вышли наружу. Он быстро стал помирать… Я сидел над ним, беспомощно придерживая марлей кишки, а когда он скончался, закрыл ему глаза, сложил руки и положил удобнее». Так описывает военный врач Евгений Сергеевич Боткин один из ничтожных эпизодов самой массовой бойни из всех, какие устраивало человечество до Первой мировой войны. Смерть всего лишь одного из сотен тысяч русских и японских солдат. «Страшная песчаная метель, бившая нашим в лицо и закрывавшая всё непроницаемой мглой… помогла японскому батальону прорвать наши ряды», – объясняет Боткин. Он не знал, что вокруг Мукдена кружились другие вихри, рождённые политическими расчётами и карьерными амбициями. Тогда, как и сейчас, российская государственная элита, не задумываясь, готова была приносить в жертву своей корысти любое количество человеческих жизней.
Десять тысяч вёрст от Петербурга
Мукден – город и станция на юге Маньчжурии, на железной дороге «Харбин – Порт-Артур». Ныне в великодержавном Китае Мукден переименован в Шэньян, а Порт-Артур – в Люйшунь. Стёрта память о русском и о японском господстве. А заодно и об эпохе правления императоров маньчжурской династии, чьи могилы-курганы расположены поблизости от Шэньяна. В современном Китае не любят вспоминать о былой самостоятельности Маньчжурии, Уйгурии или Тибета… Сто лет назад поднебесная империя разваливалась на части, её хищные соседи боролись за лакомые куски. Здесь, на плоской равнине, тянущейся вдоль только что построенной железной дороги, разворачивались главные сражения Русско-японской войны.
Мукден стал центром сосредоточения русских войск после отступления из-под Ляояна в сентябре 1904 года. То странное (как вся война) полупоражение имело два важных следствия. Осаждённый с суши и с моря Порт-Артур был обречён на героическую, но бессмысленную оборону, а общественность России, до этого настроенная сверх-патриотически, как-то вдруг разочаровалась в войне, перестала ею интересоваться, лишь изредка злорадствовала по поводу неудач собственного государства, его армии и флота.
Куда более интересные дела волновали эту самую общественность, обитающую главным образом в Питере да Москве, за десять тысяч вёрст от театра военных действий. Новый министр внутренних дел, обходительный и благородный Святополк-Мирский, говоря речь в присутствии газетчиков, что-то неопределённое вымолвил про доверие между обществом и властью. В этом увидели провозвестие эры либеральных реформ. На состоявшемся в ноябре съезде земских деятелей звучали речи отъявленно-конституционные. Потом вдруг вспомнили, что 20 ноября – сорокалетие судебной реформы Александра II; по этому поводу повсеместно стали устраивать банкеты, на которых говорили против самодержавия весьма вольно, и, гордясь собственной отвагой, аплодировали социалистам. Ждали манифеста о созыве то ли Земского собора, то ли Учредительного собрания – и вознегодовали страшно, когда в царском указе 12 декабря не увидели сих заветных слов. В таковых делах прошли осень и начало зимы. 22 декабря столичные газеты сообщили о капитуляции Порт-Артура. На девятнадцатый день после этого совершилось Кровавое воскресенье. Огромную империю, шестую часть суши, затрясло в революционном припадке.
Полузабытая война шла тем временем довольно вяло. После неудачной попытки наступления в конце сентября – начале октября русская армия под командованием генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина застыла в неподвижности на позициях, тянущихся стокилометровой дугой с центром в Мукдене. Японцы тоже не шевелились. В трёхстах километрах к югу 3-я японская армия генерала Ноги догрызала Порт-Артур; после его капитуляции требовалось время для переброски освободившихся сил на мукденское направление. Долгое затишье сменилось внезапной активностью лишь в начале января. Прологом мукденской битвы стало четырёхдневное сражение под Сандепу.
«Die erste kolonne marschiert…»
Бои начались на 12(25) января в ночь, а завершились к исходу дня 15(28). Соотношение сил умеренно-благоприятно для русских: около двухсот восьмидесяти пяти тысяч человек против примерно двухсот тысяч японцев. Сильно укреплённых или выгодных для обороны рубежей на плоской равнине, образованной реками Тайцзыхэ и Хуньхэ, не было. В мучительных спорах между главнокомандующим и командующими тремя армиями был рождён план операции. 2-я армия генерал-адъютанта Гриппенберга при поддержке артиллерии 1-й и 2-й армий наносит главный удар по левому флангу противника в направлении деревни Сандепу, овладевает ею, а затем – позициями между реками Хуньхэ и Шахэ. Тем временем вводятся в бой силы 1-й армии генерал-адъютанта Линевича и 3-й армии генерал-лейтенанта барона Каульбарса. Их совместными усилиями противник отбрасывается за Тайцзыхэ. План не плохой и не хороший, по сути своей похожий как две капли воды на план Аустерлицкого сражения, описанный в «Войне и мире». «Die erste kolonne marschiert…» «Первая колонна марширует…» Сходство подчёркивается немецкими фамилиями русских командующих.
12 января, затемно, по позициям японцев ударила русская артиллерия. По каким-то причинам оказалась задействована лишь половина орудий 2-й армии. На главном участке – по району Сандепу – был сделан всего тысяча семьсот шестьдесят один выстрел, причём тысяча четыреста сорок восемь – из лёгких орудий. Огневые точки противника подавлены не были. Вслед за тем на правом фланге 2-й армии перешёл в наступление 1-й Сибирский корпус генерала Штакельберга. Японцев отбросили, и к вечеру вышли на линию реки Хуньхэ. Пока здесь длился бой, Гриппенберг ждал, опасаясь за свой правый фланг; тем временем японцы усиливали оборону. Наступила ночь. Лишь утром 13-го был дан приказ атаковать Сандепу.
Дивизия, выдвинутая для этой цели, несколько дней перебрасывалась с места на место: высшее командование утрясало наступательные планы. К моменту атаки солдаты и младшие офицеры еле таскали ноги от усталости и на чём свет стоит кляли всех генералов на свете. В бой надо было идти по открытой равнине, по намёрзшей за ночь скользкой наледи, да ещё густой туман стал подниматься с утра и висел в воздухе до полудня. Батальоны двух полков в этом тумане сбились с пути и, вместо того, чтобы выйти на позиции западнее Сандепу, забрали к северу. Из тумана по ним неожиданно ударили пулемёты. Батальоны залегли и шесть часов пролежали под огнём, не получая никаких приказов. Лишь часам к четырём пополудни командир дивизии Русанов смог разобраться, где находятся его войска, и отдал приказ – в атаку. Солдаты рванулись под пулемётный огонь короткими перебежками; впереди виднелись какие-то хижины; про них думали, что это и есть Сандепу. Добежали, выгнали оттуда несколько сотен японцев. Русанов донёс командованию: задача выполнена! Куропаткин тут же отправил государю победную телеграмму. Но через пару часов выяснилось пренеприятное обстоятельство: захвачена была никому не нужная деревня Баотайцзы, а вожделенная Сандепу осталась в полукилометре к югу. В сумерках стали перестраиваться; в атаку шли с чувством обречённой безнадёжности и с единственной мечтой: отдохнуть и отогреться. Естественно, что из этих атак ничего не вышло. Потеряв тысячу сто двадцать два человека убитыми и насмерть замёрзшими, к вечеру 14 января дивизия отступила на исходные позиции.
И дальше всё происходило столь же бестолково. Дивизия Гернгросса из корпуса Штакельберга зашла противнику в тыл; но пока её войска пытались перехватить вражеские коммуникации, два других корпуса, стоявших против Сандепу с фронта, бездействовали. Ни Гриппенберг, ни Куропаткин в их действия не вмешивались. Гернгросс попал под сильный контрудар японцев и отступил с большими потерями. Другие дивизии 1-го корпуса на помощь ему не пришли.
15 января Куропаткин приказал захватить Сандепу во что бы то ни стало. Но японцы успели подтянуть резервы и ударили по всему 1-му корпусу. Пока здесь отбивались, 10-й корпус перешёл в наступление – неожиданно успешно. Но когда его передовые части уже угрожали окраинам Сандепу, пришёл приказ главнокомандующего: не увлекаться наступлением. Приказ есть приказ. Остановились, стали ждать. Тем временем в тыл японцам прорвалась конница генерала Мищенко, но без поддержки пехоты её успех оказался эфемерным, и она вернулась обратно. К вечеру 15-го Куропаткин отдал приказ о прекращении наступательных действий. Армия Гриппенберга отодвинулась за Хуньхэ, потеряв убитыми и ранеными почти двенадцать тысяч человек. Потери японцев достигали девяти тысяч.
«Ноздря», «Птица» и «Головастик»
Сражение как сражение. Всякая война состоит главным образом из такой вот бестолковщины, сутолоки и никому не нужных потерь. Но тут следует обратить внимание на политический фон.
9 января – Кровавое воскресенье. Во время уличной стрельбы из толпы кричали солдатам: «Трусы! С японцами бы так воевали!» 11 января государь учредил пост генерал-губернатора Петербурга с чрезвычайными полномочиями; назначил на этот пост бывшего московского обер-полицмейстера Дмитрия Фёдоровича Трепова, человека решительного и жёсткого. Перемены в правительстве представлялись неизбежными, и действительно: 17 января последовала отставка Мирского; 18-го на освободившийся пост министра внутренних дел назначен Булыгин. И Трепов, и Булыгин считались креатурами великого князя Сергия Александровича, дяди императора (и к тому же свояка: женат на сестре императрицы). Он только что оставил генерал-губернаторский пост в Москве; полагали, что в знак протеста против мягкотелой политики Мирского. Расстрел демонстрантов 9 января в Петербурге осуществлялся под общим руководством его брата, командующего войсками Петербургского округа великого князя Владимира Александровича.
Куропаткин несколько лет занимал пост военного министра и прекрасно знал все нюансы взаимоотношений между власть имущими. И не мог не делать прогнозов.
В течение двух лет перед тем вся жизнь верхов Российской империи проходила под знаком жесточайшей подковёрной схватки политических чудовищ: громовержца Плеве и змея Витте. Министра внутренних дел Плеве поддерживали в кругах, близких к великому князю Сергию, и в тёмной компании статс-секретаря Безобразова и адмирала Абазы. Эти последние имели коммерческие интересы на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Корее. Опираясь на столь серьёзные силы, блок Плеве поставил задачу: вытеснить председателя Комитета министров Витте и его союзника министра иностранных дел Ламздорфа из внешней политики. Отчасти им удалось это сделать, добившись учреждения Дальневосточного наместничества. Наместник адмирал Алексеев получил право самостоятельно осуществлять политический курс в отношении Кореи, Китая и Японии. Курс этот закончился войной. Когда-то Витте сам был сторонником весьма экспансионистской политики в Китае и Корее. Теперь он становится сторонником мира и яростным критиком войны.
Куропаткин оказался в лагере Витте. Естественно: если флотские (Абаза, Алексеев) за Плеве, то он, сухопутный, против. О теплоте взаимоотношений между сторонами можно судить по выдержкам из частных писем и дневников.
Алексей Абаза – жене Наталье, 25 мая 1904 года: «Был вчера у Плеве. Дал ему такое оружие в руки… что теперь он сможет побороть Ноздрю и кого угодно». Александр Безобразов – Алексею Абазе, 26 мая 1904 года: «Нужно кому следует хорошенько показать зубы, чтобы вся эта галдящая шваль замолкла бы… Следует взять главного запевалу и так ему накласть, чтобы всем другим это было доброй острасткой». 1 июня: «Наш военный и дипломатический престиж… упал за границей так сильно, что даже при будущем успехе с этим придётся считаться. Вот что значит глупость Птицы и Головастика». 6 июня: «…Следует быть осторожным с Куропаткиным, так как он теперь будет все ошибки валить на других и уверять, что он жертва обер-гоф-кригсрата. На эту гнусность он более всего способен, и этим специально занимался паршивый триумвират у меня меня на глазах эти последние пять лет». Поясняем: «главный запевала» и «Ноздря» – Витте, «Головастик» – Ламздорф, «Птица» – Куропаткин; «Паршивый триумвират» – Витте, Ламздорф, Куропаткин.
Этот последний в долгу не оставался. Ещё 3 марта 1902 г. он пишет в дневнике про Безобразова: «Хлестаков Гоголя – щенок и мальчишка <по сравнению> с этим новым Хлестаковым начала XX столетия». 28 марта: «Дружнее других проваливали безобразовские затеи Витте и я. Помог и Ламздорф». 31 октября: «Теперь, по словам Витте, окончательно определилось, что Безобразов – негодяй». И так далее.
15 июля 1904 года громовержец сам поражён динамитным громом – возможно, не без участия «Ноздри». Алексей Абаза сетует в письме к жене: «Смерть Плеве меня очень удручает… Он был союзник, а теперь я один!» Но «паршивый триумвират» тогда не добился победы: на место убитого назначен посторонний человек, Мирский. И вот, в январе, дело принимает новый оборот.
Между нагайкой и бомбой
Куропаткин-царедворец попал в сложное положение. О событиях в Питере он узнал 10 января и сразу понял: со дня на день Мирский уйдёт. Наиболее вероятный (и желанный) кандидат на его пост – Витте. Но чтобы это назначение состоялось, дела на фронте должны идти худо – не настолько, чтобы государев гнев обрушился на главнокомандующего, а настолько, чтобы дать возможность Витте разыграть роль спасителя отечества, государственного мужа, который один знает, как вытащить державу из тухлого положения. Что же делать? Самое ловкое – предпринять неудачное наступление. Так и высочайшее неудовольствие от себя отвести можно: наступал же всё-таки, пытался. И партнёру по политической игре дать карты в руки: вот, не выигрывается эта война без Витте, хоть тресни. Полагаем, что именно этим объясняется поведение главнокомандующего в дни боёв за Сандепу: отдаёт приказ наступать, когда войска к этому не готовы, а как только намечается успех, сразу: «Не увлекаться атакой», «Прекратить наступление». Нет, ей-богу, неправы те, кто считал Куропаткина бездарным стратегом. План реализован филигранно.
Тяжелораненые ещё умирали в полевых лазаретах, когда в ставке главнокомандующего узнали о назначении Булыгина. Внезапно обрисовалась совершенно новая политическая перспектива. Тандем Трепов-Булыгин означал переход к чрезвычайным мерам в борьбе с нарастающей смутой. Запахло диктатурой, а то и установлением регентства ради спасения монархии. Для этих целей никто не подходил лучше великого князя Сергия. Впрочем, и Витте не сложил оружие: в те же дни он добился от императора повеления возглавить работу комиссии по обсуждению реформ. Ясное дело: государь лавировал между претендентами на диктаторский жезл. Только он и был заинтересован в победе на Маньчжурском фронте. Через «исправляющего должность» военного министра Сахарова Куропаткину летят телеграммы с требованием наступать, побеждать. В те же дни – 19-го и 20-го – пишет ему и Витте; смысл его депеш диаметрально противоположный: война эта – «род государственной авантюры», следствие «явного безумия», заканчивать её надо как можно скорее, пока не стало совсем плохо. Это тоже указание: ни в коем случае не побеждать.
За политическими играми главнокомандующего пристально следили конкуренты. 18 января отправлены два донесения государю. Первое – от Куропаткина: «Командующий 2-й Маньчжурской армией донёс мне, что вчерашнего дня он заболел и службу исполнять не может». Второе – от Гриппенберга: «Истинная причина, кроме болезни, заставившая меня просить об отчислении от командования 2-й Маньчжурской армией, заключается в полном лишении меня предоставленной мне законом самостоятельности и инициативы и в тяжёлом сознании невозможности принести пользу делу…» Вслед за этим Гриппенберг преспокойно отбыл в Петербург. Бросив армию в разгар войны, ринулся в столицу, дабы не опоздать к раздаче должностей. А заодно высказать кому следует своё – конечно же, неблагоприятное для Куропаткина – видение хода военных действий.
Возможно, Гриппенберг рассчитывал вернуться на Дальний Восток главнокомандующим. Но 4 февраля в Москве бомбой эсера Каляева великий князь Сергий был разорван на куски. Витте избавился от грозного соперника, Николай – от опасного родственника и потенциального регента, а политическая ситуация запуталась окончательно. Что будет делать любой чиновник, пока высшее начальство «вырабатывает линию»? Выжидать.
В мешке
От Куропаткина требуют наступления, он разрабатывает планы, совещается, рассылает циркуляры… В общем, тянет время. А ситуация меняется не в пользу русских войск: развёрнута и сосредоточена 3-я японская армия генерала Ноги, переброшенная из-под Порт-Артура. Теперь силы примерно равны: русских около трёхсот тысяч при почти полутора тысячах артиллерийских орудий; у японцев людей и артиллерии чуть меньше, но зато много пулемётов. В циркуляре от 7 февраля Куропаткин говорит о необходимости наступления, но за строками читается иное: скоро весна, реки вскроются, почва размякнет, обозы и артиллерия двигаться не смогут, а вот окапываться станет гораздо удобнее. Стоит ли наступать при такой перспективе?
И стоит ли вообще побеждать? При анализе военно-политической ситуации вокруг Мукдена, возникает вопрос: что бы делало командование русской армии в случае победы? Успех ведь нужно развивать, в противном случае он грозит обернуться худшим поражением. Допустим, японцы разбиты и отступают. Куда наносить удар? Раньше была понятная цель: освобождение Порт-Артура от осады. Теперь она отпала; при отсутствии боеспособного флота овладение Порт-Артуром и удержание его затруднительно, бессмысленно и стратегически опасно. Да и вообще, без поддержки флота очистить Маньчжурию от японцев едва ли удастся. Наступать по расходящимся направлениям – на Корею через горы и на Ляодун по размякшей равнине – задача бесперспективная, сопряжённая с огромными трудностями и неминуемыми потерями. А кто за это скажет спасибо? Царю нужна не частичная, а полная победа; такой перспективы наступление под Мукденом не сулило. Витте же, или иному спасителю отечества, стремящемуся выловить золотую рыбину власти в мутных потоках разрастающейся революции, никакие победы русской армии вообще не нужны, для него покамест – чем хуже, тем лучше.
В общем, пока в штабе Куропаткина, оглядываясь на Петербург, разрабатывали план наступления, пока утрясали его сроки, японцы приступили к действиям. 5 февраля атаковали передовой отряд Ренненкампфа, прикрывавший левый, гористый фланг русской позиции. 10 февраля удар повторился с утроенной силой. Ренненкампф отошёл вёрст на десять и занял позиции на сопках гряды Тюпентай-Кудяза. 15 февраля (похвальная размеренность!) главные силы армии Кавамуры пошли на штурм тюпентайской позиции. Приняв (или сделав вид, что принял) эти действия за генеральное наступление, Куропаткин перебрасывает сюда свои стратегические резервы. Позицию удалось удержать. Но в тот же день разъезды русской кавалерии генерала Грекова внезапно обнаружили колонны японцев из армии Ноги, далеко продвинувшиеся на противоположном, равнинном фланге. Испугавшись обхода, Куропаткин бросил туда бригаду Биргера. Малочисленная бригада не имела сил для активных действий на широком фронте. Она заняла оборонительные позиции, которые Ноги и не подумал штурмовать, а стал обходить с двух сторон. 18 февраля полуокружённому Биргеру пришлось отдать приказ о спешном отступлении к Мукдену. По дороге он столкнулся с прорвавшимися в тыл отрядами японцев. Во время ночного боя части его бригады заблудились, сбились с пути, и в Мукден пробились с серьёзными потерями, в беспорядке.
Все эти дни главные силы русских бессмысленно толпились на левом фланге, а тем временем Ноги обходил Мукден с северо-запада. Куропаткин начал переброску войск оттуда – сюда. Но расстояние в сто вёрст и неразбериха с приказами привели к тому, что батальоны то двигались, то стояли, в бой вводились разновременно. 20–21 февраля разрозненные и несогласованные атаки нескольких русских дивизий немного приостановили продвижение японцев северо-западнее Мукдена. Но 24 февраля, пока Куропаткин в очередной раз перегруппировывал силы, Куроки нанёс мощный удар на слабом участке обороны восточнее города. Фронт был прорван. Узнав об этом, Куропаткин – как будто ждал! – немедленно отдал приказ об отступлении, о сдаче Мукдена.
Всё мгновенно смешалось и перепуталось в русских войсках. Бодрое, боевое настроение сменилось паникой. Понеслись слухи об окружении, о том, что японцы в тылу, что они захватили станцию Телин, назначенную центром сосредоточения отступающих армий, что они уже чуть ли не в Харбине. Об обороне никто не думал. В этой суматохе случилось именно то, чего так боялись: японцы с двух сторон прорвались к железной дороге у станции Пухэ севернее Мукдена. Часть русских войск, склады, обозы, раненые – оказались в окружении. Остальные в страшном беспорядке, по обходным дорогам отступали на Телин. Всеми владела одна мысль: только бы вырваться из мукденского мешка.
Победа оказалась неожиданной для самих японцев. Кавамура, Ноги и Куроки растерялись, бегущую русскую армию преследовать не стали. Отступив к северу, русские войска пришли в себя, успокоились, заняли новые оборонительные позиции. Тут подоспел приказ из Петербурга: генерал-адъютант Куропаткин отстранён от командования, на его место назначен командующий 1-й армией генерал-адъютант Линевич. (Очень характерно, между прочим, это звание: все высшие русские генералы той войны способны были быть разве что адъютантами…) До самого подписания мирного договора в августе 1905 года сколько-нибудь значительных военных действий в Маньчжурии не было. Последнее действие трагедии абсурда под названием «Русско-японская война» разыгралось в Цусимском проливе три месяца спустя, и его исход дал новый импульс самоубийственной русской смуте. Об этом речь впереди.
Эпилог
Доктор Боткин писал о мукденском отступлении: «Произошло то, что происходит в любом театре, когда вся собравшаяся толпа, вследствие действительной или ложной тревоги, должна выйти из здания через его узкие проходы. Произошла давка, паника; люди, находившиеся в крайнем нервном напряжении, совершенно обезумели: забыли родство, чины, душу, Бога, и только спасали свой живот». Добавим к этому, что таковой исход был предрешён. Главнокомандующий думал не о победе и не о сохранении жизней солдат, а о том, какое положение выгоднее занять в складывающейся конфигурации власти; он играл на ничью, и потому проиграл. Командиры корпусов и дивизий расчитывали, каким манером придёт в движение служебная лестница после повышения или, наоборот, отставки главнокомандующего; младшие офицеры и солдаты видели это и не могли взять в толк, почему они должны умереть на сопках Маньчжурии ради карьерных интересов своих генералов… В армии, как и во всём обществе, царил глубокий разлад, отлакированный под верноподданный патриотизм, прикрытый армейской выправкой и показной храбростью. В русской армии, как и во всей России, никто не хотел побеждать. А японцы хотели. Вот и победили.
Потери русской армии в Мукденском сражении оцениваются в девяносто тысяч человек, из коих до шестидесяти тысяч убитыми и ранеными, остальные пленными. Потери японцев – примерно семьдесят одна тысяча. Ради чего было убито и искалечено сто тридцать тысяч молодых здоровых людей – об этом история умалчивает.
Смертоносные демоны Цусимы
Глубокой ночью с 13(26) на 14(27) мая 1905 года походный строй кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры начал втягиваться в узкое горло пролива между островами Симодзима и Ики. На русских картах этот пролив иногда обозначался как «проход Крузенштерна», на японских – как Цусимский пролив. По пути из Камрани во Владивосток это самое узкое, самое близкое к японскому берегу место; вероятность встречи с противником здесь была наибольшей. Поэтому, несмотря на поздний час, на мостике флагманского эскадренного броненосца «Князь Суворов» стоял сам командующий эскадрой контр-адмирал З. П. Рожественский. Обстановка была тревожной. Командующий не мог не понимать того, что понимал каждый матрос: дозорные суда японцев бороздят воды пролива вдоль и поперёк, ищут русский флот. Задача японцев проста: не дать эскадре прорваться к Владивостоку, или хотя бы нанести ей возможно больший урон. Задача русских – уклоняться от боя, а если это не удастся, то, бросая на съедение врагу слабые и тихоходные суда, пробиваться к спасительным берегам Приморья хотя бы частью сил.
Томительное начало
Настроение у всех – от контр-адмирала до последнего матроса – было беспокойное, неприятное настроение людей, приносимых в жертву. Вся война эта, о ходе которой на кораблях эскадры знали только по отрывочным сообщениям из Петербурга да со страниц получаемых во время стоянок иноземных газет, шла совсем не так, как надо бы. И хуже всего дело обстояло на море. Японский флот многократно доказал свою – неожиданную для русских – силу и боеспособность. Русских же преследовали систематические неудачи, приобретавшие какой-то фатальный характер. Гибель адмирала Макарова на нелепо взорвавшемся броненосце «Петропавловск», бестолковые, неуверенные действия других адмиралов, огромные и всё возрастающие потери, уничтожение основных сил Тихоокеанского флота в Порт-Артуре и, главное, отсутствие мало-мальских побед, хоть бы какого-нибудь просвета на мрачном фоне глупо проигрываемой войны – всё это вселяло в сердца людей чувство неуверенности и страха, чувство, близкое к обречённости. А кругом плескались чужие воды, сквозь дымку проступали враждебные берега, и под днищем каждого из тридцати четырёх боевых и десятка транспортных кораблей чернели сотни футов холодной бездны.
Война, которой ждали давно, началась почему-то внезапно. И тут же выяснилось, что на флоте к ней не готовы. Решение о переброске сил с Балтики на Дальний Восток возникло сразу, и было неизбежным. Собственно, оно было очевидно и до войны, ибо сил тихоокеанской эскадры не доставало для господства на море, а только такое господство давало ключ к победе. Это понимали все и, как всегда, ничего не сделали вовремя. Устаревшие корабли посылать в поход было бессмысленно, новые эскадренные броненосцы, способные соперничать с японскими, построить в срок не успели: они спешным порядком доделывались, но в строй встать могли лишь через полгода. В высших командных сферах, в морском министерстве царила полная неразбериха, адмиралы спорили между собой и подсиживали друг друга. Лишь к концу апреля 1904 года, на исходе третьего месяца войны, удалось сформировать эскадру; но оказалось, что к дальнему переходу за три океана ни одно из судов не готово. План перехода всё время утрясался и менялся, Министерство иностранных дел долго и нудно решало вопрос о местах стоянок, о поставках угля по пути.
Назначенный командующим адмирал Рожественский смог поднять флаг на «Князе Суворове» только 1 августа. Накануне из окружённого с суши и с моря Порт-Артура пришло донесение о неудачной попытке 1-й Тихоокеанской эскадры прорвать блокаду и о понесённых ею потерях. Стало ясно: 1-я эскадра разбита, а остатки её небоеспособны. Весь план действий 2-й эскадры надо было спешно менять: усиливать её дополнительными боевыми судами, готовить их к походу – следовательно, опять откладывать выступление. Да и состоится ли оно?
11 августа собрались на совещание в Петергофе; председательствовал сам государь. Управляющие министерствами (военным – генерал Сахаров и морским – адмирал Авелан) осторожно сомневались в возможности удержать Порт-Артур до подхода 2-й эскадры; в таком случае сама идея похода ставилась под сомнение. Речи звучали неуверенно, все ждали решения от государя, ответственность за судьбу флота никто на себя брать не хотел. Робость придворных раззадорила Рожественского: с неожиданной решимостью он заявил о готовности кораблей к походу, о своей уверенности в успехе. Новый план похода был утверждён.
И снова затягивалось и откладывалось отправление. 30 августа вышли из Кронштадта в Ревель. В эти дни стало известно об отступлении армии Куропаткина от Ляояна к Мукдену; положение Порт-Артура после этого делалось критическим. В Ревеле снова остановились, через две недели медленно перебазировались в Либаву. Чего-то ждали: вроде бы решения о покупке боевых кораблей в Аргентине. 2 октября наконец двинулись из Либавы. Спустя несколько дней стало известно о новой неудаче Куропаткина – провале наступления на реке Шахэ. Тогда же японцы захватили господствующие над Порт-Артуром высоты и начали из пушек методично расстреливать корабли 1-й эскадры, запертые на рейде.
Хожение за три океана
Сам по себе путь из Балтийского моря в Японское был сложен и мучительно тяжёл. Матросы задыхались в раскалённых трюмах стальных гигантов, пересекавших экватор и тропики; пресной воды не хватало. Через Суэцкий канал большие броненосцы пройти не могли по причине низкой осадки; пришлось разделить эскадру на два отряда и главные силы двинуть вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды. Вдогонку эскадре двигались ещё три группы кораблей. Из Либавы вышел отряд малых кораблей каперанга Добротворского – и из-за поломок застрял на Крите. Половину отряда пришлось отправить назад. Потом послали с Балтики четыре броненосца и крейсер под командованием контр-адмирала Небогатова. Наконец, с Чёрного моря двигалась группа транспортных судов. С ними нужно было встретиться, их нужно было ждать. Англичане отказались принимать русские корабли в своих колониях. Приходилось договариваться о стоянках с французами, о снабжении – с немцами. 16 декабря, обогнув Африку, главные силы эскадры Рожественского подошли к северной оконечности Мадагаскара и встали в бухте Носи-Бе – ремонтироваться и ждать остальных.
19 декабря Рожественский получил телеграмму об отправке отряда Небогатова. А через два дня – ещё одну депешу. В ней сообщалось о капитуляции Порт-Артура и гибели 1-й Тихоокеанской эскадры. От всего русского дальневосточного флота остался лишь небольшой отряд, простаивающий во Владивостоке. Смысл великого похода рушился. Оставалось ждать. Что теперь решат в Петербурге? Что прикажет государь?
Но вместо чётких и ясных приказов из Петербурга пришли другие вести. 9 января в столице империи произошли крупные беспорядки. Что именно случилось – из официальных сообщений понять было невозможно. В иностранных газетах писали что-то пугающее, невероятное. О тысячах убитых, о начале революции. В ушах застучало непривычное слуху словосочетание: «Кровавое воскресенье». Матросов и офицеров эскадры охватило томительное нетерпение. Что дальше? Что будет? Прикажут вернуться обратно – стрелять в свой народ? Двинут вперёд – на погибель в этом чёртовом Японском море? Забудут здесь, на далёком, знойном Мадагаскаре? Бездействие в этих обстоятельствах было хуже всего. Но двинуться с места, не разобравшись в обстановке, не получая внятных директив, Рожественский не мог. Эскадра простояла в Носи-Бе весь январь, весь февраль.
Имелось и ещё одно обстоятельство. Телеграмма об отряде Небогатова испортила Рожественскому настроение едва ли не больше, чем весть о сдаче Порт-Артура. Высшее командование подсылает надсмотрщика и конкурента. Сделавшись вторым адмиралом эскадры, Небогатов начнёт подсиживать его, Рожественского, будет провоцировать на авантюры, дабы в случае успеха приписать заслугу себе, а в случае неудачи – свалить вину на Рожественского, добиться его отстранения и занять его место. В общем, заурядная схема отношений между начальником и первым замом, обострённая равенством в чине. Рожественский пытался воспрепятствовать отправке Небогатова, ссылаясь на устарелость кораблей его отряда. Но голос его не был услышан в Петербурге.
Два месяца Рожественский препирался по телеграфу с петербургским начальством. Ждать дальше было невозможно – ни материально, ни психологически. 3 марта эскадра вышла из Носи-Бе и через месяц прибыла во вьетнамский порт Камрань. Едва отплыли от Мадагаскара – как новые неприятные известия: Куропаткин разбит под Мукденом; его армия с большими потерями отступает к Харбину. Ситуация в Маньчжурии близка к безнадёжной. В России же происходит нечто странное, непонятное, пугающее. Говорят о смене правительства, о конституции и (шёпотом) – о возможном низложении государя.
В Камрани пришлось опять стоять – ждать Небогатова. Встреча состоялась 26 апреля. Внешне – парадная, торжественная. По сути – умножившая разброд и шатания среди и без того не слишком уверенного в себе командования. 1 мая эскадра двинулась на восток. Восемь эскадренных броненосцев, три броненосца береговой обороны, три броненосных и два больших бронепалубных крейсера, три малых бронепалубных и пять вспомогательных крейсеров, девять эскадренных миноносцев, транспорты, плавучие госпитали. Всего около сорока судов, пятнадцать тысяч человек. Для многих из них этот поход оказался последним.
Был избран кратчайший путь к Владивостоку через Корейский пролив. Небогатов, естественно, настаивал на другом варианте: кружном пути в обход Японских островов с юга и востока. Сказать, какой вариант лучше – не представляется возможным: один путь опасен в силу узости, другой – в силу огромной протяжённости. Вероятность встречи с японским флотом в том и в другом случае была одинакова. Рожественский избрал первый путь, потому что тянуть время было уже психологически невозможно. Небогатов выдвинул второй вариант потому, что Рожественский выбрал первый. Из неприязни к Небогатову Рожественский не стал обсуждать план движения на военном совете. Не доверяя другим, Рожественский решил взять на себя единоличное командование всеми отрядами и запретил командирам действовать самостоятельно. Он сознавал тяжесть ложащейся на него ответственности. И поэтому не спал в ночь с 13 на 14 мая. В ночь, которая должна была решить судьбу всего похода, флота, войны.
Падение в бездну
В 2 часа 45 минут 14(27) мая вахтенный офицер японского быстроходного крейсера «Синано-Мару», патрулировавшего подходы к Цусимскому проливу, заметил вдали огни неизвестных кораблей. Это были транспортные суда эскадры Рожественского. Через некоторое время в бинокль уже можно было различить и тёмные силуэты боевых кораблей, двигавшихся на восток. Около пяти часов утра командующий Соединённым флотом вице-адмирал Хейхатиро Того, находившийся на борту эскадренного броненосца «Миказа», получил радиограмму об обнаружении русских. В 6 часов 15 минут по приказу Того три отряда японских боевых кораблей двинулись на северо-восток, наперерез движению русской эскадры. Соотношение сил было примерно равным. У японцев имелось преимущество в скорости, в броневой защите и отчасти в качестве снарядов, зато у русских – превосходство в орудиях больших калибров.
Из донесения адмирала Того. Получено в Токио 27 мая (14 мая по русскому «старому» стилю) до полудня. «Получив сообщение, что показались неприятельские боевые суда, Соединённый флот немедленно вышел, чтобы немедленно атаковать и уничтожить эти суда. Погода была хорошая и ясная, но волнение на море большое».
Около девяти утра в виду русской эскадры появились японские крейсеры отряда адмирала Катаока. Рожественский и все, стоявшие с ним на мостике, поняли: случилось то, что должно было случиться, и чего так надеялись избежать – эскадра обнаружена противником. Командующий отдал приказ кораблям, не сбавляя хода, перестроиться в боевой порядок, в две кильватерные колонны с транспортами и крейсерами прикрытия в арьергарде, и повернуть к северу, в сторону от японского берега. Около полудня, когда перестроение было завершено, на горизонте появились вражеские эскадренные броненосцы. Стало очевидно: противник готов ударить в голову русской эскадры главными своими силами. Рожественский снова отдал приказ перестроиться – в одну кильватерную колонну для усиления огня. Пока суда совершали манёвр, японцы открыли огонь с расстояния около семи километров по головным, самым мощным кораблям эскадры. Первые залпы были сделаны около половины второго часа пополудни. Ответный огонь русских броненосцев был открыт с запозданием и существенного результата не принёс. Между тем японские снаряды стали рваться на палубах русских судов. Рожественский отдал приказ отвернуть ещё к северу.
Это был его последний приказ в цусимском бою. В 14 часов 20 минут корпус «Князя Суворова» сотрясся от нескольких мощных взрывов. Флагман стал быстро терять ход. Ужаснее всего было то, что японский снаряд повредил штурманскую рубку и капитанский мостик броненосца. Адмирал Рожественский был тяжело ранен и перестал руководить боем. Эскадра лишилась командования. Никто не знал, что делать. Сигналов с «Суворова» не поступало. Под огнём противника колонна стала рассыпаться.
Беспорядочный бой и движение эскадры продолжались по инерции ещё несколько часов. Главные корабли её выходили из строя один за другим. Флагман «Князь Суворов» затонул; раненый Рожественский перенесён на борт эсминца «Буйный», а после его повреждения – на эсминец «Бедовый». Лишь около шести часов вечера командование официально принял Небогатов. Но к этому времени эскадра распалась на несколько групп. Их командиры думали только об одном: как вырваться из гибельного боя и спасти свои корабли. У Небогатова осталось всего пять боевых судов. На его глазах ко дну пошли четыре эскадренных броненосца, составлявшие почти половину силы и мощи 2-й Тихоокеанской эскадры. Японские корабли, как заговорённые, оставались в строю без единого серьёзного повреждения. Это казалось сном. Небогатова и его штаб охватило чувство почти мистического, парализующего волю ужаса.
Из донесения адмирала Того. Получено в Токио 27(14) мая поздно вечером. «Соединённый флот сегодня встретил неприятельский флот, дал ему сражение поблизости от Окиносима и нанёс ему поражение. Мы потопили не менее четырёх из его судов и серьёзно повредили остальные. Наши минные истребители и миноносцы произвели смелые атаки на противника после наступления ночи».
В ночной темноте продолжилась погоня за разбегающимися в разных направлениях кораблями. Эскадры как таковой уже не было. До Владивостока оставались всего сутки пути…
При покровительстве духов
Из донесения адмирала Того. Получено в Токио 29(16) мая утром. «С 27 мая главные силы нашего Соединённого флота продолжали преследование оставшихся судов неприятеля. Встретив 28 мая в районе скал Лианкорта группу русских судов, состоящую из броненосцев „Николай I“, „Орёл“, судов береговой обороны „Адмирал Синявин“ и „Адмирал Апраксин“ и крейсера „Изумруд“, мы немедленно атаковали их. „Изумруд“ отделился от остальных и бежал. Другие 4 судна скоро сдались. Наш флот потерь не имел… В плен взято 2000 человек русских, в том числе контр-адмирал Небогатов».
О том, как японцы добивали остатки эскадры – рассказывать неинтересно. Во Владивосток пробились лишь три малых корабля: крейсерская яхта «Алмаз» и эсминцы «Грозный» и «Бравый». Да ещё крейсер «Изумруд», не подчинившись приказу Небогатова о сдаче, успешно оторвался от преследования, дошёл почти до Владивостока… но вблизи берега сел на мель и был взорван экипажем. Ещё несколько судов – среди них крейсер «Аврора» – укрылись в нейтральных портах. Эсминец «Бедовый», на борту которого находился раненый Рожественский, был настигнут японскими крейсерами невдалеке от острова Дажелет и по приказу капитана 1-го ранга Клапье-де-Колонга поднял белый флаг. Всего потоплено двадцать русских кораблей, захвачено в плен пять. Из восьми эскадренных броненосцев потоплено шесть и пленено два. Более пяти тысяч русских моряков погибли. Шесть тысяч сто шесть человек попали в плен. Среди них – адмиралы Рожественский и Небогатов. Потери японцев составили три миноносца и около семисот убитых и раненых моряков.
Из донесения адмирала Того, датированного 30(17) мая. «В этом бою силы противника были более или менее одинаковы с нашими, и русские офицеры и нижние чины – нужно отдать им справедливость – сражались с крайней энергией в интересах своей родины. Тот факт, что, несмотря на упорство боя со стороны противника, наш Соединённый флот мог одержать победу и добиться такого чудесного успеха, как описано выше, следует приписать славным добродетелям Его Величества нашего Императора, а не каким-либо человеческим силам. В особенности я не могу не вознести благодарности за незримое покровительство духов наших императорских предков, благодаря которому у нас получились такие незначительные потери… Даже наши офицеры и нижние чины… затрудняются выразить свои чувства по поводу этой удивительной победы».
Почему?!
Адмирал Того прав. Беспримерный, неслыханный разгром русского флота в Цусимском проливе не может быть исчерпывающе объяснён с точки зрения военной науки и здравого смысла. Хотя – пытались.
По горячим следам искали виновных, адмиралов и капитанов. После окончания войны многие из них были отданы под суд, в том числе и оба командующих. Рожественского суд оправдал: к моменту разгрома он был ранен, в тяжёлом состоянии, временами без сознания. Козлом отпущения сделали Небогатова: его приговорили к расстрелу; впрочем, государь заменил казнь десятью годами тюрьмы. Та же участь постигла нескольких капитанов и старших офицеров сдавшихся в плен кораблей. Но, говоря по совести, невозможно признать их виновными во всём происшедшем. Небогатов принял командование уже тогда, когда трагический исход сражения был ясен. И лишь через двадцать часов боя приказал поднять белый флаг. На суде он объяснял своё решение желанием спасти две тысячи молодых жизней от неминучей смерти. И с ним трудно не согласиться: надежды не только на победу, но и на спасение у нескольких окружённых противником кораблей не было никакой («Изумруд» смог вырваться и бежать только потому, что японцы сосредоточили свои силы на четырёх остальных, более крупных судах).
Искали причину катастрофы в неудачном построении, в медленном маневрировании кораблей. В превосходных качествах японских снарядов, по силе взрыва якобы значительно превосходящих русские. В слабости бронирования русских крейсеров. В отсутствии на русских броненосцах оптических прицелов. В быстроходности японских судов.
Каждая из этих причин что-нибудь да значит. И ни одна из них, ни все они вместе не могут объяснить масштабов катастрофы. На суде адмиралы и капитаны признавали, что превосходство сил японского флота ни по какому параметру не было подавляющим. Русские офицеры и матросы действовали умело, профессионально – это явствует из донесений Того. Конечно, отсутствие точной оптики снижало эффективность огня, заставляло тратить втрое больше снарядов. Но это обстоятельство было известно командованию с самого начала войны и не могло не учитываться заранее. То же и с быстроходностью, и с бронезащитой. Неужто Рожественский не знал об этих преимуществах противника – на втором году войны? Конечно, знал. И подчинённые ему командиры знали. И в Петербурге, когда снаряжали эскадру, знали. И не то что бы ничего не делали. Но всё, что делали, делали как-то не так. Медленно, с оглядками, нерешительно. То собирались строить суперсовременные корабли на своих верфях, то намеревались купить их за границей, но бесконечно оттягивали решение… В результате несколько эскадренных броненосцев аргентинской постройки накануне войны были буквально уведены японцами из-под носа у русских.
Надо сказать, в царской России выводов из неудач, даже самых тяжких, делать не умели – так же, как и в России нынешней. Через девять лет после цусимской катастрофы (срок достаточный для работы над ошибками) началась Мировая война. И тут же оказалось: русский флот слабее флота противника на всех направлениях. Ладно бы ещё немцы; но ведь и турки успели к 1914 году обзавестись мощными современными кораблями. А русские линкоры нового типа всё доделывались и достраивались. Приобретённый турками у немцев линкор «Гебен» в полтора раза превосходил русские корабли по скорости хода и вдвое по вооружённости. 16 октября 1914 года турецкие миноносцы нанесли удар по рейду Одессы и потопили канонерку «Донец». В тот же день «Гебен», пройдя сквозь минные заграждения, оказавшиеся незамкнутыми, обстрелял Севастополь, беспрепятственно ушёл и на обратном пути потопил минный заградитель «Прут». В этот и следующий дни атакам турецкого флота подверглись Феодосия, Новороссийск и Поти. У турок потерь не было, и не удивительно: русский Черноморский флот к войне был совершенно не готов; командующий адмирал Эбергард накануне вступления Турции в войну получал противоречивые указания: то избегать конфликтов с турецкими силами, дабы не провоцировать опасного соседа (как это похоже на 1941 год!), то «действовать по усмотрению». В результате весь первый год войны господство на Чёрном море принадлежало противнику. Что уж говорить о положении дел на Балтике, где немцы хозяйничали безраздельно!
С точки зрения формальной, причиной цусимской катастрофы стал один-единственный снаряд, тот самый, который разворотил штурманскую рубку «Князя Суворова». Тяжёлое ранение командующего мгновенно сделало всю огромную эскадру неуправляемой, а её корабли – мишенями для упражнения в стрельбе. Но так случилось потому, что командующий, не доверяя адмиралам и капитанам, сосредоточил всё управление в своих руках; недоверие и неуверенность по цепочке передавались от старших офицеров к младшим, от них – к старшинам и матросам. Но и сам командующий не доверял вышестоящему петербургскому начальству, боялся и презирал его. Воинское соединение или боевой корабль – частицы общества. Русское общество было разъединено, расколото взаимным враждебным недоверием. Группировки правящей элиты грызлись между собой, преследуя корыстные интересы. Снизу на эту недостойную возню смотрели со всё возрастающей ненавистью. Грянула война – и за всеобщий разлад было заплачено человеческими жизнями, десятками, сотнями тысяч жизней.
Через месяц после Цусимы матросы броненосца «Потёмкин», проводившего плановые учения в Чёрном море неподалёку от Одессы, захватили и перебили своих офицеров, после чего открыли артиллерийскую стрельбу по городу, целясь в купол здания театра. Потом броненосец обстрелял Феодосию и Николаев и ушёл к румынам. Ещё через двенадцать лет матросы Балтфлота расправились с адмиралами, сожгли в топках тех из офицеров, кто не успел бежать, и пошли на штурм Зимнего. Демоны Цусимы росли и множились, стремительно превращаясь в беспощадных, всеразрушающих духов русской революции.
Кровавое полотнище для царского манифеста
Из всех государственных праздников, отмечаемых в нашей стране (что в Советской, что в постсоветской), как-то особенно не повезло Дню Конституции. На моей памяти он три раза менял свою прописку в календаре: декабрь, октябрь, снова декабрь… И каждый год отмечаем, и никто не помнит, что и почему отмечаем. Послушные Советы или послушные граждане на референдуме проголосовали за написанную кем-то бумажку – что тут помнить-то? А ведь есть по-настоящему памятная дата рождения конституционализма в России. 17 октября 1905 года по старому, 30-го по новому стилю Николай II подписал «Манифест об усовершенствовании государственного порядка». В нём впервые были провозглашены гражданские свободы и основы парламентаризма, в нём же предначерталась судьба всех последующих наших конституций: едва родившись, делаться мёртвой буквой, неисполняемым благопожеланием. Невезучий праздник уместнее было бы называть «Днём поминовения Конституции».
Трижды «смута», дважды «свобода»
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжкою скорбью переполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная – Его печаль». Так начинается текст знаменитого манифеста. Прочувствованный тон вступления глохнет в велеречивом пустословии официозной речи: «Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты…» Длинный абзац заканчивается неприметной полуфразой: «…признали необходимым объединить деятельность Нашего правительства». Далее – три пункта, о том, чем же должно заняться это самое правительство:
«1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе… те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав… и
3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей».
И итог, как заклинание: «Призываем всех верных сынов России вспомнить долг перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты…»
Под этим текстом государь император поставил подпись 17 октября 1905 года в пять часов пополудни, в Петергофе, в его «собственной» части – Александрии, в кабинете любимой своей Приморской дачи. (Мемориальное здание не сохранилось: оно сгорело во время войны, а руины его взорваны по решению какого-то советского начальственного самодура.) Через два-три часа о свершившемся знали в Петербурге. Наутро о манифесте трубили телеграфные агентства всего мира. Его полный текст на крыльях газетных страниц разлетелся по России. Грамотные прочитали, неграмотные услышали. Восприняли по-разному.
Московская городская дума сочинила постановление, выдержанное в стиле до боли знакомом. Что, мол, «с чувством глубокого удовлетворения выслушав Манифест от 17 октября… усматривает в этом великом акте залог дальнейшего свободного развития… и приносит от имени отныне свободного населения Москвы благодарное чувство своему монарху». Прилагательное «свободный» употребляется два раза, ровно столько же, сколько в манифесте – существительное «свобода».
Радикальные либералы, объединившиеся в партию конституционалистов-демократов, манифесту возрадовались, но по указке своего вождя и учителя П. Н. Милюкова стали в прибавку к свободам требовать всеобщего равного избирательного права, да ещё и Учредительного собрания на закуску. «Это – новый этап борьбы» – провозгласил сам Милюков своим профессорским голосом – конечно же, на очередном политическом банкете.
Любопытное совпадение: в тот же день, 17 октября, вышел первый номер «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов», органа самопровозглашённого, взлелеянного боевой социал-демократией. Душа и острое перо ультрареволюционной газеты – внефракционный социал-демократ (то есть, ни большевик, ни меньшевик) Лев Троцкий. Он тут же выплеснул пламенный гнев по поводу манифеста на страницы «Известий»: «Дана свобода собраний, но собрания оцепляются войском. Дана свобода слова, но цензура осталась неприкосновенной… Дана неприкосновенность личности, но тюрьмы переполнены заключёнными… Дана конституция, но оставлено самодержавие. Всё дано – и не дано ничего».
Огромным массам народа – крестьянам, рабочим, мастеровым, дворникам, кухаркам, лавочникам, бродягам, солдатам и каторжникам – неинтересны были политические тонкости формулировок царского манифеста. В нём они вычитали трижды повторяемое слово «смута» и дважды – «свобода». И принялись действовать, исходя из этой арифметики.
По ступеням несчастий
Но мудрые головы во власти, «хорошо информированные» журналисты и те, кого сейчас именуют политологами, а тогда, за неимением термина, называли салонными болтунами, прочитав манифест, увидели в нём акт отречения самодержца в пользу одного-единственного вельможи. Того, о ком шёпотом говорили, как о «диктаторе», «сегуне», «великим визире» при бессильном императоре. Того, кому готовы были даже приписать хитроумную организацию революционного тайфуна – от январского Кровавого воскресенья до грандиозной Октябрьской стачки. Речь о Сергее Юльевиче Витте.
Путь Витте к этой вершине пролегал через грязь интриг, был забрызган кровью соратников и соперников. Несчастья России становились для него этапами карьеры.
Несчастье первое: 1881 год. Убили Александра II; в обществе – страх, в правительстве – неуверенность. Деятельные честолюбцы из тех, что помоложе, решают: пора гнать стариков, окружавших убитого царя, а его преемника брать под опеку. Создаётся «Священная дружина», организация полузаговорщицкая, полуохранительная, с сильным масонским душком. Один из её вождей – граф Илларион Воронцов-Дашков, в прошлом адъютант цесаревича Александра Александровича, нынешнего императора. Когда-то Илларион служил на Кавказе, увлекался спиритизмом. Вызывала мертвецов самая загадочная дама Тифлисского светского общества, будущая основоположница теософии, Елена Блаватская. В таинственных сеансах участвовал двоюродный брат медиумессы, молодой Сергей Витте. Так, благодаря духам усопших, худородный Витте свёл важное знакомство с влиятельным аристократом. В нужный момент граф Илларион вспомнил старое знакомство. Имя Витте числится среди участников «Священной дружины», оно становится известно в высших сферах. При поддержке могущественных покровителей Витте занимает важный пост в правлении Юго-Западных железных дорог в Петербурге.
Несчастье второе: крушение императорского поезда у станции Борки в 1888 году. Знаковое совпадение: катастрофа, в которой погибли десятки людей и лишь чудом уцелел император Александр III с семейством, случилась тоже 17 октября… Железнодорожное начальство, в том числе и Витте, под подозрением. Неожиданно государь высказывает пожелание не искать виновных; осуждены стрелочники, Витте же становится директором Департамента железных дорог (распространяются слухи, что якобы он предупреждал о возможной катастрофе, но его не послушали…). Через четыре года он возносится на пост министра финансов. (Воронцов-Дашков в это время – министр двора, «особа, приближённая к императору».)
Несчастье третье: Ходынская катастрофа, 1896 год. В окружении молодого царя Николая II идёт скрытая борьба между выдвиженцами предшествующего царствования (Воронцов-Дашков) и новичками, пользующимися покровительством великих князей Сергия и Владимира, братьев почившего Александра III. Вопрос – кто виноват в гибели тысяч людей на Ходынском поле? московские власти или министерство двора? – решается в контексте этой борьбы. Московский генерал-губернатор великий князь Сергий Александрович выигрывает: Воронцов-Дашков отправлен в почётную отставку. Витте сменяет его у руля партии. И успешно: вскоре три ключевых министерства в руках сторонников Витте («кадры решают всё»). Куропаткин – военное ведомство, Ламздорф – иностранные дела, Сипягин – дела внутренние. Все трое – посредственности, но последний из трёх – посредственность особо ценная: в его ведении самая мощная государственная структура империи. С таким друзьями Витте вот-вот, кажись, возьмёт верх над великокняжеской партией.
Не тут-то было. Весна 1902 года: Сипягин убит выстрелом эсера Балмашёва. Террорист проник в Мариинский дворец, представившись адъютантом великого князя Сергия. Если учесть, что с эсеровским подпольем тесно контактирует ставленник и подчинённый великого князя, начальник Московского охранного отделения Зубатов, то такое имянаречение не кажется случайным. Причастно ли к убийству Сипягина окружение московского генерал-губернатора – сказать трудно. Несомненно, оно извлекло выгоду из этой смерти. Преемником Сипягина назначен московский прокурор Плеве, правая рука Сергия Александровича. Партии Витте нанесён тяжкий удар.
Витте не смиряется. Он переманивает на свою сторону Зубатова, через него устанавливает связь с революционерами. При помощи Зубатова готовит уже известную нам хитроумную провокацию, долженствующую скомпрометировать Плеве в глазах царя. Всё рушится: Зубатов уволен в отставку без прошения и производства в чине, Витте с поста министра финансов отправлен на почётно-пустую должность председателя Комитета министров.
И тут разыгрывается несчастье четвёртое. Русско-японская война.
Кровь на мостовой
Фразу о «маленькой победоносной войне», желательной для исцеления России, приписывают Плеве. Но она могла быть произнесена любым его союзником или врагом в околоправительственной толпе. Здесь войны хотели все (кроме разве что самого царя). Война сулила чины, награды, лавры победителей, сказочные возможности для личного обогащения. О поражении от какой-то там Японии не думали. В бытность министром финансов Витте делал всё для активизации дальневосточной агрессии России; толкал правительство к оккупации Маньчжурии. И вот – он уволен. Через полгода – война. Знамя победоносного похода к Жёлтому морю перехватили враги из великокняжеской группировки: адмиралы Алексеев и Абаза, статс-секретарь Безобразов, тот же ненавистный Плеве. Они поделят между собой плоды победы. Этого стерпеть нельзя.
И вот – несчастье пятое: июль 1904 года, Петербург, Измайловский проспект. Невзрачный молодой человек в мундире железнодорожника бросает свёрток под колёса кареты министра внутренних дел. Взрыв. Убиты Плеве и его кучер. Бледный юноша арестован: он – Егор Сазонов, действовавший по заданию Боевой организации эсеров. О причастности Витте к этому убийству говорили и тогда, и после. Доказать, однако, ничего не удалось. Несомненно: нужные связи у него были и в среде фанатиков революциии, и в серо-гороховой шеренге секретных агентов Департамента полиции.
Гибель Плеве не пошла Витте на пользу: он рвался в министры, но царь избрал ни к одной партии непричастного князя Святополк-Мирского. Тот неосторожно обмолвился о единении власти и общества. Пошли толки о либеральных реформах, о созыве сословного представительства. Общество (то есть сытые либеральные интеллигенты) зашевелилось, забурлило. Тут-то и выяснилось, что на далёкой войне всё идёт не так, как ожидали. За поражением у Ляояна последовала неудача на Шахэ; за ней – капитуляция Порт-Артура. Всё мгновенно расшаталось. Пошли студенческие манифестации, оппозиционные банкеты, на которых пили за свободу, за конституцию, за права. Витте не сразу сообразил, что к чему: ещё в начале декабря на совещании по поводу реформ он, подстраиваясь под консервативный тон, пугал царя ужасами парламентаризма. Через неделю забастовал Путиловский завод, на улицы Петербурга вышли неведомые и страшные существа – рабочие. И грянуло несчастье шестое: 9 января, Кровавое воскресенье.
…Кровь смыли с мостовых, клочки январской петиции со словами «неприкосновенность личности», «свобода слова», «всеобщее избирательное право» подмели дворники, но политический горизонт затянуло красным туманом. Казалось, в дни репрессий великокняжеская партия победила окончательно: расстрел 9 января в Петербурге совершался именем начальника войск округа великого князя Владимира Александровича; после неизбежной отставки Мирского его кресло занял ставленник Сергия Александровича Булыгин; пост петербургского градоначальника достался другой креатуре Сергия, Трепову. Сам Сергий ушёл с поста московского генерал-губернатора, но этот уход все поняли как подготовку к прыжку: вот-вот будет установлена его диктатура, а то и регентство. 4 февраля грохнуло в московском Кремле: Сергия в клочки разорвало эсеровской бомбой. Снова убийство, совершённое в нужный момент.
Не успели очухаться после гибели «без пяти минут регента», как прилетели новости из Маньчжурии: Куропаткин, будто нарочно, проиграл Мукденское сражение. Обезглавленной великокняжеской партии, как стоящей у власти, предстояло теперь отвечать за неудачи. Пробил час Витте.
В его руках три заговорённых карты. Война с Японией проиграна, и только он, с его влиянием в среде мировых финансовых воротил, может спасти Россию от позора и катастрофы. Это – раз. Два: ему верят либералы, у него связи с революционерами; он тайно сдерживает одних и направляет других; только ему под силу остановить падение России в бездну революции. Но главная карта: только он теперь, после гибели Плеве и Сергия, может объединить вокруг себя высшую властную бюрократию империи. Ту самую, «жадною толпой стоящую у трона», без содействия коей самодержец и трёх дней не удержит в руке державу. И только он, Витте, предотвратит сановный заговор, сохранит венец на главе царя, да и саму монаршую голову. Конечно, самодержцу придётся поделиться властью со спасителем Отечества.
Заговор олигархов
Главная беда Российской империи, главный парадокс её системы власти заключался в том, что самодержец, «хозяин земли русской», ответственный перед Богом и людьми за всё, в ней происходящее, кругом зависел от своего сановного аристократическо-бюрократического окружения. Это новое боярство, соблюдая этикет, низко кланялось императору, использовало в обращении к нему униженные формулы, но при этом использовало махину государства для достижения корыстных целей, личных, групповых или кастовых. Государь мог бороться с амбициозным своекорыстием сановной знати одним способом: натравливать одну группировку на другую и вырывать уступки то у одной, то у другой в качестве платы за поддержку. Но если против государя объединялись все властные кланы – он становился бессилен, как последний бесправный подданный его империи.
В эпоху капитализма борьба за власть стала борьбой за контроль над гигантскими финансовыми потоками. Сановная знать не могла не задуматься: а нужен ли ей царь во плоти, когда у неё есть царь лёгкий и почти бесплотный – капитал. Большинство склонялось к тому, что всё-таки нужен – как громоотвод, как прикрытие от ненависти нещадно эксплуатируемых масс. Это значит, что его надо лишить реальной власти, но оставить на престоле, и править от его имени. Такой политический строй называется «конституционная монархия».
В 1905 году высшая бюрократия Российской империи пришла к единому мнению: власть царя пора ограничить конституцией. Созвать так называемое «народное представительство». Сановники, или, по-нашему говоря, олигархи, были уверены: формировать «Земский собор» (так, с лёгкой руки историка профессора Ключевского, стали называть проектируемое собрание) будут, конечно, они. И управлять им тоже. Удобно: правит каста олигархов, а отвечают за всё царь да «народные избранники». Движение масс, развернувшееся в стране после Кровавого воскресенья, олигархи самоуверенно приписали своим собственным интригам, и были уверены: дай Бог совладать с упрямым царём, а уж с несмысленным народом, с быдлом, они управятся.
Последнее, чего не хватало олигархам – единого лидера. Сама судьба вытолкнула Витте на сцену, играть эту роль. К лету 1905 года все уверовали: Сергей Юльевич – наш Бисмарк, а может быть, и Кромвель. Царь упорствовал, но его сломила свершившаяся в мае Цусимская катастрофа. Похоже, и он поверил в незаменимость Витте, в его спасительную звезду. Царь послушно вычёркивает из списков носителей власти всех врагов Витте. Уволены или удалены: Алексеев, Абаза, Безобразов, морской министр Авелан, великий князь Владимир. Уходит в тень Булыгин. Даже твердокаменный Трепов (вскоре, при подавлении октябрьских волнений в Петербурге, он прославится строчкой приказа: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть!») потихоньку дрейфует в сторону будущего сегуна, ищет с ним контактов.
Далее – явный триумф Витте: намечены мирные переговоры с Японией, и вести их поручено ему. Никто, кроме Витте, не выведет страну из бездны поражения. И вот – сентябрь, переговоры завершены, мир заключён, пол-Сахалина отдано японцам, триумфатор, только что пожалованный графским титулом, возвращается в Россию. К его приезду всё готово: указ о выборах «народного представительства» на основе сословно-цензового права (это – управляемости ради) подписан месяц назад. Единственное, в чём самодержец сохранил самостоятельность, так это в выборе названия: не Земский собор, а Государственная Дума. В Петербурге под председательством сановника Сольского, давно перебежавшего в лагерь Витте, заседает комиссия по подготовке «реформы правительства». Суть реформы: объединить высших сановников под главенством премьер-министра. Кто им будет – вопрос риторический. Проект комиссии Сольского услужливо предоставляет будущему премьеру широкие полномочия, отнимая их у царя. Царю даже запрещено принимать от министров доклады, ежели они не утверждены премьером. Предполагается, что Дума соберётся через пару месяцев и послушно утвердит все правительственные решения.
Растоптанная конституция
Увлечённые азартной игрой сановники даже не заметили, что вокруг происходит странное «не то». 6 октября забастовали машинисты Московско-Казанской железной дороги. В ночь на 7 октября Центральное бюро только что образованного Всероссийского железнодорожного союза разослало по всем дорогам телеграммы с призывом к забастовке. В течение трёх дней, как чудище из глубин морских, выросла Всероссийская стачка. По всей стране остановились заводы, прекратилось движение поездов, перестали выходить газеты, забастовали даже банки. Откуда ни возьмись появились красные флаги, стали расти рабочие советы. Толпы хмурых и возбуждённых людей хлынули на улицы городов. Всё и всюду вдруг затопила чёрно-красная никем не управляемая стихия.
Сановники не могли поверить, что это «просто так». И в этих событиях видели руку Витте («Железнодорожники бастуют? Так ведь Витте шеф железных дорог»). Кинулись умолять Николая как можно скорее подписать все указы, которые продиктует Спаситель Отечества. Великий князь Николай Николаевич, будущий главнокомандующий русской армией в Мировой войне, отчаянный мистик и спирит, выхватив револьвер, грозился застрелиться на глазах государя, ежели тот немедленно не назначит Витте премьером. Императрица-мать через доверенных лиц передавала из Дании, что вернётся в Россию только при премьере Витте.
Делать было нечего. Николай вызвал Витте к себе в Петергоф. Несколько дней составляли проект рескрипта. В нём главное – создание кабинета министров во главе с премьером, а на сладкое – свобода слова, собраний и печати (у Витте отличные отношения с газетами и немало платных журналистов работают на него). Но ситуация в стране и в столице становится какой-то совсем уж непонятной. 13 октября видный сановник Горемыкин отправился по вызову царя в Петергоф – и едва добрался. Железная дорога бастовала, пришлось ехать по тракту мимо Путиловского завода. Толпа рабочих пыталась остановить карету, забросала её камнями. Горемыкин прибыл в Петергоф в смертельном испуге, что-то бессвязно лепеча про необходимость срочно послать шестьдесят тысяч войска на расстрел питерских манифестантов. Сам Витте вынужден был путешествовать в Петергоф тайно, под покровом темноты садился на пароходик и плыл, страдая от морской болезни, притом ещё, на всякий случай, с погашенными огнями.
Масштаб и природа происходящего оставались недоступны сановным умам. Бунтуют? Погрозим кнутом, да задобрим пряником уступок. В проект рескрипта наскоро вписали пару неопределённых фраз о расширении избирательных прав и функций Думы, даже не подумав о том, что рабочим, крестьянам, солдатам, кухаркам и каторжникам дела нет до этих функций и прав. С этой бумагой делегация сановников предстала перед государем 17 октября. Их торжество не смогла омрачить неожиданная хитрость императора: в последний момент он настоял на том, что проект будет оформлен в виде манифеста. Разница в способе распространения: рескрипт (приказ сановнику) печатают лишь в официальных газетах, манифест (обращение к нации) в виде листовки расклеивают повсюду. После опубликования манифеста народ будет знать, кто теперь за всё отвечает.
Манифест с трудом напечатали (бастовали все типографии, кроме одной), расклеили. На следующий день Витте был назначен премьер-министром. В тот же день в Петербурге произошли столкновения и драки между демонстрантами, шедшими под красными и под трёхцветными флагами. В Москве такие же столкновения дополнялись кровавыми жертвами. Среди прочих был убит социал-демократ Бауман. В Одессе манифестанты рвали и топтали царские портреты. В Минске на улицах митинговали рабочие; войска открыли по демонстрантам огонь. 19 октября в Нижнем, Балашове, Нежине, той же Одессе толпы под трёхцветными знамёнами пошли бить «жидов и студентов». 20 октября в Томске завязалась перестрелка между «красными» и «трёхцветными»; «красных» загнали в здание театра и подожгли; погибло около двухсот человек. В тот же день в Москве хоронили Баумана; сто тысяч человек шли под красными флагами и пели «Марсельезу». Похороны переросли в настоящее сражение между рабочими и казаками; убиты и ранены сотни. 25 октября в Кронштадте матросы вырвались из казарм и с кораблей, стали громить полицейские участки, магазины, убивать офицеров и пьянствовать. 30 октября всеобщий солдатский бунт охватил Владивосток; там грабили, пили, били китайцев и корейцев. В ноябре взбунтовался Севастополь; на крейсере «Очаков» отставной лейтенант Пётр Шмидт поднял красный флаг… И так далее. Дважды свобода, трижды смута.
Граф Витте, премьер, сёгун, визирь, диктатор, в ответ на всё это опубликовал воззвание: «Братцы рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жён и детей. Не слушайте дурных советов… Дайте время… Послушайте человека, к вам расположенного». Это не пародия, это подлинный текст. Петербургский Совет ответил: «Пролетарии ни в каком родстве с графом Витте не состоят… Совет рабочих депутатов не нуждается в расположении царских временщиков». Революция, великая и страшная, шла по России широким маршем, отбросив в сторону Витте, топча бумажные обрывки конституционного манифеста.
Недальний полёт первой Думы
В 1906 году, 27 апреля по старому стилю, 10 мая по новому, в России появилась Государственная Дума. Политический идол парламентаризма, который К. П. Победоносцев называл «великой ложью нашего времени», был воздвигнут против воли царя и при пассивном равнодушии масс усилиями кучки интриганов, мечтателей и честолюбцев. Рухнувший в 1917 году, идол сей был восстановлен семьдесят шесть лет спустя, и высится над страной до сих пор. Та Дума и те думцы, конечно, мало похожи на нынешних. В тех было побольше совестливости и принципиальности, поменьше цинизма и корыстолюбия. Те не продавались – по крайней мере, так откровенно, как эти. Не разъезжали на машинах с мигалками, не обзаводились привилегиями и квартирами за казённый счёт. Но тех и этих роднит самовлюблённая уверенность: уж они-то знают, куда вести Россию. Между тем Россия, то ли по доверчивости, то ли с похмелья голосовавшая за них, мучается вопросом: а на кой, собственно, нужны народные избранники? Наше кривое законодательство и творимое под его прикрытием беззаконие не дают сегодня ответа на этот вопрос. Столетие назад амбициозное доктринёрство и безответственное пустозвонство быстро привело первую российскую Думу к краху.
По обе стороны ковровой дорожки
Солнечные потоки, дробясь и ломаясь между стёклами огромных окон, вливаются в пространство двусветного зала. Всё блестит и играет в их лучах: паркет, люстры, золотое шитьё придворных мундиров, бархатные ступени престола, императорский вензель на пурпурной спинке трона. Толпа сдержанно шумит в зале. Гул стихает; из невидимой дали, как будто с небес, льются звуки гимна. «Боже, Царя храни…» И двери отворяются.
«В зал вошли скороходы в старинных одеяниях; за ними высшие сановники несли государственные регалии, привезённые из Москвы: государственное знамя, государственный меч, скипетр, державу и бриллиантами сверкающую царскую корону. Затем шли: государь в мундире Преображенского полка; обе государыни в белых сарафанах и жемчужных кокошниках; великие князья и княгини; придворные чины; шествие замыкали фрейлины в русских костюмах и военная свита государя». Так описывает событие историк С. С. Ольденбург. Место действия – Георгиевский зал Зимнего дворца. Время – утро 27 апреля (10 мая) 1906 года. Торжественная церемония открытия первой Государственной Думы.
Совершили молебствие. Государь поднялся по бархатным ступеням, воссел на трон. Министр двора с глубоким поклоном подал ему лист бумаги. Николай II поднялся и, стоя у трона, стал неторопливо и раздельно, с выражением, читать:
«Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе Отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине и горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять непоколебимыми установления, мною дарованные, с твёрдой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству… Господь да благословит труды, предстоящие мне в единении с Государственным Советом и Государственной Думой, и да знаменуется день сей отныне днём обновления нравственного облика Земли Русской, днём возрождения лучших её сил. Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа. Бог в помощь мне и вам».
Всё время, пока бархатистый царственный баритон произносил эти слова, толпа в зале стояла не шелохнувшись. Длинная ковровая дорожка рассекала толпу на две части. По одну сторону – блеск и пестрота мундиров, эполет, орденов, сияние бриллиантов и колыхание перьев на дамских уборах. По другую – монотонность тёмных фраков, сюртуков, пиджаков и даже косовороток. Как праведники и грешники одесную и ошуюю Царя Небесного, так тут, по правую руку царя земного – его придворно-вельможное воинство, блистательное, величественное, своекорыстное и вороватое; по левую – «выборные от народа», адвокаты, профессора, земские гласные, журналисты, священники, крестьяне. Между теми и другими – пропасть. Но в тот момент, похоже, их одолевали близкие чувства.
Великий князь Константин Константинович, двоюродный дядя государя, сентиментальный поэт, не мог сдержать чувств: «Чем дольше он читал, тем сильнее овладевало мной волнение; слёзы лились из глаз. Слова речи были так хороши, так правдивы…» – записал он вечером в дневнике. Депутату Родичеву речь тоже понравилась. «Хорошо написанная, она была ещё лучше произнесена, с правильными ударениями, с полным пониманием каждой фразы». Похвалил и депутат Муромцев: «Государь – настоящий оратор; у него отлично поставлен голос».
Голос умолк, государь поднял глаза от бумаги. После трёхсекундного молчания загремело общее «ура!». Миг единения царя и народа. Так начиналась история парламентаризма на одной шестой части суши.
«Лучшие люди» – кто вы?
27 апреля утром никто толком не знал, каким окажется политический расклад думского пасьянса. Состав народного представительства формировался путём хитроумного сложения, вычитания, деления и умножения. Дума была учреждена манифестом 6 августа 1905 года, и тогда же издан сословно-цензовый избирательный закон. Грянули революционные события, под давлением оных явился манифест 17 октября. Права Думы обещано было расширить, и при этом, «не останавливая предназначенных выборов… привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав». Расплывчатая формулировка, плод взаимодействия революционной стихии, либерального словоблудия, политических амбиций премьера Витте и глубокой ненависти, которую Николай II питал к любым проявлениям парламентаризма.
Правительство графа Витте с обыкновенной для любого Российского правительства неторопливостью подготовило проект нового избирательного закона лишь через семь недель. 11 декабря, когда в Москве боевые дружины рабочего Совета из подворотен, окон и с чердаков палили в солдат и казаков, закон был подписан государем. Переброшенный из Питера Семёновский полк штурмом взял Пресню; генерал Меллер-Закомельский, предтеча атаманов Гражданской войны, с отрядом в двести головорезов двинулся по Сибирской железной дороге, на пути разоружая и расстреливая Советы… На этом фоне 20 февраля появился ещё один манифест. За традиционными фразами о сохранении самодержавия скрывался компромисс: всесословное представительство, состоящее из выборной Думы и полу-выборного, полуназначенного Государственного Совета. Любой закон отныне, чтобы вступить в силу, должен был получить одобрение в Думе и в Государственном Совете, а затем быть подписан государем. Дума, таким образом, наделялась правами законодательной запруды: она могла торпедировать чужую законодательную инициативу, но не имела возможности реализовать собственную.
Межеумочность русской демократии проявилась в избирательном законе, написанном так, как робкий купальщик входит в холодную воду: ножкой попробует – отдёрнет, шаг шагнёт – отпрыгнет. Возрастной ценз – двадцать пять лет. Избирательных прав не получили: женщины (курица – не птица?), военнослужащие, полицейские, чиновники ряда государственных учреждений (поди-ка, послужи!), учащиеся вне зависимости от возраста (нос не дорос!), осуждённые, подследственные и почему-то кочевники. Для некоторых разрядов избирателей был установлен имущественный ценз (доход или недвижимость) и ценз оседлости (полгода – год). Избиратели разделялись на четыре категории: землевладельцы, крестьяне и казаки, городские избиратели, рабочие. Каждая из категорий подразделялась: крупные и мелкие землевладельцы, домовладельцы, плательщики промыслового налога, квартиронаниматели и т. д. Выборы были непрямыми, представительство разным. К примеру, от тысячи рабочих избирался один уполномоченный, затем уполномоченные губернии собирались на съезд, и уже тут выбирали положенное количество депутатов. Наиболее значительным по отношению к их численности было представительство землевладельцев (в европейской России – 32 % выборщиков), вообще же, больше всего выборщиков – крестьян (42 %).
Выборы на основе такого замысловатого закона тянулись полтора месяца, март – апрель 1906 года. И то не закончились: в Польше, на Кавказе и в Средней Азии, где действовали особые правила, процесс продолжался. 27 апреля на торжественное открытие Думы прибыло около 450 депутатов, а к моменту роспуска, к 8 июля, их числилось 499. Партийно-фракционный состав определился не сразу. Рьяные революционеры, эсеры и эсдеки, бойкотировали выборы. В последний момент, в апреле 1906 года, IV съезд РСДРП отменил бойкот, и эсдеки ринулись агитировать выборщиков. Так в Думе оказалось с десяток социал-демократов. Партии благонамеренных, «Союзу 17 октября», тоже не повезло: всего 13 депутатов. Объединившись с себе подобными, они составили группу «мирного обновления» – 26 человек, выросшую потом до 60. Уж кому сопутствовал успех, так это интеллигентской партии конституционалистов-демократов. Когда депутаты расселись в зале заседаний, то насчитали там 161 «кадета». Со временем их количество дошло до 190. Около сотни беспартийных депутатов, по большей части крестьянских, объявили себя «левее кадетов» и образовали «Трудовую фракцию».
В общем, Дума оказалась оппозиционной, настроенной на драку с властью. Либеральные доктринёры-кадеты и полусоциалисты-трудовики, образовав блок, составили в ней абсолютное большинство. И, со свойственной российским либералам нетерпимостью, принялись устанавливать в Думе свою диктатуру. Впрочем, 27 апреля утром об этом ещё никто не знал.
В Таврический дворец мимо «Крестов»
Отгремело верноподданническое «Ура!» под сводами Георгиевского зала, и четыре с половиной сотни депутатов вышли на залитую апрельским солнцем Дворцовую набережную. Почему-то было решено доставить «выборных от народа» к месту работы в Таврический дворец пароходом. На набережных и на мостах, хоть день был будний, четверг, собрались немалые толпы: мещане, интеллигенты, чиновники, студенты, рабочие. Кричали что-то. Под шум пароходной машины депутатам слышалось: «А-мни-сти-я! А-мни-сти-я!» Миновали Литейный мост, впереди слева замаячила кирпичная громада недавно построенной образцовой петербургской тюрьмы. То ли рябило в глазах, то ли воистину из зарешеченных окон тюремных камер «Крестов» депутатам махали белыми платками. Ох уж этот белый цвет, символ непорочности и милосердия! Наверное, народные избранники, воспитанные на сюжетах Руссо и Толстого, Герцена и Войнич, и в самом деле верили, что в царском узилище томятся невинные жертвы злых законов и благородные борцы за свободу человечества. Мелькание белых тряпок на фоне мрачных тюремных стен они восприняли как благословение свыше. Начало работы первого российского парламента сопровождалось двойной санкцией: верховной власти с высот трона и преступного элемента из глубин уголовной тюрьмы.
От пристани к Таврическому дворцу шли сквозь строй воодушевлённого люда, тоже кричавшего что-то бодрое и, конечно, антиправительственное. Вошли во дворец. К этому времени депутатами уже вполне овладела эйфория, характерная для дилетантов, впервые почувствовавших себя властью. Поэтому молебен, с коего началась работа Думы, прошёл скомкано: не молитвенное было настроение. Под пение церковного хора добрая половина депутатов, суетясь и размахивая руками, перебегала из угла в угол, нервно рассуждая о всеобщей амнистии. Молебен закончился, заняли места в зале заседаний. Тут выяснилось, что единственной организованной силой в Думе являются кадеты. Их ставленник, профессор римского права С. А. Муромцев, практически единогласно был избран председателем.
Любопытная деталь: на выборах в Думу провалились лидеры партий. Не прошёл либеральный диктатор П. Н. Милюков, вождь кадетов; забаллотированы были создатель «Союза 17 октября» Д. Н. Шипов и его соратник-соперник А. И. Гучков. Руководство Думы пришлось выбирать из фигур второстепенных. На все руководящие посты кадеты провели своих людей.
Право на убийство
Президиум ещё не был сформирован, а Муромцев, едва поднявшись на председательское место, тут же предоставил слово творцу кадетских представлений о свободе И. И. Петрункевичу. Взойдя на трибуну и открыв рот, Петрункевич, таким образом, вписал себя в историю как первый в России парламентский оратор. Речь его была вполне ожидаема и вполне политически скандальна. «Долг чести, долг совести требует, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод… Свободная Россия требует освобождения всех, кто пострадал за свободу».
Сказано красиво, но вдумаемся – о чём? Кто, собственно, из находящихся в тюрьмах, на каторге или в ссылке страдал за свободу? Не кадеты, не октябристы, не иные мирные вольнодумцы. А вот кто: участники вооружённых восстаний; матросы, бунтовавшие в Севастополе, пьянствовавшие и убивавшие офицеров в Кронштадте; эсеры-бомбисты, отправлявшие на тот свет одного сановника за другим; максималисты-экспроприаторы, грабившие банки якобы ради помощи делу революции. Из них кое-кто, действительно, томился в узилищах. За два месяца до думских выборов девушка в платье гимназистки, Маруся Спиридонова, пятью выстрелами в живот смертельно ранила тамбовского чиновника Луженовского; за это была отправлена на каторгу. Тем же путём шли Анастасия Биценко, застрелившая генерала В. В. Сахарова, Пётр Карпович, убивший министра народного просвещения Н. П. Боголепова, Егор Сазонов, взорвавший министра внутренних дел В. К. Плеве, и иные, готовые беззаветно служить идейному человекоубийству.
Жертвами «борцов за свободу» еженедельно, ежедневно, до открытия Думы и после, становились генералы, прокуроры, губернаторы, полицейские приставы, обыкновенные городовые, случайные прохожие. На пятый день работы Думы был убит начальник Петербургского порта адмирал Кузьмич. Ещё через две недели в Севастополе грохнула бомба, адресованная генералу Неплюеву; он уцелел, зато погибло восемь человек, оказавшихся рядом, из них двое детей. Всех арестованных и осуждённых за подобные деяния Петрункевич требовал немедленно освободить. А также и обыкновенных уголовников, совершавших грабежи и убийства. Они ведь тоже страдают за свободу. Что есть преступление, как не крайнее проявление социальной свободы?
Русская история – какое-то постоянное «дежавю». На нашей памяти, в 1989 году, тоже весной, на первом заседании Съезда народных депутатов разыгралась похожая сцена. На трибуну выбежал грузинский депутат-демократ, произнёс пламенную речь о жертвах борьбы за свободу, убитых солдатами при наведении порядка в Тбилиси… Помнится, по его призыву зал почтил вставанием память героев-борцов… Очень всё было трогательно. Не раз вспоминал я потом эту сцену – и когда мой коллега-осетин, огромный, сильный мужчина, с искажённым лицом и округлившимися глазами кричал мне: «Что они там делают, что делают? Давай поедем с тобой в Цхинвали, объясним им, что мы вместе жили, грузины, осетины, русские, что нельзя убивать соседа только потому что он другой нации». И когда сам был в Сухуми накануне грузино-абхазской войны и видел, как назревает этот кровавый нарыв. И когда узнал о гибели своего доброго знакомого, полковника Советской, ах извините, уже Российской армии, убитого во времена Гамсахурдия на улице Тбилиси… Конечно, не депутаты Межрегиональной группы развязывали кровопролитие на руинах Советского Союза. Но идея – разрушить ненавистный режим любой ценой, даже ценой «малых» войн и межнациональных конфликтов – это была их идея. Так же, по убеждению многих депутатов первой Думы, любые средства хороши были для ниспровержения самодержавия. Даже убийства ни в чём не повинных детей. Такие вот общечеловеческие ценности: права и свободы для одних за счёт жизней других.
Словом, Дума подавляющим большинством голосов решила ходатайствовать перед государем о всеобщей амнистии. Это так только называлось – ходатайствовать. На самом деле – требовать.
Семьдесят три ступени в никуда
Требование облекли в форму ответа на тронную речь. Адрес на имя государя был составлен оперативно, и принят 4 мая почти единогласно. Даже крайне-правые, несколько человек, не решились голосовать против, предпочтя покинуть зал. Воздержались, как ни странно, социал-демократы: не хотели «подачек от буржуазии». В Адресе говорилось об «ответственном министерстве», то есть о правительстве думского большинства, об упразднении Государственного совета («недемократичного» по мнению думцев), о решении аграрного вопроса путём конфискации помещичьих земель… Каждый из этих пунктов действовал на правительство, как красная тряпка на быка, любого хватило бы, чтобы завести отношения представительной и исполнительной власти в безнадёжный тупик. Но центральным было требование амнистии.
Следом за ним было выдвинуто требование отмены смертной казни даже по приговорам военных судов. Тщетно министр юстиции Щегловитов и военный прокурор Павлов приводили цифры: в марте революционерами убито пятьдесят представителей власти, в апреле – пятьдесят шесть, в мае – сто двадцать два… Их просто не слушали; Павлову и говорить-то не дали, прогнали с трибуны криками «Убийца! Палач!». Дума открыто и радостно шла на конфликт с правительством и с царём. Эйфория, закружившая головы депутатам в тот солнечный весенний день 27 апреля, надолго поселилась под куполом большого зала Таврического дворца. Каждая новая смелая речь, каждый выпад против власти, каждое заведомо неприемлемое для правительства предложение взвинчивали экзальтированных «избранников народа», предводительствуемых кадетами. Эти последние почему-то не сомневались: ещё один, последний и решительный натиск – и стена рухнет, правительственный лагерь в ужасе разбежится, царская власть исчезнет как сон, и настанет в России светлый рай либеральных ценностей, гражданское общество, правовое государство, управляемое, конечно же, ими, кадетами. В президенты, или, на худой конец, в премьеры при бессильном «конституционном» монархе намечали профессора Муромцева, а ещё лучше – профессора Милюкова.
И вновь до боли знакомая картина, не правда ли? Этот наивный гражданственно-правовой романтизм, эта слепая вера в святую истинность западноевропейских буржуазных ценностей. Эта уверенность в своём праве говорить от имени многомиллионного народа и в знании простых рецептов, способных привести народ к счастью. Эта вообще самоуверенность людей, никогда ничем не управлявших, профессоров, адвокатов, средней руки литераторов, готовых делить между собой министерские портфели. Как похоже на раннего Собчака, раннего Гайдара, на многих других – забытых или убитых – деятелей времён перестройки и распада СССР… С другой стороны – как не вспомнить и 1993 год, лихую эскалацию противостояния законодательной и исполнительной властей. «Есть упоение в бою». Заканчивалось всё всегда одинаково: крахом одних, кровью других, беззаконным захватом власти третьими.
А что правительство? Оно вело себя до странности пассивно, как будто репетировало свой будущий позорный крах в феврале Семнадцатого. Премьер-министр И. Л. Горемыкин, сменивший обанкротившегося Витте, мирно дремал на заседаниях Думы. На заседаниях Совета министров, впрочем, он тоже порой дремал. Министрам, по наивности или по долгу службы пытавшимся выступать с думской трибуны, депутаты кричали «В отставку!» и проваливали их предложения. В свою очередь, министры вместе с покладистым Государственным советом отвергали думские проекты. За семьдесят три дня существования первой Думы один-единственный законопроект прошёл все инстанции и «восприял силу закона», а именно: правительство предложило выделить пятьдесят миллионов рублей на оказание помощи голодающим; Дума, в пику правительству, сократила сумму до пятнадцати миллионов; Государственный совет одобрил, а государь подписал.
Единения «лучших людей от народа» с царём и его чиновниками не получилось. Вечером 8 июля государь в своём петергофском Нижнем дворце долго совещался с послушным Горемыкиным, с петербургским градоначальником фон-дер-Лауницем и с министром внутренних дел Столыпиным. Последнего даже пригласил отобедать вдвоём на балконе, с видом на залив. Итог совещаний был обнародован утром 9-го, в воскресенье: указ о роспуске Думы, манифест о сохранении в неизменности принципов всесословного представительства, указ об отставке Горемыкина и о назначении Столыпина главой правительства. Таврический дворец по приказу градоначальника был оцеплен полицией. Роспуск первой Думы обошёлся без серьёзных эксцессов.
Полутеневой Лопухин
«Дело дрянь. Всё наделало наше посещение приятеля. Он сказал всё, что я ему говорил, и что Вы ему угрожали… Рассказал про три письма, которые он дал, как оказывается, кому-то другому (из радикалов) отправлять и читал их свидетелям-радикалам до отправки…» В сбивчивых строчках бешеный пульс смертельно напуганного человека. Писал их гений террора и провокации Азеф начальнику Петербургского охранного отделения Герасимову. Письмо целиком было оглашено на судебном заседании Особого присутствия Сената в апреле 1909 года. Как и это, адресованное Азефом отставному действительному статскому советнику Лопухину: «…Вы примете во внимание мою судьбу, и главное, судьбу моей семьи. Они ничего не знают, ничего не имеют. От них отвернутся, все они будут убиты со мною, если не физически, то нравственно. Прошу Вас, поймите это положение и сжальтесь над ним…» Продал душу дьяволу, и вдруг понял: сейчас за ним придут! Впрочем, в клубке провокаций и предательств, свившемся вокруг Азефа, все души проданы. Душа Лопухина тоже. Кто он – этот «приятель» и предатель Азефа, респектабельный барин, полутеневой Лопухин?
По чёрным и парадным лестницам
Когда я был маленький, со мной гуляли по Таврической улице. Я запомнил дом, светленький такой, с фризом из лепных венков и красивыми решётками балкончиков. Рассказывала мне мать: после войны тут жила её школьная подруга, француженка настоящая, из Парижа, Эльян, по-свойски Эльянка. Собственно, она наполовину была француженка: отец её явился во Францию с русским корпусом в 1915 году. В России грянула революция, на родину не попасть. Женился на парижанке, вступил во французскую компартию и в конце тридцатых приехал в Советскую Россию с семьёй, строить светлое будущее. Тут его, понятное дело, репрессировали. Потом – война, блокада. Маман с детьми отправили в эвакуацию, то ли в Сибирь, то ли на север. Вернувшись, Эльянка поражала питерских одноклассниц освоенным на «северах» искусством сморкаться при помощи пальцев без посредства платка: такое было неведомо в те времена в культурном Ленинграде. Потом маман, стопроцентную француженку, выслали куда-то как «чуждый элемент». Да и сама Эльянка уехала, следы её затерялись. В этом доме она жила, в коммуналке, на третьем этаже, подниматься по чёрной лестнице.
Сейчас уже не вспомнить, по какой именно лестнице. Как знать, возможно, с тёмной лестничной площадки отворялась дверь на кухню большой барской квартиры, которую занимал в этом доме в начале ушедшего века бывший директор Департамента полиции Алексей Александрович Лопухин. Его карьера оборвалась в 1906 году: был уволен с государственной службы без пенсиона и переехал с казённой квартиры сюда, на Таврическую, дом 7. Он, конечно, ходил по парадным ступеням, и о существовании чёрного хода мог даже не догадываться – что ему за дело до мира кухарок и дворников. Но пришлось-таки задуматься о превратностях судьбы: отпрыск рода, состоящего в свойстве с царской династией, был приговорён к пяти годам ссылки в места не столь отдалённые, примерно в те же, куда потом отправилось Эльянкино семейство.
Из стенограммы суда Особого присутствия Сената, 28 апреля 1909 года:
«Первоприсутствующий сенатор Варварин: Объявляю заседание Особого присутствия Правительствующего Сената открытым…(Обращается к подсудимому.) Ваше имя, отчество, фамилия?
Лопухин: Алексей Александрович Лопухин.
Первоприсутствующий: Вы отставной действительный статский советник? Вам 45 лет от роду?
Л.: 45 лет.
П.: Вы проживаете в Петербурге?
Л.: Я в Петербурге с 1900 года.
П.: Вы уроженец Тамбовской губернии?
Л.: Московской…»
Затем оглашается обвинительный акт. После сего:
«Первоприсутствующий: Признаёте себя виновным?
Лопухин: Нет, не признаю».
Обвинялся он в государственном преступлении: располагая сведениями о секретном агенте Департамента полиции Евно Фишелевиче Азефе, передал эти сведения представителям партии социалистов-революционеров. «Сдал» агента врагам режима. Об этом деле много было разговоров – тогда и потом. Но всё в связи с Азефом, провокацией, революцией. Сам Лопухин так и остался малоразличимой фигурой в зловещей тени Азефа. В этом его личная судьба совпала с судьбой рода.
Невезучие Лопухины
Роду Лопухиных странным образом не везло. Каждый их взлёт обрывался крахом на ближних подступах к вершине.
Они не были ни особо знатными, ни особо древними, хотя и верили легенде о своём происхождении от касожского (черкесского) князя Редеди, упомянутого в «Слове о полку Игореве». На верхних ступенях государственной иерархии Лопухины впервые оказываются при царе Алексее Михайловиче: двое из них – думные дьяки, один – думный дворянин. В переводе на язык «Табели о рангах» это примерно соответствует чину действительного статского советника, до которого «дорос» их потомок Алексей Александрович. В конце XVII века удача как будто бы осенила Лопухиных своим крылом: царица Наталья выбрала в жёны своему сыну царю Петру дочь думного дворянина Фёдора Лопухина, Евдокию. Царёв тесть был произведён в бояре, а Евдокия родила царю наследника Алексея. Но взлёт обернулся падением: Петр невзлюбил жену, отлучил её от себя, а впоследствии опалился и на сына. Трагическая развязка семейной драмы Петра, Евдокии и Алексея хорошо известна. Царевич был осуждён на смерть, а Лопухины впали в немилость. После смерти Петра выглянуло солнце счастья: императрица Екатерина I незадолго до смерти назначила своим наследником малолетнего внука Петра Великого и Евдокии, Петра Алексеевича. При новом царе Лопухины в фаворе, но… Процарствовав два с половиной года, Пётр II внезапно умер. Лопухины снова в тени.
Новый подъём – эпоха Александра I. Пётр Васильевич Лопухин – министр юстиции, председатель Государственного совета, светлейший князь. Однако княжеская ветвь рода пресеклась на его сыне, а остальные Лопухины так высоко не залетали. Алексею Александровичу, явившемуся на свет в 1864 году, пришлось начинать свою карьеру при государе Александре III с невысоких степеней. Он получил хорошее юридическое образование и отправился служить – в Министерство юстиции, по ведомству прокуратуры. Тут не обошлось без протекции: отец нашего героя, Александр Алексеевич Лопухин, занимал солидный пост прокурора Петербургской судебной палаты во времена дела Засулич. У сына служба шла не слишком быстро, но и не медленно: сказывались способности и те широкие связи в кругах московско-питерской аристократии, которыми обросли Лопухины за два столетия. Через десять лет службы, в начале нового – и последнего для России – царствования Николая II, Лопухин-младший занимает невыдающуюся, но перспективную должность товарища прокурора Московского окружного суда.
И тут – стремительный подъём, будто бы начало взлёта. Возраст многообещающий: тридцать три года. Исходная точка подъёма – зловещая Ходынка. Любопытно: все главные изгибы его карьеры, взлёты и падения, связаны с жертвами, с кровавыми событиями. Время такое? Или судьба рода?
Туман над Ходынским полем
В мае 1896 года в Москве проходили торжества: коронация. Явление царя с царицей простому народу и раздача подарков должны были состояться 18 мая на Ходынском поле. С утра 17 мая из Москвы и окрестностей сюда потянулись нескончаемые вереницы людей. Шли поглазеть на венценосную чету, шли за подарочками, а большинство – просто так, людей посмотреть, себя показать. Шли семьями, с жёнами и детьми, с закуской и выпивкой. Располагались на травке Ходынского поля, там же и прикладывались к бутылям и флягам. К вечеру на поле сгустилась такая толпа, что можно было только стоять. Но люди не уходили; наоборот, напирали всё теснее. Утром 18-го в полицию поступили данные о страшной давке на Ходынском поле, о том, что есть жертвы. Были приняты меры, толпа растеклась, оставив великое множество мёртвых тел – свыше полутора тысяч. На место происшествия прибыл товарищ прокурора Лопухин. Он и возглавил следствие.
Кто виноват? Конечно, власти проявили обычную российскую беспечность и нераспорядительность. Но можно ли было предотвратить случившееся? Коронационные монархические шоу были нерушимой традицией московского царства. Кто виноват в том, что со времён коронации Александра III, с 1883 года, население Москвы и окрестностей увеличилось в полтора раза? что предшествующие торжества проходили под отзвуки народовольческого террора, до смерти напугавшего всю Россию, и что за истекшие с тех пор тринадцать мирных лет обыватель успокоился, забыл про «бомбистов»? что вследствие этих обстоятельств в 1896 году на Ходынском поле народу собралось несоизмеримо больше, чем в 1883-м – по некоторым данным, до полутора миллионов? Следствие пришло к выводу: основная масса жертв Ходынки погибла не под ногами людей и не в ямах, о коих, как о причине бедствия, писали газеты. Главная причина смерти – нехватка кислорода в плотно сдвинувшейся толпе. Прибывшие рано утром полицейские чины видели странное, фантастическое зрелище: над спёкшейся воедино массой человеческих тел стояло, слегка колыхаясь, белесое облако. Это выдыхаемый сотнями тысяч глоток углекислый газ не давал просочиться свежему воздуху. Мертвецы, задушенные углекислым газом, как подушкой, оставались стоять, стиснутые живыми.
Причина катастрофы – стихия толпы. Но общество требовало виновных. Жертву за жертву. Кровожадное озлобление «низов» против «верхов» – первое предвестие революции. Много лет спустя Лопухин вспоминал, как страшно было ему в начальственной форме, в фуражке с кокардой, осматривать место происшествия в окружении тысяч опьянённых ужасом и злобой участников трагедии. Для «верхов» же ходынская катастрофа стала фактором в борьбе за власть и влияние при молодом царе. Лопухин должен был учесть всё это – и учёл. Виновный был найден: обер-полицмейстер Власовский. Удачный выбор! С одной стороны, ставленник московского генерал-губернатора великого князя Сергия Александровича; придворные враги князя (могущественная партия Витте) возликовали. С другой – возложение ответственности на Власовского выводило самого Сергия из-под удара, а ведь в Москве уже требовали великокняжеской крови.
В 1923 году в Советской России будут напечатаны «Отрывки из воспоминаний» Лопухина. В них содержится рассказ о том, как на правительственном совещании за несколько дней до той трагедии один из присутствующих (видимо, сам автор) заметил Власовскому, сколь опасно большое стечение народа на Ходынском поле. Власовский якобы ответил: «А мне какое до этого дело? Мне в этот день придётся думать только о том, как проезд государя обеспечить, а это не так уж трудно». Наблюдая проезды президентских кортежей сегодня, мы склонны поверить мемуаристу: сто лет назад было так же.
Первая встреча с дьяволом
Лопухиным все остались довольны: и в обществе он прослыл либералом, и по служебной лестнице двинулся вверх стремительно. Вот он уже прокурор Московского окружного суда, потом – Петербургского, потом – прокурор Судебной палаты в Харькове. Харьков, конечно, не Питер, но должность прокурора Судебной палаты соответствует чину IV класса, как генерал-майор или действительный статский советник. Заметим: кратковременное пребывание Лопухина в этой должности ознаменовалось опять-таки кровавыми беспорядками – крестьянскими волнениями в подведомственной ему Полтавской губернии.
Между тем в высших эшелонах власти зрели тектонические сдвиги. 2 апреля 1902 года пулей эсеровского боевика Балмашёва сражён министр внутренних дел Сипягин. Это революционный теракт, но не только. Сипягин состоял в союзе с могущественным министром финансов Витте. На место убитого государь хитроумно выводит человека из враждебного лагеря – Плеве. Между министром финансов и министром внутренних дел начинается лютая, хотя и скрытая от посторонних глаз война. В тылу Плеве – пятая колонна: ставленники Сипягина. Плеве гонит их и протаскивает своих выдвиженцев. На ключевой пост директора Департамента полиции назначает Лопухина, знакомого ему по работе в Москве. В тридцать восемь лет возглавить всю полицию России, в том числе секретную! Недурно!
В качестве директора Департамента полиции Лопухин познакомился с Азефом. История их контактов темна и запутана. На суде в 1909 году Лопухин утверждал, что по долгу службы виделся с «Виноградовым» (конспиративное имя Азефа) всего два или три раза. Аристократ и правовед, он, конечно, с брезгливостью относился к «шпионам». Но немаловажно другое: Лопухину Азеф достался «в наследство» от неприятного для него человека, Зубатова. Плеве перетащил Зубатова, начальника Московского охранного отделения, заведовать Особым отделом Департамента полиции, в ведении коего находилась вся секретная работа (октябрь 1902). Это «глаз» министра, присматривавший, в частности, и за Лопухиным.
Азеф с 1899 года работал под началом Зубатова. Зубатов и свёл Лопухина с Азефом. Обстоятельства любопытны. «Виноградов» выдал полиции создателя и вождя Боевой организации эсеров Герша Гершуни. Выдающаяся победа спецслужб? Это как посмотреть. Устранив наставника, Азеф сам становится лидером «Б. О.» – именно тогда, когда начинается подготовка к новым политическим терактам (ближайшая цель – Плеве). Санкцию на арест Гершуни дал Лопухин. Складывается впечатление, что руководство Департамента полиции стремится поставить во главе Боевой организации своего человека – и тем самым превратить её в орудие осуществления собственных политических целей. Характерно оговорился на суде над Лопухиным жандармский ротмистр Андреев: «Все предприятия <эсеров> становились известными правительству в том случае, когда их организовывал, то есть не организовывал, а участвовал в организации… Азеф» (курсив мой. – А. И.-Г.). Насколько сотрудничество террористов и спецслужб было тесным? Никто этого до конца не знал. Однако среди осведомлённых людей циркулировали интересные слухи. Кое-какие из них отразил в своих воспоминаниях жандармский генерал А. И. Спиридович. Вспоминая об одном из организованных Азефом терактов, об убийстве великого князя Сергия Александровича, он намекает: причина успеха террористов – решение Лопухина отказать в средствах на усиление охраны великого князя.
Но взрывы бомб пока впереди. Пока перед нами – хитросплетение провокаций и измен. В это же время Зубатов совершает тайное предательство: устанавливает связь с Витте, заклятым врагом своего патрона, Плеве. В мемуарах Лопухин описал эту карьерную интригу, задуманную Витте, Зубатовым и Мещерским, под которую Плеве удалось столь искусно подвести свою контрмину. В результате – гнев государя, Витте и Зубатов в один прекрасный день – 16 августа 1903 года – лишились постов. Правдив сей рассказ Алексея Александровича, или нет, но из этого раунда схватки Плеве вышел победителем. После падения Зубатова контакты Лопухина с «Виноградовым» заметно активизируются.
«Виноградов» с удовольствием выдаёт полиции серию второстепенных революционных замыслов и лиц, наводит на след несуществующего заговора (цель коего – якобы Лопухин), а сам в это время занимается подготовкой всамделишного покушения на Плеве. Фанатики из Боевой организации с утра до вечера дежурят прямо под окнами служебной квартиры министра, готовят мощные взрывные устройства и даже имеют неосторожность однажды взорваться в процессе их изготовления – а секретная полицейская агентура ничего не видит, ничего не слышит, или, во всяком случае, ни о чём таком не доносит. Итог: 15 июля 1904 года Плеве убит.
Между Витте и Азефом
Гибель Плеве создала для респектабельного Алексея Александровича ситуацию, полную перспектив. Учитывая, что наиболее весомой кандидатурой на пост министра внутренних дел в тот момент представлялся Витте, мы можем допустить существование тайного союза между этим последним, Лопухиным и Азефом. В случае удачи – Витте министр, Лопухин – товарищ министра, Азефу денежное вознаграждение. Но всё сложилось куда замысловатее. После сорока дней раздумий Николай II неожиданно назначил на место Плеве князя Святополк-Мирского. Начались вихлянья политического курса. Мирский заговорил о союзе с общественностью, политике доверия. Против резко выступила обиженная смертью Плеве «консервативная» группировка: великие князья Сергий и Владимир Александровичи (первый – генерал-губернатор московский, второй – петербургский), московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов. Витте повёл подкоп под нового министра с противоположного, либерального фланга – не без помощи Лопухина, организовавшего ему встречу с опальным лидером воинствующих либералов И. И. Петрункевичем. В воздухе запахло политическим кризисом. А тут ещё неудачи в войне с Японией…
В сентябре 1904 года в Париже проходило совещание русских либеральных и революционных партий и групп, вызвавшее почти панический страх в правящих сферах Российской империи: подозревали, что там разрабатывается план революции, даже и временное правительство формируется. Представителем радикального крыла эсеров на совещании был Азеф; он же и информировал Лопухина о ходе парижской говорильни. Лопухин получает эксклюзивную информацию – и использует её, чтобы осторожно, но настойчиво подогревать страхи. Расчёт очень тонок: растут его акции и как борца с опасной крамолой, и как возможного посредника в поисках компромисса с ней. У Лопухина налажена связь с либеральной оппозицией и с революционными кругами. Азеф – не единственный, но важнейший канал связи.
К концу 1904 года, с ухудшением положения дел на войне и с ростом внутренней напряжённости, реальные черты обретает новая политическая перспектива: Витте как спаситель Отечества будет назначен премьер-министром, сформирует своё умеренно-либеральное правительство, начнёт реформы. В Петербурге об этом говорят не таясь, в предполагаемом премьере видят уже будущего президента Российской республики. У Лопухина виды на пост министра внутренних дел. Нужно укрепить своё положение в оппозиционных кругах. И вот, он составляет докладную записку, адресованную Комитету министров (председатель – Витте). В ней – критика «того произвола в отношении прав населения, и того бездействия в отношении его насущных интересов, в которых власть находила свои единственные проявления». Эта записка, по словам автора, «ходила по рукам и появлялась в русской революционной прессе за границей». Уточним: издана она была в начале 1905 года в Женеве в типографии «Искры» с предисловием, подписанным: Н. Ленин. Конечно, не сама собой служебная бумага далась в руки революционным радикалам. У директора Департамента полиции к этому времени существовали отлаженные контакты с революционерами.
Немудрено, что руководимая Лопухиным полиция «прохлопала» Кровавое воскресенье точно так же, как и убийство Плеве. Конечно, не один он виноват в событиях 9 января, и даже он, пожалуй, меньше других. И всё же пассивность подчинённых ему структур во время январского кризиса удивительна.
Кровь высохла на питерских мостовых, в отставку ушли министр Мирский и градоначальник Фуллон, а Лопухин остался в должности. И тут – ещё одно политическое кровопролитие: 4 февраля в Москве убит великий князь Сергий. Организатор теракта – Азеф. Витте освободился от очередного политического противника.
Неудачливые визитёры
Но – проклятье рода Лопухиных! Замысел рушится за пять минут до успеха. Витте отправлен в Америку на переговоры с японцами, а Лопухин ещё раньше, в марте 1905 года, внезапно снят с директорской должности и назначен губернатором в Эстляндию, в тихий Ревель. Это не просто понижение: для карьеры это тупик. Ему сорок один год. Смириться трудно.
Осень 1905 года. Революционная волна. Петербург охвачен смутой, бастует и Ревель. Витте снова на коне: 17 октября государь подписывает продиктованный им манифест, а на следующий день назначает-таки его главой объединённого правительства. Надежда оживает и в сердце ревельского губернатора. Новоиспечённый премьер обещает ему пост в правительстве, но этого мало. Через известного авантюриста Мануйлова (Манасевича), близкого и к Витте, и к революционерам, Лопухин добивается встреч с эсеровскими лидерами, ведёт странные переговоры со вновь явившимся, как из бездны, Талоном. Лопухину нужны авторитет и связи Гапона в революционном подполье, Гапону – авторитет и связи Лопухина в правительственных кругах. Так власть в очередной раз вступает в интимную близость с демонами революции… Как и следовало ожидать, политическая активизация Лопухина сопровождается кровавыми событиями в Ревеле: стачка в этом не самом революционном и пролетарском городе Российской империи перерастает в столкновения вооружённых рабочих с солдатами гарнизона. Подавление беспорядков совершается по приказу военного командования при полной пассивности губернатора. Есть жертвы.
Кстати – о Гапоне. Сей пророк рабочего царства после Кровавого воскресенья стряхнул с себя церковное облачение, как ветошь. Отрекшись от сана, стал революционером. При помощи эсеров переправился через границу, там, в Швейцарии и Франции, летом – осенью 1905 года стал готовить себя к роли верховного вождя объединённых революционных сил. В этом качестве вернулся в Россию, в этом качестве встречался с Лопухиным и с руководителем политического сыска Рачковским. Но союз смуты и власти не состоялся. Секретные встречи в фешенебельных ресторанах Контана, Донона и Кюба погубили Гапона: о них узнал Азеф. Страшась того, что, залучив в свою компанию Гапона, Рачковский и Лопухин избавятся от него, Азефа, как от знающего слишком много, гений провокации подставил падшего пророка под секиру революционного правосудия. Убийство (или, как предпочитали выражаться террористы, «казнь») Гапона было поручено организовать одному из тех, кто год назад у Нарвской Заставы спасал Гапона от солдатских пуль, – Рутенбергу. 28 марта 1906 года Гапон был удавлен во время конспиративной встречи на даче в Озерках. Его полуразложившийся труп полиция обнаружила через месяц.
Но вернёмся к Лопухину. На сей раз его карьера оборвалась окончательно. Витте продал: не стал протаскивать в правительство, да и сам скоро лишился власти. Государь прогневался на Лопухина за ревельские события, снял с должности и отправил в резерв Министерства внутренних дел. В июле 1906 года правительство возглавил Столыпин; Лопухину не на что стало надеяться, и он вышел в отставку. Поселился на Таврической, занялся финансовой деятельностью.
Года через два случилось ему поехать в Германию. Между Берлином и Кёльном в купе первого класса заглянул случайный попутчик. В нём Лопухин, к неописуемому своему изумлению, узнал близкого к эсерам публициста Владимира Бурцева, с которым имел негласные встречи на излёте служебной карьеры. Впрочем, можно усомниться в случайности и этого рандеву. Бурцев давно искал доказательств двойной деятельности Азефа. Кто мог быть лучшим тому свидетелем, чем Лопухин? Состоявшийся между ними разговор имел последствия, сопоставимые со взрывом эсеровской бомбы.
25 ноября 1908 года одновременно три адресата получили три совершенно тождественных письма от Лопухина: премьер-министр и министр внутренних дел Столыпин, товарищ министра Макаров, директор Департамента полиции Трусевич. Письма датированы 21 ноября, но отправлены 24-го, когда Лопухина в столице уже не было: 23-го он выехал в Москву, а в первых числах декабря находился уже в Лондоне.
«11 сего ноября ко мне на квартиру в доме 7 по Таврической улице явился известный мне в бытность мою директором Департамента полиции как агент находящийся в Париже чиновник Департамента полиции Евно Азеф и, войдя без предупреждения ко мне в кабинет, где я в то время занимался, обратился ко мне с заявлением, что в партию социалистов-революционеров, членом коей он состоит, проникли сведения об его деятельности в качестве агента полиции, что над ним происходит поэтому суд членов партии, что этот суд имеет обратиться ко мне за разъяснениями по этому поводу, и что, вследствие этого, его, Азефа, жизнь находится в зависимости от меня. Около 3 часов дня сего <21> числа ко мне, при той же обстановке, без доклада о себе, явился в кабинет начальник Петербургского охранного отделения Герасимов и заявил мне, что обращается ко мне по поручению того же Азефа с просьбой сообщить, как поступлю я, если члены товарищеского суда над Азефом обратятся ко мне за разъяснениями по интересующему их делу. При этом начальник охранного отделения сказал мне, что ему всё, что будет происходить в означенном суде… <будет> хорошо известно. Усматривая в требовании Азефа в сопоставлении с заявлением… Герасимова о будущей осведомлённости его о ходе товарищеского расследования над Азефом прямую направленную против меня угрозу, я обо всём этом считаю долгом довести до сведения Вашего Высокопревосходительства…»
Финал
Содержание этих трёх писем было доведено Лопухиным при посредничестве Бурцева также до глаз и ушей эсеровского руководства. При обыске на Таврической, 7, было обнаружено письмо Бурцева Лопухину, в котором публицист-разоблачитель благодарит адресата «от всего сердца». Очевидно, тогда, в поезде, Лопухин согласился дать Бурцеву документальное свидетельство агентурной деятельности Азефа. Роль такого документа сыграл процитированный текст письма. Более того, 3 декабря в Лондоне, в Вальдорф-Отеле, он имел встречу с представителями и вдохновителями эсеровского «бомбизма» Черновым, Савинковым, Аргуновым. И им он подтвердил: Азеф – сотрудник Департамента полиции. Как ни пытался Лопухин на суде представить эту беседу эдаким вторжением вооружённых до зубов террористов в мирное гостиничное жилище отставного сановника, факт остаётся фактом: бывший директор Департамента полиции выдал врагам режима самого высокооплачиваемого секретного агента этого самого Департамента.
Совершая сие, Лопухин знал, что может попасть под суд за разглашение служебной тайны. Почему же пошёл на контакт с Бурцевым и Савинковым? Не потому ли, что кровно был заинтересован в устранении Азефа, знавшего правду о его сотрудничестве с революционерами, а возможно, и о причастности к политическим убийствам? Если это так, то расчёт оправдался не вполне: Азеф был осуждён партийным судом, но беспрепятственно скрылся. На лопухинской бомбе подорвалась и агентурная деятельность полиции, и эсеровская Боевая организация, и сам экс-директор. Партия эсеров оказалась ввергнута в глубокий кризис, продолжавшийся до 1917 года. Лопухина суд приговорил к пяти годам каторги, но решением общего собрания кассационных департаментов Сената, каторга была заменена ссылкой. Как это похоже на нынешние «N лет условно» для высокопоставленных осуждённых! Суд и приговор спасли Лопухина от неминучей гибели: придя к власти, большевики не тронули его – учли заслуги в деле разоблачения тайных агентов проклятого царского режима. В 1920 году Алексей Александрович по личному разрешению Дзержинского уехал из голодной и холодной Совдепии. Остаток дней необыкновенный директор свинцового Департамента провёл в прекрасном Париже в тени воспоминаний о знаменитых «приятелях»: Зубатове, Плеве, Витте, Азефе, Бурцеве, Гапоне…
Любопытна, однако, реакция трёх официальных адресатов лопухинских писем от 21 ноября 1908 года. Точнее, отсутствие реакции. Ни Трусевич, ни Макаров, ни сам Столыпин не сделали того, что, казалось бы, следовало сделать: срочно вступить в переговоры с Лопухиным, взять под контроль его контакты, и уж, во всяком случае, не допустить его выезда за границу. Сам экс-директор, отправляя послания по адресам, как бы говорит: если вам дорог Азеф – обращайтесь ко мне, его судьба в моих руках. Он даёт шанс для переговоров: уехав из Петербурга 23 ноября, возвращается утром 29-го, зная, что письма его уже прочитаны, и лишь 30-го вечером отправляется в Лондон. Никто не отозвался. Видимо, Азеф стал лишним не только для Лопухина, но и для его высокопоставленных адресатов. Да и не мудрено: в это время в кругах, сферах и прочих неясных структурах власти зарождались новые интриги, росли кадры для новых заговоров и провокаций. До начала великого революционного потопа оставалось чуть больше восьми лет.
«Адский жилет» для полковника Карпова
За три года, прошедшие со времени подавления революционных беспорядков, петербуржцы успели отвыкнуть от взрывов эсеровских бомб. Но в ночь с 8-го на 9 декабря 1909 года в столице грохнуло. На конспиративной квартире был убит начальник Петербургского охранного отделения жандармский полковник С. Г. Карпов. Преступник, приведший в действие взрывное устройство, пытался скрыться, но был задержан. Им оказался Александр Петров, секретный агент Департамента полиции, внедрённый в Боевую организацию эсеров. 9 января состоялся суд. Петров был приговорён к смерти и через четыре дня повешен. После его казни руководство эсеров распространило прокламацию, в которой заявило: убийца действовал по заданию партии. Якобы провокатор раскаялся, признался товарищам в своём предательстве. И ради искупления вины партия поручила ему устранить высокопоставленного сотрудника охранки. Вот он и устранил. Официальная версия этого убийства в точности совпадает с официальной версией убийства секретным агентом Дегаевым подполковника Судейкина в 1883 году. И та и другая не вызывают доверия. Тем более что многие обстоятельства, сложившиеся вокруг гибели Карпова, подозрительно напоминают обстоятельства ещё одного знаменитого теракта – убийства премьер-министра Столыпина в сентябре 1911 года.
Учитель с бомбой
Александр Алексеевич Петров был мирным народным учителем в Вятской губернии – сеял разумное, доброе, вечное. Революционные демоны искусили его, вихри девятьсот пятого года подхватили и унесли в стан эсеров. Петров включился в революционную борьбу с азартом. К началу 1909 года за ним числилось несколько арестов, два побега из тюрьмы. В январе 1909 года руководство Боевой организации эсеров стягивает свои силы в Поволжье, в Саратов. Туда под чужой фамилией, с поддельными документами направляется бывший учитель – и там его сразу же арестовывают. При задержании ведёт себя мужественно – молчит. Однако ж через несколько дней после ареста «Валаамова ослица» заговорила. Петров называет себя, выдаёт жандармам имена и конспиративные адреса саратовских эсеров и, наконец, указывает местонахождение подпольной типографии. Чувствуется, что арестант готов и на большее. С ним работает начальник Саратовского жандармского управления П. К. Семигановский. И настолько успешно, что уже через неделю-другую накапливается материал для донесения в Петербург, директору Департамента полиции М. И. Трусевичу. Семигановский сообщает начальству, что арестованный готов на глубокое сотрудничество с полицией, на агентурную работу. Для внедрения Петрова в Боевую организацию необходимо организовать его побег из тюрьмы.
Надо отметить важное обстоятельство. Всего за месяц до ареста Петрова весь революционный мир, а равно и мир политического сыска, был потрясён до основания разоблачением Азефа. Секретным агентом Департамента полиции оказался руководитель Боевой организации и член Центрального исполнительного комитета партии эсеров. Азеф выдал полиции не одну сотню пламенных революционеров, и при этом лично организовал самые решительные революционные теракты: убийства Плеве и великого князя Сергия Александровича. Материалы этого дела были опубликованы в эмигрантской печати знаменитым политическим скандалистом Бурцевым. Мало того, что эта история до невозможности компрометировала и партию эсеров, и Департамент полиции, она ещё породила острую кадровую проблему у тех и у других. Лишившись Азефа, обе стороны потеряли самого необходимого человека: эсеры – вдохновителя героических убийств, полиция – главного информатора и агента влияния. Азефа надо было кем-то заменить. В этом сходились интересы террористов и охранителей.
Но кем? Поиск ведёт и та сторона, и другая. У эсеров сразу появился доброволец, возжелавший возглавить Боевую организацию: Борис Савинков. Этот человек – романтик, хладнокровный убийца, бретёр, красавец-мужчина – всегда с невероятной энергией хватался за любое дело, и всегда всё с треском и грохотом проваливал. Пользуясь растерянностью вождей эсеровской партии, он явочным порядком приступил к руководству террором. Восторга это у соратников не вызвало: в деловые качества Савинкова они не очень-то верили. Да тут ещё вышел из печати роман некоего В. Ропшина «Конь бледный» (роман, надо сказать, бездарный до патологии) – конечно же, про революционный террор; из-за маски-псевдонима откровенно торчали уши Савинкова. Мало-мальски здравомыслящие эсеры пришли в ужас: руководство Боевой организацией в руках самовлюблённого графомана! Но вот в чём беда: заменить его некем. Поток фанатиков-добровольцев, прежде с избытком восполнявший все потери Боевой организации, после истории с Азефом сузился до ручейка, а охватившая эсеров шпиономания отсекала и этих немногих. Даже Савинков, безусловный мастер увлекать людей (особенно женщин) – и тот смог собрать группу лишь человек двенадцать – шестнадцать. Появление Петрова, испытанного бойца, уже трижды бежавшего из тюрьмы (совершить побег было в эсеровской среде очень почётно – всё равно как заслужить орден), должно было вызвать живейший интерес эсеровского руководства: не он ли есть тот, кто заменит Савинкова и возглавит террор?
В руководстве полиции понимали выгодность и перспективность вербовки Петрова. Вновь поставить своего агента во главе революционно-террористического подполья – соблазнительно! И всё же, мнения разделились. Трусевич высказался против организации побега и внедрения нового агента в стан врага: Петров, мол, преступник и должен понести наказание. Впрочем, мнение Трусевича в этот момент уже ничего не значило; почему – увидим чуть позже. Вербовку Петрова решительно поддержали начальник Петербургского охранного отделения Герасимов и новоиспечённый товарищ министра внутренних дел Курлов. Окончательное решение принимал сам министр внутренних дел и председатель Совета министров Столыпин. Именно он дал санкцию на сотворение нового двойного агента.
Петров был переведён из тюрьмы в саратовскую психлечебницу. Оттуда в мае 1909 года бежал. В начале июня, с новыми документами, он появляется в Петербурге. Здесь его ждут чрезвычайно интересные встречи с руководителями политической полиции. Герасимов уже оставил пост начальника столичной охранки, передав его Карпову. Поэтому Петров сначала тайно встречается с Карповым, о чём-то с ним беседует и получает тысячу рублей. Через несколько дней – такая же конспиративная встреча с Герасимовым – и ещё тысяча рублей. Очевидно, высокопоставленные жандармы высоко ценят нового агента, стремятся перекупить его друг у друга. Карпов и Герасимов снабжают Петрова инструкциями. Герасимов к тому же определяет к нему человека для связи – жандармского ротмистра Долгова. И Карпов приставляет своего куратора – сотрудника Департамента полиции Доброскока. Снабжённый документами, деньгами, инструкциями, Петров выезжает за границу для вступления в контакт с руководством партии эсеров и её Боевой организации.
Царь Максимилиан
Разберёмся – кто есть кто.
Максимилиан Иванович Трусевич. Служил по Министерству юстиции, в 1880 – 1890-х годах – прокурор Рижского, Новгородского, Петербургского окружных судов, с 1903 года – прокурор Петербургской судебной палаты. Директором Департамента полиции Министерства внутренних дел назначен в июне 1906 года. Для начальника такого ранга довольно-таки молод: ему сорок три года. Время для полиции очень лихое: кругом восстания, революционный террор; в Департаменте за год сменилось три директора. Трусевич призван укреплять расшатанный полицейский механизм. За это дело он взялся со всей энергией. Он вообще энергичен, профессионально подготовлен и, главное, честолюбив.
Отзывы современников о нём противоречивы. Бывший жандармский офицер А. П. Мартынов восхваляет его профессионализм и даёт портрет настолько сочувственный, что можно подумать: пишет влюблённая девушка. «Выше среднего роста, худощавый, исключительно элегантный шатен с тонкими чертами лица, чуть коротковатым тонким носом, щетинистыми усиками, умными, пронизывающими и несколько насмешливыми глазами и большим открытым лбом, Трусевич представлял собой тип европейского светского человека». Курлов, о котором речь ниже, в своих воспоминаниях подчёркивает иное: «Возможности ошибок со своей стороны М. И. Трусевич не допускал, чужое мнение для него не существовало, он был убеждён, что никто ничего не делает, ничего не понимает». Тут сквозит явная неприязнь, создаётся образ самовлюблённого деспота. Такой персонаж народных лубков был – царь Максимилиан. Курлов приписывает именно Трусевичу внедрение провокации как системы в деятельность политической полиции. Трусевич, мол, всюду, где надо и где не надо, создавал районные Охранные отделения, набирал в них кого попало, а о работе судил по отчётности, «измерял достоинство розыскных офицеров по количеству сообщённых ими сведений»; в чем и следовало, по мнению Курлова, «искать зачатки так называемой провокации». Кто бы ни был прав, ясно одно: Трусевич был фигурой перспективной, амбициозной. Политический сыск он стремится превратить в разветвлённый, отлаженный механизм. И контролировать его единолично. Далеко идущие планы директора Департамента полиции не могли не вызывать опасений у начальства. Столыпин ищет для Трусевича сдержку и противовес. В начале 1907 года вице-директором Департамента полиции Столыпин назначает Курлова.
Вечный зам
Курлов во всей истории с Петровым фигура ключевая. Работой новоиспечённого секретного агента – через Карпова и Доброскока – руководил именно он. Ещё интереснее то, что именно Курлова осенью 1911 года многие осведомлённые лица называли главным виновником, если не организатором убийства Столыпина… Но об этом позже.
В карьере Курлова были взлёты, падения, прыжки в сторону; константой оставалось только неутолённое честолюбие, стремление достичь высших ступеней власти. По своему происхождению и положению он – не чета каким-нибудь Трусевичам: сын генерала от инфантерии, он начал службу в лейб-гвардии конно-гренадерском полку; потом закончил военно-юридическую академию. Но гвардейская служба не сложилась. Курлов переходит в Министерство юстиции – прокурором Московского окружного суда. Здесь он приобрёл важные знакомства в окружении генерал-губернатора великого князя Сергия Александровича. Особенно ценным оказалось знакомство с Плеве. В 1902 году Плеве становится министром внутренних дел. В борьбе против мощной группировки министра финансов Витте ему нужны свои люди. Плеве переманивает Курлова в МВД, добивается его назначения вице-губернатором в Курск, обещает быстрое продвижение по службе. Но в июле 1904 года Плеве взорван бомбой эсеровского боевика Сазонова. В Министерстве внутренних дел начинается чехарда и неразбериха. Только через год новый министр Булыгин (тоже, кстати, старый московский знакомый) вспомнил про Курлова: исхлопотал ему губернаторский пост в Минске. Время для губернаторов гиблое: 1905 год, революционная буря на подъёме. В Минске – волнения, столкновения манифестантов с войсками, стрельба, жертвы. Курлову приходится туго, Курлов не справляется с ситуацией. Назначенный в апреле 1906 года министром внутренних дел Столыпин отправляет Курлова в отпуск, и лишь через полгода находит для него малозначащую должность члена совета при министерстве.
Любопытно: Столыпин всё время пытается задвинуть Курлова в угол, но чья-то другая рука властно продвигает его наверх. По высочайшему повелению Курлов направлен временно управлять Киевской губернией, где революционное движение особенно активно, где сильна эсеровская организация. Киевская миссия закончена – Столыпин переводит Курлова под начало Трусевича – вице-директором Департамента полиции, а потом и на вовсе маловлиятельную должность начальника тюремного управления. Курлов негодует, жалуется, интригует. Усилия возымели результат: в декабре 1908 года внезапно последовал указ государя о назначении Курлова товарищем министра внутренних дел. А через три месяца он становится командиром Отдельного корпуса жандармов.
Лица осведомлённые не сомневались: Курлов назначен товарищем министра в пику и в противовес Столыпину. Столыпин слишком силён – его влияние надо парализовать. Курлов подходит для этого потому, что тесно связан с «московской» группировкой, обезглавленной после гибели Плеве и великого князя Сергия, но всё ещё достаточно влиятельной. Император доволен: к строптивому премьеру приставлен надёжный «смотрящий». Однако сам Курлов не вполне удовлетворён. Четверть века на службе, а всё какой-то «вице»: вице-губернатор, вице-директор, вице-министр… Вечный заместитель. Хочется, очень хочется самому пожить в министерской квартире на Фонтанке, 16.
Что касается Трусевича, то, узнав о назначении Курлова, он подал в отставку. Ибо сам мечтал о должности товарища министра. «Царю Максимилиану» настоящий царь «милостиво повелеть соизволил» быть сенатором. Через два с половиной года Трусевич смог отчасти утолить свою жгучую ненависть к подсидевшему его бывшему «заму». Именно Трусевич был назначен председателем комиссии, расследовавшей роль Курлова в убийстве Столыпина.
Чёрный визирь
Надо сказать, Курлов куда раньше, чем Сталин, сформулировал принцип: «Кадры решают всё». При малейшей возможности он тянет за собой своих выдвиженцев, продвигает их на нужные посты. Устранён Трусевич – на его место по настоянию Курлова назначен Н. П. Зуев. Вице-директором к Зуеву – С. П. Белецкий, тоже человек Курлова. Была ещё одна структура, которую надо было взять под контроль: охранные отделения, столь опекаемые Трусевичем. И Курлов начинает протаскивать туда тех, кто ему нужен. Именно так начальником Киевского охранного отделения становится подполковник Н. Н. Кулябко, впоследствии осуждённый в связи с убийством Столыпина. Важнейшее из охранных отделений – Петербургское. И сюда Курлов приводит своего человека – полковника Карпова. Для этого потребовалось спихнуть жандармского генерала Герасимова.
А. В. Герасимов – ещё одна колоритная личность, замешанная в историю с Петровым. Один из главных мастеров вербовки и провокации, куратор Азефа, знаток подпольного мира революционеров. Чёрный визирь имперской столицы. Его знали, его боялись, его ненавидели. Лопухин, отданный под суд за «сдачу» эсерам Азефа, со скамьи подсудимых называл его негодяем и кричал, что готов драться с ним на дуэли. Можно смело сказать, что именно Герасимов создал настоящий политический сыск в Петербурге. Впрочем, связи с революционными организациями, которые он устанавливал через секретных агентов – дело тёмное. Боролся ли с ними Александр Васильевич или направлял их деятельность в желательное для себя русло? Так или иначе, Герасимов пользовался немалым доверием в высших сферах. Безопасность при роспуске Второй Думы 3 июня 1907 года обеспечивала именно охранка Герасимова, и так ловко, что Курлов о «третьеиюньском перевороте» узнал из утренних газет.
И впоследствии Герасимову доверяли выполнять миссии щекотливые, политически тревожные. В 1912 году он был направлен в Париж со сверхсекретным заданием: организовать слежку за братом царя великим князем Михаилом Александровичем и его морганатической супругой Н. С. Вульферт. В те дни опасно заболел несчастный цесаревич Алексей; в случае его смерти Михаил становился наследником престола. В своё время Николай II категорически запретил брату жениться на разведённой Вульферт. В России обвенчаться они не могли. Если бы этот брак состоялся, то Михаил безвозвратно утратил бы возможность наследовать престол, и право это перешло бы к линии дядьев императора, сыновей Александра II, которым Николай II не доверял и которых изрядно недолюбливал. Вот Герасимову и было поручено наблюдать за влюблённой парой, особенно во время посещения церкви. Если появятся малейшие подозрения на то, что Михаил и Надежда пришли в храм венчаться, Герасимов со своими агентами должен был скрытно арестовать их и затем тайно переправить на родину… Организовать похищение брата царя!
Герасимов – сильная фигура, а главное – он был тесно связан со Столыпиным и вполне независим от Курлова. Через влиятельных придворных знакомых Курлов добился его смещения. Карпов не имел ни энергии, ни влияния, ни авторитета своего предшественника. Вообще Карпов, как и большинство курловских креатур, был человек малоспособный, профессионально некомпетентный, но во всём покорный воле патрона, а потому надёжный.
Пояс смертника
Итак, Петров в роли агента-двойника выехал за границу, там связался с лидерами эсеров. Дальнейшее не вполне ясно. Каким-то неведомым путём к Савинкову попала информация о «провокаторстве» Петрова. Едва ли Петров сам сознался. Скорее, кто-то организовал утечку информации. Кто? Может быть, Герасимов, который пытался перекупить Петрова и потерпел неудачу? Он вполне мог таким вот образом подставить ножку своему преемнику; каналы связи с эсеровским подпольем у него были. Так или иначе, под угрозой неминучей расправы Петров подписал продиктованное Савинковым дьявольское обязательство: ради искупления своей вины «устранить одного из руководителей политического сыска в России». Герасимова, например. Или Курлова.
В конце ноября 1909 года Петров в Петербурге. Он ищет свидания с «Чёрным визирем», но тот, тёртый калач, благоразумно уклоняется от встречи. Как его заставить? Петров бросается к Карпову. В доверительной беседе «признаётся» ему: Герасимов, мол, подговаривает его, Петрова, устроить покушение на Курлова и… И на вас, ваше высокоблагородие! Полковнику и страшно, и радостно: вот он, способ навсегда покончить с Герасимовым! Устроить ему ловушку! Снять конспиративную квартиру, где и организовать встречу Герасимова с Петровым. При этой встрече за перегородкой должны присутствовать и подслушивать высокие начальники: Курлов, Зуев, а возможно и сам Столыпин! Злодейство Герасимова будет разоблачено! Знал ли Карпов, что кроме штатного браунинга его тайный агент вооружён штуковиной пострашнее? Что в его чемодане лежит странный широкий пояс, начинённый взрывчаткой? Такие детали костюма, ныне именуемые «поясами шахидов», тогда называли «адскими жилетами». Приведя в действие несколько фунтов взрывчатки (не обязательно жертвовать собой: пояс можно и снять, заложить в укромном месте, в письменном столе, например), Петров разнес бы в клочья всех присутствующих на этой секретной встрече.
Любопытный факт. Именно таким поясом (точнее – лифчиком), содержащим тринадцать фунтов (более пяти килограмм) смертоносного вещества, была снабжена Евлалия Рогозинникова, явившаяся в ноябре 1907 года на приём к начальнику тюремного управления Министерства внутренних дел А. М. Максимовскому. Она, правда, не воспользовалась необычной деталью своего туалета. Максимовского она застрелила из браунинга. После чего была схвачена и обыскана. «Разминирование» осуществлял жандармский офицер Комиссаров. Террористку положили на пол, дворники и полицейские держали её за руки и за ноги, а Комиссаров осторожнейшим образом, рискуя взлететь на воздух, но и не без некоторого интереса, разрезал кофту, платье, лиф – и там обнаружил то, что могло стать его погибелью. Описание этой сцены в духе тантрической эротики приводит в своих мемуарах Курлов. Судя по всему, идея пояса смерти запала ему в душу.
Но вернёмся к нашим героям. План, намеченный начальником и агентом, сразу стал рушиться. Столыпин и Зуев категорически отказались от благородной роли подслушивающих. Курлов уехал в Ялту, где в это время отдыхал император – для обеспечения его безопасности. Карпов боится: вдруг Петров сочтёт выгодным переметнуться на сторону Герасимова – тогда ему, Карпову, крышка. Он вызывает Петрова на встречу. Двойной агент решает не испытывать долее судьбу, раз жертва сама лезет в западню… В итоге – взрыв. Казалось бы, ясно. И всё-таки нет убедительного ответа на вопрос: почему Петров отказался от указанной Савинковым цели и вместо грозного генерала «грохнул» второсортного полковника? Может быть, избавился от человека, посвященного в иные планы?
На следствии всплыл один интересный факт, зафиксированный в показаниях Доброскока. То ли 29-го, то ли 30 ноября оный свидетель присутствовал при встрече Карпова с Петровым. Петров как бы между делом попросил у своего начальника выдать ему бесплатный билет в Мариинский театр. Карпов обещал. Трогательная любовь секретных агентов полиции к искусству. Через день Карпов вызвал Доброскока, вручил ему билет для передачи Петрову. Исполнительный офицер уже направил свои стопы на рандеву с агентом – и где-то как-то случайно узнал, что именно в этот день на спектакле будет присутствовать Столыпин. Логическая цепочка мгновенно сложилась в жандармской голове. Эсеры давно охотятся на Столыпина. Петров связан с эсерами. Из Ялты от Курлова только что поступила телеграмма с требованием внимательно следить за Петровым, дабы не допустить с его стороны двойной игры. У Петрова есть браунинг. Доброскок кинулся обратно в кабинет начальника охранки. Выслушав его резоны, Карпов раздумал посылать билет своему подопечному.
Рассказывая об этом, Доброскок не мог знать обстоятельств рокового покушения на Столыпина, которое совершится через год и десять месяцев. А между тем сценарии поразительным образом совпадают. Секретный агент Департамента полиции, причастный, в то же время, к организации революционеров-террористов, получает от своего куратора из охранки оружие и доступ в театр именно в тот вечер, когда на спектакле должен присутствовать премьер-министр. Далее ничто не мешает ему подойти к Столыпину, который, к слову сказать, никогда не пользовался услугами телохранителей, и разрядить в него револьвер. Именно так всё произошло 1 сентября 1911 года в Киеве. Пропуск в театр, где на торжественном представлении «Сказки о царе Салтане» присутствовали Николай II и Столыпин, выдал секретному агенту Аленскому (конспиративный псевдоним Дмитрия Богрова) начальник Киевского охранного отделения подполковник Н. Н. Кулябко. Кулябко – верный пёс Курлова, не смевший, как и Карпов, шагу шагнуть без санкции патрона. Богров – двойной агент, работавший, как и Петров, то ли на революцию, то ли на полицию. В дополнение сходства – одинаковое оружие: браунинг. Трудно представить себе, что это всё случайные совпадения. Значит, осенью 1909 года в Петербурге Петров и связанные с ним лица репетировали действо, которое совершилось потом в Киеве. В первом случае не удалось, а во втором сработало… Кто задумал сценарий, кто руководил репетицией? После выстрела в Киевской опере носились слухи о причастности к покушению Курлова. Якобы «вечный зам» решил направить смертоносную энергию двойных агентов-убийц против своего начальника. Доказать, конечно, ничего не удалось, хотя председатель сенатской следственной комиссии Трусевич очень старался. В отношении Курлова следствие было прекращено по личному распоряжению государя. Осуждён был – за непринятие должных мер к обеспечению безопасности главы правительства – один подполковник Кулябко. Он отсидел четыре месяца, после чего вынужден был из жандармов переквалифицироваться в торговцы швейными машинками.
Как и его киевскому коллеге, полковнику Карпову не повезло – только заплатил он за ошибку не четырьмя месяцами тюрьмы, а жизнью. Не разгадал он своего секретного сотрудника. Петров, безусловно, вёл непростую игру. Не исключено, что он перешёл-таки на сторону Герасимова и отправил Карпова на тот свет не без санкции «Чёрного визиря». Нравы, царившие в среде высшей бюрократии Российской империи, делают такое предположение вполне вероятным. А правды обо всём этом не узнает никто никогда. Петров был пойман, осуждён и казнён так скоро, что даже у сотрудников Департамента полиции возникли подозрения: прячут концы в воду. Это и понятно: в серьёзном расследовании обстоятельств гибели полковника Карпова не был заинтересован никто. Нет человека – нет проблемы. Точно так же и Богров был поспешно осуждён и повешен через две недели после выстрелов в Киевской опере, унеся с собой тайну смерти Петра Аркадьевича Столыпина.
Бедные, бедные провокаторы
Судьбы секретных агентов Департамента полиции
В ночь с 19 на 20 июля 1906 года вспыхнуло восстание на крейсере «Память Азова». Революционно настроенная часть команды, вдохновляемая социалистами, арестовала офицеров, подняла красный флаг, направила корабль в сторону ревельского порта. Но уже к вечеру 20-го восстание было подавлено. Сохранившие верность присяге матросы под руководством нескольких унтеров окружили восставших, обезоружили, сорвали красное полотнище с мачты, освободили офицеров (те уже готовились разделить участь собратьев с «Потёмкина»). Зачинщики мятежа были преданы суду. С этих событий началась история секретной полицейской агентуры в среде балтийских матросов. Судьбы большинства агентов-провокаторов сложились нерадостно. Для кого-то нищета, для кого-то – тюрьма, эмиграция, а то и смертный приговор победившей революционной власти… И для всех – презрение. Причём, что самое обидное – презрение со стороны собственного начальства, тех, на кого работали.
Лавриненко: из кондукторов в управдомы
В 1917 году, вскоре после Февральской революции, в Ревеле (нынешнем Таллине) за «контрреволюцию», то есть за попытку урезонить разбуянившихся матросов, был арестован офицер боевого корабля «Пётр Великий» штабс-капитан флота Кирилл Лавриненко. Арестанта отправили в Питер, где потом благополучно отпустили на свободу во время июльских событий. При обыске в его каюте нашли записку-завещание. Этот документ чудом сохранился, не утонул в революционном море. К великому будущему горю его автора.
«Я, нижеподписавшийся, вполне и в полном рассудке и памяти пишу свои строки и обращаюсь с просьбой к правительству… Не забыть моего престарелого родителя… Мою больную жену Анну Ивановну Кочневу, от каковой я имею двух кровных дочерей Клавдию и Серафиму, а также сына (приёмного. – А. И.-Г.) Евгения, которого я вынянчил на руках…» И далее – главное: «Мне лейтенант Мякишев… сообщил, что на мою долю выпала задача организовать на учебных судах тайную полицию… Я охотно принимаю на себя эту трудную в это время задачу и надеюсь выполнить её перед царём и родиной, хотя бы это стоило мне жизни». Записка заканчивается и вовсе чувствительно: «…Не оставьте от меня происшедшее племя. Пусть послужит печатью сей моей просьбы выкатившаяся слеза из глаз моих во время сей моей просьбы… 28 апреля 1912 г., 1 час ночи».
Поручик, а потом штабс-капитан флота Лавриненко в течение пяти лет был тайным вербовщиком и руководителем секретной агентуры Департамента полиции на Балтийском флоте. Опасная работа: отсюда и потребность написать завещание. Как признавался впоследствии Лавриненко советскому следователю Льву Шейнину: «пятерых завербуешь, а шестой тебя ножом пырнёт – и за борт». Выбор начальства пал на скромного поручика не случайно.
Обстоятельство первое – пролетарское происхождение. В офицеры Лавриненко выслужился из матросов. Во время революции 1905 года служил на «Памяти Азова» артиллерийским кондуктором, потом – старшим кондуктором. Это – унтер-офицерская должность, на которую обычно назначали тех матросов, кто пообразованнее да потолковее, и с начальством умеет ладить. Впрочем, об осведомительской или тем более провокаторской деятельности Лавриненко до лета 1906 года нет сведений. А вот обстоятельство второе, решающее: 19–20 июля 1906 года он был одним из активных участников подавления мятежа на крейсере: уговаривал колеблющихся искупить вину арестом бунтовщиков, и сам, с риском для жизни, организовывал этот арест. Стало быть, пользовался доверием части команды, и был благонадёжен. Правоохранительная активность не прошла без внимания со стороны начальства: Лавриненко получил серебряную медаль «За храбрость» и был произведён в офицерский чин – подпоручик по адмиралтейству. С этого момента и началось его сотрудничество с тайной полицией.
С 1906 по 1912 годы он работал осведомителем, регулярно появлялся в известном доме на Фонтанке, 16, в здании Департамента полиции, где помещался и Особый отдел. В коридоры Департамента можно было попасть с парадного подъезда, через переход, соединяющий рабочие корпуса здания с казённой квартирой министра внутренних дел; а можно и через особый ход, со двора. Двор этот другими дворами сообщался с Пантелеймоновской улицей (ныне ул. Пестеля). Вошёл с Фонтанки, вышел в трёхстах саженях, за углом, на Пантелеймоновской. Очень удобно для секретных сотрудников. С 28 апреля 1912 года Лавриненко ходил этим путём уже в качестве небольшого начальника – резидента. Как видно из завещания, больших капиталов не нажил. Правда, чины шли. Впереди светила отставка и скромная пенсия. И вот – революция.
Послереволюционная судьба бывшего артиллерийского кондуктора – череда арестов, освобождений, попыток бегства за границу. Первый раз арестован в марте 1917-го, отпущен в июле. В начале 1918-го бежит на юг, на Дон, потом – в Астрахань. Почему не присоединился к белым? Потому же, почему в предреволюционные годы не был принят в офицерской компании: презираем за свое происхождение и за свою секретную работу (шила в мешке не утаишь!). Из одной среды выбился, к другой не прибился. Всем чужой. В 1919 году бежит в Киев; отступающие деникинцы не берут его с собой. В 1920 году пытается пробраться к Врангелю – неудачно. Возвращается в Петроград. Гражданская война закончилась. В оживающем потихоньку городе Лавриненко под чужой фамилией и по фальшивым документам устраивается на работу – не слишком романтическую, но вполне подходящую для бывшего резидента: он переквалифицируется в управдомы. Собирает квартплату, бранится по поводу лампочек в подъезде. А сам в это время готовит побег за границу. Задержан при попытке нелегально перебраться в Финляндию, приговорён к ссылке. Бежит из ссылки, снова меняет имя, пытается пробраться – прямо-таки Остап Бендер – через румынскую границу, и снова неудачно. При очередном аресте, в 1928 году, опознан. Следствие. По иронии судьбы, допросы подследственного Лавриненко проводились в том самом здании на Фонтанке, 16, и даже в том же самом кабинете, где когда-то резидент Лавриненко докладывал собранную агентурную информацию своим высоким начальникам Трусевичу и фон Коттену.
Орно, или злоключения эстонца
Понятно, что при советской власти бывшим царским агентам и провокаторам приходилось солоно; республика диктатуры пролетариата пользовалась услугами новых стукачей, а тех, старых, разыскивали, судили и вообще всячески отравляли им жизнь. Но и при «прежнем режиме» положение секретных сотрудников было аховым. В архивах сохранилось изрядное количество документов – прошений, писем, служебных записок – показывающих, как низко ценила власть своих тайных слуг. Некоторые сочинения – просто вопли гибнущих душ.
В феврале 1910 года в Петербурге совершил попытку самоубийства некто Эдуард Орно, по документам – крестьянин Эстляндской губернии, Ревельского уезда. В Обуховскую больницу для бедных он был доставлен с признаками отравления мышьяком. При неудачливом самоубийце была обнаружена записка на имя вице-директора Департамента полиции. Сохраняем особенности синтаксиса, орфографии и пунктуации оригинала:
«Простите, Ваше Превосходительство, что я ещё имею одну просьбу после моей смерти. Я приехал в С-Петербург ноябре месяце и начал искать к себе занятий но никакого занятий я не нашёл, и денег мне кончил, страшно я голодал и нуждал и остался тоже без квартиру и не мог никак вытерпеть больше такого тяжёлого положения. Кроме того меня окружает опасность из революционной организации по делу Стокгольма, и некому своему знакомому я не могу обратиться; и без места и без всяких помощь я не мог никак вытерпеть такого безвыходного положения. Я подал прошение к Вашему Превосходительству, но я никакого ответа я не получил и за этого я решил покончить с собою самоубийством, чтобы всё моё мучение было уже кончено, хотя бы и жалко умирать, но нет выхода никакого. Так как я единственный помощь к своему матери и несовершеннолетний брату и сестре, и теперь они остаются без помощи, поэтому имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не найдёте ли возможным выдать малейший помощь к моему матери. Эдуард Орно. Бывший секретный сотрудник».
Обратим внимание на упоминание о Стокгольме в этом душераздирающем документе. Дело-то серьёзное. Столица нейтральной Швеции после поражения первой русской революции стала прибежищем самых радикальных революционеров. В 1906 году здесь проходил IV («Объединительный») съезд РСДРП; в 1906–1907 годах боевая организация эсеров под руководством ещё не разоблачённого Азефа здесь же разрабатывала план убийства Николая II. По наведённым в Департаменте полиции справкам выяснилось, что секретный сотрудник Орно имел прямое отношение к предотвращению этого теракта. «Из отчёта о деятельности Орно в г. Стокгольме видно, – пишет чиновник Департамента в справке, составленной для товарища министра внутренних дел генерала Курлова, – что он не только был осведомлён о готовящемся покушении на жизнь Государя Императора… но и лишил революционеров возможности осуществить свой преступный замысел, заблаговременно сообщив об этом нашему посланнику в Стокгольме». Чиновник несколько преувеличивает: покушение не состоялось потому, что сам Азеф был агентом-двойником. Но свою роль Орно тоже сыграл. Не исключено, что Азеф использовал его как один из каналов, чтобы «слить» полиции информацию о готовящемся взрыве.
Так или иначе, незадачливый самоубийца выжил. В вознаграждение за все заслуги, муки и страдания товарищ министра назначил горячему эстонскому парню единовременное пособие в размере двухсот рублей (по тем временам – двухмесячная зарплата служащего средней руки). Малость очухавшись, в начале марта, по выходе из больницы, Орно пишет прошение: «Нахожусь в настоящее время в крайней нужде, не имею квартиру и страшно голодаю… поэтому имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать мне выдать денежное помощий, чтобы я мог вырвнуть (так! – А. И.-Г.) с этого тяжкого положения и уехать в заграницу». Прочитав, Курлов, должно быть, прослезился и накинул к пособию ещё сотню. Как жил дальше ревельский крестьянин, смог ли он осуществить мечту и смыться от всех друзей и врагов «в заграницу» – этого мы не знаем.
Недооценённый Кулагин
Но что там – мелочь типа Орно! И более значительные работники бедствовали, в лучшем случае довольствуясь грошовыми подачками из «секретных сумм» Департамента полиции. В июне 1910 года начальник Петербургского охранного отделения полковник фон Коттен пишет директору Департамента полиции Зуеву о некоем агенте Владимире Кулагине, числящемся по документам в крестьянском сословии. По словам Коттена, Кулагин десять лет – с 1898 по 1907 год – состоял секретным сотрудником охранки, «причём в начале службы занимал положение организатора и члена Петербургского комитета местной организации РСДРП, а в 1905 г. перешёл в партию социалистов-революционеров, в которой был также организатором и членом Петербургского комитета… В 1904 г., по сведениям Кулагина, было произведено несколько удачных ликвидаций местной организации РСДРП, которые… сильно понизили преступную деятельность этой партии в столице. Начиная с 1905 г. Кулагин даёт Отделению ценные сведения о деятельности партии социалистов-революционеров». Далее следует длинный список «ликвидаций», осуществлённых по наводке Кулагина.
Во время одной из таких полицейских акций, в 1906 году, Кулагин был арестован вместе с группой эсеровских боевиков. За участие в следствии в качестве осведомителя тогдашний начальник питерской охранки полковник Герасимов обещал ему освобождение, новые документы на вымышленное имя и денежную награду в четыре тысячи рублей. Но, по обыкновению российских чиновников, обещание не сдержал. Кулагин был осуждён на каторгу, да и без денег остался. От каторги его спасло помилование, но в тюрьме бедняга подхватил чахотку и на свободу вышел инвалидом. Тогда и обратился за помощью в родное учреждение.
Два года бумаги Кулагина перебрасывали в здании на Фонтанке с одного стола на другой. На запрос вице-директора Департамента полиции статского советника Виссарионова Герасимов (теперь уже генерал) отписал, что «Кулагин был арестован с его согласия» и что «ходатайство о выдаче ему за оказанные услуги особой крупной суммы не заслуживает уважения, т. к. со дня его арестования и по день помилования Кулагину продолжало выдаваться жалование по 75 рублей в месяц, что в течение 1 года и 7 месяцев составляет 1425 рублей».
Коттен оказался сердобольнее Герасимова. Перед Зуевым он ходатайствовал о выплате ценному агенту всей обещанной суммы. К тому же Кулагин продолжал оказывать услуги полиции, дав, в частности, новые важные показания по делу эсеров-террористов Чернова, Прокофьева, Рутенберга и др. (напомню: всё это – серьёзные люди, соратники Гершуни и Савинкова, организаторы и участники многих революционных терактов); с ними он вполне доверительно общался уже в тюремной камере и на этапе. Зуев не посмел самостоятельно решить вопрос о награждении самоотверженного доносчика. О деле было доложено товарищу министра П. Г. Курлову. Слава богу, тот оборвал бесконечную цепь полицейских проволочек и приказал выдать Кулагину тысячу рублей. Не то пришлось бы докладывать самому министру Столыпину. А может быть, и государя императора беспокоить.
Окладский: между страхом и надеждой
Подобных примеров бедственного положения, в котором оказывались сотрудники царских спецслужб, и полного пренебрежения к ним со стороны высокопоставленных начальников – можно привести множество. Неизбежен вопрос: а чего ради эти несчастные вступали на мрачную стезю провокаторской деятельности? Не из идейных соображений: идейные борцы не просят подачек, да и были ли когда-нибудь у российского государственного строя самоотверженные защитники? Ради денег и чинов? Но, как видим, никто из них карьеры не сделал и не разбогател (кроме разве что Азефа, но об этом демоне провокации разговор особый). Конечно, условия вербовки бывают самые разные. Но, по-видимому, самым распространённым мотивом поступления на секретную службу был обыкновенный страх. Страх ареста, страх смерти, страх… Неизвестно чего. И верная подруга страха – надежда.
Одна из первых в истории Департамента полиции операций по вербовке секретного сотрудника оказалась и одной из самых удачных. Осенью 1880 года с полицией начал сотрудничать Иван Окладский. Когда много лет спустя П. А. Столыпин ходатайствовал перед государем о даровании Окладскому (в то время носившему вымышленную фамилию Петровский) прав потомственного почётного гражданина, он мотивировал это «исключительными заслугами» нашего героя «в деле политического сыска». Ценность его как сексота заключалась прежде всего в том, что он был одним из основоположников революционного террора в России.
Как известно, систематический революционный террор начался с образованием «Народной воли» в 1879 году. Окладский принадлежал к узкому кругу творцов этой смертоносной организации. Его «послужной список революционера» выглядел в глазах товарищей безупречно. Уже в 1874 году, в девятнадцать лет, участник подпольного Южнорусского рабочего союза, он знакомится с вдохновенным апостолом революционной борьбы Андреем Желябовым, становится его ближайшим соратником. Радикальные «землевольцы» решают образовать боевую организацию – Окладский среди них. Во время подготовки первого покушения на Александра II на железной дороге под Александровском он – незаменимый и самоотверженный исполнитель – возится с опаснейшей взрывчаткой, лично закладывает бомбы под рельсы. Попытка закончилась неудачей; в 1880 году Окладский был арестован вместе с Квятковским, Пресняковым, Ширяевым и ещё дюжиной товарищей. На судебном процессе в октябре того же года произносит пламенные речи: «Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении своей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление». В числе опаснейших злодеев был приговорён к смертной казни через повешение.
Вот тут-то и попался. За несколько дней до предполагаемого дня казни в камеру Окладского явился искуситель – жандармский офицер Комаров. О состоявшемся между ними разговоре мы можем судить по донесениям последнего. Комаров осторожно дал понять осуждённому, что для него возможно помилование. Цена – сотрудничество с полицией. Дни и ночи ожидания смерти в одиночной камере сделали своё дело. Как всё произошло – в деталях мы не знаем. Сразу или постепенно, но Окладский решился. Через несколько дней он уже давал первые показания: о содержании междукамерных «бесед»-перестукиваний. Потом был использован для опознания арестованных народовольцев (все они, дабы запутать следствие, скрывали свои настоящие имена). Он же поучаствовал в аресте и опознании Желябова: вывел полицию на конспиративную квартиру на Невском, 66 (угол Фонтанки), где вождь «Народной воли» и был арестован. Словом, поработал усердно.
С этого момента Окладский стал заложником собственной жажды жизни и игрушкой в руках спецслужб. Скрываясь от бывших товарищей, он несколько раз менял имя, фамилию и место жительства. Действовал в Тифлисе под фамилией Александров. В 1888 году, уже как Иван Петровский, был возвращён в Петербург и внедрён в революционно-террористический кружок Истоминой; его стараниями все «истоминцы» были вычислены и арестованы. В последующие годы агентурная деятельность «Техника» (полицейская кличка Окладского) носила эпизодический характер.
Надо признать: даже ему, ценнейшему, незаменимому агенту, о котором министр внутренних дел докладывал самому государю, Департамент полиции платил мало. К сорока годам Окладский-Петровский едва-едва смог накопить денег на покупку скромного домика на окраине Петербурга, где и зажил тихой семейной жизнью. Революция отняла у него это скромное достояние. Окладский обнищал, что и стало причиной его погибели. Он имел неосторожность обратиться к советской власти за пенсией – как ветеран революционного движения. «Органы» заинтересовались бойким старичком (Окладскому было уже под семьдесят), выяснили его настоящее имя и роль в судьбе революционных организаций. В январе 1925 года состоялся суд; председательствовал старый большевик-подпольщик А. А. Сольц, обвинителем выступал Н. В. Крыленко (оба они будут расстреляны через десятилетие). Бедного провокатора приговорили к смертной казни. Дежавю: как и сорок пять лет назад, приговор не был приведён в исполнение; Верховный суд заменил казнь десятью годами заключения со строгой изоляцией. Юридически это – то же самое, что в тридцатые стало называться «10 лет без права переписки».
Рекламный плакат
Кулачный бой
Рекламный плакат
Артель ложкарей
Часть третья. Число зверя, или Зачем они убили Распутина?
I. Дворец-ловушка на Мойке
Этот великолепный и мрачный замок на Мойке я знал с детства. Меня привели сюда учиться английскому языку – было там тогда что-то такое для детей, какие-то курсы… Замок назывался рутинно-буднично: Дворец культуры работников просвещения. Название нимало не соответствовало угрюмо-прекрасным чертам аристократического гиганта. Помню, в первый же мой приход поразили меня узкие лестницы, отражающиеся в зеркалах неожиданные повороты, сводчатые коридоры, которыми надо было пробираться куда-то влево и вправо, вверх и вниз, чтобы оказаться наконец в угловатой комнатёнке под крышей, где окна начинались прямо от пола. Выглянув вниз, можно было увидеть широкий карниз и массивные контуры аттика. Под ними, совсем внизу, поблёскивала хмурая Мойка, ограждённая витиеватой решёткой. Было интересно и страшновато.
Ещё страшнее и интереснее было идти в кружок рисования, работавший в том же дворце. Кружок рисования почему-то располагался в небольшой полукруглой зале, то ли без окон, то ли с одним узким и тёмным оконцем, выходящим неизвестно куда, и вела к этому помещению какая-то отдельная, каменная, тесная и, кажется, винтом закрученная лестница. На этой лестнице не было никаких иных площадок и дверей, и её, нору, просверленную в нечеловеческом массиве стен, надо было ещё отыскать; а для этого – пройти мимо помпейских росписей библиотеки, свернуть в боковой сумрачный коридор, оказаться в странной, не то готической, не то мавританской гостиной, миновав её – отворить какую-то потайную дверь… Всё тут мерцало великолепием и тайной.
Пальто оставляли внизу, в гардеробе, в полуподвале. Рядом с закутком, заставленным вешалками, невысокий, без дверей, проём вёл в некое помещение, почти квадратное, толстыми стенами отделённое от внешнего мира и перекрытое мощным сводчатым потолком. В этом помещении прозаически сидели родители и бабушки, поджидавшие своих детишек с занятий. Находилось оно прямо под парадной лестницей, и боковой ход из него вёл через коридорчик куда-то во двор.
Тогда, помню, из разговоров между бабушками, я впервые услышал об убийстве Распутина. Что, мол, убили страшного старика в этом дворце. Где-то здесь, в подвале, в потайной гостиной. Всё это было мной почувствовано как-то очень живо: убийство – и эти стены, своды, лестницы и коридоры, этот загадочный фонарик у выхода в круглый внутренний двор. Живо ещё и потому, что моя крёстная, читавшая тогда остродефицитные (1969 год!) мемуары Шульгина и Витте и рассказывавшая мне про Распутина, сама хорошо помнила ТЕ времена, видела своими глазами кое-кого из ТЕХ героев. Пуришкевича, например; государя императора с семейством. Она училась в Свято-Владимирской церковно-учительской школе при Новодевичьем монастыре, что на Забалканском (ныне Московском) проспекте. Попечительница школы, Екатерина Александровна Победоносцева, вдова Великого и Ужасного, нередко посещала своих подопечных в сопровождении тех или иных знаменитостей, великосветских дельцов, политиков и вельмож. В день ТОГО убийства моей крёстной было семнадцать лет.
Чутьём очевидицы она понимала: как бы ни была опереточно-ничтожна политическая игра под названием «Распутин», её развязка наступила за семьдесят пять дней до крушения империи. До начала настоящей пьесы. Есть связь.
«Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Попытаемся.
Об убийстве Распутина написано множество книг, статей, повестей, псевдо-мемуарных легенд. Чего только не написано. Несколько раз на эту тему снимались фильмы – и у нас, и за границей. Красочную сцену в надрывном стиле мистико-политического триллера создал Элем Климов в фильме «Агония». Климовская высокопарность, помноженная на безумные глаза и дикие космы Распутина – Петренко, врезались в память. Так все и запомнили: вот, несколько красивых и благородных героев «из бывших», спасая горячо любимую Россию, осмелились уничтожить это страшное, нечеловечески-всесильное, гадкое – Распутина, в коем воплотился чуть ли не сам антихрист… Как-то всё это напряжённо, как-то вымученно, неестественно. Хочется сказать: «Не верю!» Хочется разобраться, как же всё было на самом деле. Понять, что же именно случилось тогда: за два с половиной месяца до начала революции.
Почти все рассказы о кровавой драме во дворце на Мойке – научные, околонаучные, антинаучные, художественные и киношные – восходят к двум источникам, сотворенным соучастниками убийства: к очень кратким воспоминаниям экс-депутата Государственной Думы Владимира Пуришкевича и к пространному, красочному рассказу, содержащемуся в мемуарах князя Феликса Юсупова. В чём-то оба источника сходятся, в чём-то противоречат друг другу. В общественном сознании доминирует юсуповская версия.
Краткие сведения о её авторе.
Владелец дворца на Мойке и соучастник расправы над «другом» царя и царицы, этот Феликс носил тройную фамилию: князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Он был «единственным в своём роде», даже в трёх: наследник трёх богатейших аристократических династий. Феликс – что значит «счастливый» – действительно был редкостным счастливцем. Потомок Чингисидов и Гогенцоллернов, унаследовавший имений и капиталов больше, чем сам царь, красавец, чей «женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал» запечатлён самим Валентином Серовым, удачливый в связях со светскими красавицами (и красавцами), умудрился и жениться так, как не удавалось никому: на великой княжне и племяннице самого государя. Ирина Александровна, дочь великого князя Александра Михайловича (генерал-адмирала) и Ксении Александровны (родной сестры Николая II), принесла Феликсу своё приданое, свои придворные связи и свою девственную красоту.
И вот этот двадцатидевятилетний великосветский богач и бонвиван становится участником зверского убийства, послужившего прологом бесконечно грязной, кровавой, страшной русской революции. Потом были Февраль и Октябрь. Сам «Счастливый» в начале революции благополучно уехал с семьёй за границу, сохранив даже некоторую – вполне достаточную для жизни – часть наследственных богатств. Сочиняя на склоне лет в очаровательном Париже свои в общем-то довольно пустые воспоминания, князь Феликс явно гордился одним-единственным незаурядным поступком, как главным событием жизни. Своё участие в убийстве Распутина он описывает художественно и с наслаждением. Наверное, поэтому ему все и поверили.
Вкратце – юсуповская версия. Пытаемся сохранить образный строй и стиль мышления автора.
Рассказ князя Феликса
Распутин был чудовище, сексуальный маньяк и гипнотизёр; он подчинил своей воле императрицу, императора и их окружение; он творил оргию на священном престоле Российской империи, назначал и смещал министров и парился в бане с придворными дамами. Его надо было убить, но никто не мог (или не решался) это сделать. Князь Феликс – решился. Он привлёк к заговору юного конногвардейца великого князя Димитрия Павловича и крайне правого депутата Думы Пуришкевича. Пытался привлечь и левого депутата Маклакова (кадета), но тот на приглашение ничего не сказал, только достал из ящика стола свинцовый кистень, вручил его князю Феликсу и в глаза посмотрел со значением. Пуришкевич посоветовал позвать ещё доктора Лазаверта, а сам Феликс отыскал пятого соучастника: поручика Сухотина.
Дело оставалось за малым: Распутина надо было залучить в дом Юсупова. Для этого Феликс через не называемую по имени «знакомую», мадемуазель Г., проник в круг друзей чудовищного «старца», несколько месяцев, преодолевая отвращение и брезгливость, тесно общался с ним, пел ему романсы и пил с ним мадеру (по другим сведениям портвейн). Наконец почувствовав со стороны Распутина доверие, решил поймать его, как рыбу на крючок. Распутин был невероятно, сверхчеловечески сластолюбив; вот Феликс и предложил устроить ему в своём доме тайное эротическое свидание с собственной женой Ириной. От такого предложения Распутин отказаться не мог и, дрожа от вожделения, даже согласился явиться во дворец на Мойке тайно, без охраны (Феликс пояснил, что если родители Ирины, великий князь и великая княгиня, узнают, что… то вознегодуют, устроят скандал, побегут жаловаться государю). Назначили время «свидания».
Князь, тоже тайно, с Димитрием, Пуришкевичем, Лазавертом и Сухотиным стал готовить декорации и реквизит для драмы. В подземелье дворца была оборудована наглухо изолированная от внешнего мира гостиная; там накрыли стол, расстелили меха, повесили ковры. На стол поставили бокалы и блюдо с пирожными. Лазаверт, как опытный медик, надев на руки перчатки, отмерил цианистый калий и положил его в пирожные (эклеры) и в пустые ещё бокалы (не во все, а в некоторые). Когда всё было готово, Димитрий, Пуришкевич и Сухотин пошли наверх ждать, а князь Феликс с Лазавертом поехали «на моторе» за «старцем».
Распутин со всего маху угодил в ловушку. Всегдашняя подозрительность и сверхъестественная проницательность покинули его (представляем себе, как он хотел Ирину), и вот, через час – чудовищный мужик с князем во дворце; они спускаются в роковое подземелье. Остальные в это время устраивают шум и гам наверху, заводят граммофон, изображая светскую вечеринку у княгини; на нетерпеливые вопросы Распутина князь Феликс говорит, что у жены гости, что они вот-вот уйдут, и тогда… А пока предлагает выпить мадеры и подкрепиться пирожными. Распутин (опускаем мелкие подробности) ест пирожные с цианистым калием, пьёт мадеру из отравленных бокалов – и ему, к ужасу князя Феликса, ничего не делается, только через час он начинает слегка жаловаться на головную боль, жжение в брюхе и сухость во рту. Князь в панике бежит наверх; друзья его тоже в панике; Лазаверт клянётся, что цианида было столько! – слона можно убить. Что делать? Димитрий даёт князю револьвер, Феликс бежит вниз, застаёт Распутина рассматривающим распятие на поставце; после тяжких раздумий и нескольких многозначительных фраз он стреляет Распутину в сердце, тот падает. Четверо сверху, заслыша выстрел, бегом спускаются в тайную гостиную, долго и внимательно рассматривают распростёртое на медвежьих шкурах тело. Лазаверт констатирует смерть.
Димитрий, Сухотин, Лазаверт едут на Гороховую, к дому № 64, где жил «старец», имитировать его возвращение. Пуришкевич отлучается куда-то. Феликс смотрит на труп – и вдруг труп оживает, Распутин поднимается на ноги, изо рта его хлещет кровь, скрюченными пальцами он хватает остолбеневшего князя за горло, начинает душить. Совершив нечеловеческое усилие (как во сне), Феликс вырывается из лап монстра, бежит наверх, кричит Пуришкевичу: «Он жив!» Вдвоём они бросаются вниз – и застают Распутина ползущим по направлению к двери, что ведёт во двор. Дверь заперта, но что такое замки перед гипнотической силой Распутина? Он открывает дверь и скрывается во тьме декабрьской ночи. Пуришкевич кидается за ним, стреляет: раз, два, три, четыре… Распутин падает, Распутин лежит неподвижно. Он – мёртв. Мёртв? С Феликсом приключается истерика: когда труп внесли в дом и положили на лестнице, Феликс кинулся на мертвеца и стал избивать маклаковским кистенём. Насилу оттащили.
С улицы прибежал городовой: слышал выстрелы. Его успокоили, сказав, что господа напились и стреляли в воздух. Дело чуть не испортил Пуришкевич, вдруг явившийся и закричавший городовому:
– Да знаешь ли, кто я? Я депутат Пуришкевич, и я только что убил Распутина.
Но городовому объяснили, что барин пьян и шутит, и он убрался. Тем временем приехали остальные заговорщики; труп погрузили в машину Димитрия Павловича, отвезли на Острова и спустили под лёд возле Петровского моста. Там через три дня его обнаружила полиция.
Рассказ князя Феликса хорош во многих отношениях – и как беллетристическое произведение, и как опыт устранения демонов, и как сценарий остросюжетного фильма (неспроста именно сие мрачно-эффектное повествование легло в основу экранной версии убийства Распутина)… Один у него недостаток: он от начала до конца не соответствует действительности. Он выдуман. Юсуповское повествование поражает обилием внутренних несообразностей и внешних нестыковок.
Несообразность первая. Повод: Ирина. Князь Феликс (не смущаясь некоторой долей неблагородства, и даже, пожалуй, по-декадентски бравируя им) утверждает, что заманил Распутина в ловушку, обещая ему собственную жену. И тут же сообщает, что Ирины Александровны не было в Петрограде: она спокойно отдыхала в юсуповском имении в Крыму. Странно, не правда ли? Крым в декабре месяце, ветреный и дождливый, не лучшее место отдыха племянницы императора и супруги богатейшего аристократа России. Но – допустим. Допустим, княгиня Юсупова имела странное пристрастие к слякотной крымской зиме. А может, у неё были и другие причины уехать подальше от столицы (то, что её действительно не было в тот день в городе, можно считать достоверно установленным фактом). Но ведь все сведения о месте пребывания такой заметной личности, как княгиня Ирина Александровна, без малейшего труда можно было получить где угодно: у прислуги, в свете, при дворе, не говоря уже о полиции… Распутин располагал каналами для сбора подобной информации. Распутин должен был обладать репутацией поистине невероятно доверчивого человека, чтобы князь Феликс, заманивая его в ловушку, не предусмотрел возможности простой проверки. Рассказывают даже, что императрица Александра Фёдоровна, которой Распутин якобы признался в намерении «свидеться» с княгиней Ириной, высказала удивление: мол, её же нет в столице. И после этого «старец» ни в чём не усомнился. А ведь наведи Григорий Ефимович справки – и вся юсуповская авантюра летела бы к чертям, вместе с её создателем.
Несообразность вторая. Легкость, с которой Юсупов уводит осторожного и подозрительного Распутина от его охраны. У этой темы есть разные – явные и скрытые – стороны, и мы к ней ещё вернёмся. Но в любом случае поразительно, как это всё просто делается: достаточно войти по чёрной лестнице в квартиру усиленно охраняемого «объекта», вывести его на улицу, нахлобучить поглубже шапки себе и ему, поднять воротники, посадить в машину, завести мотор, поехать – и вся охрана сбита с толку. «Ох, рано встаёт охрана…»
Несообразность третья. Участие в деле поручика Сухотина и доктора Лазаверта. Это, поистине, загадочные личности: ни до, ни после убийства Распутина мы не слышим о них ничего. Сам Феликс объясняет их привлечение к убийству немногословно и туманно: «Я часто виделся с поручиком Сухотиным, раненным на фронте и проходившим лечение в Петербурге. Друг он был надёжный». Ничего не скажешь, веские основания для того, чтобы открыть постороннему человеку план опасного политического заговора, привлечь к участию в нём. И с какой целью? Что должен был делать Сухотин? Непонятно. Тоже и Лазаверт. Юсупов пишет: «Пятым в дело мы по совету Пуришкевича приняли Лазаверта». Кто он? Что он? Почему его «советует» Пуришкевич? Что могла значить рекомендация истеричного, неуравновешенного Пуришкевича? Что он должен был делать? Класть яд в пирожные? Но для этого не так уж необходимо участие никому не известного лишнего человека, хотя бы и с докторским дипломом. Констатировать факт смерти? Но обычно убийцы справляются с этой задачей и без участия докторов.
Вообще говоря, непонятен весь состав поименованных Юсуповым участников заговора. Зачем так много? Какова, например, роль Пуришкевича? Что он должен был делать? А великий князь Димитрий? Согласно рассказу Юсупова он играл всего-навсего роль хранителя револьвера, из которого был застрелен Распутин. Маловато для «принца крови». Складывается впечатление, что эти четверо приглашены как зрители на спектакль. Или же, предвидя сказочную живучесть «старца», Юсупов набирал как можно больше соучастников – кто с ядом, кто с револьвером, кто с удавкой?
Кстати – о самом способе убийства. Тут тоже полно несообразностей. Чтобы подсыпать яд в вино и в десерт, не обязательно собирать целый отряд заговорщиков. Потом: цианистый калий есть цианистый калий – если его съешь, то мгновенно умрёшь. Конечно, если принять, что Распутин не человек, а демон, монстр, оборотень – тогда другое дело. Правда, в этом случае непонятно, как и почему его всё-таки удалось убить? Не крест же, в самом деле, тому причиной – крест с распятием, на который засмотрелся Распутин, перед тем, как Юсупов (согласно его же рассказу) разрядил в него великокняжеский револьвер! Будем всё-таки исходить из того, что Распутин – человек. Тогда: ежели он не умер, съев и выпив отравленную еду и выпивку, то значит, никакого цианида калия в еде и выпивке не было. Вообще, вся эта история с попыткой отравления выглядит страшно ненатурально: прямо-таки сцена из немого фильма про злодейства Медичи или Борджиа. Особенно смешно, что Распутин через час после отравления жалуется на недомогание: «Голова тяжёлая и в брюхе жжёт». И Феликс дополняет анамнез: «Лей! – сказал он глухо… Глаза его были тусклы». Смею утверждать: не только цианид калия или натрия, но и ни один из продуктов разложения цианидов не способен вызывать те картинно-кинематографические симптомы (отравленный хватается за голову, сгибается пополам от болей в животе, глядит остекленевшим взглядом), которые приписывает князь Феликс Распутину. Цианид – кровяной яд, он блокирует снабжение тканей организма кислородом, что приводит к мгновенной смерти. Головная боль, безумный взгляд – симптомы отравления алкалоидами; болью в животе мучаются отравленные мышьяком. Князь Феликс рисует картину этаких обобщённых мучений от яда, чтобы страшнее было.
Между прочим, загадочный Лазаверт, нигде и никогда не проявивший себя после декабря 1916 года, не оставил ни слова воспоминаний о своём участии в убийстве Распутина, кроме одного высказывания. Говорят, что уже в конце тридцатых годов он обмолвился, что никакого яда в пирожные и в бокалы, предназначенные для «старца», он не клал. Вот это – логично. И очень правдоподобно. И вся версия Юсупова рушится.
Надо сказать, что вообще антураж и драматургия выписанной Юсуповым сцены убийства поражает картинной ненатуральностью, обилием бессмысленных деталей. Это мрачное подземелье замка; эта потайная гостиная, наглухо изолированная от внешнего мира; игра на гитаре (убийца играет и поёт романсы жертве); распятие на поставце, перед коим замер в задумчивости сверхъестественный старец за минуту до смерти… Книжно это! Киношно! «Он подошёл ко мне вплотную и заглянул в лицо… Я медленно поднял револьвер… Рука напряглась. Я прицелился в сердце и спустил курок. Распутин крикнул и рухнул на медвежью шкуру». И после всего – итоговая нелепость: убитый выстрелом в сердце, ОН оживает, костенеющими руками хватает Юсупова за горло; изо рта ЕГО хлещет кровь; ОН выбирается во двор через запертую дверь, и уже там, во дворе, в зимних потёмках, ЕГО добивают четырьмя выстрелами.
Поверить во всё это – невозможно. Глупость. Проблема оживающих покойников, как мы знаем, легко и просто решается контрольным выстрелом в голову. Вместо того, чтобы «дрожать всем телом», бегать вверх и вниз по лестницам сумрачного дворца, звать Пуришкевича на помощь, Юсупову достаточно было разрядить револьвер в висок или затылок лежащего на полу Распутина – и всё. И никуда бы он не пополз, «хрипя и рыча, как раненный зверь». Да и пальба на улице как-то неправдоподобна. Её должен был услыхать не «один городовой на набережной», как уверяет Юсупов, а весь квартал… Кстати, стенка в стенку с усадьбой Юсупова располагалось здание военно-окружного суда и казармы. Услышать четыре револьверных выстрела в этом отнюдь не шумном углу города – было кому.
В общем, ясно: князь Феликс мистифицирует читателя. Зачем и почему – к этому вопросу ещё вернёмся. Что же выявится в сухом остатке после выпаривания княжеской лжи? Примерно следующее.
Распутин действительно прибыл во дворец Юсупова вечером 16 декабря, действительно, тайно, действительно, без охраны. Там, во дворце, он был убит пятью выстрелами из револьвера. Во дворце в это время находились Юсупов и Пуришкевич (их присутствие засвидетельствовано полицией). Труп Распутина был вывезен на автомобиле великого князя Димитрия Павловича и спущен в прорубь под лёд у Петровского моста. Всё.
Но за этой краткой констатацией – новая волна вопросов. Первое: как на самом деле Распутин попал в западню? Второе: какова истинная роль Юсупова? Пуришкевича? Великого князя? Участвовали ли в убийстве Сухотин и Лазаверт, и если да, то каким образом? Далее: зачем Феликсу Юсупову понадобилось сочинять свою мыльную оперу? Почему все остальные участники хранили о деле гробовое молчание? Ведь в эмиграции они могли неплохо заработать на этой излюбленной бульварной прессой теме. (Проговорился, правда, рано умерший Пуришкевич, но его рассказ совпадает с версией Юсупова в неправдоподобных деталях, и противоречит ей в правдоподобных. Тоже почему-то врал? В сговоре с Юсуповым?)
Вопросы, вопросы… Да, кстати, главный среди них, которым мы уже задавались: как оказался «старец» не только без охраны, но и вне поля зрения неотступно следивших за ним агентов наружного наблюдения? Ведь его не только охраняли (по личному распоряжению государя охрана должна была находиться при Распутине неотступно), за ним вели негласное наблюдение и секретные сотрудники Департамента полиции… И не только они. Вот тут имело место одно обстоятельство, о котором князь Феликс не был осведомлен, и поэтому не учёл его в творимой им легенде.
II. Загадочный Бонч-Бруевич
Среди множества сочинений о Распутине и его гибели есть одно, небольшое по объёму, но чрезвычайно интересное воспоминание. Уже сам автор его необыкновенно интересен. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, генерал-майор царской армии, родной брат известного большевика, впоследствии секретаря Совнаркома, Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. При советской власти он недолго занимал командные должности в Красной армии, потом ушёл на преподавательскую работу, написал книгу мемуаров, изданную «Воениздатом» в 1957 году под верноподданническим названием «Вся власть Советам», почему-то без указания тиража. Сейчас эта книга – библиографическая редкость. Мемуары Бонч-Бруевича хорошо известны, но не оценены должным образом как исторический источник. Понятно, почему: они писались бывшим царским генералом и братом соратника Ленина в сталинские годы, с оглядкой и опаской, и поэтому их нужно просеивать и провеивать, как обмолоченную пшеницу, отделяя зерно информации от плевел самозащиты и идеологической мякины. Между тем они написаны человеком, исключительно информированным. И говорящим правду – хотя, не только правду и не всю правду.
Кто такой этот странный Бонч-Бруевич? Анализируя его биографию, приходим к выводу, что он был на политическом горизонте предреволюционной России… никто – до весны 1915 года. К началу Мировой войны имел скромный чин полковника, командовал 176-м Переволоченским полком на Украине. Конечно, Департаменту полиции и Киевскому охранному отделению должно было быть известно, что брат переволоченского полковника является членом подрывной организации, провозгласившей с августа 1914 года курс на поражение России в Мировой войне, что брат этот живёт в эмиграции в Швейцарии и тесно связан с непримиримым врагом Российской империи Ульяновым-Лениным… Но ни охранка, ни Департамент полиции не имели никакого отношения к назначениям по военному ведомству. Военное же начальство не только не запрашивало «вездесущую охранку» о каких-либо сведениях на своих офицеров, но категорически запрещало проводить в отношении них негласные следствия. Уже через три недели после начала войны Бонч-Бруевич получает важное повышение: из командиров полка он перепрыгивает на должность генерал-квартирмейстера 3-й армии Юго-Западного фронта, а вскоре ему на плечи падают и погоны генерал-майора.
Должность генерал-квартирмейстера в царской армии соответствовала современной должности начальника оперативного отдела штаба. Помимо разработки оперативных планов, в ведении генерал-квартирмейстера находились военная разведка и контрразведка. Инициатором перевода Бонч-Бруевича в штаб 3-й армии явился командующий армией генерал Н. В. Рузский, жена которого была подругой жены Бонч-Бруевича ещё по мирной жизни в Киеве. Дружба двух дам, приятных во всех отношениях, сыграла свою роль и в дальнейшем: когда Рузский возглавил Северо-Западный фронт, он и Бонча перетащил с собой, тоже на должность генерал-квартирмейстера, только уже в штаб фронта. Под началом Рузского Бонч неплохо показал себя при разработке операций в Польше осенью-зимой 1914–1915 годов и в организации контрразведывательной работы. Видимо, в связи с этим весной 1915 года ему было поручено вести дело обвинённого в шпионаже полковника Мясоедова. С этого дела начинается стремительный взлёт Бонч-Бруевича в сферы высшей политики.
Жандармский полковник Мясоедов, ещё до войны связанный с немецкой агентурой, попался в руки контрразведки при попытке передачи секретных документов германскому агенту на одной из курляндских мыз. Дело получило громкую огласку, в виновность Мясоедова не хотели верить, пресса обвиняла Бонч-Бруевича в провокации и в шпиономании. Шумиха вокруг имени жандармского офицера не случайна: в предвоенные годы он входил в ближайшее окружение не кого-нибудь, а самого военного министра генерала Сухомлинова. История дружеских отношений офицера и министра не лишена криминально-романтического ореола.
Сухомлинов, пожилой, заслуженный и недалёкий генерал, в бытность свою командующим Киевским военным округом, влюбился в супругу украинского помещика Екатерину Гошкевич-Бутович, ангела по внешности и авантюристку в душе. Роман между ними зашёл так далеко, что генерал стал подумывать о разводе. А тут как раз умирает его жена. Для соединения любящих сердец – двадцатипятилетней очаровательницы и шестидесятилетнего воина – осталось одно препятствие: муж Бутович, слышать не хотевший о расторжении брака. Вот тут на помощь влюблённому Марсу и явился ловкий Меркурий в жандармском мундире: Мясоедов. Он взялся за организацию тяжёлого и неприятного бракоразводного процесса.
Интересны лица, привлечённые им в помощники: начальник Киевского охранного отделения жандармский подполковник Кулябко и агент той же организации Дмитрий (Мордко) Богров. Оный Богров, как мы помним, состоя агентом охранки, являлся также и участником Боевой организации эсеров, а в сентябре 1911 года, пройдя по пропуску, выписанному рукою Кулябко, в здании Киевского театра смертельно ранил премьер-министра Столыпина… Впрочем, это случилось через несколько лет после развода Бутович, и вообще отдельная история. Так вот, при помощи Кулябко, Богрова, да ещё австрийского консула и международного шпиона Альтшулера, Мясоедов собрал все необходимые свидетельства и документы, уломал строптивого супруга Бутовича, и в конце концов добился расторжения брака. Сухомлинов тут же женился на очаровательной Екатерине Викторовне. Вскоре он сделался военным министром, переехал в Петербург, и, конечно, сохранил полное доверие и чувство благодарности к спасителю в голубом мундире. (Заметим в скобках: Мясоедов и потом выполнял секретные поручения Сухомлинова, в том числе по части слежки за неугодными подчинёнными, что дало повод неутомимому Гучкову, о роли которого в распутинской истории речь впереди, публично обвинить его с думской трибуны в провокаторстве. Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль. Этот единственный в своём роде поединок жандарма и депутата закончился ничем: оба остались невредимы.)
Госпожа Бутович-Сухомлинова в последующие годы играла заметную, но далеко не прозрачную роль в жизни околоправительственных кругов предвоенного Петербурга. В своих воспоминаниях Бонч-Бруевич как бы мимоходом обронил фразу о поездках «госпожи министерши» в Египет с бакинским миллионером Манташевым и о постановках там, у подножия пирамид, каких-то любительских спектаклей. Мемуары Бонч-Бруевича – настоящая тайнопись, и данная фраза, как и многое другое в этой книге, нуждается в расшифровке. Манташев – не просто миллионер-нефтепромышленник. Известно, что закавказская подпольная организация социал-демократов получала секретные денежные пожертвования от Манташева; в контакте с ним находился известный революционер Коба, он же Грузин, он же Сталин. Перепадало от Манташева кое-что и эсерам (не было ли здесь цепочки: Сухомлинова – Мясоедов – Кулябко – Богров?). Манташев имел широкие контакты за границей; его знакомство с женой военного министра, подозрительное само по себе, приобретает специфический характер в свете поездок в Египет. Едва ли дело тут было в любительских спектаклях. Египет тех лет – излюбленное место деятельности шпионов всех стран, в первую очередь – немецких, английских и французских. Напомним, что в эти годы в Каире создавал свою агентурную сеть главный резидент английской разведки на Ближнем Востоке генерал Клейтон, непосредственный начальник и «крестный отец» легендарного Лоуренса Аравийского. Начало шпионской карьеры Мата Хари (Маргариты Целле) тоже, по-видимому, связано с Египтом. Словом, вокруг Сухомлиновой и её подслеповатого мужа кипели шпионские страсти.
Арест Мясоедова в начале 1915 года был ударом по военному министру и по его весьма подозрительному окружению. Это дело стало прелюдией к отставке Сухомлинова, последовавшей летом того же года. А косвенно – смотри выше! – это был удар и по императрице Александре Фёдоровне, ибо она доверяла Сухомлинову, поддерживала его до отставки и даже после, когда был поднят вопрос о суде над ним. Это был также и тонко рассчитанный «шах» Распутину: он, вместе с «мамой» (так называл он императрицу), считался гарантом неприкосновенности Сухомлинова. Следствие по делу Мясоедова под руководством Бонч-Бруевича вёл полковник Батюшин. Запомним это имя.
Возникает вопрос: кто мог дать «добро» на арест высокопоставленного жандармского офицера, вхожего в личные апартаменты самого министра? Бонч-Бруевич не называет «заказчика». Но в связи с делом Мясоедова он упоминает о глубокой ненависти, которую питал к Сухомлинову тогдашний верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. После благополучного завершения дела (Мясоедов был повешен) Николай Николаевич добился генеральского чина для Батюшина, а Бонч-Бруевича удостоил приглашения на обед и… сразу же перевёл его в Петроград, начальником штаба 6-й армии (некоторое время спустя – начальником штаба Северного фронта). Указания, данные при этом великим князем Бонч-Бруевичу, очень любопытны. Цитируем мемуары последнего: «Вы едете в гнездо германского шпионажа, – слегка понизив голос, сказал он мне, – одно Царское Село чего стоит… В случае надобности обращайтесь прямо ко мне, я всегда вас поддержу».
Назначая Бонч-Бруевича начальником штаба армии, главнокомандующий, словно забыв о военных действиях, ставит перед ним лишь одну задачу: искать врагов и шпионов в Царском Селе. Это упоминание о Царском – очень многозначительно: сосуд с двойным дном. В широком смысле речь идёт об императорском дворе и, конечно же, об окружении императрицы Александры Фёдоровны. Императрица и Николай Николаевич – давние враги, и вот, великий князь делает сильный ход: посылает в столицу своего человека, способного взять под контроль окружение императрицы. В узком смысле «Царское Село» – это лазарет Вырубовой, служивший конспиративной квартирой Распутина. Иносказательным образом великий князь даёт своему ставленнику указание: установить слежку за окружением императрицы и, в первую очередь, за Распутиным.
В 1915–1916 годах недовольство Николаем II и в особенности императрицей Александрой в кругах высшей государственной и военной элиты породило серию осторожных, не вполне оформленных заговоров, в которых так или иначе были замешаны и некоторые высшие военачальники, и депутаты Думы, и великие князья. Наиболее решительные заговорщики уже перешёптывались о необходимости отстранения императора; более боязливые стремились лишь удалить императрицу. Разыгрывается карта: «Александра – немка, покровительствует шпионам-немцам». В то же время, удобной фигурой как для компрометации царской семьи, так и для всевозможных закулисных переговоров становится Распутин.
В новой должности Бонч-Бруевич старается, арестовывает шпионов (и правильно делает), и – всё время характерный уклон: скомпрометировать окружение императрицы. В шпионаже обвинены (и притом так, чтобы обвинения стали известны обществу) придворные немцы: гофмейстер Экеспарре, член Государственного Совета Пилар фон Пильхау, камер-юнкеры свиты её императорского величества Брюмер и Вульф… И наконец, в контексте шпионских скандалов начинает звучать имя Распутина. Тут до прямых обвинений дело дойти не могло, всё же «друг государя», но работа ведётся. Внедряется в окружение «старца» агент: журналист, авантюрист, сотрудник охранки, связанный с революционной эмиграцией, Манасевич-Мануйлов. В общество забрасываются слухи о связях Распутина с германской разведкой… Тут же звучат глухие намёки на измену Сухомлинова… Не будем обсуждать, справедливые ли. Обвинение в шпионаже тем и удобно, что его трудно доказать и невозможно опровергнуть. Важно то, что все эти обвинения нацелены на «Царское Село».
Интересна в этой истории роль непосредственного начальника и главного покровителя Бонч-Бруевича, Николая Владимировича Рузского. Она двойственна. С одной стороны – друг Сухомлинова, соучастник и покровитель его киевского романа. Екатерина Бутович-Сухомлинова до первого замужества служила машинисткой в конторе брата Рузского, киевского адвоката. Есть основания думать, что через Рузских она и вышла в свет; через Рузских же познакомилась с будущим военным министром. С другой стороны, после начала войны Николай Владимирович всё отчётливее перемещается в лагерь Николая Николаевича, не порывая, однако, и с «Царским Селом». Выдающийся стратег, ловкий царедворец и хитрый человек, Рузский стремился быть незаменимым и для тех, и для других, то санкционируя аресты, производимые Бонч-Бруевичем среди окружения военного министра и императрицы, то открещиваясь от «шпиономании» своего начштаба, то отправляясь в полуотставку под предлогом болезней (действительных и мнимых), то возвращаясь в строй, занимая с каждым возвращением всё более высокие и важные посты в военном командовании.
С августа 1915-го до середины 1916 года ситуация странным образом меняется, усложняясь до крайности: Николай Николаевич снят с поста главнокомандующего и направлен наместником и командующим в Закавказье, подальше от Петрограда; в то же время и «Царское Село» слабеет, окончательно теряя опору в высших военных кругах. Компромиссный Рузский становится действительно незаменим; его назначают командовать прикрывающим столицу и потому особо важным Северным фронтом (ставка в Пскове, тылы – в Петрограде). Любопытно: кто советует государю назначить Рузского? Распутин! Известна его секретная телеграмма царю: «Народ всеми глазами глядит на генерала Рузского, коли народ глядит, гляди и ты». Откуда такое проявление любви? Распутин – для себя или для «Царского Села»? – ищет примирения с военными из окружения Николая Николаевича. Похоже, он готов идти на переговоры, а то и примкнуть к заговору.
Но «Царское Село» не хочет сдаваться. Слишком громкий скандал с камер-юнкерами Брюмером и Вульфом переполнил чашу терпения императрицы. Рузский в очередной раз «заболевает»; Бонч-Бруевич снят с должности начальника штаба фронта, но остаётся «генералом для особых поручений» при новом командующем фронтом Куропаткине, а после возвращения хитреца Рузского – снова при нём. Осенью 1916 года ему дано такое «особое поручение»: инспектировать работу контрразведки фронта и Петербургского военного округа. Не занимая официальной должности, он снова поставлен над контрразведкой, которой теперь руководит его проверенный соратник Батюшин. Плетя сеть вокруг Распутина, Батюшин и Бонч выполняют негласные указания далёкого Николая Николаевича и близкого Рузского. По линии контрразведки устанавливается слежка за Распутиным, за Вырубовой. Между тем Рузский негласно вступает в контакт с председателем Думы Родзянко, а через него – с думской оппозицией и с её вдохновителями Гучковым и Милюковым. Заговор ширится, петля вокруг «Царского» затягивается. Генерал Бонч-Бруевич активно помогает её затягивать, не зная, чем эта история закончится для династии, для страны, для него самого.
III. Кровавая жертва
Вернёмся, однако, к мемуарам Бонч-Бруевича. В книге «Вся власть Советам» есть глава восьмая, целиком посвящённая распутинской теме. По её структуре и стилистическим особенностям видно, что глава эта была написана отдельно, как самостоятельная новелла, и потом помещена в общее русло воспоминаний. На первый взгляд, автор не сообщает ничего нового об убийстве Распутина; более того, он старательно, как школьник, повторяет все заклинания – о всемогуществе Распутина, его губительном влиянии на царя и царицу, о его пьянстве и разврате, о министрах, якобы возводимых и низвергаемых им. Повторяет мемуарист и краткий курс истории убийства Распутина по Юсупову. Но между строк всей этой банальщины вдруг проблескивают как бы вскользь оброненные сведения совершенно другого рода.
Так, Бонч-Бруевич рассказывает о намерении своими силами устранить «старца». Цитата: «Перед тем, как отдать распоряжение об аресте Распутина, я решил с ним встретиться. <…> Организатором моего свидания с Распутиным явился Манасевич. Местом встречи была выбрана помещавшаяся на Мойке в „проходных“ казармах комиссия по расследованию злоупотреблений тыла. Председателем этой комиссии не так давно назначили генерала Батюшина; он был для меня своим человеком, и я без всякой опаски посвятил его в свои далеко идущие намерения».
Этот текст, творение заправского контрразведчика, представляет собой прямо-таки шифровку, в которой рассматривать под лупой приходится чуть ли не каждое слово. Генерал Батюшин в это время – начальник контрразведки штаба Северного фронта. Почему он был для автора «своим человеком» – мы уже знаем. Встреча проходила не где-нибудь, а в том самом здании Военно-окружного суда, стенка в стенку с особняком Юсупова. Манасевич – агент батюшинской контрразведки и в то же время личность, близкая к Распутину. Распоряжения об аресте Распутина никогда не было, да оно и не могло быть отдано, по крайней мере, при этом царе. Тогда в какие же «далеко идущие планы» посвятил Батюшина Бонч-Бруевич? И какие вообще цели преследовала эта странная встреча в двух шагах от будущего места убийства одного из её участников? Бонч-Бруевич пытается уверить нас, что, боясь арестовать невиновного, он хотел посмотреть противнику в глаза. Игра в наивность! Ясно, что оба – генерал и «старец» – согласились на эту полуконспиративную встречу ради каких-то переговоров. О чём?
А ведь похоже, что это была не единственная встреча, не первый раунд таинственных переговоров. Чуть раньше Бонч-Бруевич пишет, что он побывал в том самом «находившемся в Царском Селе лазарете Вырубовой, о котором контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина». Зачем побывал? Ведь не ради душеспасительных бесед с ранеными! Единственная разумная цель – ещё одно тайное свидание со «старцем». Встречи имели успех: спустя несколько дней Бонч-Бруевич «получил от Распутина записочку», из которой узнал, что он теперь «для этого проходимца „милой“ и „дарагой“».
Обратим внимание вот на что. О лазарете Вырубовой «контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина». Значит, контрразведке Северного фронта были известны тайные распутинские адреса. За Распутиным следили по распоряжению Батюшина, который лично занимался сбором материала на Григория Ефимовича. И информировал Бонч-Бруевича. Последний утверждает, например, что за назначение Добровольского министром юстиции Распутин получил от банкира Рубинштейна сто тысяч рублей; что премьер Трепов предлагал Распутину двести; что министр внутренних дел целовал «старцу» руку. Ссылка: «от агентов контрразведки я знал». Более того, генерал цитирует конфиденциальную телеграмму, отправленную Распутиным царю и царице в Царское Село, ненавязчиво упоминая, что она была «тайно переписана кем-то из офицеров контрразведки».
Предостаточно фактов для того, чтобы утверждать: Распутин находился под колпаком у контрразведки. Ясно и то, что её главным агентом в окружении Распутина был Манасевич. Ясно, что кроме агентурного, за «старцем» было установлено внимательнейшее наружное наблюдение.
Вот теперь вернёмся к событиям 16 декабря. В тот день, как, впрочем, и в течение всего предшествующего года, Распутин находился под двойным наблюдением. Одно, о котором знал он сам, знал и Феликс Юсупов, и не знали только слепой, глухой и ленивый – осуществлялось по линии Департамента полиции. Другое, о котором не должны были ведать посторонние – по линии военной контрразведки. И если можно еще, скрепя сердце, поверить в бегство князя и «старца» от подслеповатых полицейских глаз при помощи чёрной лестницы и нахлобучивания шапки, то допустить, что «сладкая парочка» так же легко ускользнула от другой, неизвестной ей профессиональной наружки – никак не получается. «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл». Колобок какой-то.
Дальше, как говорится, одно из двух. Вариант № 1: батюшинская наружка была именно в этот вечер снята. Тогда вопрос: кто её снял и почему? Разумный ответ только один: Батюшин с ведома Бонча, чтобы случайно не помешать планам Распутина и князя. Тогда – несомненно, что Бонч был посвящён в эти планы, то есть состоял участником заговора. Вариант № 2: она вовсе не была снята, а благополучно проследила нехитрый путь князя и «старца» с Гороховой на Мойку. Тогда – два следствия. Первое: Батюшин и Бонч знали, куда подевался «старец», когда утром 17 декабря поднялась полицейская тревога по поводу его исчезновения; знали, но молчали, как воды в рот набрали. И второе: выстрелы во дворце (а уж тем более во дворе) их агенты должны были услышать и о них донести. Логическая задача, которую должны были решить контрразведчики: Распутин скрылся во дворце Юсупова; через некоторое время оттуда послышались выстрелы; ещё через некоторое время от ворот отъехали два автомобиля: один – покружился вокруг Гороховой и вернулся обратно, другой поехал – ночью! зимой! – на Острова, и там с него что-то такое сгрузили под лёд. «Наверное, труп Распутина», – догадался бы Штирлиц.
В любом случае представляется несомненным, что Батюшин и Бонч-Бруевич были прекрасно осведомлены о событиях этой ночи. Но почему-то помалкивали. Покрывали, таким образом, заговорщиков. И мы догадываемся, почему. При покровительстве великого князя Николая Николаевича, в контакте с влиятельными и тайными придворными недоброжелателями царя и царицы, не без поддержки думских честолюбцев, генералы от контрразведки давно уже взяли Распутина «в разработку».
Но от слежки и распространения компрометирующих слухов до заговора с целью убийства – далеко. Между тем осенью 1916 года распутинская тема вдруг начинает звучать неслыханно громко, надрывно. 1 ноября как с цепи сорвался вождь думских либералов, вдохновитель оппозиционного «Прогрессивного блока» профессор Милюков: в Думе он громогласно обвиняет в измене и чуть ли не в шпионаже «тёмные и безответственные силы», группирующиеся вокруг правительства (читай – вокруг трона). Никому не надо было объяснять, о ком речь: ещё с 1912 года даже гимназисты знали, что «тёмные силы» – это Распутин, Вырубова и императрица. Термин сей выкрикнул тогда с думской трибуны ещё один кандидат в «либеральные диктаторы», октябрист Гучков. Это всем запомнилось.
Два слова об Александре Гучкове и об обстоятельствах создания «распутинской легенды», одним из главных творцов коей он, собственно, и являлся. Представитель московской «золотой молодёжи», гуляка, дуэлянт и страшный честолюбец, Гучков смолоду искал славы и власти. В 1900 году уехал защищать буров от англичан в Южную Африку; не защитил. В Сербии происходит переворот, перебита вся королевская семья – Гучков мчится искать приключений на Балканы. Началась Русско-японская война – он уже в Маньчжурии, в качестве представителя Красного креста бродит эдаким Пьером Безуховым по равнинам близ Ляояна. Вернулся в Москву – а тут 1905 год, революция. Александр Иванович кидается в политические волны – и через полгода выныривает лидером партии «Союз 17 октября». Ни программы, ни идеологии, но – название в честь знаменитого манифеста и стремление к власти, чуть прикрытое идеей конституционной монархии. Революция, однако, идёт на спад; тучковский «Союз» с треском проваливается на выборах как в первую, так и во вторую Думу. Но тут на историческую авансцену выходит премьер-министр Столыпин со своим малопопулярным курсом государственно-капиталистических реформ. Ему нужна опора в Думе. Гучков готов к услугам. При поддержке честного и решительного, но недалёкого премьера «Союз 17 октября» на выборах осенью 1907 года штурмом берёт Думу (30 % мест, самая крупная фракция), а Гучков становится её председателем. Ему этого, естественно, мало, он жаждет премьерства. В ожидании смещения Столыпина и собственного назначения на его пост отказывается от председательства в Думе и, как голодный кот, ходит вокруг императорской семьи. С государем – почти что дружба. И тут (надо же, какая удача!) Богров убивает Столыпина – как зевсов орёл Прометея, выстрелом в печень. Гучков готовится в премьеры; но на радостях выбалтывает журналистам содержание конфиденциального разговора на эту тему с царём. Царь в гневе, премьером становится Коковцов, карта Гучкова бита. И вот Гучков, мстя за обиду, поднимается на думскую трибуну и произносит речь: Россией правят безответственные «тёмные силы», страшный мужик овладел волей императрицы (о, только ли волей?), царь – в роли дурня-рогоносца… Блюдо приправлено патриотической горчицей и революционным перцем. Публике понравилось.
Но на следующих выборах, в 1912 году, Гучков терпит фиаско, не попадает в Думу. Горе. Два года не у дел. И тут из колоды выскакивает козырная карта: война. Гучков суетится, создаёт Военно-промышленный комитет якобы для помощи фронту. Комитет никому не нужен и всем мешает, но даёт возможность Гучкову, перебравшемуся в Петроград, снова сделаться фигурой. В своём особняке на Фурштатской, 36, он конспирирует с председателем Думы Родзянко, принимает депутатов, генералов и промышленников, пытается составить заговор. Цель: отречение ненавистного государя; престол – больному одиннадцатилетнему царевичу; регентство – Николаю Николаевичу (а ещё лучше – безвольному Михаилу, царёву брату), и, главное, власть – правительству «народного доверия», то есть такому, в котором первую скрипку будет играть он, Гучков. Эти «встречи на Фурштатской» – октябрь, ноябрь 1916 года. И вот, на их фоне – речь Милюкова.
В самый день Милюковско-думской истерики – сговорились, что ли? – раздаётся ещё один вопль о Распутине. Письмо венценосному родственнику пишет великий князь Николай Михайлович, историк, энтомолог, президент Географического общества, владелец дворца на Миллионной, сплетник и интриган. Содержание – запугивание, облечённое в форму слёзной мольбы. Устранить влияние царицы и Распутина (то есть их самих? а как ещё?). В финале: «Я это делаю… ради надежды… спасти Тебя, Твой престол и нашу дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых последствий». В сочетании с обвинениями Милюкова – звучит как ультиматум. «Устрани, мол, ЭТИХ, а не то…» Николай Михайлович действует не в одиночку: в его дворце что ни день собираются сановники и великие князья, вольно говорят о Распутине и царице, а между слов уже проглядывает: «А может, государя?»
Дума, хлебнув куражу в риторике Милюкова, бурлит, кипит, и вот – новая истерика: 19 ноября Пуришкевич выскакивает на трибуну, стучит кулаком, хрипит, срывая горло, призывает всех «пасть к ногам государя, умолить его» – что? Всё то же: устранить «тёмные силы». В терминологии думских политиков и великих князей «тёмные силы» – то же самое, что в терминологии военных «Царское Село». Это уже не случайность, это – наступление. Не один заговор, а несколько.
Обрисовывается контур: Милюков, Гучков, Маклаков, Пуришкевич, Родзянко (кстати, родственник Юсуповых) – думский заговор; Николай Михайлович, супруг его племянницы Юсупов, родственник Димитрий Павлович – великокняжеский заговор; Николай Николаевич, Рузский, Бонч-Бруевич – заговор военных. Общий враг: «тёмные силы», «Царское Село», Распутин, Вырубова, императрица. Цель (явно не провозглашается, но в Петрограде все знают): отречение царя, возведение на престол цесаревича Алексея, регентство Николая Николаевича. И правительство, в котором место найдётся всем. Ситуация серьёзная. Обложили со всех сторон. Государь понимает (не может не понимать) и внутренне готовится к отречению. Тверда одна императрица. Распутин – колеблется. Передают его слова в разных вариациях «решено папу одного не оставлять» («папа» – царь), «папаша наделал глупостей» – и другое в том же духе. Похоже, что Распутин даёт своим врагам сигнал: «Готов к переговорам, готов переметнуться». Может, на самом деле, может – провоцировал. Так или иначе, нужны переговоры: и ему с ними, и им с ним. И вот – полуконспиративные встречи Распутина с Бончем; о чём-то таком они вроде бы договорились (с чего бы иначе – «милой» и «дарагой»?). Продолжение должно последовать.
Версия
А что, если 16 декабря Распутин направился во дворец на Мойке не ради эротических упражнений с внучкой Александра III, а ради секретных переговоров с заговорщиками? Это предположение сразу многое расставляет по местам. Становится понятно, почему отпущена охрана и обманута полицейская наружка: ставить Департамент полиции и преданного царице министра Протопопова в известность об участии Григория в такого рода переговорах – явно ни к чему. Понятно молчание контрразведки: Батюшин посвящён и не мешает. Понятен и состав «весёлой компании» в Юсуповском дворце; по крайней мере, присутствие Пуришкевича (представитель думских кругов) и Димитрия Павловича (от великих князей). Непонятно только одно: зачем убивать?
А может быть, никто никого убивать и не собирался?
В мемуарах Юсупова, среди романного вымысла, попадаются эпизоды достоверные. Ну вот, например, когда заговорщики якобы сверху прибежали в потайную гостиную на звук выстрела: «На бегу они задели электрический провод, и свет погас. В темноте кто-то налетел на меня и вскрикнул». Выдумать это трудно, потому что ни для чего не нужно. С другой стороны, странно, чтобы взрослые не сильно пьяные люди бежали из одной комнаты в другую так, что из розетки выдернулся провод. А вот в драке, в свалке такое очень просто может случиться. Другое правдивое описание: «Я вдруг точно помешался. Подбежал и стал неистово бить его (труп Распутина. – А. И.-Г.) гирею». Странно представить такое остервенение над трупом уже полчаса как умершего врага (что получается из рассказа Юсупова). А в драке, опять-таки, – вполне естественно.
Вспомним: все обстоятельства, свидетельствующие о заранее подготовляемом убийстве, выглядят крайне неправдоподобно. Этот цианистый калий, который никого не травит, эти статисты-соучастники, это явно бессмысленное времяпрепровождение (три часа!) в подвале, причём у жертвы даже не возникает сомнения в естественности ситуации. И наконец, вспомним документально засвидетельствованные реалии: пять револьверных ран, следы ушибов, продолжительное пребывание во дворце, где – пятеро против одного… Всё наводит на мысль: встреча была назначена для переговоров; переговоры тянулись, тянулись, сопровождались, по-видимому, выпиванием мадеры; о чём-то важном никак было не договориться; возможно, стали звучать угрозы, или было сказано нечто такое, что Распутину знать не полагалось. Может, полусумасшедший Пуришкевич взвился. А может, не выдержали нервы женоподобного Феликса. Дальше – ссора, драка, свалка, суматоха, кто-то выдёргивает шнур, темно, Распутин пытается вырваться, на лестнице его настигают, бьют, стреляют (выстрелы слышит городовой). Дело сделано. Остаётся увезти мертвеца и запихать его под лёд (идея простая, классический для Петербурга способ спрятать труп).
Возможно, и даже очень вероятно, что участники драмы морально готовились к убийству. И всё-таки очень похоже, что развязка наступила случайно. Да, собственно, зачем было убивать Распутина? В чём практический смысл убийства? Этого, между прочим, никто не объясняет. Все говорят: ради спасения престижа престола! Во-первых, ради спасения престижа – не убивают. А во-вторых, хорошенькое получилось спасение! Криминальный скандал на весь мир!
А что до случайных убийств в свалке – то они не новость в русской истории. Случайно братцы Орловы, напившись, убили Петра III; случайно пьяные гвардейцы-семёновцы затоптали императора Павла. Тут необходима только жгучая, доводящая до неуправляемой агрессии страсть к власти. И – уверенность в безнаказанности, та её степень, которая даётся только абсолютным, девственно-чистым неверием в Бога. Всё дозволено. В этом психология убийц Распутина совпадает с душевным строем «бомбистов», террористов: Нечаева, Желябова, Сазонова, Савинкова…
Через шестьдесят семь дней после убийства в Петрограде начались массовые беспорядки, закончившиеся революцией. Николай II поехал из Могилёва в Петроград; по дороге проезжал расположение войск Северного фронта, которым командовал Рузский. Рузскому уже звонили из столицы: Родзянко. Рузский завернул царский поезд в свою ставку, в Псков, отключил связь, блокировал войсками. Царь давно к такому повороту был морально готов и согласился отречься. На семьдесят пятый день после убийства Распутина, как уже говорилось. Власть передана правительству, в состав которого вошли Милюков и Гучков. Что было потом – все знают.
Участникам убийства Распутина вскоре стало невыгодно говорить правду о событиях 16–17 декабря. Юсупову и Димитрию не простили бы участия в заговоре против царя-мученика товарищи по эмиграции; Пуришкевичу – соратники по белому движению. Бонч-Бруевич и подавно не имел оснований афишировать перед властью Советов своё участие в попытке сохранить «проклятый режим» путём смены лиц на престоле. И вот, сочиняется удобная легенда о чудовище-Распутине и о романтической попытке наивных рыцарей избавить Россию от зверя.
Честный Шульгин признаётся в книге «Дни» (устами некоего «близкого к трону» знакомого): «Всё, что говорят, будто он влияет на назначение министров – вздор: дело совсем не в этом… Я вам говорю, Шульгин, сволочь – мы! И левые, и правые. Левые потому, что пользуются Распутиным, чтобы клеветать; правые, т. е. прохвосты из правых, потому, что они, надеясь, что он что-то может сделать, принимают его каракули».
Союз левой и правой сволочи взорвался Февральской революцией. Распутина вполне можно считать её первой кровавой жертвой.
Их судьбы
Свергнуть надоевшего царя оказалось легче, чем удержать выпавшую из его рук власть. Ситуация в стране и столице становилась неуправляемой. Революционная волна выкидывала на поверхность новых кумиров бунтующих масс с такой же стремительностью, с какой разбивала вдребезги старых. В апреле из Швейцарии возвращаются эмигранты-большевики; в одном вагоне с Лениным – В. Д. Бонч-Бруевич. Этим приезжим суждено было уже через несколько месяцев оказаться на гребне событий. Участвовал ли брат-генерал в организации их триумфального возвращения, нам неизвестно. Во всяком случае, всё это время он вёл переписку с братом-революционером. Милюков и Гучков, а с ними и их жалкие партии, были сметены революционным ураганом уже в мае 1917 года. Пришедший им на смену ещё один «временный» – социалист Керенский – услал генерала Бонч-Бруевича с глаз подальше в Могилёв.
26 октября 1917 года в Петрограде было арестовано временное правительство Керенского, четвёртое по счёту, и сформировано пятое – теперь уже состоящее из большевиков и именовавшее себя «Советом народных комиссаров». Управляющим делами этого правительства стал Владимир Бонч-Бруевич. Через несколько дней в Могилёвском штабе раздался телефонный звонок: управляющий делами Совнаркома вызывал брата-генерала. Была произнесена фраза: «Правительство желает видеть тебя во главе русской армии».
Доверие большевистского правительства Михаил Дмитриевич не оправдал: подумал и отказался. Слишком опасной показалась опытному штабисту и контрразведчику затеянная большевиками игра. В дальнейшем столь заманчивых предложений ему слышать не доводилось. Это хорошо: он, по крайней мере, прожил долго. Служил более тридцати лет Советской власти в том же чине, до которого дослужился при царе, незадолго до смерти получил повышение и умер в 1956 году в звании генерал-лейтенанта Советской Армии.
Теперь – что касается остальных.
Рузский был убит красными в сентябре 1918 года под Кисловодском, где лечился от болезней сердца и почек.
Великий князь Николай Михайлович расстрелян в январе 1919 года в Петропавловской крепости.
Пуришкевич умер от тифа в Новороссийске в 1920 году, при отступлении белых.
Великий князь Николай Николаевич при отречении царя 2 марта 1917 года был назначен главнокомандующим, но уже через девять дней уволен Временным правительством, остался не у дел, доживал свои годы в эмиграции, занимался спиритизмом и в старости впал в слабоумие.
Милюков, Гучков, Родзянко, Юсупов, великий князь Димитрий Павлович – более или менее благополучно существовали в эмиграции. Там и умерли. (Тень Распутина спасла Димитрия Павловича: в январе 1917 года за участие в убийстве царь выслал его на персидскую границу; благодаря этому он не попал в руки большевиков и не был расстрелян.)
Батюшин пережил своего бывшего шефа Бонч-Бруевича на год: скончался в 1957 году в Бельгии.
О судьбе Лазаверта и Сухотина мы достоверными сведениями не располагаем.
Литература
Авенар Э. Кровавое воскресенье. Харьков, 1925.
Азеф Е. История его предательства // Былое, № 2 (24), август 1917.
Баян (Колышко И. И.). Ложь Витте. Берлин, 1923.
Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. М.-Л., 1924.
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М., 1957.
Боткин Е. С. Свет и тени Русско-японской войны 1904—5. СПб., 1908.
Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология. М., 2000.
Бурин С. Н. Судьбы безвестные: С. Нечаев, Л. Тихомиров, В. Засулич. М., 1994.
Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М., 1989.
Валуев П. А. Дневник. Т. 1–2. М., 1961.
Вейнберг П. 4 апреля 1866 года // Былое, кн. IV, 1906.
Венедиктов Д. Г. Георгий Гапон. М. – Л., 1931.
Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX века). М., 1965.
Волк С. С. Народная воля. 1879–1882. М. – Л., 1966.
Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991.
Ганелин Р. Ш. Канун Кровавого воскресенья // Вопросы истории, 1980, № 1.
Гапон Г. А. История моей жизни. М., 1990.
Генкин И. Предатель С. П. Дегаев в Америке // Каторга и ссылка. 1933. № 9.
Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991.
Гессен В. И. В двух веках // Архив русской революции, Т. 22. Берлин, 1937.
Глинский Б. Б. Революционный период русской истории. 1861–1881. СПб., 1913.
Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник извлечений из официальных изданий правительственных сообщений. Под ред. В. Я. Богучарского. Т. 1–3. СПб., 1906.
Гусев К. В. Рыцари террора. М., 1992.
Дейч П. Г. Кравчинский С. М. Пг., 1919.
Дело А. А. Лопухина в Особом присутствии Правительствующего Сената. Стенографический отчёт. СПб., 1910.
Дело Веры Засулич. Л., 1925.
Дорошевич В. М. Сахалин. Каторга. М., 1903.
Есипович Я. Г. Записки сенатора Есиповича // Русская старина. 1909. № 2.
Женщины-террористки России. Ростов-на-Дону, 1996.
Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-х – 1880-х годов. М., 1964.
Записки П. А. Черевина. Кострома, 1920.
Заславский Д. О. Взволнованные лоботрясы. Очерки из истории «Священной дружины». М., 1931.
Засулич В. И. Воспоминания. М., 1931.
Зильбермам Е. Г., Холявин В. К. Выстрел. Очерк жизни и революционной борьбы Дмитрия Каракозова. Казань, 1968.
Индивидуальный и политический террор в России. XIX – начало XX вв. М., 1996.
Исторические силуэты. М., 1991.
Кан Г. С. «Народная воля»: идеология, лидеры. М., 1997.
Карпиленко Ю. С. Дело Веры Засулич: Российское общество, самодержавие и суд присяжных в 1878 году. Брянск, 1994.
Кащенков И. В. Народовольцы. М., 1989.
Колосов Е. Е. Н. К. Михайловский в деле Каракозова // Былое. 1924. № 23.
Кони А. Ф. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. Воспоминания о деле Веры Засулич. М., 1966.
Ксенофонтов М. Н. Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996.
Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев – генерал и публицист. Волгоград, 1998.
Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992.
Лонге Ж., Зильбер Г. Террористы и охранка. М., 1924.
Лопухин А. А. Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907.
Лопухин А. А. Докладная записка директора Департамента полиции Лопухина, рассмотренная в Комитете министров. Женева, 1905.
Лопухин А. А. Отрывки из воспоминаний. М. – Пг., 1923.
Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы. М., 1998.
Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. Документальное повествование о Сергее Нечаеве. СПб., 1994.
Миронов Б. Н. Преступность в России в XIX – начале XX вв. // Отечественная история. 1998. № 1.
Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1900–1914 гг. М., 1998.
«Нечаевское дело». Стенографический отчёт // Судебный вестник. 1871, июль-авг.
«Новое время», ежедневная газета, №№ за 15–20 мая 1903 г.
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949.
От народничества – к марксизму: Воспоминания участников революционного движения в Петербурге (1883–1894 гг.) Л., 1987.
Очерки истории Ленинграда. Т. 1–3. М. – Л., 1957.
Перегудова З. И. Политический сыск в России (1880–1917). М., 2000.
«Петербургский листок», ежедневная газета, №№ за 15–20 мая 1903 года.
Петров С. В. «Новый курс» правительства Александра III и консервативно-охранительное движение в России. 1880-е – начало 1890-х гг. СПб., 2000.
Покушение Каракозова. Стенографический отчёт по делу Д. Каракозова. М., 1928.
Процесс Веры Засулич. Суд и после суда. СПб., 1906.
Разоблачённый Азеф // Былое, № 2 (24), август 1917.
Раскрытие преступления 4 апреля 1866 года и приговор Верховного Уголовного суда. СПб., 1866.
Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997.
Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX в. Тула, 1997.
Рутенберг П. М. Дело Гапона. Чч. 1–2 // Былое, № 2 (24), август 1917.
Савинков Б. В. Воспоминания // Былое, № 1 (23) – 3 (25), июль-сентябрь 1917.
«Санкт-Петербургские ведомости», ежедневная газета, №№ за 15–20 мая 1903 г.
Святополк-Мирская Е. А. Дневник кн. Е. А. Святополк-Мирской за 1904–1905 гг.//Исторические записки. Т. 77. М., 1965.
Секретные сотрудники в автобиографиях/ Былое, № 2 (24), август 1917.
Сенчакова Л. Г. «Священная дружина» и её состав // Вестник МГУ. Серия 9, История. 1967. № 2.
Спиридович А. И. Записки жандарма. Харьков, 1927.
Спиридович А. И. Рапорт 1-му Департаменту Государственного Совета. СПб., 1912.
Суворин А. С. Дневник. М. – Пг., 1923.
Суворов А. М. В противоборстве с террористами. М., 1999.
Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы. 1864–1917 гг. Составитель С. М. Казанцев. СПб., 1991.
Тихомиров Л. А. Тени прошлого. М., 2000.
Троицкий Н. А. «Народная воля» перед царским судом (1880–1894). Саратов, 1983.
Троицкий Н. А. Адвокатура в России и политические процессы 1866–1904 гг. Тула, 2000.
Филиппов Р. В. Революционная народническая организация Н. А. Ишутина – И. А. Худякова. Петрозаводск, 1964.
Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция великим реформам. М., 2002.
Худяков И. А. Записки каракозовца. М. – Л., 1930.
Черевин П. А. Записки. Кострома, 1918.
Шацилло В., Шацилло Л. Русско-японская война 1904–1905. М., 2004.
Шацилло К. Ф. Первая революция в России. М., 1985.
Шилов А. А. Каракозов и его покушение 4 апреля 1866 года. Пг., 1920.
Юсупов Ф. Мемуары. М., 2000.
Примечания
1
Существует предположение, что этим посредником был будущий народоволец С. Чубаров; впрочем, нет веских доказательств его причастности к покушению Засулич.
(обратно)2
Александр Александрович – второй сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны; стал наследником престола после смерти старшего брата Николая Александровича в 1865 году.
(обратно)


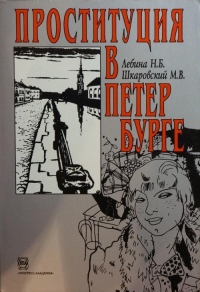
Комментарии к книге «Самоубийство империи. Терроризм и бюрократия. 1866–1916», Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий
Всего 0 комментариев