Альфонс Ламартин История жирондистов Том II
HISTOIRE
DES
GIRONDINS
PAR
A. DE LAMARTINE
BRUXELLES.
MELINE, CANS ET COMPAGNIE 1847
XXXIV
Король на трибуне Конвента — Адвокаты короля — Мальзерб — Завещание — Прения — Ланжюине
Одиннадцатого декабря во время завтрака королевской семьи возле Тампля послышался непривычный шум: барабанный бой, ржание лошадей, топот множества ног по мостовой двора. Все это смутило узников. Наконец королю возвестили, что парижский мэр и прокурор Коммуны явятся нынче за ним, чтобы представить Конвенту для допроса. В то же время ему вручили приказ зайти в свое помещение и снова разлучиться с сыном: он должен был лишиться свиданий с ним, как и всякого сообщения со своей семьей, вплоть до дня суда.
В полдень Шамбон, за несколько дней перед тем назначенный парижским мэром, и Шометт, новый прокурор-синдик Коммуны, вошли в комнату короля в сопровождении Сантерра, группы офицеров национальной гвардии и сотрудников муниципалитета, опоясанных трехцветным шарфом.
Перед прочтением Коломбо, секретарем Коммуны, декрета, призывавшего Людовика в Конвент, Шамбон сказал королю несколько слов с печальным достоинством и с растроганным выражением лица. Затем Коломбо громко прочитал декрет. Конвент, желая уничтожить все монархические титулы и возвратить короля, как простого человека, к одному только первоначальному имени, называл его Людовиком Капетом. Король выказал при этом унижении больше впечатлительности, чем при низвержении других своих титулов: «Господа, — отвечал он, — Капет вовсе не мое имя, это имя одного из моих предков. Я следую за вами, но не из повиновения Конвенту, а только потому, что сила на стороне моих врагов».
Он взял у Клери сюртук темного цвета, шляпу и последовал за мэром, который шел перед ним; подойдя к воротам башни, король сел в экипаж мэра. Стук колес по мостовой дал знать королеве и принцессам, что король уехал; дубовые доски, загораживавшие часть окна, мешали им видеть экипаж. Они следовали за ним сердцем.
Париж в этот день был похож на лагерь под ружьем. Пикет из двухсот штыков сторожил в каждой из сорока восьми секций. Резерв с пушками расположился в Тюильри.
Конвой, явившийся утром к Тамплю, оказался целым армейским корпусом, состоявшим из кавалерии, пехоты и артиллерии. Каждый из солдат, составлявших в этот день вооруженную силу Парижа, был указан Коммуной на основании отзывов, данных начальниками. Готовые открыть огонь, батальоны и эскадроны конвоя шли на таком расстоянии друг от друга, что при первой тревоге получали достаточно места выстроиться в боевом порядке. Праздных граждан грубо удалили с дороги и отослали к своим обычным занятиям. Аллеи, окаймляющие бульвары, двери и окна домов загромоздили зрители.
Фигура короля, изменившаяся под влиянием стольких месяцев страданий и уединения, поражала народ, не внушая ему умиления. Мрак Тампля сообщил лицу короля багровый цвет. На подбородке красовалась борода, которую он вынужден был отпустить с тех пор, как у него отняли все принадлежности туалета. Близорукий взгляд блуждал по толпе, напрасно ища дружественного лица. Прежняя тучность исчезла бесследно: иссохшие щеки упирались морщинами в воротник, костюм, сделавшийся слишком просторным, казался брошенным из милости на тело несчастного с чужого плеча. Это был уже не человек, но призрак, ведомый на казнь.
По прибытии во Двор фельянов Сантерр сошел с лошади и, встав у дверец, взял пленника за руку.
«Граждане трибуны, — объявил президент, — Людовик пред вами. Вы дадите великий урок королям, подадите великий и полезный пример нациям. Вспомните о том молчании, которое сопровождало Людовика, возвращенного из Варенна, и стало предвестником суда народов над королями».
Король сел в кресло за той же самой решеткой, куда являлся присягать конституции. Стали читать обвинительный акт: это был более обвинительный акт против личности короля и против обстоятельств, чем перечень его преступлений. Виновна, как выяснилось, только природа короля. Эпоха оказалась слишком тяжелой для граждан; ее всю и сбросили на одного человека.
Людовик выслушал чтение обвинительного акта с бесстрастным вниманием. Только в двух или трех местах, где обвинение переходило всякие границы правдоподобия, король не мог не обнаружить горькой улыбкой и невольным движением плеч того сдержанного негодования, которое его волновало. Людовик XVI поднял глаза к небу и призвал Бога в свидетели против людей.
Барер, который в этот день председательствовал в Конвенте, в нескольких фразах изложил каждый тезис обвинения и приступил к допросу. Один из секретарей Собрания, Валазе, приблизившись к решетке, постепенно складывал на глазах обвиненного все бумаги, какие относились к его делу. Президент спрашивал у короля, узнает ли он эти бумаги. Таким образом ему представили все документы, касавшиеся Мирабо и Лафайета, найденные в несгораемом шкафу; конфиденциальное письмо к епископам; другие письма, подписанные им или написанные его рукой; наконец, секретные заметки Лапорта, управляющего королевской казной, которые доказывали использование значительных сумм для подкупа якобинцев, трибунов Собрания и предместий.
Людовик XVI обладал двумя равно благородными способами защиты: первым был отказ от всякого ответа и прикрытие себя королевской неприкосновенностью; вторым — громкое признание в тех усилиях, которые он совершал и должен был совершать, чтобы привести вождей революции к умеренности. Король мог это делать тем более, что ни одна из бумаг не доказывала прямо соглашения с иностранными державами против Франции. Но Людовик, при всем присутствии духа, не выбрал ни одного из этих двух вариантов ответа, которые, если бы не спасли его жизнь, то по крайней мере охранили его достоинство, но отвечал как обвиненный, который оспаривает то, что обнаружили факты. Он отрекся от записок, писем, актов, отрекся даже от самого шкафа, который был запечатан им же самим. С этого дня он стал уже не королем, который сражается с народом, а обвиняемым, который спорит с судьями и допускает вмешательство адвокатов.
После допроса Сантерр опять взял короля за руку и отвел его в приемную Конвента в сопровождении Шамбона и Шометта. Продолжительность заседания и душевное волнение истощили силы обвиняемого. Шометт спросил, не хочет ли он поесть. Король отказался, но спустя минуту негромко попросил у него кусок хлеба. «Требуйте громко, чего желаете», — отвечал Шометт, отступая назад, как будто боялся даже подозрения в сострадании. «Я прошу у вас хлеба», — повторил король, возвышая голос. «Теперь возьмите, отломите, — сказал ему Шометт. — Если б у меня были какие-нибудь овощи, я бы вам отдал половину».
Известили, что экипаж подан. Король сел в него, держа в руке недоеденный кусок хлеба; стесняясь положить его в карман, чтобы не подумали, будто в мякише спрятана записка, король передал хлеб Коломбо, сидевшему напротив него в экипаже. Коломбо выбросил кусок на улицу. «О, — сказал король, — нехорошо бросать хлеб в такое время, когда его мало». — «А откуда вы знаете, что его мало?» — спросил Шометт. — «Потому, что тот хлеб, который ел я, пахнет пылью». — «Моя бабушка, — заметил Шометт с шутливой фамильярностью, — говорила мне в детстве: никогда не бросай хлебных крошек, потому что ты не можешь сделать вместо них другие». — «Господин Шометт, — ответил, улыбаясь, король, — ваша бабушка была умная женщина; хлеб дается Богом».
Пока внутри экипажа шел разговор, рыночные торговцы и угольщики, из которых состояли конвойные батальоны, распевали самые кровожадные строки Марсельезы: «Тираны! Пусть нечистая кровь оросит наши поля!»
Продолжительные крики «Да здравствует революция!» раздались в толпе при приближении поезда и слились в один непрерывный вопль от Тюильри до Тампля. Король делал вид, что не слышит этих вестников смерти. Въехав во двор замка, он поднял глаза и долго печально смотрел на окна королевы.
Мэр отвел Людовика в его комнату и снова вручил ему декрет Конвента, которым предписывалось отделить узника от его семьи. Король добился по крайней мере того, что королеву уведомили о его возвращении.
Как только король вышел из Конвента, Петион и Трельяр добились, чтобы ему дозволили, как всякому обвиненному, выбрать себе двух защитников. Король выбрал самых известных парижских адвокатов: Тронше и Тарже. Он сам дал комиссарам адрес загородного дома, в котором жил Тронше; привыкший к политической борьбе среди бурь Учредительного собрания, трудолюбивым членом которого он являлся, Тронше не колеблясь принял почетную миссию. В то время как Тарже, имевший звучный голос, но трусливую натуру, написал Конвенту извинительное письмо, в котором слагал с себя обязанности, которые «его принципы не позволяли принять на себя».
Несколько имен предложили взамен Тарже. Король выбрал Десеза, адвоката из Бордо, поселившегося в Париже. Молодой Десез был достоин этого выбора и гордился им; этому же выбору он был обязан известностью всей своей долгой жизни, первой судебной должностью при следующем царствовании и вечной знаменитостью своего имени.
Но эти два человека являлись только адвокатами короля, между тем как ему требовался друг. Таковой нашелся. В уединении, близ Парижа, жил старец из фамилии Ламуаньонов, по имени Мальзерб. Он два раза назначался министром при Людовике XVI, оба раза деятельность его в этом качестве оказывалась непродолжительной; за нее платили неблагодарностью и изгнанием — не со стороны короля, но вследствие ненависти духовенства, аристократии и придворных. Если бы такие люди всегда находились во главе правительства, то едва ли была бы необходимость в законах. Они сами — закон, потому что в них воплощаются свет, правосудие и добродетель данной эпохи. Воспитанник Руссо, друг Тюрго, Мальзерб снискал себе благосклонность философов XVIII века, благоприятствуя, в качестве распорядителя книготорговли, внедрению во Франции «Энциклопедии», этого арсенала новых идей. В глубине души Мальзерб был республиканцем, но его взгляды и мнения оставались монархическими. Несчастья короля вызывали у министра горькие слезы: потеряв место, он не утратил привязанности к своему монарху. Тайная переписка, с редкими перерывами, передавала Людовику XVI воспоминания, пожелания, сострадание его старого слуги. По получении известия о судебном процессе Мальзерб покинул свое сельское уединение и написал Конвенту. Президент Барер прочитал его письмо в Собрании.
«Гражданин президент, — писал Мальзерб, — не знаю, даст ли Конвент Людовику XVI адвоката для его защиты и предоставит ли ему выбор оного. На такой случай я желал бы, чтобы Людовик XVI знал, что если он изберет меня для такой обязанности, то я готов отдаться ей. Я очень далек от того, чтобы считать себя важным лицом, которым Собрание стало бы заниматься. Но меня два раза призывали для службы тому, кто был моим государем, и в такое время, когда этой должности добивались все. Я обязан оказать ему ту же услугу в эпоху, когда многие считают это для себя опасным. Если бы я знал средство сообщить прямо ему мои намерения, то не взял бы на себя смелости обращаться к вам. Думаю, что на том месте, какое вы занимаете, вы больше, чем кто-нибудь, имеете способов сообщить ему это заявление».
Во время чтения весь Конвент ощутил трепет, который охватывает толпу при виде проявления личного мужества. Просьбу министра удовлетворили. Мальзерб, в тот же день введенный в башню, где томился его государь, вынужден был некоторое время ждать в передней: комиссары Коммуны, обязанные следить, чтобы тайно не пронесли оружия, задержали его надолго. Почтенная наружность старца внушила некоторую совестливость стражам: он сам себя обыскал под их надзором.
Дверь в комнату короля отворилась. Мальзерб медленно подошел к своему государю. Людовик XVI сидел за маленьким столиком с томом Тацита. При виде своего старого министра король отбросил книгу, встал и устремился к нему с распростертыми объятиями. «Ах, — сказал он, — вот куда привело нас, друг мой, стремление улучшить жизнь народа, который мы оба так любили! Как вы меня разыскали? Ваша преданность подвергает опасности вашу собственную жизнь, не спасая моей!»
Мальзерб, заливаясь слезами в объятиях короля, попытался внушить узнику надежду на справедливость судей. «Нет, нет, — возразил король, — они готовят мне смерть; я в том уверен; они обладают для того и властью, и волею».
Тронше и Десез, пропускаемые каждый день в Тампль вместе с Мальзербом, уже готовили средства защиты. Король, просматривая с ними доводы обвинения и припоминания различные обстоятельства своего правления, раскрывал перед защитниками свою жизнь. Тронше и Десез приходили в пять часов, а удалялись в десять. Мальзерб допускался к королю каждое утро. Он приносил ему газеты, читал их вместе с ним и готовил работу на вечер.
В этих интимных разговорах между государем и философом душа короля умилялась и раскрывалась свободно; дружба Мальзерба иногда превращала эти излияния в надежды, а в утешения — всегда.
Вечером, когда Мальзерб, Тронше и Десез удалялись, король читал речи, произнесенные накануне в Конвенте. По бесстрастию его замечаний можно было подумать, что он читает историю какого-нибудь отдаленного царствования. «Как вы можете хладнокровно читать эти ругательства?» — спросил у него однажды камердинер Клери. — «Я хочу знать, до каких пределов может дойти людская злоба, — ответил король. — И не думал, чтобы подобная может существовать». И вслед за этими словами Людовик XVI спокойно заснул.
С началом своего одиночного заключения король отказался выходить в сад, чтобы подышать воздухом. «Я не могу решиться выходить один, — говорил он, — прогулка мне была приятна только тогда, когда я ею пользовался вместе с женой и детьми».
Девятнадцатого декабря во время завтрака он сказал Клери прямо в присутствии четырех муниципальных стражей: «Четырнадцать лет назад в этот день вы поднялись ото сна раньше, чем сегодня». Печальная улыбка объяснила Клери значение этих слов. «В этот день, — продолжал король, — родилась моя дочь! Сегодня день ее рождения. И мне быть лишенным возможности ее видеть!» Слезы скатились на кусок хлеба, который он держал в руке.
На следующий день Людовик заперся один в своем кабинете и долго писал. Это было его завещание. С этого дня он уже надеялся только на бессмертие. Он завещал все, что мог завещать в своей душе: свою нежность — семье, признательность — слугам, прощение — врагам.
Вот что заключалось в этой исповеди, в которой человек как бы говорит уже из другой жизни:
«Я, Людовик XVI, король Франции, запертый в течение четырех месяцев с моим семейством в башне Тампля в Париже теми, кто были моими подданными, и лишенный всякого сообщения с кем бы то ни было, даже с моим семейством; впутанный, кроме того, в процесс, исход которого невозможно предвидеть по причине людских страстей; не имея никого, кроме Бога, свидетелем моих мыслей, объявляю в его присутствии мою последнюю волю и мои чувства. Вручаю мою душу Богу, моему Создателю. Молю его милосердно принять ее. Молю Бога простить все мои грехи. Я постарался тщательно исследовать их, возненавидеть их и смириться… Прошу всех, кого мог оскорбить невольно (ибо не помню, чтобы сознательно нанес кому-либо оскорбление) простить мне зло, какое, по их мнению, я мог им сделать… Прощаю от всего сердца тех, кто стал моими врагами, без всякого повода с моей стороны, и молю Бога простить им так же, как и тем, кто, по ложной и дурно понятой ревности, причинили мне много зла…
Поручаю детей моих жене; я никогда не сомневался в ее нежности к ним. Поручаю ей в особенности приучить их смотреть на величие сущего мира, если уж они обречены испытать его, не иначе как на благо опасное и преходящее и обращать их взоры единственно к славе Вечности… Прошу жену мою простить мне бедствия, какие она выстрадала за меня, и печаль, какую я мог причинить ей в продолжение нашего союза; она также может оставаться в уверенности, что я не уношу ничего против нее, хотя бы она и думала, что может в чем-нибудь себя упрекнуть.
Поручаю моим детям оставаться всегда дружными между собою, покорными и послушными матери, признательными за все скорби, какие она за них выносит… Прошу их смотреть на сестру мою, как на вторую мать…
Поручаю моему сыну, если бы он имел несчастье сделаться королем, подумать о том, что он обязан всецело отдаться счастию своих сограждан, забыть всякую ненависть и вражду и все, относящееся к несчастьям и скорби, какие я выношу… Пусть он подумает, что я обязан священным долгом признательности детям тех, кто погибли за меня, и тех, кто терпят несчастье за мое дело!.. Поручаю ему господ Гю и Шамильи, которых неподдельная привязанность ко мне побудила затвориться в этом печальном убежище. Поручаю ему также Клери, попечениями которого могу похвалиться с тех пор, как он находится со мною. И так как он остался со мною до конца, то прошу Коммуну вручить ему мою одежду, мои книги, часы, кошелек и другую мелкую движимость, которая у меня отняли ранее… Прощаю моим стражам их дурное обхождение и притеснения, какие они считали своей обязанностью применить ко мне… Я нашел среди них несколько человек с чувством и состраданием. Пусть они насладятся в своем сердце спокойствием, какое должен сообщить им их образ мыслей!..
Кончаю заявлением перед лицом Бога, готовый предстать перед Ним, что не могу упрекнуть себя ни в одном из преступлений, в которых обвиняют меня!
Писано в двух экземплярах, в башне Тампля… январь 1793 года.
Людовик».
В тот же день адвокаты представили королю полный план его защиты. Десез составил основную речь. Это воззвание к нации вызвало слезы у Мальзерба и Тронше. Король сам был тронут состраданием, какое защитник хотел внушить его врагам. Однако гордость заставила его покраснеть при мысли о вымаливании у них какого бы ни было правосудия, кроме правосудия их совести. «Надобно выпустить это заключение, — сказал Людовик Десезу, — я вовсе не хочу воздействовать на моих обвинителей умилением!» Десез противился, но умирающему принадлежит право умереть с достоинством. Защитник уступил.
Когда они с Тронше удалились, король, оставшись с Мальзербом, казалось, был поражен тайной мыслью: «Ко многим моим заботам прибавилась еще одна. Десез и Тронше не обязаны мне ничем; они отдают мне свое время, свой труд и, быть может, свою жизнь. Как вознаградить такую услугу? У меня более ничего нет; если бы я им завещал имение, это завещание не было бы выполнено. Да и потом, подобный долг оплачивается не имуществом!» — «Государь, — отвечал ему Мальзерб, — собственная совесть и потомки вознаградят их. Но вы и теперь можете дать им награду, которую они будут ценить выше самых щедрых ваших милостей того времени, когда вы были счастливы и могучи». — «Какую?» — «Государь, обнимите их!»
На следующий день, как только Десез и Тронше вошли в комнату узника, чтобы сопровождать его в Конвент, король молча подошел к ним и долго обнимал своих защитников. Адвокаты горько рыдали, но чувствовали себя вознагражденными: они получили все, чего только могло добиться их честолюбие, — благодарную слезу несчастного, оставленного всеми своими подданными.
Через несколько минут Сантерр, Шамбон и Шометт пришли за королем и отвели его в Конвент. Обвиняемого заставили ждать около часа, как простого посетителя. Внешность короля была более прилична, костюм — менее плачевен, чем при первом допросе. (Друзья короля советовали ему не стричь бороды, чтобы жестокость тюремщиков с первого взгляда возбуждала негодование и участие. Но король с презрением отверг это театральное средство; право на сострадание к себе он оставил в своей душе, а не в одежде. Комиссары по просьбе короля согласились передать Клери ножницы.).
Людовик XVI с равнодушным видом прохаживался среди групп любопытствующих депутатов, которые нарочно вышли из зала посмотреть на него. Без особого подъема, но и без смущения разговаривал он с Мальзербом. Старец, отвечая ему, употребил титул «Ваше Величество», полный особенной почтительности именно по причине возрастающей немилости судьбы к бывшему королю. Трельяр услыхал это выражение. Встав между королем и Мальзербом, он сказал бывшему министру: «Кто вам дает опасную смелость произносит здесь титулы, запрещенные нацией?» — «Презрение к жизни!» — отвечал Мальзерб и продолжал разговор.
Конвент велел королю войти в сопровождении защитников и выслушал речь Десеза. Эта речь, вполне пригодная для обычных обязанностей адвоката, лишь в нескольких фразах достигала уровня, необходимого для данной, особенно сложной, обстановки. Он рассуждал, в то время как нужно было разить. Десез забыл, что народ не убеждает ничто, кроме его эмоций, что смелость слова в некоторых случаях оказывается высшим благоразумием и что порой можно спасти все, рискуя все погубить.
Король, который с интересом выслушал собственную защиту, встал по окончании речи. «Вам изложили, — сказал он, — мои средства к защите, я не буду повторять их. Говоря с вами, быть может, в последний раз, я объявляю, что совесть не упрекает меня ни в чем и что мои адвокаты сообщили вам одну только истину. Я никогда не боялся публичного рассмотрения моего образа действий, но сердце мое разрывается при виде внесенного в акт обвинения, будто бы я хотел пролить кровь народа. Многочисленные доказательства любви к народу, данные мною в разное время, поставили меня выше этого упрека — меня, который отдал бы себя самого, чтобы спасти каплю крови народа!» После этих слов Людовик вышел из зала.
«Пусть его судят безотлагательно!» — требует Базир. «Поименную подачу голосов сейчас же!» — восклицает Дюгем. «А я настаиваю, — возражает Ланжюине, — чтобы немедленно отменили декрет, которым мы назначаемся судьями Людовика XVI. Пусть к его процессу применят закон, пусть охранительные формы, предоставленные всем гражданам, будут дарованы и ему, как всякому другому человеку; но чтобы его судил не Конвент, не заговорщики, которые сами себя объявили на этой трибуне виновниками 10 августа!..» — «В Аббатство!» — кричат голоса Горы. «Это роялист! Он порицает дело 10 августа!» — вопят хором Дюгем, Лежандр, Билло-Варенн, Дюкенуа. «Он вскоре обратит нас в обвиняемых, а короля — в судью», — иронически замечает Жюльен. «Я говорю, — возражает Ланжюине, — что вы, признанные заговорщики 10 августа, хотите быть разом и врагами, и обвинителями, и присяжными, и судьями!» — «Заставьте его замолчать! Это призыв к междоусобной войне! Я требую обвинения! Доказательства налицо!» — кричит Шудье. «Вы меня выслушаете», — продолжает Ланжюине. «Нет! Нет! Долой с трибуны!» — орет тысяча голосов. «В Аббатство! В Аббатство!» — вторят им голоса трибун.
«Я вовсе не обвинял, — холодно начинает Ланжюине, — заговор 10 августа. Я знаю, что Брут, изображение которого здесь вижу, был одним из знаменитых и канонизированных заговорщиков; но, продолжая рассуждать, я говорю: вы не можете быть судьями безоружного человека, которому сами же объявили себя смертельными и личными врагами. (Гневный ропот раздается на некоторых скамьях.) Существует закон — естественный, беспрекословный, — который требует, чтобы каждый обвиняемый был судим под покровительством законов своей страны. Я и некоторые другие предпочитаем скорее умереть, чем осудить на смерть в нарушение правосудия самого гнусного из тиранов». Чей-то голос произносит: «Значит, вы предпочитаете спасение тирана благу народа?» Ланжюине ищет глазами прервавшего его, как бы желая поблагодарить за спасительную нить, которую тот ему подает. «Я слышу, что говорят о благе народа, — продолжает Ланжюине, — вот прекрасный переход, в котором я нуждался. Значит, вы призваны обсуждать мысль политическую, а не судебную? Значит, я прав, говоря, что вы должны заседать здесь не как судьи, но как законодатели? Хочет ли политика, чтобы Конвент был обесчещен? Я вам говорю: подумайте о благе народа! Благо народа требует, чтобы вы воздержались от суда, который навлечет страшные беды на нацию, от суда, который послужит на пользу вашим врагам в тех ужасных заговорах, какие замышляются против нас!» Ланжюине сходит с трибуны среди ропота.
«Произнесем приговор безотлагательно! — опять кричит Дюгем. — Когда австрийцы бомбардировали Лилль во имя тирана, они ведь ничего не откладывали!» — «К чему эти декламации, — возражают ему. — Мы судьи, а не палачи!» Несколько человек, утомленные или пребывающие в нерешительности, требуют отсрочки прений до другого заседания. Президент передает это предложение для голосования. Большинство высказывается за него. Восемьдесят четыре депутата Горы устремляются со своих скамеек к трибуне и угрожают президенту. Жюльен завладевает трибуной при рукоплесканиях сторонников. «Нас хотят распустить, — говорит Жюльен, поддерживаемый знаками Робеспьера и одобрительными жестами Лежандра и Сен-Жюста. — Хотят уничтожить республику, подрывая Конвент в самых его основах. Но мы, друзья народа, поклялись умереть за республику и за народ!» (Рукоплескания Горы.)
Жюльен обвиняет президента в пристрастии и в соглашательстве с Мальзербом. Президент оправдывается. На некоторое время восстанавливается порядок. Кинет представляет проект декрета, которым провозглашается процедура суда над королем. Камилл Демулен и Робеспьер требуют опровержения этого проекта.
Петион, однажды уже заглушенный воплями Горы и бранью Марата, успевает наконец заставить себя слушать: «Разве так, граждане, обсуждаются вопросы великой важности? Разве мы не поклялись все, что у нас нет короля? Кто же нарушит свою клятву? Кто хочет короля? Мы не хотим его!» — «Нет, нет, никто, никогда!» — восклицает, поднимаясь с мест целый Конвент. Герцог Орлеанский, окруженный группой депутатов Горы, громче своих товарищей произносит эту клятву и размахивает шляпой над головой, чтобы с большей очевидностью присоединиться к энтузиазму, отвергающему монархию. «Но, — продолжает Петион, — здесь идет речь не об участи короля, потому что Людовик Капет более не король; нужно высказаться об участи человека. Вы объявили себя его судьями; надо же, чтобы вы могли судить с полным убеждением в фактах. Истинные друзья свободы и правосудия — те, которые хотят исследовать, прежде чем судить! Некоторые депутаты требуют, вместе с Ланжюине, чтобы был отменен декрет о суде над Людовиком; другие — чтобы просто высказались о его участи, как о мере политической. Я первого мнения. Я требую, чтобы резолюцию, предложенную здесь недавно Кутоном, поддержали, но с сохранением вопроса, поднятого в течение заседания». Конвент, обращенный к хладнокровию все еще внушительным голосом Петиона, голосует предложение Кутона и оговорки Петиона, которые ставят преграду между приговором народа и жизнью короля.
Пока это волнение в зале Конвента обнаруживало тревогу и нерешительность судей, король, возвратившись в зал смотрителей, бросился в объятия Десеза. Он сжимал руки защитника в своих руках, вытирал его лоб своим платком. В этих дружеских заботах король, казалось, забыл, что по соседству решается вопрос о его собственной жизни. Быстрота, с какой в этот раз узника провезли в Тампль, заставила короля думать, что друзья его бодрствуют. На следующий день комиссар Венсен, который, отправляя свои обязанности, искал случая облегчить суровую судьбу пленников, взялся тайно доставить королеве печатный экземпляр защитной речи Десеза.
Первого января, при пробуждении короля, Клери приблизился к постели своего господина и вполголоса высказал ему пожелания скорого окончания его несчастий. Король с умилением принял эти пожелания и поднял глаза к небу, вспоминая другие времена, когда такие же поздравления, произносимые теперь шепотом единственным товарищем его заточения, приносились ему целым народом в галереях дворцов.
До 15 января ничто не менялось в обычном распорядке дней короля, кроме того что Мальзерба более не впускали в башню. Король проводил время, читая историю Англии, и особенно тот том, который содержал в себе суд и смерть Карла I. Людовик XVI старался утешить себя, сообразуя свои последние мгновения с последними минутами обезглавленного короля.
В течение этих дней две партии, боровшиеся из-за преобладания в Конвенте, продолжали терзать друг друга. 27 декабря опять заговорил Сен-Жюст и в коротких, резких, точно удар топора, выражениях опроверг защитную речь, произнесенную накануне. Он заключил свое выступление следующими словами: «Если король невинен, то преступен народ! Вы провозгласили войну против тиранов всего света и не применяете этого принципа лишь к своему! Революция начинается только тогда, когда кончается жизнь тирана!»
Барбару возражал, не сделав, впрочем, никакого заключения, и такими недомолвками (столь несвойственными его энергичному характеру) подал первый пример колебания в настроении всей партии жирондистов. Лекиньо отвечал на слова Барбару: «Если б я мог собственной рукой, один ударом, умертвить всех тиранов, то поразил бы их сейчас же!» Зал разразился рукоплесканиями; президент погрозил прибегнуть к силе для восстановления порядка; тогда в Собрании поднялась настоящая буря.
На заседании 17 января министр иностранных дел Лебрен огласил ноту испанского двора. Посланник этой страны вступался за жизнь Людовика XVI и обещал, ценой сохранения этой жизни, удаление войск, собранных Испанией на границах Пиренеев. «Прочь всякое иностранное влияние!» — отвечал Тюрио. «Мы договариваемся не с королями, а только с народами! — прибавил Шаль. — Объявим же, что ни один из наших агентов не вступит в переговоры с коронованной особой прежде, чем будет признана республика!»
Переход к следующему вопросу повестки дня стал презрительным ответом на попытку испанского посланника. Бюзо и Бриссо стояли за апелляцию приговора. Карра, хоть и был жирондистом, опровергал ее. Камилл Демулен, который всегда находил кровь жертв недостаточно горькой, если ее не приправляли сарказмом, отверг право на апелляцию в речи, которую велел потом напечатать: «На площади Карусель будет воздвигнут эшафот. На него отведут Людовика с табличками на груди и на спине; спереди будут написаны слова: „Клятвопреступник и изменник нации“, а сзади — „Король“. Сверх того Конвент постановляет, что погребальный склеп королей в Сен-Дени будет с этих пор местом погребения разбойников, убийц и изменников!»
«Очень прискорбно, — заметил Кутон, — видеть беспорядок, в который повергают Собрание. Вот уже мы потеряли три часа из-за короля. Какие мы республиканцы? Мы низкие рабы!» Наконец Конвент постановил произвести поименный подсчет голосов по следующим трем вопросам поочередно; первый — «Виновен ли Людовик?», второй — «Следует ли решение Конвента отдавать на утверждение народа?», и третий — «Какое последует наказание?».
По первому вопросу 683 члена отвечали: «Да, Людовик виновен!» По второму вопросу 281 голос был подан в пользу обращения к народу, 423 голоса — против.
Рассуждали также о распоряжении закрыть театры, отданном Исполнительным советом. «Признаюсь вам, граждане, — сказал Дантон, поднимаясь с места и принимая позу участника сентябрьских дней, — я думал, что имеются другие предметы, которые должны нас занимать, кроме комедий!» «Речь идет о свободе!» — откликнулись несколько голосов. «Да, речь идет о свободе! — повторил Дантон, — речь идет о трагедии, которую вы должны разыграть пред нациями! Речь идет о том, чтобы под мечом закона пала голова тирана! Я требую, чтобы мы безотлагательно высказались об участи Людовика!»
Предложение Дантона поставили на голосование. Когда Ланжюине предложил, чтобы наказание решили двумя третями голосов, а не простым большинством, Дантон заговорил опять, как человек, который спешит покончить с тягостным положением. «Говорят, — сказал он, — будто бы важность этого вопроса такова, что для разрешения его недостаточно обыкновенных форм совещательного собрания. Я спрашиваю вас: не вы ли голосовали простым большинством вопрос о республике, о войне? Спрашиваю также: разве не безапелляционно проливается кровь в сражениях? Разве сообщники Людовика XVI не понесли кару без всякого обращения к народу? Неужели заслуживает исключения тот, кто был душой всех этих заговоров?!» (Рукоплескания.)
Ланжюине не допустил увлечь себя этим потоком рукоплесканий. «Вы отвергли все формы, каких требовали правосудие и, без сомнения, человеколюбие: отвергли отвод, тайную подачу голосов, охраняющую свободу совести и мнений, право на апелляцию; здесь, в Конвенте, рассуждения о свободе остаются только снаружи, но в действительности мы рассуждаем под кинжалами и пушками крамольников!»
Собрание проигнорировало эти соображения и объявило заседание непрерывным до произнесения приговора.
Последняя поименная подача голосов началась в восемь часов вечера.
ХХХV
Осуждение короля — Аббат Фирмон — Последнее свидание короля с его семейством — Процессия — Казнь
Утром 16 января один из победителей Бастилии по имени Лувен осмелился сказать в своей секции, что республику можно было утвердить и не проливая крови Людовика XVI. Вместо ответа, стоявший тут же федерат вонзил саблю в его сердце. Толпа волокла раненого за ноги по мостовой, пока несчастный не испустил последнее дыхание.
Вечером разносчик книг и журналов, вышедший из галереи Пале-Рояля и обвиненный каким-то прохожим в том, что раздавал листки в пользу апелляции (воззвания к народу), был тут же умерщвлен тридцатью ножевыми ударами. Республиканские драгуны, прогнав часовых из своих казарм, разбежались с саблями по Пале-Роялю и Тюильри, потрясая оружием и распевая патриотические песни. Оттуда они отправились в церковь Валь-де-Грас, где в позолоченных урнах хранились сердца королей и королев Франции. Они разбили эти погребальные вазы, растоптали ногами останки монархии и бросили их в водосточную трубу. Нетрудно догадаться, какого сострадания может ожидать живой представитель королевского сана, когда мертвые останки возбуждают подобную злобу.
Зал Собрания был освещен неровно. Лампы бюро и люстра заливали некоторые части зала ослепительным блеском, а другие оставляли в темноте. Публичные трибуны, расположенные амфитеатром до самых высоких скамеек Горы, переполняли зрители. Как на древних римских зрелищах, в первом ряду сидело много молодых женщин, одетых в трехцветные платья; они беспечно разговаривали, обменивались взглядами, жестами, улыбками и становились серьезными и внимательными только при подсчете голосов. Прислуга ходила между скамейками с подносами, нагруженными шербетом, мороженым, апельсинами. На самых высоких скамейках люди из народа, в повседневных костюмах сообразно своему общественному положению, стоя внимательно слушали заседания, громко повторяли друг другу имя каждого вызываемого депутата и сопровождали последнего на скамью рукоплесканиями или ропотом. Первые скамейки этих народных трибун были заняты подмастерьями мясников, окровавленные передники которых были подобраны с одной стороны к поясу, а рукоятки длинных ножей не без аффектации выглядывали из складок холста, заменявшего им ножны.
Скамьи депутатов были почти пусты. Утомленные 15-часовым заседанием, одни рассеялись редкими группами по краям верхних скамеек и разговаривали меж собой вполголоса с видом самоотверженного долготерпения; другие, вытянув ноги, дремали под гнетом своих мыслей и просыпались только при особенно громких восклицаниях. Но большая часть депутатов беспрестанно переходила с места на место, от одной группы к другой: люди быстро и вполголоса обменивались словами со своими товарищами, на коленях писали свое мнение, зачеркивали написанное, писали снова и снова зачеркивали — до тех пор, пока голос глашатая не заставлял их произносить роковое слово, которое минутой раньше могло быть заменено другим и в котором они, быть может, раскаивались после того, как его произнесли.
Первые голоса, поданные в Собрании в роковой день, оставляли еще некоторую неуверенность в умах. Слова «смерть» и «изгнание», казалось, уравновешивали друг друга в звучащих голосах. Участь короля зависела от первого голоса, какой подаст один из вождей жирондистской партии. Этому голосу предстояло обозначить вероятное мнение целой партии, а численность последней безвозвратно определила бы большинство. Итак, жизнь и смерть зависели, некоторым образом, от слова, какое произнесет Верньо.
Все с тревогой ожидали, когда по алфавитному порядку переклички департаментов дойдут до буквы «Ж» и вызовут на трибуну депутатов Жиронды. Верньо должен был явиться первым. Припоминали его знаменитую речь против Робеспьера, которая имела целью вырвать суд над низверженным королем из рук его врагов. Известны были ненависть и отвращение Верньо к партии, которая хотела казней. Известно было, что накануне, за несколько часов до начала подачи голосов, Верньо, ужиная с женщиной, которая жалела тампльских узников, поклялся ей своей жизнью, что спасет короля.
При имени Верньо разговоры прекратились, взоры устремились только на него. Он медленно взошел по ступенькам трибуны, помолчал с минуту, полузакрыв глаза, потом, глухим голосом и как бы сам противясь состраданию, которое говорило в его душе, произнес слово «смерть».
Безмолвное изумление стеснило дыхание всех присутствующих в зале. Робеспьер улыбнулся, и в этой улыбке было больше презрения, чем радости. Дантон пожал плечами. «Ну, хвастайтесь вашими ораторами, — сказал он тихо Бриссо, — что можно делать с такими людьми? Не говорите мне о них больше, это партия погибшая».
Поименная подача голосов продолжалась. Все жирондисты подали голоса в пользу смерти. Большая часть из них, подавая голос, требовали отсрочки казни. Фонфред и Дюко подали голос за безусловную смерть. Сийес, который на собраниях и тайных совещаниях своей партии более всего настаивал на том, чтобы отнять радость у Робеспьера, триумф у якобинцев, напрасную и опасную кровь у революции, взойдя на трибуну произнес только одно слово: «смерть». Он произнес его нехотя, с холодностью математика, который высказывает аксиому, и с унынием побежденного, который уступает судьбе. Кондорсе, верный своим принципам, потребовал, чтобы Людовик XVI был осужден на самую высшую кару после смертной казни. Манюэль, побежденный зрелищем королевских несчастий, которые он видел в Тампле, подал голос в пользу сохранения жизни короля. Дону, философ-республиканец, имевший, как он сам говорил, в душе только две бескорыстные страсти — к Богу и к свободе — громко отделил право судить и низлагать королей от права делать их жертвами. Гора, почти вся без исключения, высказалась в пользу смерти. Робеспьер, напомнив в нескольких словах свою первую речь, попытался примирить свое отвращение к смертной казни с осуждением, которое соскользнуло с его губ, сказав, что тираны составляют исключение из человечества, а нежное чувство к угнетенным одерживает в его душе верх над состраданием к притеснителям.
Парижские депутаты последовали примеру Робеспьера и, как монотонное эхо, повторили двадцать один раз подряд слово «смерть».
Герцога Орлеанского вызвали последним. При произнесении этого имени воцарилось глубокое молчание. Герцог медленно, но без волнения, поднялся по ступенькам трибуны, развернул бумагу, которую держал в руках, и спокойно прочитал следующие слова: «Посвятив себя единственно своему долгу, убежденный, что все, кто посягали или посягнут впоследствии на державные права народа, заслуживают казни, я подаю голос в пользу смерти». По скамьям Собрания пробежал трепет. Герцог Орлеанский, несколько смущенный, сошел с трибуны, по-видимому, сомневаясь уже по этим первым симптомам, хорошо ли он поступил. Тому, чему удивляются, ужасаться не могут. Добродетели, подобные добродетели Брута, так близки к преступлению, что даже совесть республиканцев возмутилась при этом поступке. Жертвовать чувствами природы закону с первого взгляда кажется прекрасным, но единокровие есть высший закон.
Если этот голос был жертвой свободе, то отвращение Конвента показало герцогу Орлеанскому, что жертву не приняли; если это был залог, то такого залога от него и не требовалось; если это была уступка личной безопасности, то цена за жизнь оказалась слишком дорога. Подвергаясь нападкам жирондистов, едва терпимый Робеспьером, герцог, в случае отказа какому-нибудь требованию Горы, рисковал тем, что она потребует его головы, однако не обладал таким величием духа, чтобы предложить ее самому. Робеспьер, возвратившись вечером в дом Дюпле и рассказывая о суде над королем, казалось, хотел выразить протест против мнения герцога Орлеанского. «Несчастный! — сказал он своим друзьям. — Ему одному позволили бы послушаться голоса своего сердца и устраниться; он не захотел или не посмел этого сделать; нация оказалась великодушнее его!»
Подсчет голосов был продолжительным, полным сомнений и тревоги. Жизнь и смерть, вступив в борьбу между собой, поочередно одерживали перевес, смотря по тому, как случай группировал голоса в списках, зачитываемых секретарями. Казалось, сама судьба все еще не решалась вымолвить роковое слово. Наконец президент встал, чтобы произнести приговор. Это был Верньо. Все заметили, как дрожат его губы и руки, державшие бумагу с цифрой голосов. По странной случайности или по жестокой насмешке Верньо, в качестве президента, пришлось провозглашать и приговор о низложении короля в Законодательном собрании, и постановление о его смерти в Конвенте. Он хотел бы сохранить, даже ценой своей крови, умеренную монархию и жизнь Людовика XVI, а между тем два раза в течение трех месяцев был вынужден противоречить своему сердцу.
В эту минуту престарелый депутат по имени Дюшатель велел принести себя в Конвент со смертного одра и слабеющим голосом заявил возражение против казни короля. Затем возвестили о новом ходатайстве испанского короля в пользу Людовика XVI. Дантон заговорил, даже не потребовав предварительно слова. «Ты еще не король, Дантон!» — воскликнул Луве. «Я удивлен, — заявил Дантон, — дерзостью державы, которая не боится влиять на наши рассуждения. Если бы все разделяли мое мнение, то уже за одно это немедленно объявили бы Испании войну».
Верньо горько заметил: «Граждане, вам предстоит великий акт правосудия. Надеюсь, что человеколюбие побудить вас хранить самое благоговейное молчание. Когда правосудие сказало свое слово, человеколюбие должно, в свою очередь, заставить себя выслушать!»
Он прочитал результат подачи голосов. В Конвенте насчитывался 721 человек, подавший голос. 334 голоса высказались за изгнание или заточение; 387 — за смерть (считая в том числе и голоса тех, кто высказался за смерть при условии отсрочки).
Утром 19-го числа двери тюрьмы отворились и король увидел Мальзерба. Он встал, чтобы встретить друга. Старец, упав к ногам своего государя, долго не мог ничего сказать. Своим видом, своим молчанием, своими слезами он старался сообщить королю слово, которое страшился произнести. Король понял его, повторил это слово, не бледнея, поднял своего друга, прижал его к груди и, казалось, был занят только тем, чтобы утешить почтенного вестника. Со спокойным любопытством, как бы чуждым собственной судьбе, он осведомился об обстоятельствах, о числе голосов, о решении нескольких лиц, которых он знал в Конвенте. «О Петионе и Манюэле, — сказал король Мальзербу, — я не спрашиваю: я уверен, что они не подали голоса за мою смерть». Узнав о том, как проголосовал его кузен, герцог Орлеанский, король вздохнул: «Ах, за него огорчен я больше, чем за кого-нибудь другого». Это были слова Цезаря, который среди своих убийц узнал Брута.
Вслед за тем Тара, Лебрен, мэр Шамбон и прокурор Коммуны Шометт, в сопровождении Сантерра, публичного обвинителя в уголовном суде, явились объявить королю о приговоре со всеми формальностями, требуемыми законом. Король выслушал осуждение на смерть в двадцать четыре часа с неустрашимостью праведника. Один только взгляд, поднятый к небу, обнаруживал обращение к непогрешимому верховному судье. Когда приговор зачитали, Людовик XVI подошел к секретарю Исполнительного совета Грувелю, взял декрет, положил в свой портфель, потом, обернувшись к Тара, сказал ему голосом, в котором вместе с просьбой слышалась и нота королевского величия: «Господин министр юстиции, прошу вас передать это письмо Конвенту». Когда Тара заколебался, король уточнил: «Я вам его прочту. „Прошу у Конвента трехдневной отсрочки, чтобы приготовиться к появлению перед Богом; для этого прошу предоставить мне возможность свободно видеться с духовником, какого укажу комиссарам Коммуны. Прошу, чтобы он оставался в безопасности и был защищен от всякого преследования за этот акт милосердия… Прошу в эти последние минуты позволить мне видеться с семьей, когда я того пожелаю и без свидетелей. Я очень желал бы, чтобы Конвент теперь же решил участь мой семьи и позволил ей свободно удалиться туда, где она сочтет для себя удобным найти убежище. Поручаю благосклонности нации всех лиц, которые были мне преданы… В числе их много старцев, женщин и детей, которые жили только моей помощью и теперь будут находиться в нужде. Написано в башне Тампль, 20 января 1793 года“».
Король вручил Тара также другую бумагу с адресом духовника, утешения и разговора которого желал для своих последних часов. Когда министр взял обе бумаги, король, поклонившись, сделал несколько шагов назад, как делал в прежние времена по окончании придворной аудиенции, давая понять, что хочет остаться один.
В шесть часов Сантерр и Тара пришли с ответом Конвента на запрос короля. Несмотря на усиленные старания Барбару, Бриссо, Бюзо, Петиона, Кондорсе, Шамбона и Томаса Пейна, Конвент еще накануне решил не допускать отсрочки. Фурнье-американец, головорез Журдан и их приверженцы занесли сабли над головами Барбару и Бриссо в коридоре Конвента и велели выбирать между молчанием и смертью. Но мужественные депутаты пренебрегли риском смерти и боролись пять часов, чтобы добиться отсрочки, — увы, напрасно.
Король без ропота принял сообщение Исполнительного совета. Все, чего он теперь хотел, сводилось к нескольким часам погружения в себя между жизнью и Вечностью. Во время одного из разговоров с Мальзербом король возложил на него поручение передать послание почтенному иностранцу — аббату Фирмону, проживавшему в Париже.
Мальзерб нашел жилище избранного королем проводника его совести и сообщил ему просьбу своего государя. Служитель Бога ожидал минуты, когда двери тюрьмы раскроются для его милосердия. Чистая дружба с давних времен связывала священника с королем: тайно проводимый в Тюильри в торжественные дни, этот священник часто исповедовал короля.
В среду 20 января, с наступлением ночи, в дверь безвестного убежища, где укрывался аббат, постучался незнакомец и велел следовать за собой на заседание совета министров. Фирмон пошел за незнакомцем. По приходе в Тюильри его привели в кабинет, где министры рассуждали об исполнении казни, проведение которой Конвент возложил на них. Они встали, окружили священника, выразили уважение его мужеству, обещали покровительство данному ему поручению. Тара забрал священника в свой экипаж и отвез в Тампль. По пути министр Конвента излил перед служителем алтаря свое отчаяние: «Великий Боже, — воскликнул он, — какое ужасное поручение на меня возложено!.. Какой человек! — прибавил он, говоря о Людовике XVI. — Какое самоотвержение, какое мужество! Нет, одна природа не могла бы дать таких сил, тут есть что-то сверхъестественное!»
Священник молчал до самых дверей башни. При имени Тара дверь отворилась. Через зал, наполненный вооруженными людьми, министр и духовник прошли в другой зал, более обширный. Двенадцать комиссаров Коммуны держали здесь совет. Только одно или два лица, тайком от своих товарищей, выказали несколько мимолетных знаков сочувствия, пока обыскивали аббата Фирмона. Потом духовника отвели к королю. Священник упал к ногам кающегося: прежде чем подать утешение, он плакал сам. Король также не могу удержаться от слез. «Простите, — сказал он духовнику, — за эту минутную слабость: я так давно живу среди врагов, что привычка сделала меня черствым, а сердце закрылось перед нежными чувствами. Но вид верного друга возвращает мне впечатлительность, которую я считал уже угасшею».
В семь часов пополудни королю предстояло свидание с семьей, великая радость среди предсмертной агонии.
Принцессы долго готовились к ней, теснились у дверей, обращались с мольбой к комиссарам и тюремщикам, не переставая их расспрашивать; несчастным казалось, что нетерпение их ускоряет ход времени и что трепет их сердец может раскрыть эти двери ранее назначенной минуты. Король, внешне спокойный, в душе был не менее смущен. У него всегда оставалась только одна любовь — к жене, одна дружба — к сестре, одна радость в жизни — дочь и сын. Эти чувства, рассеянные и остывавшие на троне, хоть и не угасавшие никогда совсем, разгорелись в его душе с началом тюремного уединения. Слезы, проливаемые вместе, накрепко соединяют сердца. Одно обстоятельство смущало предстоявший разговор: мысль о том, что это последнее свидание, в котором естественные чувства должны проявиться со всей свободой отчаяния, со всем увлечением нежности, будет иметь свидетелями тюремщиков. Король, основываясь на точных словах декрета, требовал, чтобы свидание происходило без свидетелей. Комиссары, ответственные перед Коммуной, не осмеливались открыто восставать и против Конвента; они совещались между собой, как примирить намерения декрета со строгостями закона. Решили, что разговор будет происходить в столовой; из этой комнаты стеклянная дверь вела в другую, где находились комиссары; дверь можно запереть, но комиссары будут наблюдать за пленниками сквозь дверные стекла.
Король оставил своего духовника в башенке; он просил его не показываться, боясь, чтобы вид служителя алтаря не напомнил королеве, что смерть рядом. Затем Людовик перешел в столовую и подготовил кресла. «Принесите воды и стакан», — сказал он своему слуге. На столе уже стоял графин воды со льдом, и Клери указал на него королю. «Принесите воды безо льда, — сказал король, — если королева выпьет этой воды, то ей может сделаться дурно».
Наконец дверь отворилась. Королева, держа за руку сына, устремилась в объятия короля и сделала быстрое движение, как бы желая увлечь его в свою комнату, дальше от посторонних глаз. «Нет, нет, — сказал король, удерживая жену на своей груди, — я могу вас видеть только здесь!»
Клери запер за ними дверь. Король с нежностью заставил королеву сесть в кресло с правой стороны от себя, а сестру посадил в другое кресло, по левую руку. Кресла оказались поставлены так близко, что обе женщины, наклонившись, обвили плечи короля руками и склонили головы к нему на грудь. Юная принцесса, распустив волосы по коленям отца, распростерлась у его ног, а дофин сидел на одном из колен короля. Эти пять человек, сжимавшие друг друга в объятиях, представляли собой как бы одно существо, одну нераздельную группу голов, рук, трепещущих тел, содрогавшихся от горя и ласк. Между ними раздавались горькие рыдания, сдержанный лепет, глухой ропот; отчаяние пяти душ, соединенных в одну, должно было вполне разразиться и тут же замереть в долгом объятии.
Тихий разговор, прерываемый поцелуями и рукопожатиями, продолжался в течение двух часов. Никто посторонний не слышал этих сердечных излияний. Сказанное угасло вместе с сердцами через несколько часов или месяцев, в могиле или в темнице. Одна только юная принцесса сохранила следы этой беседы в своей памяти и впоследствии сообщила нечто из последнего разговора.
Когда сердца были переполнены нежностью, глаза утомлены слезами, а губы не могли больше выговаривать слова, король встал и соединил всю семью в одном продолжительном объятии. Королева бросилась к ногам мужа и заклинала его позволить им остаться подле него всю эту роковую ночь. Он отказал в просьбе из любви к дорогим существам. Предлогом к такому отказу он выставил необходимость дать себе отдых, чтобы собрать назавтра все свои силы. Но он пообещал семье призвать ее в восемь часов утра. «Отчего не в семь?» — сказала королева. «Ну хорошо, в семь часов», — отвечал король. «Вы обещаете нам это?» — воскликнули все хором. «Обещаю», — повторил король. По мере того как пленники подходили к двери, которая вела на лестницу, рыдания усиливались. Наконец король бросился назад и, протягивая руки к королеве, воскликнул: «Прощай… Прощай!..» В его движении, взоре, звуке голоса в одно и то же время звучали и прошлая нежность, и терзания настоящей минуты, и вечность будущей разлуки, но тут же слышался и некоторый оттенок религиозной радости, которая предвкушала свидание в будущей жизни.
Во время этой сцены прощания молодая принцесса выскользнула без чувств из объятий принцессы Елизаветы и упала к ногам короля. Тетка, королева, Клери бросились поднимать ее. Во время внезапной сумятицы король вырвался, закрыл глаза руками, и, повернувшись с порога своей комнаты, крикнул в последний раз: «Прощайте!»
Агония монархии кончилась.
Король в изнурении упал на стул и долго не мог говорить. Клери умолял его принять хоть сколько-нибудь пищи, но «обед» продолжался не более пяти минут. Священник спросил короля, не будет ли для него утешением отслушать божественную службу завтра утром до рассвета и из его рук причаститься Святых тайн. Осужденному в ту минуту, вероятно, показалось, что сам распятый на Голгофе Спаситель посещает его в темнице в последний час. Впрочем, король не надеялся получить такую милость от комиссаров Коммуны.
Священник питал более доверия к милости Божией. Он сошел в зал совета и попросил разрешения совершить мессу в комнате короля. Комиссары, с одной стороны, боясь отказать в высшем утешении умирающему, а с другой — навлечь на себя обвинение в фанатизме, долго совещались вполголоса. «Кто нам поручится, — сказал наконец один из этих людей священнику, — что вы не отравите осужденного под видом причастия?» Духовник устранил всякий предлог к подозрениям, попросив самих стражников доставить вино, просфоры, сосуды и священные принадлежности.
Король встретил это последнее утешение как первый луч бессмертия. Началась исповедь. Он упал на колени, припомнил перед Богом поступки, мысли, намерения всей своей жизни. Такой обзор совести, такое самоосуждение продолжались долго. Затем король встал, сознавая себя если не невинным, то по крайней мере оправданным. Священник поставил кающемуся во искупление грехов ту смертную кару, которая предстояла королю; кровь его должна была сделаться жертвою, чтобы омыть трон от всех грехов его семьи.
Ночь наполовину прошла. Осужденный лег и заснул таким неожиданно мирным сном, как будто для него за этой ночью последует следующий день. Священник провел ночные часы в молитве в комнате Клери. Оттуда раздавалось ровное дыхание заснувшего короля, подобное движению стенных часов, которое, однако, скоро остановят. В пять часов следовало разбудить короля. «Разве пять часов пробило?» — сказал он Клери. «На башенных часах нет еще, — отвечал Клери, — но пробило уже на нескольких городских колокольнях». «Я хорошо спал, — заметил король, — вчерашний день меня утомил».
Клери помог своему господину одеться. Посреди комнаты он приготовил алтарь, и священник тут и совершил богослужение. После обедни, пока священник разоблачался, король вернулся в свою башенку для дальнейших размышлений. Ююри вошел туда, чтобы на коленях испросить его благословения. Людовик XVI обнял Клери, поручив передать от своего имени привет всем, кто выказывал к нему привязанность, и в особенности — тем из своих стражей, кто имел сострадание к его неволе и умиротворял ее строгости. Потом король тайком передал ему печать, отделив ее от своих часов, небольшой пакет, вынутый из нагрудного кармана, и обручальное кольцо, которое снял с пальца. «После моей смерти, — сказал король, — вы передадите эту печать моему сыну, а кольцо — королеве. Скажите ей, что мне тяжело расстаться с ним, но я это делаю для того, чтобы его не осквернили вместе с моим телом! Вы ей передадите также этот маленький пакет с локонами всех членов моего семейства. Скажите королеве, моим милым детям, моей сестре, что хоть я и обещал видеть всех их сегодня утром, но счел за лучшее избавить их от пытки повторения столь жестокой разлуки. Чего мне стоит отправляться на смерть, не заключив их еще раз в объятия! — Рыдания прервали его слова. — Поручаю вам, — прибавил он с нежностью, — передать им мое прощанье!»
Клери удалился, заливаясь слезами.
Спустя минуту король вышел из своего кабинета и спросил ножницы, чтобы слуга мог отрезать локон его волос, — единственное наследство, какое осужденный мог оставить своей семье. В этой милости ему было отказано. Клери просил у стражников позволения сопровождать своего господина и раздеть его на эшафоте, чтобы рука преданного слуги заменила в этом последнем служении позорную руку палача. «Хорош для него будет и палач», — отвечал один из комиссаров.
Лучи дневного света стали проникать в башню. Отчетливо слышались гул барабанов, которые во всех кварталах призывали граждан, топот жандармских лошадей и стук колес пушек и фур, перевозимых с места на место во дворах Тампля. Король равнодушно слушал этот шум.
Несколько минут спустя у подножия башни послышались голоса офицеров, которые приводили свои эскадроны в боевой порядок. «Вот они приближаются», — сказал король, прерывая и потом опять возобновляя разговор с духовником. В течение двух часов много раз приходили и стучались в дверь его кабинета под различными предлогами. Каждый раз духовник думал, что это уже роковой призыв. Король, не смущаясь, поднимался с места, отпирал дверь, отвечал и опять садился.
В десять часов на лестнице раздались шаги вооруженных людей, двери с шумом отворились, показался Сантерр в сопровождении 12 чиновников муниципалитета и десяти жандармов, которых он выстроил в комнате двумя рядами. Заслышав этот шум, король приотворил дверь своего кабинета. «Вы пришли за мной? — сказал он Сантерру твердым голосом и с повелительным видом. — Я сейчас выйду; подождите меня там!» Людовик вновь запер дверь и преклонил колени перед священником. «Все кончено, отец мой! — сказал он ему. — Дайте мне последнее благословение и молите Бога, чтобы он поддержал меня до конца». Потом король встал, отворил дверь и вышел к своим палачам с ясным лицом. В руках он держал сложенную бумагу: это было его завещание. Он обратился к охраннику, который находился прямо перед ним: «Прошу вас передать эту бумагу королеве». Движение изумления, выразившееся при этом слове на лицах республиканцев, напомнило королю, что он ошибся в выборе слов. «Моей жене», — поправился он тогда. Муниципальный служащий отступил назад: «Это меня вовсе не касается, — отвечал он грубо, — я здесь только для того, чтобы отвести вас на эшафот».
Этим человеком был Жак Ру, бывший священник, который, сложив с себя сан, вместе с ним изгнал из своего сердца всякое милосердие. Король, оглядев лица окружающих, обернулся к одному из тех, выражение лица которого обнаруживало меньшую жестокость; приблизившись к этому муниципальному служащему по имени Гобо, он попросил: «Передайте, пожалуйста, моей жене эту бумагу, вы можете прочитать ее; тут есть распоряжения, о которых Коммуна должна знать». Охранник, с согласия своих товарищей, принял завещание.
Клери, который боялся, подобно камердинеру Карла I, чтобы его трепещущий от холода господин не показался перед эшафотом дрожащим, подал королю свой плащ. «Мне нет в нем нужды, — сказал король, — дайте мне только мою шляпу». Взяв шляпу, он схватил руку своего верного слуги и сильно сжал ее, потом, повернувшись к Сантерру и смотря ему прямо в лицо, с решительным видом, сказал: «Идем!»
Сантерр и его отряд, можно сказать, сопровождали осужденного, а не вели его под стражей. Король твердым шагом сошел с лестницы, внизу он встретил привратника по имени Матен, который накануне выказал ему недостаток уважения и которого король упрекнул за наглость. «Матен, — сказал он ему, — вчера я был несколько раздражен против вас; простите мне ради такой минуты». Матен молча отвернулся.
Проходя пешком первый двор, король два раза посмотрел на окна королевы. Во втором дворе короля ожидал экипаж; у дверец стояли два жандарма; один из них сел на передок; потом взошел король и посадил духовника по левую руку от себя; второй жандарм взошел последним и запер дверцу. Карета покатилась.
Приказом Коммуны гражданам, не принадлежавшим к вооруженной милиции, запретили находиться на улицах, которые выходят на бульвары, или показываться в окнах. Даже рынки были пусты. Пасмурное, туманное небо только на расстоянии нескольких шагов позволяло различать лес пик и штыков от площади Бастилии до подножия эшафота на площади Революции. Король попросил у аббата молитвенник и искал в нем псалмы, которые соответствовали его настроению. Жандармы, сидевшие против короля, не могли скрыть удивления и уважения, какие внушало им благочестивое самоуглубление короля. Несколько криков сожаления послышалось при выезде экипажа в толпе, собравшейся на улице Тампль. Эти крики замерли без отголоска. Из толпы не вырвалось ни одной обидного слова, ни одного проклятия. Если бы у каждого из 200 тысяч граждан, которые оказались зрителями этих похорон живого человека, спросили: «Нужно ли, чтобы этот человек умер один за всех?» — никто, вероятно, не сказал бы «да». Но обстоятельства сложились так, что все, не колеблясь, выполняли то, чего не хотел, быть может, никто, взятый отдельно.
Впрочем, не все хранили бесстрастный вид.
При слиянии многолюдных улиц, которые примыкают к бульвару между воротами Сен-Дени и Сен-Мартен, внезапное волнение на минуту остановило процессию. Семь или восемь молодых людей рассекли толпу, разорвали ряды людей и бросились к экипажу с саблями в руках, с криком: «Сюда, кто хочет спасти короля!» В числе этих людей оказались барон де Батц, авантюрист и заговорщик, и его секретарь Дево. Три тысячи молодых людей, тайно завербованные и вооруженные для такой попытки, должны были ответить на этот сигнал и попытаться устроить при поддержке Дюмурье восстание в Париже. Обнаружив, что никто за ними не следует, заговорщики воспользовались общим изумлением и смятением, проложили себе путь через ряды национальной гвардии и затерялись в соседних улицах. Отряд жандармов преследовал их и схватил несколько человек, которые поплатились жизнью за свою попытку.
Процессия, остановившаяся на минуту, продолжала путь среди безмолвия неподвижного народа, вплоть до выезда с улицы. Там луч зимнего солнца, пробившись сквозь туман, осветил площадь, покрытую сотней тысяч человек; полки парижского гарнизона составляли каре вокруг эшафота, палачи ожидали жертву, а орудие казни — его толстые доски и столбы, окрашенные в красный цвет, — высилось среди толпы. Это была гильотина.
Машина, изобретенная в Италии и ввезенная во Францию благодаря человеколюбию известного медика, члена Учредительного собрания Жозефа Гильотена, послужила заменой жестоким и позорным орудиям казни, которые революция хотела уничтожить. По мысли законодателей гильотина имела еще и то преимущество, что тут кровь человека проливалась не руками другого человека, но безжизненным инструментом. Экипаж остановился в нескольких шагах от эшафота. Переезд продолжался два часа.
Король, заметив, что экипаж перестал двигаться, поднял глаза и как человек, который прерывает чтение на минуту, наклонился к уху духовника сказал ему тихо, вопросительным тоном: «Мы, кажется, приехали?» Священник отвечал ему немым утвердительным знаком. Один из трех братьев Самсон, парижских палачей, отворил дверцу. Людовик вышел из кареты. Трое помощников палача окружили его и хотели раздеть у подножия эшафота. Король величественно отстранил их, сам снял сюртук, галстук и опустил рубашку до пояса. Тогда палачи снова бросились к осужденному. «Что вы хотите делать?» — прошептал он с негодованием. «Связать вас», — отвечали они и уже держали его за руки, чтобы скрутить их веревками. «Связать меня?! — возразил король таким тоном, в котором звучала вся честь его рода, возмущенная подобным позором. — Нет, нет! Я никогда не соглашусь на это! Делайте свое дело, но меня вы никогда не свяжете, даже не думайте об этом!» Палачи настаивали, возвышали голос, призывали на помощь, готовились к насилию. Рукопашная схватка вот-вот осквернила бы жертву у подножия эшафота. Король взглянул на священника, спрашивая у него совета. «Государь, — сказал аббат, — перенесите безропотно это новое оскорбление как последнюю черту сходства между вами и распятым Христом, который будет вашею наградой». Король поднял глаза к небу. «Действительно, — сказал он, — нужен пример Бога, чтобы подчиниться подобному оскорблению!» Потом, обернувшись и сам протягивая руки палачам, он сказал: «Делайте что хотите, я выпью чашу до дна!»
Поддерживаемый под руку священником, осужденный взошел на эшафот по высоким скользким ступенькам. Достигнув последней ступеньки, он быстро отошел от духовника, прошел твердым шагом всю ширину эшафота, взглянул мимоходом на машину и топор и, вдруг обернувшись налево, к той стороне, где его могла видеть и слышать наибольшая масса народа, сделал барабанщикам знак молчания. Барабанщики машинально повиновались.
«Народ! — сказал Людовик XVI голосом, который был отчетливо слышен на другом конце площади. — Народ! Я умираю невиновным во всех тех преступлениях, какие на меня возводят! Я прощаю виновникам моей смерти и молю Бога, чтобы кровь, которую вы проливаете, не пала когда-нибудь на Францию!..» Он хотел продолжать; трепет охватил толпу. Начальник штаба войск из лагеря под Парижем, граф Бофранше-д’Айя, приказал барабанам бить. Сильный и продолжительный грохот заглушил и голос короля, и ропот толпы. Осужденный сам отдался палачам. В ту минуту, когда его привязывали к доске, он бросил еще один взгляд на священника, который молился на коленях на краю эшафота. Людовик XVI владел всеми чувствами до той самой минуты, когда вручил свою душу Богу. Доска опрокинулась, топор опустился, голова покатилась.
Один из палачей, взяв голову казненного за волосы, показал ее народу и оросил кровью края эшафота. Несколько федератов и фанатиков-республиканцев взошли на помост, омочили острия своих сабель и пик в крови и потрясали ими в воздухе с криком: «Да здравствует республика!» Ужас этого поступка заглушил крик на губах народа: общее восклицание походило скорее на протяжный стон.
Пушечные залпы возвестили самым отдаленным предместьям, что монархия казнена. Толпа безмолвно разошлась. Останки Людовика XVI в простой повозке свезли на кладбище Мадлен, а в яму насыпали извести, чтобы кости этой жертвы революции не сделались впоследствии предметом поклонения.
Улицы опустели. Толпы вооруженных федератов пробежали по парижским кварталам, возвещая о смерти тирана и распевая кровожадный припев «Марсельезы»; их встречали без малейшего энтузиазма: город остался немым.
XXXVI
Лепеллетье де Сен-Фаржо и Пари — Кюстин — Талейран — Внешняя коалиция — Военный министр Паш — Дюмурье в Бельгии
Смерть Людовика XVI вызвала сильное волнение во всем государстве. Все люди, не разделявшие стоицизма судей, были объяты ужасом и печалью. Им казалось, что великое святотатство должно призвать на народ одно из тех возмездий, которых Небо требует за кровь праведника. Женщины бросались с крыш домов и с парижских мостов. Сестры, дочери, жены и матери членов Конвента осыпали упреками своих мужей и сыновей. Казнь еще не была совершена, когда один из главных судей уже понес кару за смертный приговор Людовику XVI.
Мишель Лепеллетье де Сен-Фаржо, потомок древнего рода, члены которого занимали высшие судебные должности, и владелец огромных поместий в департаменте Ионны, сначала защищал права короля в Генеральных штатах. После закрытия Учредительного собрания, предвидя падение монархии, он удалился в свои поместья, а затем перешел на сторону народной партии с угодливостью человека, которому надо заслужить прощение. Когда он сделался центром, вокруг которого начали группироваться недовольные в его департаменте, душою клубов, подстрекателем народных волнений, его выбрали членом Национального конвента в Сансе. Архиепископ Санса Ломени де Бриенн, бывший министр Людовика XVI и известный противник церкви в вопросах философии, в гражданском платье и красном колпаке присутствовал при избрании Мишеля Сен-Фаржо. Таким образом духовенство и аристократия отреклись от своих прав в пользу народа и обагрили руки в крови. Архиепископ, предвидя ужасные последствия подобных жертв, носил с собой яд, присланный ему Кондорсе, которым он и воспользовался несколько месяцев спустя, а Сен-Фаржо уже предчувствовал, что его поразит кинжал роялиста. Тот и другой должны были сделаться мучениками своего нового положения: один нанес себе удар сам, другой пал от руки убийцы.
Сен-Фаржо пользовался в Конвенте и у якобинцев влиянием благодаря своему происхождению. Он председательствовал иногда на собраниях якобинцев и шел навстречу желаниям Робеспьера. Никто не может льстить представителям народа лучше аристократа, научившегося лести при дворе. Он бывал у герцога Орлеанского и прочил отдать, как говорили, свою единственную дочь за старшего сына герцога. Огромное приданое должно было сгладить неравенство имен, а революционные принципы — уничтожить разницу в общественной иерархии.
Его богатство и высокое положение попечителя разных учреждений в Бургундии сплотили вокруг него десять или двенадцать членов Конвента, не спускавших глаз со своего представителя и готовых во всем подражать ему. Эти двенадцать голосов, присоединившихся к противной стороне по знаку Сен-Фаржо, составили разницу в двадцать четыре голоса во время голосования на процессе короля, и потому именно на Лепеллетье возлагали всю ответственность за смерть Людовика XVI. Роялистам это было известно. Таинственные просьбы посыпались на Сен-Фаржо; он обещал подать голос за помилование. Якобинцы, узнав об этих переговорах, потребовали, чтобы он опроверг их актом, залогом которому служила бы его голова, и он обещал, что будет непреклонен. В решительную минуту он сдержал слово, данное якобинцам.
Среди роялистов выделялся молодой человек по имени Пари, сын одного из управляющих имениями графа д’Артуа. Пари поступил в конституционную гвардию Людовика XVI как раз в то время, когда в ней соединились все оставшиеся верными защитники короля. Этот молодой человек принадлежал к числу тех, кто должен был напасть на конвой короля, когда его повезут на казнь. После объявления смертного приговора бешенство и горе его дошли до крайних пределов. Со спрятанной под плащом саблей гвардеец вышел из дому, надеясь, что случай столкнет его с жертвой, желательно с герцогом Орлеанским. Но случай обманул его ожидания. Герцог не появился.
Пари в сопровождении одного из своих друзей вошел в трактир «Феврие» в Пале-Рояле. Подземные залы этого трактира походили на плохо освещенные погреба. Лепеллетье часто заходил в «Феврие» и обедал в темном зале за маленьким столиком один. В этот роковой день за соседним столиком оказался Пари, который ничего не мог есть — до того был возбужден. Он вполголоса беседовал со своим другом о приговоре, произнесенном накануне, о завтрашней казни и низости народа. Дурно скрытое негодование прорывалось в звуке его голоса и в выражении лица. Два или три раза Пари порывисто вставал, выходил из зала и снова возвращался, точно поджидал кого-то. После обеда он скрестил на груди руки, склонил голову и погрузился в размышления. Его блуждающий взоры машинально перебегал по лицам присутствовавших в зале.
Когда кто-то назвал имя Лепеллетье и при этом указал на него, Пари, не знавший депутата в лицо, а также не подозревавший, за что тот подал голос, приблизился к нему и спросил: «Вас зовут Сен-Фаржо?» — «Да, что вам от меня угодно?» — «У вас лицо порядочного человека; вы же не подавали голос за казнь короля, не правда ли?» — «Вы ошибаетесь, сударь, — возразил Сен-Фаржо грустным, но твердым голосом, — я подал голос за казнь короля, потому что этого требовала моя совесть». — «Ты требовал смерти? Ну так вот же тебе за это!» С этими словами Пари делает движение, чтобы откинуть полы плаща и схватиться за рукоятку шпаги. Сен-Фаржо встает и протягивает руки вперед, приготовившись защищаться. Но гвардеец в мгновение ока вытаскивает шпагу, вонзает ее в грудь Лепеллетье и бежит вон из трактира. Перенесенный на кровать, Сен-Фаржо умирает несколько минут спустя.
Удар шпаги сделал Лепеллетье знаменитым. Вследствие особого декрета перед его гробом раскрылись двери Пантеона. Ему устроили похороны за счет нации не для того, чтобы почтить его память, а чтобы торжественней отомстить той партии, жертвой которой он пал.
Вечером в Пале-Рояле у дверей трактира сверкали обнаженные сабли, готовые отомстить за Сен-Фаржо. В саду, посреди толпы, негодовавшей, когда произносили имя убийцы, и громко требовавшей его смерти, прогуливался гвардеец Пари. Один из роялистов, узнав его, содрогнулся от ужаса. «Дело мое еще не кончено, — тихо сказал Пари, — я найду того, кого ищу, здесь или в Конвенте, и отправлю его вслед за этим».
Неделю спустя он уехал из Парижа вместе со своей любовницей и двенадцатилетним братом, в том же самом костюме, который был на нем в день убийства. Он надеялся в Дьеппе сесть на корабль, отправлявшийся в Англию. Любовница и брат проводили его только до Жизора, и оттуда он отправился по проселочным дорогам в маленький городок Форж-ле-О. Он вошел в один из пригородных трактиров и потребовал себе ужин и ночлег. Несколько разносчиков беседовали о событиях дня; Пари вмешался в их разговор. «Что думают здесь об осуждении и казни короля?» — спросил он с притворным равнодушием. «Говорят, что поступили прекрасно, — ответил один из торговцев, — и что заодно с ним следовало бы казнить и всех остальных тиранов». Пари не смог сдержать свое негодование, взявшее верх над осторожностью. «Так, значит я всюду буду встречать только убийц своего короля!» — проговорил он довольно громко, чтобы его слышали. Вслед за тем он удалился в приготовленную ему комнату. Люди, наблюдавшие за ним в стеклянную дверь, видели, как он несколько раз поцеловал свою правую руку, как бы благодаря ее за совершенный ею акт правосудия. После ужина он спросил перо и чернил, написал несколько строк на своем отпускном билете, положил пистолет под подушку и лег спать.
Рано утром разносчики отправились к мэру и в жандармское управление Форжа и рассказали о своих подозрениях, касающихся одного путешественника. Члены муниципалитета в своих трехцветных шарфах и жандармы с обнаженными саблями вошли в комнату Париса. Он крепко спал. Его разбудили. Он посмотрел на жандармов без малейшего смущения. «Это вы, — сказал он, — я вас ждал». — «Покажите ваш паспорт». — «У меня нет его». — «Следуйте за нами в городское управление». — «Я иду вслед за вами». С этими словами он сунул руку под подушку, вытащил пистолет и выстрелил себе в голову, прежде чем жандармы успели предупредить его движение. На груди у него нашли отпускной билет, выданный в гвардии короля, на котором он накануне написал следующие слова: «Это мой почетный диплом. Не трогайте никого. В имевшем счастливый исход убийстве негодяя Сен-Фаржо сообщников у меня не было. Если бы он не подвернулся мне под руку, я совершил бы еще лучшее деяние, избавив Францию от герцога Орлеанского. Все французы — трусы!»
Когда Конвент узнал об этом самоубийстве, то немедленно отправил Лежандра и Тальена в Форж-ле-О для опознания. Лежандр хотел, чтобы тело Пари привезли в столицу и протащили на тележке по всему городу на поругание толпы. Тальен воспротивился этому. Спросили мнения Конвента, который тоже отверг подобное издевательство. Гвардейца закопали, как животное, в лесу, в окрестностях города.
Три дня спустя Конвент хоронил жертву убийства. Трагический гений Шенье начертал церемониал похорон по образцу древнегреческих. На катафалке, живым пьедесталом которому служили сто федератов, покоилось обнаженное тело Лепеллетье. Одна рука его свешивалась, как бы взывая к мести. Широкая рана, через которую улетела жизнь, зияла на его груди. Окровавленную одежду несли на пиках, подобно знамени. Президент Конвента поднялся по ступенькам катафалка и возложил на голову мертвеца дубовый венок, усеянный цветками бессмертника. Погребальное шествие двинулось под тихую музыку.
Семья Лепеллетье в траурных одеждах шла за гробом. В процессии членов Конвента развевалось знамя, на котором золотыми буквами были написаны последние слова, приписываемые Сен-Фаржо: «Я умираю, с радостью пролив свою кровь за отечество, и надеюсь, что она послужит делу свободы и равенства».
Когда погребальное шествие приблизилось к Пантеону, здание было уже наводнено народом. Тело, поднятое толпой, чуть не скатилось на ступени. Феликс Лепеллетье, брат жертвы, поднялся на возвышение и, несмотря на гул толпы, обратился к ней с речью, в которой сравнил своего брата со старшим из Гракхов, и поклялся подражать ему во всем. (На другой день Феликс, держа за руку восьмилетнюю дочь своего брата, одетую в глубокий траур, представил ее Конвенту. Ребенок отдельным декретом был объявлен приемной дочерью республики.)
Мнения департаментов по поводу смерти Людовика XVI разделились. Вандея видела в этом событии проявление отчаяния, которое овладевает народом во время междоусобных войн. Департаменты Кальвадос, Севенн и Жиронда разделяли колебания, порывы и раскаяние своих представителей. Распространившийся слух о предстоящей войне вскоре заставил прекратить взаимные упреки. Пророчества Бриссо и Верньо оправдались. Европа, вначале увлеченная принципами свободы, почувствовала ужас при виде эшафота короля: она осуждала эту казнь с беспристрастием судьи, находящегося на расстоянии. Переговоры, искусно начатые Дюмурье, Бриссо, Дантоном и министром Лебреном, навстречу которым так охотно пошла Пруссия, оказались прерваны ножом гильотины.
Мы оставили союзную армию после битвы при Вальми, по отъезде Дюмурье в Париж, под предводительством прусского короля и герцога Брауншвейгского в беспорядке проходящую через аргонские ущелья и направляющуюся к Вердену и Лонгви. Все указывало на тайное соглашение между французами и пруссаками. Келлерман, хотевший преследовать неприятеля, дважды получил приказание разомкнуть войска, чтобы пропустить его.
Каждое передвижение французской армии происходило после перехода прусских войск и совершалось согласно предварительным переговорам предводителей противных сторон. В полумиле от Вердена, в открытом поле, состоялось совещание между генералами Лабарольером и Гальбо, с одной стороны, и генералом Колкрейном и герцогом Брауншвейгским — с другой. Предлогом стало возвращение Вердена без боя. Французские генералы гордились тем, что дух Конвента перешел к лагерям. «Удивительный народ! — громко сказал герцог Брауншвейгский. — Не успел он объявить страну республикой, как уже заговорил языком древних республиканцев!» Когда Гальбо возразил на это, что народы имеют право избирать ту форму правления, которая более других способна возвеличить или охранить их, герцог смиренно извинился: «Я не оспариваю у французской нации права устраивать свои дела, но избрала ли она действительно ту форму правления, которая наиболее соответствует ее характеру? Вот о чем беспокоится и в чем сомневается Европа». Гальбо ответил, что порядок, восстановленный иностранцами, у всех народов называется «рабством».
Относительно возвращения Вердена решили дождаться приказаний прусского короля. «Продолжайте верно служить своему отечеству, — сказал при прощании герцог Брауншвейгский обоим генералам, — и верьте, что, несмотря на любые выражения манифестов, нельзя не уважать воинов, которые способствуют сохранению независимости своей страны». Верден был возвращен. Его занял генерал Баланс.
Гессенцы и австрийцы, входившие в состав союзной армии, расстались с пруссаками на возвышенности Лонгви и пошли на Люксембург, Кобленц и Нидерланды, которым угрожал Дюмурье. Фактически коалиция распалась, и французская территория оказалась очищена.
Но этого было мало. Герцог Брауншвейгский, стоявший лагерем у Люксембурга, просил у генерала Диллона свидания для переговоров о мире, и местом этого свидания назначил старинный замок, расположенный между Лонгви и Люксембургом. Келлерман, уполномоченный комиссарами Конвента, отправился на это свидание. Там он встретил герцога Брауншвейгского, князя Гогенлоэ, князя Рёйсского и маркиза Луккезини, итальянского дипломата, состоявшего на прусской службе. «Генерал, — обратился к Келлерману герцог Брауншвейгский, — мы назначили вам это свидание, чтобы переговорить о мире; условия мира назовите сами». — «Признайте республику, откажитесь от короля и эмигрантов, не вмешивайтесь в наши внутренние дела ни прямо, ни косвенно», — отвечал Келлерман. «Итак, — сказал герцог, — каждый из нас вернется к себе». — «Но кто же заплатит за военные издержки? — гордо возразил Келлерман. — Я полагаю, что так как император являлся зачинщиком, то Австрийские Нидерланды должны остаться у Франции в виде вознаграждения». Князь Рёйсский, посол императора, выразил удивление такой дерзостью. Герцог Брауншвейгский сделал вид, что не заметил этого. «Передайте Конвенту, — сказал он Келлерману, — что мы согласны на мир и ему остается только назначить уполномоченного и место для переговоров».
Такое предложение служило достаточным свидетельством раскаяния прусского короля и намерения вступить в союз с республикой. Его министр Гаугвиц, личный секретарь Ломбард, любовница графиня Лихтенау и в особенности Луккезини — все сообща старались склонить короля вступить в переговоры.
Эти переговоры свидетельствовали о том, какой ужас во всей Германии вызвало отступление армии. Приходилось усомниться или в военном гении герцога Брауншвейгского, или в его искренности. Относительно его военного таланта не могло закрасться и сомнения. Искали тайные причины его колебаний, слишком похожих на измену. Герцог Брауншвейгский был женат на принцессе Августе, сестре Георга III, короля Англии. Увлеченный страстной любовью отца и честолюбием монарха, он жаждал выдать свою дочь за наследника английского престола. Ему дали понять, что брак этот может быть устроен ценой политических и военных уступок лондонскому кабинету. Герцог затянул войну, перешел на сторону мира и увлек к тому же короля Пруссии. Он сделался таким образом Улиссом коалиции, которая назначала его быть своим Агамемноном. Его хитрости погубили тот успех, который сулило завоевать его оружие.
В то время как эти неопределенные переговоры раздражали Австрию и приучали Прирейнскую Германию к мысли о скором братском союзе с Францией, победоносная, но несвоевременная отвага одного французского генерала встревожила Пруссию и заставила ее объявить Франции войну.
Граф Адам-Филипп де Кюстин принадлежал к числу генералов старой армии, которые отправились в Америку подышать чистым воздухом свободы и вернулись вместе с Лафайетом республиканцами в душе, хоть и оставались аристократами по крови. В возрасте двадцати одного года он уже был драгунским полковником и учеником Фридриха Великого в его последних войнах; он с восторгом видел, что революция, разделив Европу на два лагеря, предоставляла военным людям возможность, спасая отечество, сравняться с героями древности. Кюстин вносил в свое отношение к республике почти мистический энтузиазм, который придает германский темперамент всякому убеждению. Для него революция стала высшим идеалом, к которому должны стремиться все народы, и он считал счастьем для Франции, что она носит на своих штыках знамя этого идеала. Пальба была его стихией, конь служил ему ложем, атака — отдохновением. Однажды пуля разорвала депешу, которую читал ему его адъютант, ехавший рядом с ним под выстрелами. Адъютант взглянул на генерала и остановился. «Продолжайте, — сказал Кюстин, — пуля по всей вероятности оторвала одно только слово».
Выбранный дворянством Меца в члены Учредительного собрания, Кюстин с первого дня стал на сторону народа. В начале войны он служил под началом Бирона на севере и на Рейне. Получив после 10 августа назначение командовать войсками, он сильно негодовал на эту лагерную войну, которая давала так мало возможности прославиться. Рожденный стать генералом, подобно Дюмурье, он так же, как Наполеон, любил войну решительную.
Бирон командовал в Эльзасе 45-тысячной армией. Он ожидал из восточных и южных департаментов 25 тысяч волонтеров, рассеянных пока по Рейнской долине. Это войско разделилось на несколько небольших лагерей, пригодных для разведки, но неспособных к военным действиям. Австрийцы и эмигранты, под началом Эрбаха, Эстергази и принца Конде, растянулись цепью; среди них не наблюдалось ни единодушия, ни сплоченности: заняв Бризгау, они забыли укрепить Майнц, этот ключ к Германии.
Юостин стоял лагерем под Ландау с семнадцатитысячным войском. В Париже он поддерживал дружеские отношения с предводителями якобинской партии, тогда как Дюмурье опирался на жирондистов; Кюстин был уверен, что клубы охотно простят ему его рискованное предприятие.
Неосторожная выходка неприятеля заставила Кюстина принять окончательное решение. Граф Эрбах, командовавший десятью тысячами австрийцев, получил приказ занять место корпуса принца Гогенлоэ под Тионвилем. Благодаря этому передвижению Спир, где находился склад военных припасов союзников, остался почти без прикрытия. Кюстин устремился на Спир и разбил защитников города. Это был самый блестящий успех французов со времени объявления войны. Революция провозгласила Кюстина главой завоеванных им городов. За три дня имя его приобрело такую популярность, на достижение которой в другом случае потребовалась бы целая жизнь. Его самого опьянил этот успех. Он больше не хотел ни подчиняться, ни вести военные действия совместно с Бироном и Келлерманом: он взял Вормс, пошел на Пфальц и уже мечтал о взятии Майнца. Пропаганда раньше пушек открыла ему городские ворота.
Взятие Майнца наделало в лагере прусского короля столько шума, будто сама Германия была уже разрушена. Кюстин, преувеличив в своих отчетах Конвенту препятствия, которые ему пришлось преодолеть силой оружия, довел до опьянения восторг якобинцев. Он упустил из виду, что важнее овладеть Кобленцем и грозной крепостью Эренбрейтштейн, в то время плохо вооруженной. Это упущение Кюстина помешало Франции воспользоваться плодами идеи Дюмурье — уничтожить всю армию сразу или взять ее в плен.
Кюстин же, прельщенный контрибуциями, которые мог взять с Франкфурта как средоточия коммерческих сокровищ Германии, занял и этот город. Двадцать второго октября один из офицеров Кюстина появился во главе авангарда перед Франкфуртом и потребовал, чтобы его впустили в город. Городские власти уступили силе. Кюстин взял с города контрибуцию в размере четырех миллионов, хотя нейтральный и республиканский Франкфурт не подавал к такому насилию никакого повода, кроме своей слабости.
Заняв Франкфурт, Кюстин направил свои прокламации против владений ландграфа Гессенского. «Народы Германии, — писал он в одном из своих манифестов, — пусть союз двух наций станет грозным примером для всех деспотов! А тебя, чудовище, над головой которого уже столько времени, подобно черным тучам, собираются проклятия германского народа, тебя твои солдаты предадут справедливой мести французов! Ты не уйдешь от них! Возможно ли, чтобы нашелся народ, который даст убежище такому тирану, как ты?»
Трибуна якобинцев гремела по ту сторону Рейна. Кюстин являлся вооруженным распространителем республиканских идей. Но грабеж Франкфурта лишил его речи привлекательности. Германия, раскрывшая объятия освободителю, не захотела принять ни завоевателя, ни тем более грабителя. Энтузиазм был растоптан сапогами солдат. Прусский король отказался от мысли вступить с Францией в переговоры о мире. Он вошел в соглашение с герцогом Брауншвейгским, и 50 тысяч пруссаков и гессенцев, наскоро собранных, сосредоточились на правом берегу Лана, чтобы действовать против Кюстина и освободить Франкфурт.
Узнав, что против него соединились немецкие правители, Кюстин, ставший всемогущим в Конвенте благодаря якобинцам, добивается, чтобы Бирон прислал ему из Эльзаса подкрепление в 30 тысяч человек и приказывает Бернонвилю, сменившему Келлермана, также идти к нему на подмогу. Пока эти меры приводятся в исполнение, прусская армия и один из французских отрядов располагаются под стенами Франкфурта, как бы оспаривая друг у друга эту добычу. Две тысячи человек, оставленных в городе, выжидают в бездействии. Идут приготовления к битве, но бранденбургский курфюрст, командующий пруссаками и гессенцами, продолжает втихомолку вести переговоры и предупреждает решительный удар. Молодой дипломат Филипп де Кюстин, сын главнокомандующего, проводит тайное свидание с герцогом Кёнигштейнским. Герцог и дипломат уже давно знали друг друга: год назад именно молодой Кюстин передал герцогу Брауншвейгскому предложение принять на себя командование французскими войсками. И тот и другой умели скрывать свои тайные мысли под маской официальности. Молодой Кюстин, более осторожный, нежели его отец, хотел сохранить возможность примирения между Пруссией и республикой. Результаты этого свидания свидетельствуют об образе мыслей обоих посредников: французы отступили от стен Франкфурта.
До сих пор Англия покровительствовала революционному движению во Франции. Помимо продолжительного соперничества, которое в течение трех веков делало из Англии и Франции два полюса мира, лондонский кабинет с удовольствием созерцал падение Людовика XVI как государя, который оказал помощь Америке в войне за независимость.
К этому позже присоединился страх, который внушал англичанам французский флот, курсирующий в морях, омывающих английские владения в Восточной Индии. Но до сих пор лондонский кабинет сохранял нейтралитет, скорее благоприятствующий, нежели враждебный революции. Народ-мыслитель смотрел на революцию как на дело Божие и человеческого разума, на победу свободы вероисповедания и мысли. Тем не менее после смерти короля английская аристократия начала брататься с французскими эмигрантами. В британском парламенте образовались две партии. Предводителями их были Питт и Фокс. Третий оратор, столь же могущественный благодаря своему гению, перу и красноречию, некоторое время не примыкал ни к той, ни к другой партии; он предпочитал держаться в стороне от народа с тех пор, как народ запятнал себя кровью, и наконец примкнул к аристократии и роялистам. Это был Борк. В странах действительно свободных влияние личности настолько велико, что три этих человека волновали и успокаивали Англию одним только движением своих мыслей.
Питт, которому в то время исполнилось тридцать три года, сын лорда Чатема, самого красноречивого из государственных деятелей последнего столетия, наследовал от отца его блестящие способности. В то время как Чатем-старший умел увлекать, младший обладал даром управлять людьми. Питт встал во главе правительства в одну из тех отчаянных минут, когда честолюбие, ищущее власти, может быть уподоблено патриотизму, бросающемуся напролом. Англия достигла последней степени истощения и унижения. В течение десяти лет Питт успокоил Индию, возобновил торговые отношения с Америкой и подчинил ее влиянию английской дипломатии, усмирил волнение умов в Ирландии, заключил с Францией торговый договор, по которому половина Европы обязывалась допустить к употреблению у себя английские товары, наконец, освободил Голландию от протектората Франции и утвердил влияние британской политики на материке. Благодарная страна рукоплескала ему; все относились с полным доверием к человеку, поднявшему страну, павшую так низко. Страсти никогда не омрачали его разума, или, вернее, он сосредоточил все страсти в одной — жажде величия своей страны.
Георг III, друг Людовика XVI, никогда не позволил бы своему правительству объявить войну Франции в тот момент, когда война могла осложнить и без того стесненное положение любимого им короля. Неправда, что Англия при помощи золота вызвала революционные беспорядки во Франции: французская партия свободы, даже находясь в самом отчаянном положении, не приняла бы поддержки Англии. Георг III, лорд Стаффорд, канцлер Тарлов, да и сам Питт с негодованием отказались бы от принятия таких позорных мер против монарха, воюющего со своим народом. Но Питт из сострадания к Людовику XVI не упустил бы ни одного благоприятного момента, которым мог бы воспользоваться для блага своего народа. Он предчувствовал крушение трона, знал, что догматы Французской революции внушили королю и большей части английской аристократии страх и отвращение, и готовился к часу войны, притом что сам не хотел ни приближать, ни отдалять его.
Приверженцы конституции и жирондисты Бриссо и Нарбонн для переговоров с Питтом выбрали самого обольстительного дипломата из всех умеренных приверженцев революции.
Талейран в то время только что выступил на поприще, на котором подвизался потом в течение более полустолетия и которое не покинул до самой своей смерти. Ему в то время исполнилось тридцать восемь лет. Лицо его было нежным, с тонкими чертами, в голубых глазах читались проницательность, ясный, но холодный ум и душевное спокойствие, не смущаемое никогда и никакими волнениями. Он был высокого роста и прекрасно сложен, и даже физический недостаток — хромота — не портил его наружности. В голосе Талейрана слышались низкие, но вместе с тем мягкие нотки. Слушая его, начинало казаться, что этот человек лучше всех других найдет путь к сердцу властителей, народов, трибун, женщин, императоров, королей. Его сардоническая улыбка очаровывала всех: она, казалось, говорила, что этот человек умеет, увлекая людей, заставлять исполнять их свои желания и управлять ими.
Епископ города Отёна, друг Мирабо, состоящий в близких отношениях со всеми философами, член Учредительного собрания, он весьма кстати, хоть и осторожно, отказался от погибшей религии и перешел на сторону силы и будущего. Он отказался от своего духовного сана, как от стесняющей одежды, и старался проникнуть в революцию окольным путем. Ум его был смел только в кабинете, не давая ему возможности выступить на трибуне, где в то время раздавались блестящие речи. Талейран предпочел вступить на дипломатическое поприще, где царит ловкость и хитрость.
Его мнения выражали только известные положения; его истины были не что иное, как его мнения. Монаршая власть, народные собрания, Конвент, консульство, реставрация и перемена династий — все это оставалось для него не более чем игрой случая. Мысленно он готовил себе роль баловня судьбы и действительно всегда оказывался там, где его поджидала удача. Чтобы взять на себя эту роль равнодушия ко всем превратностям судьбы, человек должен отказаться от того, что составляет величие его характера и ума: изменить искренности своих убеждений, то есть отказаться от лучшей части своего сердца и ума. Служить всем идеям — значит не признавать ни одной. Чему тогда служат под именем идеи? Своему честолюбию. Однако с самого начала революции Талейран понял, что главная цель ее — мир, и оставался верен этой цели до конца своей жизни.
Вследствие постановления Народного собрания, запрещавшего своим членам принимать на себя должности исполнительной власти до истечения четырехлетнего срока по выходе из его состава, Талейран не мог быть назначен официально посредником на переговорах. Официальные верительные грамоты вручили де Шовелену, царедворцу, сделавшемуся популярным благодаря своим нападкам на двор, но секретные инструкции и полномочия передали Талейрану. Конфиденциальное письмо королю Англии Георгу III, написанное рукой Людовика XVI, гласило: «Новые отношения должны установиться между нашими государствами. Два короля, отметившие свое царствование постоянным стремлением сделать свои народы счастливыми, должны заключить союз, который будет крепнуть по мере того, как выгоды такого союза для наций сделаются очевидными».
Талейран был представлен Питту и с воодушевлением рисовал ему славу государственного человека, которому потомство будет обязано примирением двух народов, вершащих дела мира и войны. Питт слушал его хоть и благосклонно, но дал ясно понять, что английский кабинет не захочет компрометировать себя, заключая союз в самый разгар революции, вспышки которой, следуя одна за другой, не давали никаких гарантий к выполнению принятых на себя обязательств. Талейран, вернувшись во Францию, передал мнению Питта жирондистскому правительству Ролана и Дюмурье, только что сменившему Нарбонна и Лессара. Дюмурье снова послал Талейрана в Лондон, чтобы просить Англию стать посредницей между императором и Францией. На этот раз Талейран и Шовелен сделались не только докучливы, но даже с подозрением отнеслись к Питту. Последний заметил, что французские уполномоченные одновременно ведут переговоры с ним о соглашении с Францией и с главами оппозиционной партии — о возмущении в Англии. Правительственные газеты громко обвиняли их в том, что они находятся в тайных сношениях с Фоксом, лордом Греем и даже с писателем Горн-Туком, основателем народной партии, которая нападала не только на министров, но и на аристократию, собственников, церковь, на дух государственного устройства Великобритании, на самый строй общества.
Тщетно Фокс, соперник Питта на трибуне, человек способный скорее возбуждать народ своими словами, нежели руководить им, старался в своих речах оправдать движение в Париже; тщетно старался он объяснить, что свобода Франции солидарна с британской свободой. Доводы Фокса нашли поддержку только в меньшинстве, состоявшем из пятидесяти или шестидесяти голосов нижней палаты. Лорд Гауэр, английский посланник в Париже, был отозван тотчас же после низвержения Людовика XVI под предлогом, что его полномочия потеряли силу с падением монарха, при котором он был аккредитован.
Когда приехал курьер, привезший эту роковую весть в Лондон, Шовелен получил приказ покинуть Англию в течение двадцати четырех часов. Запрошенный оппозиционной партией относительно поводов к такому изгнанию из свободной Англии, Питт дал следующий ответ: «После событий, которых нельзя себе представить без ужаса, и с тех пор как власть во Франции попала в руки адской крамолы, мы не могли допустить дальнейшего пребывания в стране Шовелена, потому что не осталось уже средств подкупа, к которым не прибег бы Шовелен лично или через своих соглядатаев, чтобы соблазнить народ и возмутить его против правительства или законов нашей страны». Талейран, не имевший официальных полномочий, остался в Лондоне и держал в своих руках последнюю нить сношений.
Шовелен, вернувшись в Париж, говорил, что, по знаку республиканских обществ, весь народ в Лондоне восстанет в тот день, когда Питт дерзнет объявить войну Франции, и что Георг III не будет в безопасности даже в собственном дворце. Бриссо, доверяя Шовелену, взошел на трибуну Конвента и объявил, что грозящая разразиться война освободит Ирландию от ига Англии. Не слушая советов более осведомленного Дюмурье, он заявил: «Голландия держит сторону Сент-Джемского кабинета и является при этом скорее подвластной ему, чем его союзницей; пусть же она разделит его участь!» Война с Англией и голландским штатгальтером, поставленная на голосование, была принята единогласно. «Мы высадимся на этом острове, — писал министр Монж французскому флоту, — бросим им пятьдесят тысяч фригийских колпаков, водрузим священное знамя свободы, откроем объятия нашим братьям-республиканцам. Деспотическое правительство скоро падет!»
Питт не устрашился этих угроз. Он считал корабли, но не прокламации. У Франции в море и в портах находилось 66 линейных кораблей и 93 фрегата и корвета. У Англии — 158 линейных кораблей, 22 пятидесятипушечных корабля, 125 фрегатов и 110 разведочных судов. Голландия, союзница Англии, могла вооружить кроме того 100 боевых судов различной величины. Со своего острова, окруженного таким подвижным укреплением, Питт мог невозмутимо руководить делами континента. Состояние его финансов было не менее впечатляющим, нежели флота: он мог бы содержать всю Европу на английские деньги. «Министр подготовки», как его в насмешку называли десять лет назад, угадал громадность дела, которое коалиция теперь возлагала на его отечество.
Казнь Людовика XVI имела зловещие последствия и в России. Екатерина II тотчас же нарушила торговый договор 1783 года, в силу которого французы являлись наиболее благоприятствуемой нацией в ее государстве, и запретила какие бы то ни было сношения своих подданных с Францией. Она приказала всем французам, жившим в России, выехать за пределы страны в течение двадцати дней, если они формально не отрекутся от революционных принципов. Хотя, по заключении мира с Турцией, императрица располагала огромной армией, которую могла бы двинуть на Францию, она предоставила Австрии и Пруссии одним бороться против революции. Екатерина долго надеялась, что шведский король Густав один успокоит Францию, но убийство Густава обмануло ее ожидания. После его смерти ее тревожили две заботы: Польша и Франция. Ее войска заняли Варшаву и подавили там революционные волнения, имевшие связь с революцией в Париже. Король Прусский на тех же основаниях занял Данциг и Великую Польшу. Императрица и Фридрих-Вильгельм хотели разделить между собой Польшу, пока германский император занимался защитой своей страны от Франции. В этом заключалась тайна медлительности лукавой дипломатии короля Прусского и нерешительности коалиции.
Но, получив известие о казни Людовика XVI, Екатерина приказала своему полномочному посланнику в Лондоне, графу Воронцову, заключить с Англией договор об оборонительном и наступательном союзе. Едва договор этот был подписан, как она предоставила Англии, Голландии, Пруссии и Германии самим нести тяжесть войны на море, в Нидерландах и на Рейне и двинула свои войска на Польшу. Политика тщеславия одержала в сердце Екатерины верх над политикой принципов. Императрица громко выражала свое негодование против французской анархии, подстрекала своих союзников к борьбе, но сама воздержалась от вмешательства.
Пруссия, со своей стороны, тревожась присутствием России в тылу и желая удержать за собой свою долю Великой Польши, также принимала слабое участие в делах коалиции. Австрия взяла на себя ту роль, которую играла Пруссия в первой коалиции, соединила все отдельные государства Империи и решила вести наступательную войну в Нидерландах. Договорились, что армия каждого государства будет иметь своего отдельного начальника. Совместные действия армий оказались таким образом предоставлены на усмотрение их государей.
Император назначил главнокомандующим принца Кобургского, командовавшего имперскими войсками в войне против турок и разделившего с Суворовым славу побед при Фокшанах и Рымнике. Принц Кобургский являлся сторонником выжидательного способа ведения войны и принадлежал к школе герцога Брауншвейгского, следовательно, меньше всего годился для того, чтобы разбить пылавшую воодушевлением французскую армию. Как только принц Кобургский получил назначение, он немедленно отправился к герцогу Брауншвейгскому во Франкфурт для переговоров и совместного обсуждения малодушного плана, результатом которого стало освобождение Шампани, гибель Людовика XVI и оставление Рейна без прикрытия.
Такова была новая коалиция, в которой из пяти государей три оставались в выжидательном положении и только два собирались сражаться.
Мы оставили Дюмурье победителем при Вальми, Келлермана — скорее сопровождающим, нежели преследующим отступающего прусского короля, Кюстина — в Майнце, Диллона — в Эльзасе, а Монтескью, набирающим тридцать тысяч человек из гарнизонов наших южных городов, чтобы напасть с ними на Савойю.
Театр его военных действий простирался более чем на сто миль по прямой линии: от Юры, возвышающейся над Женевой, до Вара, протекающего по Ницце. Монтескью горел нетерпением прийти с французским знаменем к народу, ожидающему только случая, чтобы отдаться под власть Франции: поражение для него равнялось освобождению. Он наметил местом стоянки своего правого фланга берег Вара; второй лагерь он разбил в Нижних Альпах. На левом фланге сосредоточилось десять тысяч человек — в крепости Барро близ Гренобля; а еще десять тысяч — в Сейселе и Же, у входа в Савойю.
Монтескью видел, что экспедиция на Пьемонт с такими слабыми силами невозможна; но он также понимал, что Ницца и Савойя, и так отделенные от Сардинского королевства, могут оказаться и вовсе отрезанными от своей метрополии и присоединенными к Франции и Пьемонт не сумеет спасти их. Четвертого сентября он отдал секретный приказ своим войскам, стоящим у Вара, вторгнуться в графство Ниццу; в то время как его флот должен был выйти из Тулона и произвести атаку с моря, войска его под командованием генерала Ансельма должны были перейти горы. Он приказал генералу Казабьянке угрожать Шамбери, а сам с главными силами придвинулся к крепости Барро, чтобы овладеть ущельем, преграждавшим путь в Савойю.
Пьемонтская армия насчитывала восемнадцать тысяч человек. Ею командовал генерал Лазари. Обменявшись несколькими пушечными выстрелами с войсками Монтескью при входе в ущелье, Лазари стянул свою армию к Монмельяну, но, вместо того чтобы укрепить город и таким образом преградить вход в три долины, ушел оттуда и направился в Конфлан. Пьемонтские отряды почти без боя прошли к Пьемонту. Французские войска беспрепятственно следовали за ними, сопровождаемые восторгом побежденного народа. Монтескью с триумфом вошел в Шамбери, получил из рук городского начальства ключи от столицы Савойи и предоставил ее жителям самоуправление. И в самый день этого триумфа якобинцы в Париже отрешили генерала Монтескью от должности. Известие об одержанной им победе и крик негодования народа против неблагодарности якобинцев на время отсрочили отставку генерала. Упрочив свое положение, он придвинул войска к женевской границе.
Во время этих военных действий генерал Ансельм, присоединив к восьми тысячам, которыми командовал, батальоны марсельских волонтеров, укрепился на Барской линии, угрожая Ницце вторжением и в то же время опасаясь нападения с юга. Пьемонтцами командовал граф Сен-Андре. Его армия состояла из восьми тысяч регулярных войск и двенадцати тысяч волонтеров национального ополчения.
Графство Ницца — узкий амфитеатр, спускающийся уступами с вершин Альп к Средиземному морю, — это итальянская Швейцария. Лежащие среди утесов долины, с протекающими по ним часто пересыхающими потоками, представляют для вторжения такие же препятствия, как и Савойя. Лигурийское племя, населяющее этот край, занимающееся скотоводством, мореплаванием и торговлей, но повсюду одинаково воинственное, оказалось далеко не так расположено к Франции, как савояры. Море и горы делают народы вдвойне независимыми, а тут еще соседство Генуи подавало лигурийцам пример независимости. Горцы целыми отрядами спускались со своих альпийских вершин, обутые в сандалии с кожаными ремнями, вооруженные, неспособные к продолжительной кампании и военной дисциплине, но подвижные, неутомимые и бесстрашные.
Граф Сен-Андре удачно выбрал позицию на Саорджио — недоступной возвышенности, господствующей над Ниццей и дорогами, ведущими во Францию и Пьемонт; он устроил там укрепленный лагерь, а окопы обнес стенами. Адмирал Трюге появился перед Ниццей 28 сентября с эскадрой, состоявшей из девяти судов, и угрожал городу бомбардировкой. Генерал Ансельм подошел к нему с суши. Вечером генерал Куртен, комендант города, придвинул свои войска к Саорджио. Три тысячи французских эмигрантов, нашедшие убежище в Ницце, возмущенные трусливым отступлением гарнизона, бежали к морским фортам и на варские укрепления. Но вследствие угроз буржуазии, видевшей в этом отчаянном сопротивлении только предлог к поджогу города, им пришлось ночью направиться на дорогу в Саорджио: их преследовали, грабили и избивали жестокие жители побережья. Они же угрожали разграбить даже самый город. Буржуазия умоляла генерала Ансельма как можно скорее занять его. Ансельм вступил в столицу графства к единодушной радости народа.
Однако невоздержанность революционеров самой Ниццы, которые стремились поквитаться с личными врагами под прикрытием французских штыков и знамени, возмутили горцев, более приверженных обычаям старины и преданных своему правительству. Священники и монахи, опасаясь вторжения в государство идей, лишивших церковь ее владений во Франции, начали возмущать народ. Самые молодые и неустрашимые из них шли во главе отрядов и нападали на французские аванпосты и военных повсюду, где встречали их отделившимися от главных сил. Центром этой священной войны стал Онелья, маленький городок, приморский и вместе с тем горный. Ансельм и Трюге решили подавить фанатизм в его очаге и 23 октября появились у Онельи. Адмирал Трюге отправил капитана дю Шайла потребовать сдачи города и объявить жителям, что они своей покорностью могут избежать кровопролития. Шлюпка, в которой находился дю Шайла, подошла к берегу под парламентерским флагом, при миролюбивых знаках населения, стоявшего на берегу. Но не успела шлюпка причалить, как раздался залп из ста ружей, пробил шлюпку, убил офицера и четырех матросов и ранил несколько человек, в том числе самого дю Шайла. Шлюпка развернулась и с трудом дошла до своей эскадры. Возмущенный экипаж требовал отмщения. Трюге бомбардировал город до сумерек. Форт Онелья был разрушен, ждали только наступления рассвета, чтобы под прикрытием огня двух фрегатов высадиться на берег.
При появлении французов население бежало в горы. Одни только монахи, привыкшие к неприкосновенности, которой пользовалось духовенство во время прежних войн, заперлись в своих монастырях. Французы брали приступом ворота этих убежищ, убивали без разбора правых и виноватых. Уходя из Онельи, французы оставили в нем только груды пепла и трупы монахов на развалинах их обителей.
Онельская экспедиция не только не подавила восстания горцев, а, напротив, вызвала мятеж вооруженных отрядов местного населения, так называемых barbets. Соединившись с пьемонтцами и с австрийским отрядом, посланным на помощь королю Сардинскому императором, они напали на французов при Соспелло. Шесть тысяч солдат при восемнадцати орудиях сбили генерала Брюна с позиции. Ансельм, вышедший из Ниццы со всем гарнизоном (12 гренадерских рот, 1500 отборных солдат и 4 орудия), двинулся, чтобы помочь генералу, а затем возвратился в Ниццу. Обвиненный Конвентом в излишней мягкости правления, виновный в глазах якобинцев в том, что поддерживал население Ниццы в их мести и убийствах, он был схвачен среди своей победоносной армии и отправлен в Париж, чтобы искупить в тюрьме славу первых побед.
В то время как французские войска покоряли Савойю и Ниццу, французские эскадры господствовали в водах Средиземного моря, а Дюмурье медленно и неуклонно завоевывал Шампань, австрийцы пытались прорваться в Северную Францию. Эмигранты уверили герцога Альберта Саксен-Тешенского, штатгальтера Нидерландов, в том, что население севера Франции, и в особенности жители Лилля, ждут только предлога, чтобы восстать против Конвента и выразить своему пленному королю верность, которой всегда отличались. Бернонвиль, уведя 16 тысяч человек из состава Северной армии на помощь Дюмурье, оставил Лилль без прикрытия. Гарнизон этого города состоял только из 10 тысяч человек, которые пытались держать в повиновении население численностью в 70 тысяч. Герцог Альберт собрал 25-тысячное войско, взял из нидерландских арсеналов 50 осадных орудий и 25 сентября появился перед укреплениями Лилля.
Когда в ночь на 29 сентября было окончено возведение шести батарей, вооруженных тридцатью орудиями, барон д’Аспре потребовал сдачи города. Его провели в ратушу с теми почестями, которых требует закон войны, и он предъявил там свои требования генералу Рюолю, коменданту города. Генерал ответил ему как человек, уверенный в храбрости своего гарнизона и в энтузиазме жителей. Толпа, теснившаяся у дверей ратуши, проводила парламентера до австрийских аванпостов с криками: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!» Тотчас был открыт огонь. В течение семи суток ядра непрерывно сыпались на город. Все северные города Франции, от которых Лилль не был еще вполне отрезан, посылали ему продовольствие, боевые припасы и волонтеров. Шесть членов Конвента пробрались в город, чтобы поддержать мужество осажденных и показать австрийцам, что вся нация борется с ними.
Напрасно 30 тысяч раскаленных ядер и 6000 разрывных бомб сыпались из мортир в течение 50 часов на этот дымящийся костер, то потухавший, то снова разгоравшийся; напрасно эрцгерцогиня Австрийская Мария Кристина, супруга герцога Альберта, явилась собственноручно открыть огонь новой батареи, чтобы поддержать мужество осаждающих! Жители Лилля, заметив, что австрийцы заряжают свои оружия железными прутьями, цепями и камнями, заключили из этого, что у осаждающих не хватает боеприпасов, и с еще большим геройским равнодушием стояли под огнем орудий. Между тем герцог Альберт, у которого и в самом деле открылся недостаток в войсках и боевых припасах, узнав об успехах Дюмурье в Шампани, начал опасаться, чтобы французские войска не двинулись на север, и снял осаду.
Граждане Лилля продемонстрировали мужество древних. К примеру, доброволец, городской канонир, стоял у орудия на окопах. Ему сообщили, что над его домом разорвалась бомба; он обернулся, увидел свой дом, объятый пламенем, и сказал: «Мое место здесь. Меня поставили сюда, чтобы защищать мое отечество, а не мое жилище. Огонь за огонь!» И вновь зарядив свое орудие, выпалил из него.
Освобождение Лилля вызвало всеобщий восторг. Позор Вердена и Лонгви был отомщен.
Лишь только сняли осаду с Лилля, как Бернонвиль, отделившийся с 16 тысячами человек от войска Келлермана, направился к северным границам, чтобы вместе с Дюмурье вторгнуться в Бельгию: план, давно задуманный, но прерванный походом против прусского короля.
После четырех дней, проведенных в Париже на секретных совещаниях с Дантоном и Серваном, тогдашним военным министром, Дюмурье 20 октября двинулся на свою главную квартиру в Валансьен. Но прежде чем явиться туда, он провел, уединившись, два дня в своем имении в окрестностях Перонна. Ему надо было решить два вопроса: план кампании, имевший целью вырвать Бельгию из рук австрийцев, и образ действий относительно Конвента, рассчитанный на то, чтобы либо польстить ему, либо запугать его: служить республике, если она сумеет выбрать себе правительство, или овладеть ею, если она будет переходить от одной анархии к другой. Генерал уехал из Парижа полный презрения к жирондистам и доверия к гению Дантона. В будущем ему рисовались две перспективы, на которых его воображение отдыхало одинаково: диктатура, разделяемая им с Дантоном только в делах внутреннего управления, или восстановление при помощи армии конституционной монархии, мысль о которой ему подал герцог Шартрский.
Пока Дюмурье размышлял о том, к каким последствиям могут привести война или революция, Серван вышел из правительства. Его заменил Паш — посредственность, внезапно выдвинувшаяся из неизвестности, ставленник госпожи Ролан. Она сделала Паша заведующим личным кабинетом своего мужа в министерстве внутренних дел и доверенным в его самых секретных делах. Она видела в Паше одного из мудрецов, которых Провидение посылает государственным деятелям с благими советами.
В то время как Серван стал военным министром, Паш занял при нем то же место, какое занимал при Ролане; он и здесь выказал такое же усердие к своим обязанностям. После отставки Сервана Ролан предложил пригласить Паша на время войны в Совет министров. Жирондисты, видевшие в Паше преданного им друга, согласились на это предложение. Но лишь только Паш почувствовал твердую позицию в правительстве, как тотчас же сбросил с себя зависимость и начал сначала тайно, а затем и явно принимать участие в заговорах якобинцев, имевших целью лишить Ролана власти и возвести его жену на эшафот. В виде залога Паш вверил креатурам якобинцев управление военным министерством, отдал множество подсобных помещений под клубы, заменил мундир фригийским колпаком и курткой.
Дюмурье был поражен назначением Паша и почувствовал, что близость последнего с якобинцами заставит или его склониться перед ними, или их — дрожать перед ним.
По приезде в Валансьен Дюмурье составил план вторжения в Бельгию и сообщил каждому из подведомственных ему генералов ту часть плана, которую ему предстояло выполнить; весь план целиком был известен одному только Дюмурье.
Если бы славный генерал обладал изобретательным военным гением, который удесятеряет силы армий, концентрируя их вокруг себя, то мог бы разбить разрозненные отряды австрийцев сплоченной массой своих войск, отрезать их, рассеять и обратить в бегство. Но план этот не мог быть приведен в исполнение вследствие недостатка доверия генерала к своим батальонам волонтеров, а в особенности в силу недостатка в снарядах, повозках и съестных припасах.
Дюмурье разделил свое войско на четыре отряда. Генерал Валенс получил приказ двинуться на Намюр и помешать соединению Клерфэ с бельгийскими войсками под стенами Монса; но было слишком поздно: передовые отряды Клерфэ уже вступили в Моне. Второй отряд, из 12 тысяч человек, под началом генерала д’Арвиля, угрожал Шарльруа. Третий отряд, состоявший из 18 тысяч человек, во главе с генералом Лабурдоннэ, должен был двинуться на Турней. Наконец, сам Дюмурье, во главе двух отрядов из 35 тысяч человек, собирался пойти на Моне и нанести решительный удар соединенным силам Клерфэ и герцога Саксен-Тешенского, разомкнуть эти войска и пройти сквозь них на Брюссель, громя направо и налево бельгийские провинции и образуя авангард для остальных отрядов. Несколько бельгийских патриотов, желая освободить свою страну от австрийского ига, перешли границу, спеша навстречу французскому генералу, и образовали батальоны волонтеров. Дюмурье повел эти батальоны с собой. Это был уголек, которым он надеялся разжечь пламя патриотизма и возмущения.
Итак, соединенные силы двинулись к Монсу.
Поле битвы представляло собою цепь холмов, покрытых лесом. Селение Жемапп образует правую ее оконечность, слева цепь замыкается селением Кюэм. Между этими двумя точками, в углублениях естественного происхождения, размещались австрийские батареи.
Внизу расстилается равнина, глубокая и узкая. Сзади, со стороны Жемаппа, холм, на котором австрийская армия построила редуты, заканчивался болотом. Прикрытой с тылу этим болотом, с флангов — селениями, а впереди — батареями и редутами, австрийской армии оставалось только разбить французов, подходивших к ней без всякого прикрытия по равнине. Выбор места и диспозиция лагеря убедили Дюмурье в том, что он встретил в Клерфэ противника, достойного померяться с ним силами.
Сбив 3 и 4 ноября австрийцев с нескольких передовых постов по пути и в долине, Дюмурье 5-го числа развернул свое войско в огромную изогнутую линию, опиравшуюся левым флангом на селенье Кареньон, а правым — протянувшуюся до холма Сипли, защищавшего одно из предместий Монса. Сам он встал в центре этой боевой линии, на равном расстоянии от обоих флангов. Д’Арвиль, командовавший правым флангом почти под самыми стенами Монса, получил приказ выжидать и воспользоваться моментом отступления и замешательства, которые должны были быть вызваны натиском французских войск, и завладеть дорогой в Моне, заперев перед неприятелем ворота этого города. Бернонвиль, которому Дюмурье вверил командование авангардом, равным по величине почти целому армейскому корпусу, получил приказ взять штурмом селение Юоэм.
Герцог Шартрский (впоследствии французский король) командовал центром под руководством главнокомандующего; этот самый молодой из лейтенантов Дюмурье должен был двинуться в атаку только в тот момент, когда придет время нанести решительный удар.
Дюмурье объяснял своему штабу план действий больше по карте, чем по расстилающейся перед ним местности. Изгороди, рощицы, большие деревья, окаймляющие поля и дороги, заслоняли собою горизонт. Отрядам, рассеянным на больших пространствах, приходилось передвигаться практически ощупью, а во время битвы руководствоваться скорее слухом, чем зрением.
Ночь уже окутала обе армии, когда Дюмурье закончил изложение плана. Драгуны и гусары с зажженными факелами сопровождали по дорогам и тропинкам адъютантов и генералов, возвращавшихся к своим стоянкам, чтобы приготовиться к предстоявшему сражению. Солдаты спали на поле битвы, не снимая с себя оружия. Так приказал Дюмурье. Для битвы, которая должна была произойти на трех совершенно самостоятельных полях и исход которой зависел от всевозможных случайностей, генерал не хотел потерять ни минуты: дни в это время года чрезвычайно коротки. Притом Дюмурье боялся, что если победа не будет одержана до сумерек, то неприятель может, воспользовавшись темнотой, отступить к Монсу и избежать его преследования.
Первые лучи солнца, взошедшего над Бельгией, осветили французских солдат, дремавших под тяжестью своего оружия. Небо было серо, туман стлался по земле и вис каплями на ветвях деревьев. Хлеб уже свезли с полей, осыпались листья с деревьев.
Суровый, воинственный и сосредоточенный вид неприятеля, окопавшегося на возвышенностях, — меховые шапки венгерских гренадеров, белые плащи австрийской кавалерии, небесно-голубые мундиры гусар, серые костюмы тирольских стрелков — резко контрастировал с революционным видом и шумной подвижностью войска Дюмурье. Провидение, казалось, хотело поставить лицом к лицу две самые большие военные силы — дисциплину и энтузиазм.
Дюмурье всего только несколько часов проспал на охапке соломы в своей палатке, да и то сон его часто нарушался рапортами и приказами. Он уже успел объехать ряды войск, окруженный офицерами штаба. Между ними можно было различить два женских лица; скромность этих дам, румянец и грация, заметная, несмотря на одежду ординарцев, составляли резкий контраст с мужественными лицами окружавших их воинов. Это были дочери флигель-адъютанта Дюмурье де Фернига: привязанность к отцу и любовь к отечеству заставили их забыть свой пол и возраст и увлекли на поле битвы. Одну из них звали Теофилия, другую — Фелисите[1].
Де Ферниг, уроженец Фландрии, бывший офицер, удалившийся на покой в деревню Монтан, был отцом многочисленного семейства. Один из его сыновей служил в Пиренейской армии, другой — в Рейнской. Четыре дочери, которых смерть лишила матери, жили с ним. Их отец, командовавший национальными гвардейцами в Мортани, заражал своим воинственным пылом крестьян всего кантона. Он приучал жителей к войне постоянными нападениями на неприятельских гусар, которые часто переходили границу, чтобы грабить жителей и поджигать их жилища. Редкая ночь проходила без того, чтобы де Ферниг не вел патрули граждан и не производил атаки. Дочери дрожали за его жизнь. Теофилия и Фелисите решили тоже взяться за оружие, без ведома де Фернига встать в ряды землепашцев, которых он обратил в солдат, сражаться вместе с ними, а главное — следить за отцом и броситься между им и смертью в случае, если неприятельские кавалеристы слишком приблизятся к нему. Девушки надели мужское платье, оставленное братьями, вооружились охотничьими ружьями и, следуя за маленькой колонной, которой руководил де Ферниг, вступали в перестрелку с австрийскими мародерами, привыкали к близости смерти и увлекали своим примером храбрых жителей деревни. Их тайна долго и свято сохранялась. Де Ферниг, возвращаясь утром домой и рассказывая за столом детям о своих приключениях, не подозревал, что родные дочери нередко спасали его собственную жизнь.
Между тем Бернонвиль, командир Сент-Аманского лагеря, находившегося неподалеку от границы, услыхав о героизме мортаньских волонтеров, вскочил на коня и во главе сильного отряда кавалерии задумал очистить страну от фуражиров Клерфэ. Приблизившись на рассвете к Мортани, он встретил отряд де Фернига. Измученная колонна, уводя с собою нескольких раненых и пять пленных, распевала «Марсельезу» под звуки единственного барабана, пробитого пулями. Бернонвиль остановил де Фернига и, чтобы почтить патриотизм и храбрость его крестьян, вздумал произвести им смотр со всеми военными почестями. Начинало светать. Храбрецы выстроились под деревьями, гордясь тем, что французский генерал обходится с ними как с солдатами. Но, сойдя с лошади и проходя перед фронтом маленького отряда, Бернонвиль заметил, что два самых юных волонтера поспешно переходят от одной группы к другой, стараясь остаться незамеченными. Не понимая такой застенчивости в людях, носящих оружие, он попросил де Фернига приказать этим храбрым юношам подойти к нему. Ряды раздвинулись и пропустили обеих девушек; их одежда и копоть на лицах сделали их неузнаваемыми даже для родного отца. Де Ферниг был удивлен, что не знает этих двух солдат своего маленького отряда. «Кто вы?» — спросил он их строгим голосом. При этих словах глухой шепот, сопровождаемый всеобщими улыбками, пробежал по рядам. Теофилия и Фелисите, поняв, что их тайна открыта, покраснели, заплакали, назвали себя и умоляли, обнимая колени отца, простить им их обман. Де Ферниг обнял дочерей и сам заплакал. Он представил их Бернонвилю, позже описавшему эту сцену в своем донесении Конвенту. Конвент объявил Франции имена этих молодых девушек и послал им от имени отечества лошадей и почетное оружие.
Дюмурье в пору своего первого командования во Фландрии указывал на них своим солдатам как на людей, достойных удивления и уважения. При первом отступлении их дом сожгли австрийцы. Дюмурье взял с собой отца и обеих дочерей в аргонский поход. Свобода, подобно религии, достойна иметь свои чудеса.
Между тем как Дюмурье, окончив смотр войска, обращается к своим солдатам со словами, пробуждающими энтузиазм, завязывается бой на обоих флангах его войска. На левом крыле генерал Ферран бросается на укрепленное селение Кареньон, преодолевая отчаянное сопротивление батарей, еще накануне принудивших к отступлению бельгийские батальоны. Дюмурье галопом скачет к Кареньону, чтобы своим присутствием поддержать мужество солдат во время атаки, которая в случае неудачи может парализовать все действия центра и правого крыла. Подъехав, он видит, что Ферран, ища защиты от града пуль за ближайшими домами деревни, хочет дать передохнуть своим батальонам. Но достаточно одного слова Дюмурье, чтобы вернуть мужество поколебавшимся войскам. Он отправляет своего наперсника Тувено вместо себя во главе этих колонн. Ферран и Тувено вновь строят и ведут колонны, бросаются во главе их на правый и левый фланги селения, выдерживают три залпа направленных на них редутов, атакуют их, берут штурмом и овладевают деревней и всей местностью между Кареньоном и Жемаппом.
Потом, по приказанию Дюмурье, они разделяют свои силы на две колонны: одна, под началом полковника Розьера, развертывает на дороге восемь готовых вступить в сражение эскадронов, в то время как главнокомандующий с восемью батальонами пехоты подходит к деревне Жемапп слева. Другая, во главе с Ферраном и Тувено, должна подойти к Жемаппу с фронта и взять его штурмом.
Тувено, желая осуществить план своего командира, Ферран — чтобы искупить утреннюю нерешимость и украсить свои седины победой, тысячу раз рискуют жизнью, увлекая гренадеров, строевую пехоту и волонтеров на приступ Жемаппа. Опрокинутый лошадью, убитой под ним, Ферран при помощи Тувено поднимается с земли и, держа шляпу в руке, во главе гренадеров бросается по улицам селения, чтобы взять его штурмом. Кровь течет у него из ран, но он этого не замечает. Розьер со своими четырьмя батальонами угрожает обойти Жемапп слева. Редуты прекращают пальбу. Отряд стрелков нападает на один из последних батальонов венгерских гренадеров, которые еще продолжают сражаться с колонной центра. Теофилия Ферниг, в сопровождении своих стрелков, дав залп, убивает затем двумя выстрелами из пистолета двух гренадеров и собственноручно берет в плен батальонного командира, которого потом обезоруженного приводят к Феррану.
Тогда Дюмурье, успокоившись относительно положения своего левого крыла, устремляет все свое внимание на правый фланг. Переменив лошадь и отдав несколько распоряжений герцогу Шартрскому, он мчится во весь опор, чтобы собственными глазами увидеть, что задерживает атаку Бернонвиля. Он застает войско этого генерала стоящим неподвижно, как стена, под градом пуль, но не решающимся преодолеть линию огня, отделяющую его от плато. Две бригады пехоты Бернонвиля переступают за редуты, которые защищают венгерские гренадеры, и теперь в ста шагах позади десять эскадронов гусар, драгун и французских стрелков тщетно ожидают, чтобы пехота открыла им свободный проход. На эти эскадроны ежеминутно сыплются залпы, выбивающие из строя целые ряды лошадей. К довершению несчастья, артиллерия генерала д’Арвиля, стоящая довольно далеко от возвышенностей Сипли, принимает эти эскадроны за венгерские войска и стреляет в них с тыла.
Таково положение на плато Кюэм в момент прибытия туда Дюмурье. Генерал Дампьер, состоящий под началом Бернонвиля, не хочет ждать, пока Дюмурье отобьет у него славу. Отчаянным движением он увлекает в атаку Фландрийский полк и батальон волонтеров парижского летучего отряда — отчаянных молодцов, перенесших на поле битвы театральный, но героический фанатизм якобинцев. Левой рукой он машет трехцветным султаном своей генеральской шапки и под картечью редутов и огнем венгерцев приводит в движение находившийся в ста шагах за ним батальон. Смерть, ожидающая его в очень близком будущем на другом поле битвы, на этот раз щадит его: ни одна пуля не попадает в генерала. Фландрийский полк и парижский батальон нагоняют его и с криком «Да здравствует республика!» прорываются сквозь ряды венгерских батальонов и овладевают редутами, орудия которых обращают против неприятеля. Дюмурье и Бернонвиль со своими колоннами бросаются с фронта и с правого фланга и вступают на плато, уже очищенное Дампьером. Крики победы и трехцветное знамя, водруженное на втором редуте, возвещают Дюмурье, что Кюэм уже в его власти и пора овладеть центром, оба крыла которого отступили.
Он бросается отдать приказание своему войску наступать на укрепленные возвышенности, соединяющие Кюэм с Жемаппом. Батальоны, стоящие неподвижно под ружьем с самого рассвета, уже ропщут на медлительность своего генерала. По знаку Дюмурье вся линия приходит в движение, батальоны строятся в три длинные колонны, одновременно затягивают «Марсельезу» и беглым шагом пересекают узкую долину, отделяющую их от возвышенностей. Сто двадцать орудий австрийских батарей беспрерывно изрыгают огонь на эти колонны, которые отвечают только боевым гимном. Выстрелы, направленные слишком высоко, пролетают над головами солдат и поражают только последние ряды. Две колонны начинают взбираться по склонам холмов. Третья, шедшая через лес, внезапно настигнутая восемью австрийскими эскадронами, останавливается, отступает и укрывается за селением. Эта нерешительность сообщается правой и левой колоннам. Дюмурье посылает молодого Батиста Ренара узнать о причине замеченного им беспорядка. Бесстрашный Батист стремительно пересекает пространство, отделяющее дивизию Дюмурье от леса, мимоходом собирая французскую кавалерию и направляя ее на помощь опрокинутой колонне. Но в это же время бригада генерала Друэна, изрубленная саблями, рассеивается окончательно. Клерфэ с высоты своей позиции замечает необычайное смятение, вызванное на равнине бригадой Друэна, и направляет туда всю кавалерию. Этот натиск, ужасный для неопытных батальонов, отрезает их и гонит врассыпную до передовой линии.
Центр оказывается увлечен в водоворот смятения, когда герцог Шартрский, сражающийся впереди, оглядывается и видит свои пришедшие в расстройство батальоны. Тогда, развернув лошадь, уже раненую в круп осколком гранаты, он с обнаженной саблей бросается на неприятельских гусар; за ним следуют его брат, герцог Монпансье, младшая из сестер Ферниг и несколько адъютантов. Герцог пересекает долину, пистолетными выстрелами расчищая себе путь, и бросается в самую жаркую схватку, продолжающуюся еще между остатками его готовых отступить бригад. Голос молодого генерала, лица его спутников, горящие жаждой победы, вид шестнадцатилетней девушки с пистолетом в руке задерживают бегство солдат, и вокруг молодого герцога образуется ядро из добровольцев от всех батальонов. Он наскоро строит их, ободряет и увлекает за собою. «Вы будете называться Жемаппским батальоном, — кричит он им, — а завтра вас будут звать батальоном Победы, которая находится в ваших рядах!»
С криком «Да здравствует республика!» он переходит долину под прикрытием огня, открытого кавалерией центра. Жемаппский батальон, усилившийся на пути благодаря присоединившимся к нему остаткам разбитых бригад, бросается на укрепления и по телам убитых взбирается на них. Людей, поднимающихся снизу, едва хватает, чтобы заместить собой убитых выстрелами с редутов. Герцог Шартрский и его отряд не могут продвинуться ни на шаг; они чуть не отброшены снова в долину, как вдруг генерал Ферран показывается из Жемаппа, взятого им только что штурмом, во главе шеститысячного отряда. Очутившись меж двух огней, австрийские генералы приказывают своим батальонам отступать, оставив Жемаппские высоты и редуты.
Во время этого отступления герцог Шартрский и генерал Ферран направляют свои объединенные силы — легкую пехоту и кавалерию — на арьергард австрийцев. Окруженный таким образом арьергард не имеет времени соединиться с главным корпусом; части пехоты удается спастись, побросав оружие и оставив раненых на произвол неприятеля, кавалерия мчится прямо в болота, окружающие подножие холма, и бросается в Хайн, глубокую и быструю реку с крутыми берегами. Четыреста или пятьсот человек и более восьмисот лошадей потонули в ней при переправе. Река, вода в которой поднялась от осенних дождей, унесла трупы людей и лошадей и выкинула их на берег милей ниже.
Дюмурье почувствовал, что теперь необходимо сомкнуть оба фланга, наполовину одержавших победу, чтобы слить их с центром, который уже не мог оказать им поддержки, особенно после поражения трех бригад в лесу; шагом спустился он с возвышенности, задумчивый, решившись командовать отступление. По лицу его было видно, чего ему стоило это решение. До тех пор он оставался только осторожным тактиком, а не победоносным генералом. Якобинцы и Конвент держали в эту минуту над его головой одновременно венок победителя и топор гильотины. От триумфа или гибели его славы в этот день зависело — то или другое опустится на его голову. У него не потребуют отчета в нескольких тысячах жизней, которые погибнут или будут сохранены благодаря его осторожности; у него потребуют отчета в славе французской армии и в победе революции, которые ускользнули бы от него вместе с победой в бою!
Он пришпорил коня и поскакал на плато Кюэм. Там все было тихо ввиду грозной линии пехоты и имперской конницы, усеявшей своими батальонами и эскадронами вершины редутов. В эту минуту там не присутствовал ни один из командовавших генералов: Дампьер пошел перевязывать свои раны, а Бернонвиль держал свои бригады наготове, чтобы идти на помощь батальонам, атакованным австрийцами.
Первыми отрядами, встреченными Дюмурье, оказались две пехотные бригады, состоявшие из трех батальонов парижских новобранцев и 4000 фанатически преданных ему ветеранов Молдского лагеря. Случай свел их в этот критический для Дюмурье момент. При виде своего генерала солдаты отдают ему честь, бросают в воздух головные уборы и кричат: «Да здравствует Дюмурье! Да здравствует наш отец!» Их энтузиазм передается и батальонам новобранцев. Взволнованный и тронутый, генерал проходит перед фронтом обеих бригад, называя солдат по именам, и дает клятву, что приведет их к победе. Они обещают идти за ним до конца.
В нескольких шагах от этого места сражаются десять эскадронов французской кавалерии, в рядах которых пули, сыплющиеся с редутов, прокладывают глубокие борозды. Дюмурье спешит туда во главе своих эскадронов и посылает адъютанта сказать Бернонвилю, чтобы тот поспешил начать атаку, потому что главнокомандующий уже начал сражение. Австрийцы издали узнают Дюмурье по движению, которое возникает вокруг него, по восторгу и крикам французов, и посылают целую дивизию имперских драгун, чтобы смять это ядро. Солдаты Молдского лагеря, недвижимые, как во время смотра, окружают парижские батальоны и подпускают нападающих драгун на десять шагов, целятся в головы лошадей и убивают более двухсот из них: лошади падают, увлекая за собой всадников. Дюмурье пускает в ход гусаров Бершени, которые начинают рубить саблями имперских драгун. Плотная масса австрийской кавалерии в беспорядке бежит по дороге в Моне и приводит в замешательство колонну венгерской конницы. Бернонвиль спешит на помощь со своим резервом и занимает плато Кюэм, покинутое австрийцами. Дюмурье слезает с коня, солдаты приветствуют его криками радости. Он строит колонну из всех оставшихся частей и затягивает «Марсельезу»; ему вторит весь его штаб и парижские новобранцы.
Под это пение, заглушающее грохот пушек, колонна идет приступом на редуты. Волонтеры и солдаты перелезают через изуродованные трупы товарищей, штыками прикалывают тела венгерцев к лафетам их пушек. Среди густого порохового дыма, окутывающего поле, с трудом можно отличить француза от врага, и нередко сражающиеся узнают друг друга только тогда, когда удар уже нанесен.
Обе стороны проявили чудеса храбрости во время этой битвы, среди зловещей тишины, нарушаемой только лязгом железа, глухим стуком, с которым трупы падали с парапетов, да громким победным криком, раздававшимся с каждого уступа редутов, когда французы завладевали ими и водружали на них знамена своих батальонов. Тут не было ни бегства, ни пленных; все венгерцы погибли у своих орудий, держа в руках обломки штыков и ружей.
Едва победа на правом фланге склонилась на сторону французов, Дюмурье поспешил к центру, чтобы добиться победы и здесь. Он отделил шесть эскадронов стрелков и во главе этой конницы во весь опор помчался к лесу, чтобы напасть на австрийскую кавалерию, как вдруг увидел приближавшегося к нему галопом герцога Монпансье. Молодой принц мчался сообщить ему о победе герцога Шартрского. А вскоре и Тувено принес весть о торжестве левого фланга при Жемаппе. Дюмурье обнял обоих вестников победы; крик радости, вырвавшийся из груди генерала и его офицеров, был повторен эскадронами и пронесся от Кюэма до Жемаппа, из уст в уста, по всей линии высот, занятых теперь французами.
Дюмурье, который хотел и мог воспользоваться результатами своего успеха, посылал адъютанта за адъютантом к генералу д’Арвилю, командовавшему Валансьенской армией. Она занимала, в качестве резервного корпуса, высоты Сипли, вблизи предместий Монса. Дюмурье умолял генерала поспешно перейти долину, отделяющую Сипли от горы Пализёль, взобраться на три редута, возвышающиеся над этой долиной, и таким образом обрезать австрийцам путь к Монсу.
Но медлительность генерала д’Арвиля обманула надежду Дюмурье. Герцог Саксен-Тешенский и генерал Клерфэ без задержек вступили в Моне и заперли за собою ворота. Оставшееся за ними поле сражения и славная весть о победе оказались единственными плодами успеха Дюмурье.
Усталость, оскудение в боеприпасах, истощение сил армии, сражавшейся в продолжение четырех дней, наконец, недостаток в пище вынудили главнокомандующего дать войскам два часа на отдых. Им роздали хлеб и вино на самом поле сражения. Этот привал на взятых штурмом редутах, среди сожженных деревень и груд трупов, под звуки «Марсельезы», представлял глазам Дюмурье, проезжавшего шагом по полю сражения, картину его потерь и победы.
Генерал оставался философом настолько, чтобы растрогаться при виде этой картины, и в то же время честолюбивый воин в нем наслаждался этим зрелищем. Он не потерял ни одного из своих приближенных и друзей. Тувено, герцог Шартрский, герцог Монпансье, Бернонвиль, Ферран, преданный и храбрый Батист, Фелисите и Теофилия де Ферниг следовали за ним, оплакивая мертвых, поднимая и утешая раненых. Троекратный крик приветствовал Дюмурье — со стороны бригад, полков и батальонов. Ни один раненый не упрекнул его за пролитую кровь, а все оставшиеся в живых восхваляли его за сохраненную жизнь. Тучи, с утра застилавшие небо, рассеялись от залпов артиллерии, и все пространство, занятое войсками, теперь заливал свет яркого осеннего солнца. Несколько домов, зажженных гранатами, и вереск, вспыхнувший от картечи в лесу, еще тлели.
Груды трупов отмечали каждый шаг батальонов: почти все выстрелы, направленные против нападающих, оказались смертельны. Только тысяча двести или тысяча пятьсот раненых были доставлены своими товарищами в лазареты. Врачи обратили внимание на то, что даже бред солдат, умиравших от ран на другой или третий день после сражения в госпиталях Монса, имел патриотический характер: воодушевление, увлекшее их на поле сражения, не стихало и во время агонии, а последними словами перед смертью были слова Руже де Лиля или слово «свобода».
Когда Дюмурье входил в палатку, чтобы отдать приказ насчет нового наступления, его остановил кортеж: солдаты перетаскивали на носилках умиравшего генерала Друэна. Виновный в беспорядке, который чуть не обратил победу в поражение, Друэн своими ранами искупил проступок своих солдат. Его товарищи торжествовали, он умирал…
Было четыре часа пополудни. Вся французская армия двинулась, чтобы занять предместья Монса, из которого австрийцы выступили еще ночью. Дюмурье вошел в Моне как победитель. Появление его ясно продемонстрировало, какая сильная жажда независимости царила во всей Бельгии во время правления австрийцев. Городские власти и жители поднесли венки из дубовых листьев Дюмурье и Дампьеру: таким образом монсские якобинцы приписывали последнему часть победы. Дюмурье справедливо негодовал из-за того, что его хотят заставить разделить славу с помощником, образ действий которого, по его мнению, мало содействовал победе. Победа всецело принадлежала ему, потому что он ее подготовил, добивался и достиг. И теперь эту победу оспаривала у него зависть, следующая по пятам великих людей. Успех потерял в его глазах изрядную долю прелести, а якобинцы сделались еще ненавистнее.
XXXVII
Дюмурье
Французская армия нашла в Монсе двести пушек и огромные запасы продовольствия. Дюмурье пять дней был занят организацией власти в стране и распределением продовольственных припасов. Он хотел предоставить Бельгии самоуправление под протекторатом французской армии, справедливо полагая, что независимый народ, исполненный ненависти к Австрии, детище Французской революции, мог быть гораздо полезнее, чем завоеванная, подчиненная и угнетенная провинция, опустошенная комиссарами Конвента и пропагандой якобинцев. Первое время он обращался с бельгийцами как с братьями; комиссары же и якобинцы хотели обращаться с ними как с побежденными.
Во время вынужденного, но рокового пребывания в Монсе офицеры Дюмурье, медленно и не полностью приводя в исполнение его план, подвигались по направлениям, которые он назначил каждому из них. После ряда стычек с аванпостами, происходивших между 12 и 14 ноября, армия вошла в Брюссель, столицу Бельгии, покинутую накануне генералом Бендером.
В одной из этих стычек Фелисите де Ферниг заметила юношу из числа бельгийских волонтеров, выстрелом сшибленного с лошади и отбивавшегося саблей от окруживших его уланов. Фелисите бросилась на помощь раненому, убила двух улан и обратила остальных в бегство; затем слезла с лошади, подняла бельгийца, проводила до санитаров и возвратилась к генералу. Молодого бельгийского офицера звали Вандервален. Оставшийся по уходе французской армии в брюссельском госпитале, бельгиец вскоре забыл свои раны, но не смог забыть очаровательной спасительницы, явившейся ему на поле битвы. Лицо женщины, носящей одежду товарища по оружию, бросившейся в схватку, чтобы спасти его от смерти, и склонявшейся затем над его ложем в лазарете, постоянно являлось его воображению.
Когда Дюмурье бежал за границу и армия потеряла следы юных воительниц, которых он увлек за собою, Вандервален вышел в отставку и отправился в Германию на поиски своей спасительницы. Он долго ездил по северным городам, тщетно стараясь получить какие бы то было сведения о семействе Ферниг. Наконец он нашел Фелисите в одном из захолустных местечек Дании. Его благодарность перешла в любовь, когда он увидел ее в одежде, свойственной ее полу. Он женился на ней и увез к себе на родину. Теофилия, ее сестра и подруга по ратной славе, последовала за Фелисите в Брюссель. Она умерла там еще молодой, не выйдя замуж.
Обе сестры, неразлучные в мирной жизни и на поле битвы, нашли покой на чужбине, похороненные под одним и тем же кипарисом. На какой мраморной доске записаны их имена? В котором из бесчисленных залов Версаля выставлены их портреты? На которой из французских границ, орошенных их кровью, возвышаются их статуи?..
Представители Брюсселя принесли ключи от города в главную штаб-квартиру в Андерлехте. «Заберите эти ключи обратно, — сказал им Дюмурье, — мы не враги ваши; управляйте собою сами и не подчиняйтесь чужеземцам». Генерал не допустил грабежа, постарался, чтобы его войска не поддались влиянию распущенности, царящей в каждой большой столице. Четыре тысячи бельгийских солдат перешли на сторону освободителей своего отечества и, нацепив трехцветные кокарды, встали под их знамена, заполнив таким образом ряды, разреженные во время битвы при Жемаппе.
Дюмурье, возвеличенный этим двойным триумфом, любимый народом Бельгии, независимость которой отстоял при Вальми, и войском, обязанным ему своей победой, сделался настоящим диктатором всех партий. Госпожа Ролан вела с ним секретную переписку, в которой восхищение его победой доходило до опьянения. Жансонне и Бриссо настойчиво советовали ему завоевать Голландию и Германию. Якобинцы установили его бюст, увенчанный лаврами, в зале своих заседаний. Робеспьер молчал, чтобы преждевременно не пойти вразрез с общим мнением. Один Марат решился обличить Дюмурье как изменника, уподобляя его Кромвелю.
Дюмурье оставалось отдаться на волю течения, поднимавшего его все выше и выше. Но он сам замедлил движение, увлекавшее его к успеху. Вместо того чтобы в походах оставаться завоевателем во имя республики, он преждевременно прекратил любые свои действия. Он дал время Англии составить заговор, Голландии — вооружиться, Германии — осмотреться, Бельгии — сделаться недовольной своим положением, собственной армии — остыть в своем порыве, а генералам — начать злоумышлять против него. Движение — вот основа всех революций. Замедлить его — значит изменить им.
Дюмурье поручил генералу Лабурдоннэ взять Антверпен. Его авангард, выступивший 19 ноября из Брюсселя, овладел Мехельном, арсеналом австрийцев, где оказались боеприпасы, необходимые для похода. Сам Дюмурье занял Лувен и Люттих. Антверпен, сопротивлявшийся нерешительным атакам Лабурдоннэ, сдался генералу Миранде. Одного месяца было вполне достаточно, чтобы покорить Бельгию и Люттихское княжество. Дантон, Лакруа и тридцать два комиссара Конвента последовали за армией и потребовали, чтобы это княжество, подобно Савойе, присоединилось к Французской республике. Дюмурье воспротивился, потому что мера эта заставила бы Германию, сохранявшую до сих пор нейтралитет, объявить Франции войну за нарушение границ федерации; он так же неохотно объявил войну Голландии, начав блокаду Шельды.
Блокада Шельды оказалась разорительна для торговли Антверпена, соперника Амстердама. Император Иосиф II, воевавший с Голландией за право свободного плавания по этой реке, кончил тем, что отказался от этого яблока раздора и продал голландцам за четырнадцать миллионов фунтов устье Шельды. Франция не могла признать этого договора, наносившего величайший ущерб ее новым подданным. В свою очередь эта защита бельгийских интересов показалась оскорблением англичанам, в то время ревностным покровителям Голландии. Блокада Шельды скорее, чем эшафот Людовика XVI, заставила Питта объявить войну Французской республике.
Французская армия, хоть одержала победу и расположилась на зимние квартиры между Ахеном и Люттихом, нуждалась во всем и с каждым днем убавлялась в численности под влиянием нужды и недовольства: при ней оставалась только четвертая часть ее боевых сил, остальные три четверти составляли батальоны волонтеров, храбрых в бою, но крайне недисциплинированных. Солдаты, не получавшие жалованья и не имевшие ни обуви, ни одежды, дезертировали массово, гордясь победой, но не имея сил перенести зимнюю кампанию. Генералы и офицеры бросали свои части и искали развлечений в Люттихе и Ахене.
Комиссары Конвента, уполномоченные парижских якобинцев, братались с немецкими революционерами и, сделав из Люттиха филиал парижских демагогов, лишали главнокомандующего свободы действий и авторитета.
Бездействующий и недовольный, Дюмурье провел несколько недель, запершись во дворце люттихского епископа; удрученный заботами и чувствуя, что вместе с уже наполовину рассеявшейся армией исчезает и его слава, он виделся только с Дантоном, но даже и с ним сходился не во всем. Бродя по обширным залам люттихского дворца, он изредка взглядывал на свою шпагу и чувствовал, как им овладевает искушение разрубить узел, затянувший его в такое мучительное положение.
Однажды, терзаемый мрачными предчувствиями, он раскрыл один из томов Плутарха, и взор его упал на слова в биографии Клеомена: «Когда положение вещей перестает быть достойным, пора увидеть бесчестие своих действий и остановиться». Слова эти, столь соответствовавшие состоянию его души, склонили его на сторону измены. Для Дюмурье они означали не раскаяние и благоразумие, а возмущение и негодование против отечества.
В это время процесс короля близился к концу, и повелитель, которого Дюмурье любил и которому служил искренне, должен был взойти на эшафот, а он, его слуга и друг, держал в своей руке шпагу и командовал французской армией. Этот контраст между положением, в котором он находился, и обуревавшими его чувствами исторгал у генерала слезы негодования. Он старался тайно узнать, какие чувства испытывают французские солдаты к королю-узнику. Но сердца их бились для одной только республики. Тогда главнокомандующий замыслил устроить побег узников из Тампля при помощи отряда легкой кавалерии, который под предлогом маневрирования должен был приблизиться к воротам Парижа и, разделившись на небольшие отряды, служить прикрытием во время бегства королевской семьи до аванпостов армии. Он написал Жансонне и Бареру, прося их устроить, чтобы Конвент приказал ему явиться в Париж на помощь Собранию против Коммуны. Но жирондисты, смелые только на словах, не решались угрожать Конвенту. Дюмурье отправился в Париж самовольно, отдав бельгийцам приказ, приглашавший их начать устройство учредительного собрания, которое должно было взять на себя организацию их государства.
Дюмурье появился в Париже скорее как беглец, нежели как триумфатор, и укрылся в одном из мрачных домов в Клиши. В то время как общественное мнение разделилось на сторонников и противников казни Людовика XVI, он хотел остаться в тени, изучать людей и следить за событиями. В простом мундире и плаще кавалерийского офицера он отправлялся вечером пешком на свидания, назначенные в частных домах. Все двери раскрывались перед баловнем успеха и любимцем армии, на которого возлагались тайные надежды. Он виделся с Жансонне, Верньо, Роланом, Петионом, Кондорсе и Бриссо. Республика, только что созданная этими ораторами, уже приводила их в ужас своими порывами; они не узнавали в ней воплощения своего философского идеала, дрожали перед своим созданием и обреченно спрашивали себя, неужели демократия породила чудовище.
Находясь в сношениях с Сантерром, Дюмурье встречал у него руководителей Коммуны и даже сентябристов; он пытался привлечь на свою сторону адвоката Паниса, шурина Сантерра и друга Робеспьера, и через Паниса дать понять Робеспьеру, что от него одного зависит спасение короля. Робеспьер, предчувствовавший, что Дюмурье грозит изгнание, подобно Лафайету, отказался от всяких сношений с ним.
Дюмурье все больше и больше убеждался, что якобинцы представляют собой взрывчатый материал, управлять которым не может никакая политика. Он решил притворяться, что разделяет их убеждения, до тех пор, пока не получит от них самих власть направлять их. Эти тайные сношения между ним и якобинцами склонили министра Паша и Исполнительный совет согласиться на предложенный Дюмурье план — завоевание Голландии. Затее генерала подчинились в комитетах Конвента так же, как и в кабинете Паша; один Марат решился идти против него. Однажды во время обеда у Сантерра Дюбуа-Кран — се, друг Марата, осмелился оскорбить победителя при Жемаппе. Дюмурье вскочил из-за стола, схватился за рукоять шпаги и, несмотря на свой небольшой рост, вплотную подошел к стоявшему с поднятым кулаком колоссу Дюбуа-Крансе. Гости бросились между ними и не допустили кровопролития.
Возмущенный генерал мечтал о мести. Запершись под предлогом болезни в своем уединенном убежище в Клиши, он в течение нескольких дней, предшествовавших казни и последовавших за нею, не принимал никого, кроме трех своих поверенных, Вестермана, Лакруа и Дантона. Эти дни он обдумывал план завоевания Голландии и обуздания революции. Вестерман, которому грозила месть Марата за удар, нанесенный последнему на Новом мосту, заранее радовался унижению демагогов. Дантон втихомолку поддерживал эти воинственные надежды: он верил, что сражение между Революцией и тронами Европы неизбежно, и полагал, что следует ослепить народ славой побед, коль скоро он не способен понять славу философии революции. Лакруа старался о том же, помимо всего прочего жаждая обогатиться.
План военных действий Дюмурье состоял в следующем: подойти с 25-тысячным войском к Антверпену, проникнуть до канала Мердик, опоясывающего Роттердам и Харлем, воззвать к революционному чувству батавцев, вернуть власть врагам Оранского дома и отечество многочисленным изгнанникам. Одержав победу, генерал удалил из своей армии батальоны волонтеров, присутствие которых не соответствовало его намерениям. Он хотел оставить в Голландии только строевые полки, которые готовы были беспрекословно исполнять его волю. У него оказалось 30 тысяч таких солдат в Бельгии и столько же в Голландии. Он укрепил крепости и флот Текселя и призвал в свои ряды представителей двух наций: бельгийцев в Генте и батавцев в Гааге. Под охраной своего войска и во главе этой соединенной армии Дюмурье направился к Парижу приводить в порядок республику.
Быстрым переходом, соответствующим решительности его планов, генерал достиг Брюсселя, построил свое войско в колонны, овладел городами Гертруденберг и Бреда и почти без сопротивления подошел к Мердику; он был уже близок к осуществлению первой части своего плана, но все надежды его расстроил приказ Конвента. Принц Кобургский собрал армию в Кельне, оттеснил повсюду французские войска и во главе 60-тысячного войска подошел к Бельгии, чтобы снова овладеть ею. Французские солдаты дезертировали в массовом порядке. Полки, стоявшие лагерем под Лувеном, потеряли свои палатки, повозки, орудия. Ни один из генералов не пользовался достаточным авторитетом, чтобы остановить отступление, которое грозило обратиться в бегство. Один Дюмурье мог вернуть армии счастье, которого она лишилась во время его отсутствия. Он поспешил в Лувен. В продолжение всего пути Дюмурье сыпал упреками и даже угрожал Конвенту, которому приписывал причину беспорядков. Казалось, он хотел навести бельгийцев и своих собственных солдат на мысль, что армия близка к возмущению против бельгийских проконсулов и парижских тиранов, и сеял на своем пути негодование против них.
Дантон и Лакруа, предвидя кризис, вернулись в Париж, чтобы предотвратить столкновение между генералом и Конвентом. Комиссары Камю, Мерлен, Трельяр и Госсен отправились в Лилль с дезертирами с целью организовать из них отряд под прикрытием городских стен. Они явились к главнокомандующему в Лувен и упрекнули его между прочим в том, что он вернул церквям серебряную утварь. «Подите, — сказал Дюмурье Камю, — и посмотрите в бельгийских соборах на дароносицы, опрокинутые на землю и разбросанные по церковным плитам, на разрушенные алтари и исповедальни, на разодранные образа! Если Конвент одобряет такие преступления, если они не оскорбляют его и он не карает за них, тем хуже для него и для моего несчастного отечества. Знайте, что если бы потребовалось совершить только одно преступление, чтобы спасти его, то я не совершил бы и его. Такое положение вещей позорит Францию». Комиссары, пораженные этой смелой речью, начинали уже верить смутным слухам, обвинявшим Дюмурье в намерении мятежа. «Генерал, — возразил ему Камю, — вас обвиняют в том, что вы стремитесь сыграть роль Цезаря; если бы я был уверен в этом, то взял бы на себя роль Брута». Заметив, что слишком явно обнаружил свои планы, Дюмурье принял прежний небрежный тон и сказал с иронией: «Дорогой Камю, я не Цезарь, а вы не Брут, и потому ваша угроза служит мне порукой в моем долголетии».
Расставшись с комиссарами, генерал написал Конвенту угрожающее письмо, в котором обвинял это учреждение в святотатстве, профанации и грабежах, отмечавших каждый шаг французских войск в дружественной стране и делавших Францию ответственной за несчастья в городах страны. Он нарочно преувеличивал эти неприятности, чтобы придать больше горечи своим упрекам. Единственным неповинным в этих злодеяниях лицом, по его мнению, являлся генерал Бернонвиль, его ученик и друг. Бернонвиль только что сменил Паша в военном министерстве, получив этот место по протекции Дантона. Закончил письмо Дюмурье просьбой об отставке.
Армия воспрянула духом, едва увидав своего главнокомандующего. Дюмурье обошелся с офицерами и солдатами как отец, встречающий возвращенных ему детей. Строгость выговоров только увеличивала уважение по отношению к нему. В армии набиралось еще 40 тысяч ветеранов, закаленных в боях пехотинцев, и 5000 конницы. Кроме того, к ней относились находившиеся в бельгийских гарнизонах и в Голландии еще около 40 тысяч солдат. Из тех батальонов, что были у него под рукой, Дюмурье предоставил в распоряжение генерала Валенса 18 батальонов правофланговых, герцогу Шартрскому из центра своего войска и Миранде — такое же число левофланговых; резерв из восьми батальонов гренадеров он дал генералу Шальмелю, и сильный авангард из 6000 человек старому генералу Ламаршу, сохранившему, несмотря на свои поседевшие волосы, всю пылкость юного воина. Шестнадцатого марта Дюмурье атаковал австрийцев при Тирлемоне и принудил их к отступлению.
Принц Кобургский, получавший ежедневно новые подкрепления и имевший под своим началом более 60 тысяч солдат, сконцентрировал свою армию между Тонгром и Сен-Троном. Три деревни — Нервинд, Обервинд и Мидлвинд — австрийский генерал оставил без прикрытия между своей армией и неприятельской, как поле сражения и добычу, долженствовавшую достаться победителю. Дюмурье подал сигнал к общей атаке 18-го, на рассвете. Его правые колонны беспрепятственно дошли до высот Сен-Трона, но, отброшенные неприятельской кавалерией, вернулись и искали защиты под прикрытием конницы центра. Герцог Шартрский дважды брал приступом деревню Нервинд, но, увидев во время третьей атаки, что генерал Дефоре, его любимый помощник, убит, подал сигнал к отступлению. Дюмурье в четвертый раз атаковал эту деревню, жертвуя своей конницей, но натиск австрийцев снова принудил его к отступлению. Соединившиеся в ста шагах от деревни под началом герцога Шартрского и главнокомандующего пехота и конница несколько раз подвергались залпам австрийской артиллерии. Так как левый фланг, который, по плану Дюмурье, должен был вынести на себе все сражение, не поддержал центр и правый фланг, то движение на Нервинд и Сен-Трон стало невозможным.
Дюмурье, заметив к вечеру, что отряды неприятельской пехоты и конница окружают принца Кобургского, заподозрил неудачу или измену Миранды. Поручив Тувено надзор за центром и правым флангом, он помчался к позициям, которые должен был занимать Миранда. Но они оказались заняты Клерфэ; сам Дюмурье спасся от австрийских гусар только благодаря быстроте своего коня. Преследуя по пятам свой отступивший левый фланг, один в ночной темноте, пораженный молчанием и одиночеством, он встретил у ворот Тирлемона лишь несколько батальонов волонтеров, шедших по большой дороге, но уже без артиллерии и конницы. От этих беглецов он узнал о гибели трех тысяч их товарищей. Пораженный беззаботностью Миранды, Дюмурье сделал ему строгий выговор и отдал приказ к отступлению герцогу Шартрскому и Валенсу.
Когда разнесся слух о поражении, Дантон и Лакруа явились в Лувен умолять главнокомандующего отозвать отправленное им угрожающее письмо. Они всю ночь убеждали его примириться с Конвентом. Дюмурье вручил им записку, содержавшую шесть строк, в которой он, не взяв обратно своих выражений, старался, однако, смягчить их. Дантон уехал обратно той же ночью, чувствуя, что Дюмурье уже не может служить ему опорой в его политике, поскольку поражение — плохая прелюдия для диктатуры.
Почти тотчас по отъезде Дантона в Лувен вступил в качестве парламентера полковник Мак, начальник главного штаба принца Кобургского. Он договорился с Дюмурье о секретном соглашении, определявшем шаг за шагом переходы обеих армий до Брюсселя. Несмотря на эту предосторожность, долженствовавшую обеспечить Империи возвращение Бельгии, а Дюмурье — безопасное отступление, последнее обратилось для французов в настоящее бегство. Дюмурье едва удалось составить арьергард приблизительно в 15 тысяч человек для прикрытия остатков армии на пути к Франции. Он арестовал генерала Миранду и отправил его в Париж как искупительную жертву.
В тот же день в Ате произошло последнее и роковое совещание между Маком и Дюмурье. На нем также присутствовали представители Орлеанской партии, желающей уничтожить республику и возложить венец конституционного монарха на главу одного и принцев Орлеанского дома.
В этом секретном договоре безумие соперничало с изменой. Заставить свои войска перейти на сторону одной из партий, идти на Париж и установить диктатуру — такого образа действий свобода не прощает, и лишь в крайнем случае он может быть извинен успехом и славой; но предать свое войско, открыть ворота своих крепостей монархии, вести против родины неприятельские легионы, которые отечество поручило ему разбить, при помощи иноземцев навязывать своей стране правительство — это значило в тысячу раз превзойти своей виной эмигрантов.
Смутный слух о замышляемой им измене достиг Парижа. Дантон и Лакруа бездействовали. Жирондисты, ненавидевшие орлеанскую династию, открыто выражали свое недоверие главнокомандующему, в штабе которого находилось два орлеанских принца. Якобинцы послали трех комиссаров узнать, какого мнения придерживается генерал, и склонить его на свою сторону против Жиронды. Выслушав их, Дюмурье сказал: «Не воображайте, что ваша республика сможет существовать; ваши преступления сделали существование ее настолько же невозможным, насколько она сама отвратительна».
Дюмурье, по-видимому, впал в душевное расстройство, которое овладевает человеком перед совершением преступления и заставляет его мыслить и поступать с лихорадочной непоследовательностью: он удалился со своим штабом и самыми преданными ему полками в небольшой городок Сент-Аман, где до него дошли вести о капитуляции Антверпена, о поражении, которое понес Молдский лагерь, и о восстании Лилльского гарнизона против генерала Мячинского.
В Сент-Амане с Дюмурье находились герцог Шартрский, герцог Монпансье, генерал Валенс, старший адъютант Монжуа, Тувено и штабные офицеры. Генерал встретил в Турне принцессу Аделаиду Орлеанскую, сестру герцога Шартрского, и проводил ее в Сент-Аман, чтобы защитить и от австрийцев, и от Конвента. Юная принцесса в то время скиталась на границе Франции и Бельгии, не имея права въезда ни на родину, вследствие закона об эмигрантах, ни за границу, потому что имя ее отца возбуждало ужас во врагах революции.
Госпожа Жанлис, наставница герцога Орлеанского, также находилась в главной квартире. В доме ее каждый вечер собирались главные лица армии.
Между тем Конвент, после долгих колебаний, издал указ, повелевавший Дюмурье покинуть войско и явиться в Париж для объяснения причин своего недовольства и оглашения своих планов. Дюмурье не обманывал себя относительно последствий, которые мог повлечь за собой этот приказ. Он чувствовал слишком большую вину, чтобы оправдываться; он прекрасно сознавал, что если расстанется со своими солдатами, то ему, как человеку, заставившему трепетать республику, уже не позволят вернуться к ним; он предпочитал погибнуть в борьбе с угнетателями своего отечества с оружием в руках, чем выдать себя им с головой без сопротивления. Даже если бы, благодаря хитрости речей, отважному поведению и влиянию Дантона, ему и удалось оправдаться, то одно уже его отсутствие расстроило бы все планы, относительно которых он условился с Маком. Итак, Дюмурье твердо решил не повиноваться Конвенту.
Второго апреля в полдень распространился слух о прибытии в лагерь четырех комиссаров и самого военного министра. Бернонвиль, войдя к Дюмурье, заключил его в свои объятия, точно этим движением желая доказать присутствующим, что хочет удержать генерала на службе родине только любовью и воспоминаниями о совместных сражениях. Он сказал, что решил лично проводить комиссаров, которым поручено передать декрет Конвента, чтобы присовокупить к голосу долга убеждение дружбы.
Камю умолял главнокомандующего удалить свидетелей, которые мешали им свободно излагать все скопившееся в душе, или же перейти в более укромное место. При этих словах среди присутствовавших офицеров поднялся ропот, точно их главнокомандующего собирались лишить защиты их оружия. Дюмурье успокоил это волнение жестом и провел Бернонвиля и комиссаров в свой кабинет, но офицеры потребовали, чтобы дверь туда оставалась открытой. Камю передал Дюмурье декрет Конвента. Генерал прочел его со спокойствием, граничившим с презрением; затем, передавая бумагу комиссару, сказал, что не отказывается повиноваться, но исполнит приказание только тогда, когда найдет это удобным для себя, а не для своих врагов. Он ироническим тоном просил дать ему отставку; ирония эта не ускользнула от комиссаров. «Что вы намерены делать по выходе в отставку?» — спросил его Камю. «Что мне заблагорассудится, — гордо ответил Дюмурье. — Предупреждаю вас, однако, что я не намерен ехать в Париж, чтобы смотреть, как революционный трибунал произносит надо мной приговор». — «Следовательно, вы не признаете этого трибунала?» — спросил Камю. «Я считаю его трибуналом кровавым и преступным, — возразил Дюмурье, — и пока у меня в руках будет хоть обломок железа, я не подчинюсь ему».
Комиссары удалились для совещания в другую комнату. Дюмурье на минуту остался наедине с Бернонвилем и попытался склонить на свою сторону министра, указав на опасность, которой он подвергается в Париже, и предложил ему командовать своим авангардом. «Я знаю, — геройски ответил ему на это Бернонвиль, — что мне предстоит погибнуть от рук моих врагов; но я умру на своем посту. Мое положение ужасно! Я вижу, что вы решились на отчаянную меру; как единственной милости, прошу вас позволить мне разделить участь, которую вы готовите депутатам, какова бы она ни была». — «Не сомневайтесь в этом, — ответил Дюмурье, — мне кажется, что, поступив так, я окажу вам услугу и спасу вас».
После часового совещания, во время которого Камю боролся против смягчающих обстоятельств, которые выставляли его сотоварищи, депутаты вернулись. Они еще раз, теперь уже в присутствии всего штаба, потребовали, чтобы генерал повиновался декрету. Он отказался. «Итак, — сказал Камю, — я объявляю, что вы более не главнокомандующий; приказываю схватить вас и опечатать все ваши бумаги». Движение офицеров, окруживших главнокомандующего и положивших руки на свое оружие, дало понять комиссарам, что жизнь их в опасности, но они все же решили приступить к своим обязанностям. «Это уже слишком, — вскричал Дюмурье, — пора положить предел такой дерзости!» И он по-немецки крикнул гусарам Бершени, стоявшим наготове в прихожей, чтобы они вошли. «Арестуйте этих четверых господ, — приказал он офицеру, командовавшему ими, — но пусть им не наносят вреда; арестуйте также военного министра, но оставьте при нем оружие». — «Генерал Дюмурье! — воскликнул Камю. — Вы губите республику!» Гусары увели комиссаров Конвента, и кареты, приготовленные в то время, пока шли переговоры, увезли их в Турне, где их передали в качестве заложников австрийскому генералу Клерфэ.
На другой день Дюмурье поехал в лагерь верхом. Там он обратился к солдатам с речью, в которой представил им вчерашнее событие в виде покушения якобинцев, хотевших отнять генерала у армии. Армия встретила голос генерала восторженными криками. Унижение гражданской власти перед военной всегда радует солдата. Чтоб доказать своему войску, какое он питает к нему доверие, Дюмурье провел ночь в лагере. Он намеревался передвинуть свои войска в Орши, откуда мог одновременно угрожать Лиллю, Дуэ и Бушену. Он хотел также убедиться в расположении принца Конде, которого также хотел передать австрийцам.
Дюмурье уехал из Сент-Амана 4 апреля. Пятьдесят гусар должны были оставить его свиту, но эта свита заставила себя ждать, а потому он поехал только с герцогом Шартрским, полковником Тувено, адъютантом Монжуа и восемью гусарами. В полумиле от Конде адъютант генерала Нейи, коменданта этого города, явился предупредить Дюмурье от имени своего начальника, что он заметил брожение в своих войсках и не ручается за солдат. Они, похоже, решили, что их обманули, они возмущены секретными переговорами и громко объявили, что отвечают за Конде перед отечеством и не допустят, чтобы туда вошел новый отряд, который мог бы помешать им защищать город. Дюмурье решил прогуляться и поразмышлять об этом обстоятельстве. Мимо него прошли три батальона волонтеров с артиллерией, шедших в Конде по собственному почину; офицер, командовавший ими, был будущий маршал Даву. Удивленный передвижением отряда, относительно которого он не делал никакого распоряжения, Дюмурье поспешил расспросить о нем офицеров и приказал им остановиться. Затем, свернув шагов на сто с дороги, генерал вошел в хижину, чтобы написать приказ, как вдруг услыхал крики недовольства, вырвавшиеся из рядов батальонов, и увидел, что они внезапно снова двинулись в путь. Тогда он понял, что необходимо позаботиться о своей безопасности. Волонтеры сообразили, встретив Дюмурье и сопоставив приказы и контрприказы, что тут кроется измена, и решили обнаружить ее, схватив изменников. Некоторые, прицелившись в главнокомандующего, грозили уже выстрелить в него, если он откажется подождать их. Дюмурье поспешил вскочить на коня и умчался со своей незначительной свитой, преследуемый проклятиями и выстрелами. Лошадь его остановил ров, окаймлявший болотную местность. Град пуль уже сыпался на его свиту. Два гусара оказались поражены насмерть, как и двое слуг, которые везли портфель и плащ главнокомандующего. Лошадь под Ту вено пала.
Младшая из дочерей де Фернига также лишилась лошади. Тогда ее сестра Фелисите соскочила с седла и уступила свою лошадь Дюмурье. Девушки перешли через ров и сели на лошадей, принадлежащих свите герцога Шартрского. Секретарь главнокомандующего Кантен упал, перескакивая через ров. Пятеро убитых, восемь трупов лошадей, один пленный, экипажи и секретная переписка главнокомандующего остались во рву. Остальные беглецы во весь дух помчались через болота, преследуемые до самой Шельды выстрелами волонтеров. Юные амазонки, которым эта местность была знакома, проводили Дюмурье до парома, на котором он переправился вместе с ними и герцогом Шартрским. Свита, которой не хватило места на пароме, поехала вдоль берега Шельды и вернулась в Молдский лагерь. Батист распустил слух, что генерал убит возмутившимися волонтерами, и таким образом вернул Дюмурье прежнее расположение его войск.
Между тем главнокомандующий, переехав Шельду, изнуренный усталостью, пешком прошел по болотам, окаймляющим реку. Батист нагнал его вечером и сообщил о перемене в настроении лагеря. Мак приехал ночью и привез с собой свиту из пятидесяти имперских драгун, которые должны были проводить главнокомандующего до лагеря. Собрав вокруг себя полк гусар Бершени и несколько преданных ему эскадронов кирасиров и драгун, Дюмурье двинулся во главе этой кавалерии до Румижи, находящегося в одной миле от Сент-Аманского лагеря. Он думал, что вернул свое влияние в армии и сможет привести в исполнение свой план относительно Конде.
Но артиллерия Сент-Аманского лагеря, получив ложное известие о смерти Дюмурье, прогнала его генералов, запрягла лошадей в пушки и двинулась к Валансьену.
Целые дивизии, отказываясь повиноваться своим офицерам, покидали лагерь, где измена главнокомандующего вынуждала их служить орудием неизвестных интриганов.
Получив такие известия, Дюмурье выронил перо, которым писал приказ по армии. Он с небольшой свитой выехал в Турне, где Клерфэ встретил его не как генерала неприятельского войска, а как своего несчастного союзника. Любовь, которую Дюмурье сумел внушить своим солдатам, оказалась так велика, что восемьсот рядовых полка Бершени и саксонские гусары присоединились к нему по собственному побуждению. Когда он приехал в Турне, у него в кошельке оставалось только несколько золотых. Все его товарищи по бегству находились в сходном положении. Герцог Шартрский, Тувено, Монжуа, верный Батист и юные героини де Ферниг, дезертировавшие, не совершив преступления, вскладчину купили и первыми дали ему горький хлеб изгнания.
Такой была развязка длинной политической и военной драмы, поднявшей Дюмурье в течение трех месяцев на высшую ступень величия и низвергнувшей до уровня презренного авантюриста.
С этих пор Дюмурье, проклинаемый в отечестве, едва терпимый за границей, переезжал из одной страны в другую, нигде не находя себе пристанища. Предмет презрительного любопытства, почти нищий, не имея семьи, получая жалкие субсидии от Англии, он возбуждал лишь сострадание. Как будто чтобы сильнее покарать его, Небо не отняло у него гения, желая наказать бездействием. Дюмурье не переставая писал мемуары и составлял планы для всех войн, которые Франция вела в продолжение тридцати лет с Европой; он всем предлагал свою шпагу и от всех получал отказ. Он умер в Лондоне. Отечество оставило его прах в месте его изгнания и даже не воздвигло могильного камня на поле битвы, где он спас Францию.
XXXVIII
Марат набирает силу — Учреждение комитетов — Ассигнации — Декрет, обвиняющий Марата — Вандея — Смерть жены Дантона — Двадцать два жирондистских депутата — Революционный трибунал — Комитет общественного спасения
Якобинцы, довольные победой, которую одержали над противниками, дали время своим врагам передохнуть. По-видимому, между комитетами Конвента и Парижской коммуной установилось даже нечто вроде соглашения.
Дантон держался в стороне, гордо и независимо, являясь как бы третейским судьей партий. Робеспьер ждал, чтобы новый кризис вознес его еще выше. Ни тот ни другой не поддерживали волнений толпы. Только один человек смущал все партии в Конвенте. Это был Марат — олицетворенное воплощение анархии.
Начиная с 10 августа Марат, выходя из катакомб, где жил, говорил только о страданиях народа. Появляясь перед толпой, якобинцами, кордельерами, в ратуше и среди волнений, он везде действовал с аффектом и напряжением. Он начал оспаривать у Робеспьера аплодисменты якобинцев: Робеспьер обещал народу только законы, которые должны были справедливее распределить общественные блага между всеми классами общества, а Марат пообещал коренной переворот и довольство в будущем. Один сдерживал народ своим благоразумием — другой увлекал своим безумством. Робеспьера уважали — Марата боялись. Он чувствовал, какую роль играет, и вот в каких выражениях аттестовал себя в «Друге Народа»: «В детстве я был слаб здоровьем, не знал ни радости, ни резвости, ни забав. Я был тих и прилежен, и учителя лаской могли всего добиться от меня. Меня наказали всего один раз. В то время мне было одиннадцать лет. Наказание оказалось незаслуженным. Меня заперли в комнате, а я открыл окно и выскочил на улицу. Любовь к славе всегда была моей главной страстью. Пяти лет я мечтал быть школьным учителем, в пятнадцать — профессором, в восемнадцать — писателем, в двадцать — изобретателем, а теперь я мечтаю о славе принести себя в жертву отечеству!
Я провел двадцать пять лет в уединении, в чтении, в размышлениях по поводу лучших книг, толкующих о нравственности, философии и политике, желая прийти к наилучшим выводам. Из этого времяпровождения я вынес страстное желание сделаться полезным человечеству, святое уважение к правде, сознание скудности человеческих знаний. Шарлатаны ученого сословия, разные д’Аламберы, Кондорсе, Лапласы, Монты, Лавуазье одни хотели занимать видное место. Я в течение пяти лет стонал под этим позорным гнетом, когда революция дала о себе знать созывом Генеральных штатов. Я скоро угадал, к чему это должно привести, и вздохнул свободнее, надеясь увидеть человечество отомщенным, помочь ему разорвать эти узы.
Но это был пока только чудный сон! Он чуть не улетучился. Жестокая болезнь едва не свела меня в могилу. Не желая умереть, не совершив ничего для человечества, я на своем страдальческом ложе сочинял „Жертву отечеству“… Когда я выздоровел, то только и думал о том, как послужить делу свободы! А они еще обвиняют меня в том, что я продажный изверг! Да я мог бы получать миллионы, если бы только продавал свое молчание! А я нищий!»
Марат считал себя орудием Божьим. Он написал книгу о бессмертии души. «Революция, — говорил он, — всецело основывается на Евангелии. Нигде не высказано столько проклятий богатым и сильным мира сего. Иисус Христос — наш общий Учитель!»
Вера в свою избранность сказывалась на отношениях Марата с людьми. Когда они с Робеспьером встречались в Конвенте, то обменивались презрительными взглядами. «Подлый ханжа!» — бормотал Марат. «Низкий убийца», — шептал Робеспьер. И при этом оба одинаково ненавидели жирондистов.
Темная, вся в заплатах куртка, бархатные, в чернильных пятнах, панталоны, синие шерстяные чулки, башмаки, подвязанные у щиколоток веревками, грязная, расстегнутая на груди рубашка, прилипшие к вискам волосы, стянутые сзади кожаным ремешком, круглая, с опущенными полями шляпа — вот в каком виде Марат являлся в Конвент. Его жалкая внешность служила вывеской его мнений. Сознание важности предстоявшей ему роли росло вместе с предчувствием будущего могущества. Он угрожал всем, даже своим прежним друзьям. Он смеялся над Дантоном по поводу изощренности его вкуса. «Что Дантон, — спрашивал он Лежандра, — все еще говорит, что я смутьян, портящий все? Одно время я хлопотал для него о диктатуре, думая, что он способен к ней. Он изнежился в наслаждениях. Его опьянила добыча, полученная в Бельгии, и важность возложенного на него поручения. Он теперь слишком важный барин для того, чтобы снизойти до меня. Но народ и я — мы не спускаем с него глаз».
Конвент некоторое время старался с помощью организации всевозможных комитетов приучить свои членов к исполнению обязанностей, к которым они могли бы оказаться способными. Учреждение республиканского правления в стране, привыкшей в течение стольких веков к единоличной власти, стало главной мыслью депутатов Конвента. Они призвали в конституционный комитет людей, которые, как они предполагали, были в высшей степени одарены организаторским гением. Во время первых выборов руководствовались не партийными взглядами, но определением способнейших. Преобладали жирондисты, но не столько количественно, сколько поличным качествам. В комитете, в частности, заседали Бриссо, Петион, Верньо, Кондорсе, Жансонне, Сийес.
Комитет народного просвещения состоял из философов, писателей и артистов. Кондорсе, Приер, Ланжюине, Дюсо, Давид, Фоше были главными его членами. Камбон царил в комитете финансов: якобинец в своей страсти к республике, жирондист в ненависти к анархистам, честный, как рука народа, пересчитывающая свои собственные сокровища, и непоколебимый, как цифры, которые она выводит.
Комитет общественного спасения, долженствовавший поглотить все остальные и возвыситься над законами как фатум, был учрежден два месяца спустя и просуществовал полгода.
В то время как эти комитеты в тиши готовили конституцию и обсуждали системы воспитания, военную, финансовую и общественного благоустройства, волнения в Париже беспрестанно напоминали Конвенту о насущных и неотложных нуждах. По роковому совпадению годы волнений оказались для Франции и годами бесплодия почвы: продолжительные жестокие зимы выморозили хлеба; казалось, сами стихии сражались против свободы. Реки замерзли, трудно стало добыть дров; высокая цена всех припасов предвещала нужду и смерть в том виде, в каком они возбуждают наибольший ропот в народе: в виде голода. Роскошь исчезла вместе с чувством безопасности, которое ее порождает: богатые прикидывались нищими, чтобы избежать ограбления; дворяне и священники во время бегства унесли с собой или зарыли в погребах, садах, в стенах домов значительную часть золота и серебра в монетах. Конфискации и секвестры оставляли в руках республики без всякой пользы множество невозделанных земель и необитаемых домов.
Чтобы пополнить недостаток золота и серебра, Собрание ввело в оборот бумажные деньги — ассигнации. Эта валюта, основанная на доверии, могла бы удержаться наравне с монетой металлической, если бы народ захотел понять ее значение и принять ее; она увеличила бы число сделок между частными лицами, оживила бы труд, оплачивала бы подати и обозначила ценность земель. Монета, что бы ни говорили подчас экономисты, никогда не имеет другой цены, кроме цены по договору, который ее создал, и по кредиту, который она имеет. Достаточно, чтобы отношение между покупаемыми вещами и монетой, на которую их покупают, не могло быть самовольно изменено; действительная и истинная цена всех вещей основана на этом отношении. Следовательно, только законная власть, честная и осмотрительная, имеет право чеканить монету. А будет ли она чеканить монету из золота, серебра, меди или печатать на бумаге — имеет мало значения, лишь бы отношение было свято сохранено и народ не потерял таким образом доверия к кредиту денежного знака.
Но народ привык к золоту. Народ хотел взвешивать и ощупывать его. Народ не доверял бумаге. Притом правительство, вынужденное к тому необходимостью, внезапно выпустило слишком большое количество бумажных денег, они упали в цене, и владельцы их лишились части своего капитала. Неумолимые законы вступили в силу против тех, кто отказывался их принимать: замедление в оборотах, падение торговли, риск в делах, отсрочка векселей, забастовки рабочих, недоплата заработанных денег, изнурительный труд. Землевладельцы жили только тем, что получали непосредственно с земли, и накопленными деньгами, серебряными и золотыми, которые расходовали очень скупо. Землю обрабатывали дурно, расходовали мало. Строительства не предпринимали. Кареты и лошади исчезли. Мебель не обновляли. Жизнь, ограниченная пределами крайней необходимости, лишила занятий бесчисленное количество ремесленников.
Жажда золота ожесточает так же, как и жажда крови. Ненависть к бакалейщикам сделалась такой же ожесточенной и кровавой, как ненависть к аристократам. Лавки осыпались такими же проклятиями, как и замки. Постоянные бунты у дверей булочников и винных торговцев нарушали тишину улиц. Голодные толпы, во главе которых шли женщины и дети, окружали Конвент и иногда врывались в него, громкими криками требуя понижения цен на товары.
Люди требовали «максимума», то есть зафиксированной таксы на продукты, и наличия посредников от правительства между торговцами и потребителями, которые умеряли бы барыши первых и облегчали нужды последних. Хотя предложение ввести «максимум» было законно, выполнение его оставалось невозможным. Такая справедливость, оказанная нуждающемуся потребителю, легко могла превратиться в беззаконие по отношению к торговцу. «Максимум» должен был бы меняться так же часто, как и цены на товары. Никто не согласился бы с таким положением дел. Исчезли бы всякие спекуляции, а спекуляция — душа торговли. Торговцы, подчиненные такому инквизиторскому вмешательству, перестали бы снабжать Францию провизией; требования народа привели бы к уничтожению торговых сделок.
Эти требования, вызвавшие энергичный протест со стороны самых умных из жирондистов, Робеспьера, Эбера и даже Шометта, внесли бы в вопросы о снабжении Парижа продовольствием и об отношениях между народом и торговцами несогласие и вызвали бы голод. Но если народ быстро понимает вопросы политические и национальные, то в вопросах экономических он разбирается с трудом.
Марат и его приверженцы фанатически отнеслись к вопросу о «максимуме». Они голодом принуждали народ к требованию таксы и грабежу богачей.
«Несомненно, — писал Марат в „Друге Народа“ 23 февраля, — что капиталисты, перекупщики, торговцы предметами роскоши, бывшие приказные, бывшие дворяне не сожалеют о злоупотреблениях, которыми они пользовались, чтобы жиреть на народные крохи. Вследствие невозможности изменить их сердца и видя тщетность всех средств, употребленных до сих пор с целью заставить их исполнять свои обязанности, — я вижу, что только окончательное истребление проклятого племени может вернуть спокойствие государству. Разграбление магазинов, на дверях которых повесили бы некоторых перекупщиков, быстро положило бы конец этим притеснениям, приводящим в отчаяние пять миллионов человек. Неужели представители народа всегда будут уметь только разглагольствовать о его бедствиях и никогда не придумают средств помочь ему? Долой законы: они, очевидно, никогда не имели силы! Такое положение вещей не может продолжаться дальше; народ скоро наконец поймет великую истину, что он должен спасать себя сам. Злодеи, которые хотят снова заключить его в оковы и наказать за то, что он избавился от горсти изменников 2, 3 и 4 сентября, — пусть трепещут! Подлые лицемеры, силившиеся погубить отечество под предлогом возвышения закона, взойдите на трибуну! Осмельтесь обвинить меня! С этим листком в руке я готов вас уничтожить!»
Невозможно было проповедовать грабеж и убийства в более ясных выражениях. На другое же утро народ повиновался призыву своего апостола: голодные толпы вышли из предместий, из мастерских и притонов и наводнили собою богатые кварталы Парижа; выламывали двери булочных, врывались в бакалейные лавки.
Через несколько дней после этих беспорядков узнали о бунтах в Лионе и о поголовном восстании Вандеи — первых признаках гражданской войны. Это случилось в тот момент, когда внимание Конвента было всецело устремлено на границы.
Там одно несчастье следовало за другим. Пришло известие сначала об отступлении Кюстина в Германии, затем о поражении Северной армии и о заговоре Дюмурье. Испания начала военные действия. Конвент ответил объявлением войны мадридскому двору. Девяносто три комиссара немедленно объявили в разных частях Парижа о поражении французских войск. Коммуна подняла, в знак траура и смерти, черное знамя на верхушках соборных башен. Театры закрылись. Били сбор войскам, подобно набату, в течение двадцати часов кряду, во всех кварталах Парижа. На площадях читали прокламацию Совета, заимствовавшую свои возбуждавшие энтузиазм выражения из гимна марсельцев: «К оружию, граждане! К оружию! Если вы помедлите, все погибнет!» Секции города, обратившиеся в деятельные муниципалитеты, потребовали запрещения продажи драгоценных металлов под страхом смертной казни, налога на богатых, отрешения от должности военного министра, обвинения Дюмурье и его сообщников, наконец, учреждения революционного трибунала, чтобы судить Бриссо, Петиона, Ролана, Бюзо, Гюаде, Верны) и всех жирондистов, умеренность которых погубила отечество под предлогом спасения законности.
Шестого марта ночью Комитет восстания — нелегальное общество, стоявшее за движением секций, — собрался более таинственно, чем обыкновенно. Приглашение получили только члены, известные свое решимостью. Им наскучило слушать имена убийц, которые Верньо и его друзья бросали им с трибуны. Они надеялись, что Дантон, бывший их сообщник, которого жирондисты осыпали оскорблениями, присоединится к ним, чтобы уничтожить их общих врагов. Они готовы были назначить его диктатором, чтобы он отстаивал патриотизм. Они с часу на час ожидали его возвращения из армии, куда он поехал в третий раз, чтобы поддержать дух в ослабевшем войске.
Дантон, письмом извещенный о болезни своей жены, поспешил уехать из Конде. Но смерть опередила его. Когда он выходил из кареты у дверей своего дома, ему доложили, что жена его только что скончалась. Его хотели удалить от этого печального зрелища; но Дантон, питавший, несмотря на развратный образ жизни, нежность и уважение к матери двух своих детей, отстранил друзей, вне себя от волнения вошел в комнату, бросился к постели, приподнял саван и, покрывая поцелуями еще теплое тело жены, провел всю ночь в рыданиях и стонах.
Никто не осмелился прервать его скорбь, чтобы увлечь в мятеж. Проект заговора отложили за отсутствием начальника. Между тем Дюбюиссон обратился к Комитету с речью, в которой указал на крайнюю необходимость предупредить жирондистов, каждый день требовавших отмщения за сентябрьские убийства. «Смерть этим лицемерам патриотизма и добродетели!» — провозгласил он, заканчивая речь.
Поднятые руки стали молчаливым одобрением этого призыва. Имена двадцати жирондистских депутатов предложили на голосование и головы их были обречены на смерть. Это число приговоренных соответствовало числу двадцати двух якобинцев, которых Дюмурье, по слухам, обещал предать мести своей армии и ярости иностранцев. Одни предлагали повесить Верньо, Бриссо, Гюаде, Петиона, Барбару и их друзей на ветвях деревьев в Тюильри; другие — отвести их в Аббатство и там повторить над ними подвиги «сентябрьского правосудия». Марат, имя которого не могло пострадать от одного лишнего злодейства, рассеял эти недоумения. «Нас зовут кровопийцами, — сказал он, — так оправдаем же это звание, упившись кровью наших врагов! Смерть тиранов — последний довод рабов. Цезарь был убит при полном собрании сената; поступим таким же образом с изменниками отечества и умертвим их на арене их преступлений». Мамен, несший некогда на острие своей пики голову принцессы де Ламбаль, вызвался с несколькими из своих головорезов убить жирондистов в их собственных домах. Эбер поддержал это предложение. «Смерть без шума, застигшая в потемках, столь же хорошо отомстит изменникам за отечество и покажет всем, что рука народа всегда готова покарать заговорщиков». В итоге приняли именно этот план, хотя идея Марата все еще не была устранена, на тот случай, если бы представилась необходимость совершить убийство при более торжественной обстановке, посреди беспорядков, когда народ будет брать приступом Конвент. Все секции поделили между агитаторами для поднятия бунта, ночь с 9 на 10 марта назначили для совершения казни.
В то время как заговорщики Комитета восстания собирали свои силы, нечаянный случай открыл жирондистам заговор, направленный против их жизней. Парикмахер Сире, со свойственной его профессии нескромностью, рассказал председателю секции Сен-Луи Може, что на следующий день в полдень жирондисты будут убиты. Може, один из самых смелых членов партии Ролана, отправился, когда настала ночь, к жирондисту Кервелегану и умолял, во имя его личной безопасности, не ходить на следующий день на заседание Конвента и не ночевать дома в ночь с 9-го на 10-е. Кервелеган, ожидавший в тот же вечер главных начальников Жиронды к ужину, передал им совет Може и послал предупредить всех депутатов своей партии, чтобы они не отправлялись в Конвент и не ходили к себе домой в последующие день и ночь. Сам же поспешил к Гамону, одному из инспекторов зала заседаний, чтобы принять меры для безопасности Конвента. Затем он отправился в казармы, разбудил начальника союзного батальона Финистерского департамента и заставил вооружиться. Несколько взводов выступили немедленно.
Луве, мужественный обвинитель Робеспьера, жил в то время на улице Сент-Оноре, недалеко от клуба якобинцев. Он уже заранее вел жизнь осужденного, выходил только в Конвент, и то всегда вооруженный, искал ночлега в разных домах и лишь украдкой посещал свое жилище, чтобы повидаться с любимой женщиной, красоту, мужество и любовь которой обессмертил в своем романе. Эта женщина, остававшаяся все время настороже, услыхала ночью крики толпы, собравшейся перед клубом якобинцев. Она проникла в зал заседаний, никем не узнанная, укрылась на одной из верхних трибун, куда допускались и женщины, и выслушала все мрачные приготовления к ночным покушениям. Она услышала, куда должны направиться убийцы, какой пароль должны произнести, услышала все клятвы; затем увидела, как потушили факелы и обнажили сабли. Смешавшись с толпой, она немедленно побежала предупредить своего возлюбленного. Луве, выйдя из своего убежища, тотчас отправился к Петиону, где собрались некоторые из его друзей спокойно обсудить проекты декретов. Луве с трудом убедил их не ходить на ночное заседание в Конвент. Верньо не хотел верить в возможность такого преступления. Петион, равнодушный к готовившейся ему участи, предпочитал ожидать ее дома, а не спасаться бегством. Остальные пошли искать безопасного убежища.
Пока жирондистские депутаты спасались от врагов, шайки кордельеров достигли типографии Горса, редактора «Парижских хроник», выбили двери, сломали печатные станки и рассыпали шрифты. Горза, вооруженный пистолетом, прошел, никем не узнанный, среди убийц, требовавших его головы. Когда он подошел к воротам, то увидел, что их охраняют вооруженные люди; тогда он перелез через стену и нашел убежище в полицейском участке.
Другой отряд, числом около тысячи, направился к Конвенту и вошел в зал с криками: «Жить свободными или умереть!» Пустые скамьи жирондистов расстроили их планы.
Жирондисты, презирая угрозы толпы, на другой же день отправились в Конвент, чтобы занять свои места. Толпа около пяти тысяч человек из предместий запрудила улицу Сент-Оноре, двор Манежа, Террасу фельянов. Сабли, пистолеты, пики поднимались над головами депутатов под крики «Смерть Бриссо и Петиону!». Фурнье-американец, Шампион и другие известные крикуны требовали голов трехсот умеренных депутатов; они отправились в совет Коммуны с требованием закрыть парижские заставы. Совет не согласился на эти требования.
Конвент шумел так же, как и народ. Бросали друг другу оскорбления и вызовы. Барер, колебавшийся между жирондистами и монтаньярами и принимаемый за это обеими партиями, укротил на минуту общую ярость, начав говорить о патриотизме вообще и протестуя тут же против аристократизма жирондистов, анархии монтаньяров и городского мятежа в Париже. «Говорили, — заявил он, — о планах снести депутатам головы сегодня ночью. Граждане! Головы депутатов в полной безопасности; головы депутатов охраняются всеми департаментами республики. Кто посмеет коснуться их? В тот день, когда совершится такое невозможное преступление, республика погибнет!» Голос Барера встретили единодушными рукоплесканиями. Робеспьер предложил сосредоточить исполнительную власть в комитетах. Он хотел этим дать почувствовать, что Комитет общественного спасения претендует на диктаторскую власть.
«Общие соображения, которые вам представляют, правильны, — сказал Дантон, — но когда здание пылает, не обращают внимания на воришек, крадущих мебель, а тушат сначала пожар. Хотим ли мы быть свободными? Если мы этого не хотим, то мы погибнем. Отправьте же ваших комиссаров, пусть они сегодня вечером, даже сегодня ночью скажут богатому классу общества: „Аристократия Европы должна пасть под нашим натиском, заплатить нам свой долг или вы заплатите его. У народа нет ничего, кроме его крови, и он проливает ее. Вперед, несчастные! Расточайте свое богатство!“» (Рукоплескания на Горе и в трибунах.) «Слушайте, граждане, — продолжает Дантон, — слушайте, какая прекрасная участь ожидает вас; вся нация служит вам рычагом, право — точкой опоры, а вы еще не перевернули мир? На вас, утомляющих меня личными спорами, — продолжал он, смотря поочередно на Марата, Робеспьера и жирондистов, — я смотрю как на изменников и ставлю всех вас на одну доску. Э! Какое мне дело до моей репутации?! Лишь бы была свободна Франция, а имя мое пусть будет опозорено!»
Камбасерес поддержал просьбу, поданную Коммуной, об учреждении Революционного трибунала. А Бюзо воскликнул, что Францию хотят привести к более мрачному деспотизму, чем даже деспотизм анархии. Он протестовал против сосредоточения власти в одних руках. «Он не протестовал, однако, — заметил Марат, — когда власть была всецело в руках Ролана».
Робер Ленде прочел проект об учреждении Революционного трибунала. «Он будет состоять из девяти судей, — заявил Ленде, — и не будет подчинен никаким формальностям. Законом ему станет служить совесть, способом доказательства — свидетели. В его зале всегда будет присутствовать один из членов, обязанности которого будут состоять в рассмотрении доносов. Суд этот будет судить всех тех, кого пришлет к нему Конвент». Гора рукоплещет этому плану. Верньо встает в негодовании: «Ведь это инквизиция, которая в тысячу раз страшнее венецианской; мы объявляем, что скорее умрем, чем согласимся на это!»
Конвент постановил, что присяжные Трибунала будут назначаться им самим и избираться из всех департаментов. Эта поправка, ограничивающая власть суда над жизнью и смертью граждан, истощила терпение Дантона: уже собирались закрыть заседание, как вдруг он вскочил со скамьи и бросился на трибуну; повинуясь его жесту, вставшие было уже со скамей депутаты сели снова.
«Я требую, — повелительным голосом начал Дантон, — чтобы все добрые граждане не покидали своего поста! Вы собираетесь уходить, не приняв решительных мер, которых требует спасение республики! Я чувствую, насколько важно прибегнуть к судебным мерам для того, чтобы покарать контрреволюционеров, потому что только для них и необходим этот суд. В настоящее время общественная безопасность требует крайних мер и страшных средств: я не вижу середины между обыкновенными формами суда и революционным трибуналом. Будем неумолимы, чтобы народ не оказался жесток. Время настало — не станем щадить ни людей, ни денег. Берегитесь, граждане! Вы отвечаете перед нацией за его войска, за его кровь и его ассигнации. Итак, я требую, чтобы суд учредили немедленно! Сегодня вечером учреждается Революционный трибунал, учреждается исполнительная власть; завтра начнутся военные действия. Пусть завтра же начнут заседать ваши комиссары, пусть вся Франция восстанет, возьмется за оружие и пойдет на врага. Пусть овладеют Голландией и освободят Бельгию! Пусть английская торговля потерпит ущерб! Пусть друзья свободы восторжествуют в этой стране! Пусть наше оружие, повсюду победоносное, несет народам свободу и счастье и да будет отомщен мир!»
В груди Дантона, казалось, билось сердце всего французского народа. С трибуны он попал прямо в объятия своих товарищей. В этот же вечер Трибунал утвердили окончательно. Он должен был состоять из пяти судей, избираемых Конвентом, и обвинителя, назначаемого также Конвентом; имущество осужденных планировали конфисковать в пользу республики. Таков был этот государственный суд — единственное учреждение, способное, как думали, защитить в такую минуту республику от анархии, контрреволюции и Европы. Жирондисты не посмели отказаться от этой меры в виду раздражения народа. По странной насмешке судьбы, Барер, противившийся введению этого суда, станет самым кровожадным его судьей, а Дантон, настаивавший на его учреждении, сложит по его приговору свою голову. Жертва ковала меч, а палач отказывался принять его.
Гордость жирондистов страдала от того влияния, которое получил Дантон, они презрением отвечали на его попытки к сближению; Робеспьера же они преследовали даже тогда, когда он сторонился всех. Они почти извиняли Марата, чтобы свалить все неистовства анархии на Робеспьера и Дантона. «Марат, — говорил Инар с трибуны, — не голова, которая замышляет, а только рука, которая исполняет приказание; он — орудие людей вероломных, которые растравляют его природную склонность видеть все в мрачном свете, убеждают его, в чем хотят, и заставляют поступать так, как нравится им».
Члены этой партии, собравшись у Ролана, решили воспользоваться негодованием, которое народный мятеж возбудил против Конвента среди граждан Парижа, чтобы вновь приобрести то влияние, которое ускользало от них. Верньо, давно уже молчавший, приготовил речь, в которой требовал отмщения Марату. Напомнив о покушениях, совершенных в феврале и марте, он заявил:
«Таким образом, идя от преступлений к помилованию и от помилования к преступлениям, большая часть граждан дошла до того, что спутала понятия: нарушение общественного порядка и восстание за свободу. Мы видели, как развивалась та странная система, при которой вам говорят: „Вы свободны, но думайте, как мы, иначе мы донесем на вас и отдадим вас народной мести; вы свободны, но должны склонить голову перед идолом, которому мы курим фимиам, иначе мы донесем на вас и отдадим вас народной мести; вы свободны, но присоединитесь к нам, чтобы сообща преследовать людей, которых мы боимся, потому что они честны и просвещенны, — иначе мы заклеймим вас страшным именем, донесем на вас и отдадим вас народной мести!“
Позволительно в такое время бояться, что революция, как Сатурн, поглотит всех своих детей. Одна часть членов Конвента считала, что революция закончилась, когда во Франции объявили республику: полагали, что следовало вернуть спокойствие народу и скорее издавать необходимые законы, чтобы это спокойствие сделалось продолжительным. Другие члены, напротив, встревожились опасностью, которой Франции угрожала коалиция монархий, и думали, что важно продлить возбуждение. Одни видели в воззвании к народу или в простом аресте виновного средство избежать войны, в которой были бы пролиты потоки крови, и торжественное признание воли народа как законной власти. Другие видели в этой же мере зародыш междоусобных войн и поблажку тирану; они назвали первых роялистами, а те, в свою очередь, обвинили вторых в том, что они страстно желают, чтобы голова Людовика упала только для того, чтобы надеть корону на голову нового тирана. С этого времени пламя страстей неистово разгорелось среди Собрания, и аристократы, не желая более класть пределов своим надеждам, возымели адское намерение заставить Конвент погубить самого себя. Граждане, вот какую глубокую пропасть вырыли под вашими ногами! Спала ли наконец повязка с ваших глаз? Научились ли вы наконец отличать настоящих друзей народа от присваивающих себе это имя?
А ты, несчастный народ! Сколько еще тебя будут обманывать лицемеры, которые охотнее внимают рукоплесканиям, нежели стараются заслужить их? В древности у одного тирана была железная кровать, на которую он приказывал класть свои жертвы: он обрубал ноги тем, у кого они не помещались в кровати, и вытягивал, причиняя мучения, тем, у кого они были короче. Этот тиран любил равенство: вот именно такое понятие о равенстве имеют и те злодеи, которые терзают тебя своей яростью, народ! Равенство для человека, живущего в обществе, может быть только перед законом; оно не может быть имущественным, так же как нет равенства в росте, силе, уме, искусстве и труде; под видом свободы вам преподносят распущенность. Пусть постигнет этих жестоких жрецов судьба их предшественников и пусть позор навсегда заклеймит бесславный камень, который скроет их останки!
А для вас, друзья, минута настала: пора наконец сделать выбор между силой, которая должна спасти нас, и слабостью, которая губит все правительства! Граждане, воспользуемся уроками, которые нам дает опыт: мы можем опрокинуть троны нашими победами, но только лицезрением нашего счастья мы можем вызвать желание революции у других народов. Так докажем же, что умеем быть счастливыми в республике. Когда люди в первый раз пали ниц перед солнцем, назвав его отцом природы, неужели вы думаете, что оно было в то время закрыто облаками, несущими бури? Конечно, нет: сияя славой, оно двигалось по беспредельному пространству и изливало на мир изобилие и свет.
Итак, рассеем своей твердостью тучи, которые заволокли наш политический горизонт, разгромим анархию, положим основание свободе на законах мудрой конституции; и вскоре вы увидите, как падут троны, будут изломаны скипетры, и народы, открывая нам свои объятия, объявят при радостных криках всемирное братство!»
Марат занял место оратора жирондистов. Его циничная манера держать себя на трибуне ясно говорила, что он презирает подобное красноречие. «Я хочу поделиться с вами, — сказал он, — несколькими светлыми мыслями, которые должны показать несостоятельность того пустого фиглярства, которое вы только что слышали. Никто не огорчается больше моего, видя здесь две партии, из которых одна не желает спасти революцию, а другая не умеет спасти ее. — Марат, указав рукой на скамью, где сидели Верньо и его друзья, продолжал: — Здесь сидят государственные мужи; я не ставлю всем им в преступление их заблуждения, я обвиняю только их вожаков; доказано, однако, что люди, обратившиеся с воззванием к народу, хотели междоусобной войны, а подавшие голос за тирана хотели сохранения тирании. К тому же не я преследую их, а негодование народа. Я против опубликования речи, которая разнесет по всем департаментам картину наших раздоров и бедствий».
Собрание, разделившееся на две равные части, проголосовало вопрос об опубликовании речей Верньо и Марата. Это предложение показалось Верньо до такой степени оскорбительным, что он заявил, что уже забыл свою импровизацию.
Как раз в это время по предложению Инара был учрежден первый Комитет общественного спасения. Выбор членов был беспристрастен. Силы партий тут уравновешивались. Удвоенная энергия характеризует действия правительства и Коммуны в этот короткий период примирения. Опасность для отечества заставляла всех думать о необходимости войны. В Париже звонили в набат, все секции вооружались. Сантерр стал во главе двух тысяч вооруженных граждан. Конвент издавал приказы. Комитет общественного спасения управлял. Коммуна производила обыски и аресты. Революционный трибунал начал заседания и объявил свои первые решения. На площади Республики было воздвигнуто орудие казни — как учреждение, венчающее республику. Жирондисты же обратили меч на головы эмигрантов и не решались поразить своих настоящих врагов.
XXXIX
Дантон обвиняет жирондистов — Робеспьер требует суда над ними — Верньо защищается — Дантон возражает — Обвинение Марата — Робеспьер и его Декларация прав
События быстро следовали одно за другим. Влияние жирондистов в департаментах, искусственно поддерживаемое газетами, субсидируемыми Роланом, росло с каждым днем. Опасность, угрожающая отечеству, привлекала народ на сторону крайних партий. Комиссары Конвента переезжали из города в город, ставя и сменяя по капризу местные власти — то во вкусе якобинцев, то в духе Жиронды. Бурдон де л’Уаз, посланный в Орлеан, где он проповедовал доктрины Робеспьера и заменил умеренный муниципалитет якобинским, получил двадцать ударов штыками в зале ратуши; спасенный, он отправил своих убийц в Париж, в Трибунал. Мануэля, старого прокурор-синдика Парижа, удалившегося на покой в Монтаржи, на свою родину, народ выволок из дома, раздел, избил до крови и обезобразил; городские власти, освободившие его, не нашли другого места, чтобы спрятать его от разъяренной толпы, кроме тюрьмы.
Большинство Конвента послушно исполняло волю Барера. Робеспьер сторонился Дантона, которого подозревал в соучастии в изменах Дюмурье. Лежандр задумал примирить их у себя за обедом.
Дантон, как человек вспыльчивый, легко забывал ссоры и со свойственной ему искренностью первый подошел к Робеспьеру и протянул ему руку. Робеспьер отдернул свою и в продолжение всего обеда молчал. В конце у него вырвалось несколько многозначительных слов: не глядя на Дантона, он наградил презрительными выражениями людей, которые «смотрят на революцию как на залитые кровью ступени к своему благополучию, а от победы ожидают только добычи». Дантон ответил на это саркастическими замечаниями по адресу людей, принимающих свою гордость за добродетель, а трусость — за умеренность.
Соперники расстались еще более озлобленные друг против друга, чем были до этой встречи. Дантон вернулся к жирондистам и даже извинился перед ними за свое прошлое. Депутат Конвента Мейян умолял своих друзей воспользоваться этим настроением Дантона, чтобы удержать в своей партии этого колосса.
Однажды Мейян, встретив Дантона на одном из заседаний Конвента, вступил с ним в беседу. Это произошло после того, как Марат, проходя через зал, шепнул Дантону несколько слов и ушел. «Презренный! — заметил Дантон, обращаясь к Мейяну. — Крови, крови, вечно крови, вот чего ему надо! Уйдем отсюда. Эти люди наводят на меня ужас!» И он увлек Мейяна в сад. Мейян, видя, что его друга мучают угрызения совести и что он уже готов выслушать совет, указал ему, что республика нуждается в сильной руке, которая сдерживала бы народ, направляла нацию и Конвент и раздавила, как гадов, Марата, плавающего в крови, и Робеспьера, погрязшего в своей гордости. Дантон слушал его без возражений. «Если бы я мог поверить этому! — сказал он наконец со вздохом. — От чьего имени ты так говоришь со мною?» — «От имени тех, кто презирают Марата и ненавидят Робеспьера так же, как и ты!» — «А кто сказал тебе, что я ненавижу Робеспьера?» — «Кто сказал мне об этом? Да твоя выгода! Если ты не опередишь его, то он опередит тебя». Дантон подумал еще с минуту, а затем произнес с решимостью, которая, по-видимому, дорого ему стоила: «Перестанем говорить об этом, это невозможно! Твои друзья не доверяют мне. Даже если бы я согласился погибнуть ради них, то они все же выдали бы меня нашим общим врагам. Жребий брошен, пусть решает смерть!»
Если жирондисты не доверяли Дантону из-за его жестокости, то Робеспьер — из-за его безнравственности. Дантон составил себе целый двор из людей развращенных и циничных. От заговоров они переходили к попойкам. Революции здесь придавали характер какой-то оргии патриотизма. Беззаботные наслаждения и атеизм составляли основную философию этих собраний. Дантон купил имение на склоне Севрского холма и богато меблировал его. Там-то он, по примеру Мирабо, уединялся со своими наперсниками.
После смерти жены он пресытился чувственными наслаждениями и мечтал о чистой привязанности. Молодая девушка из безукоризненно честной семьи, к тому же замечательно красивая, обратила на себя его внимание. Звали ее Луиза Жели. Ей только исполнилось шестнадцать лет, ему — тридцать три. Влияние этой любви, желание явиться чистым в глазах невесты, потребность упорядочить свою жизнь — вот причины, толкавшие Дантона в партию жирондистов.
Отец Луизы Жели был судебным распорядителем в парламенте. Благодаря протекции Дантона он получил выгодное место в морском министерстве. Семья Луизы была глубоко благодарна политику за это благодеяние, но имя Дантона, пользуясь громкой известностью, в то же время внушало ужас. Мать молодой девушки долго противилась этому браку. Дантон раскаялся перед этой женщиной в своих ошибках, совершенных им в первые дни революции, объяснив их своей страстной любовью к отечеству, и выказал искреннее сожаление о том, что подал голос за казнь Людовика XVI. Он даже согласился придать своему брачному союзу религиозный характер, которого требовали набожные привычки семьи Жели. В то время когда обряды католической церкви и ее служители подвергались самым ожесточенным преследованиям, Дантона обвенчал в своей квартире неприсягнувший священник Керавенан. До брачного обряда Дантон преклонил перед ним колена и исповедался или, по крайней мере, сделал вид, что кается.
Его свадебным подарком жене стал кошелек с пятьюдесятью луидорами. Через несколько дней после свадьбы он спросил жену, потратила ли она их. «Нет, — ответила молодая госпожа Дантон, — я спрятала их, чтобы отдать их тебе в минуту крайности». «Так одолжи их мне, — сказал Дантон, — они нужны мне для дела, о котором я могу сказать только тебе одной». И он сообщил ей о существовании заговора, целью которого было ниспровергнуть республику; в Париже предполагалось произвести беспорядки одновременно с беспорядками в армии и тем доказать необходимость централизации власти, а вслед за этим возвести на престол герцога Орлеанского. Но раньше, чем приступить к исполнению этого плана, требовалось заручиться согласием самого герцога, которого в это время не было в Париже, для чего предполагали послать верного и осторожного агента; для исполнения этого поручения Дантон избрал своего секретаря Миже, а пятьдесят луидоров предназначались ему на путевые расходы.
Госпожа Дантон отдала мужу кошелек. Миже уехал. Герцог Орлеанский отказался от соучастия в предприятии, которое считал по крайней мере преждевременным.
Вернемся к событиям, случившимся за несколько недель до этого.
Через несколько дней после того, как обнаружилась измена Дюмурье, Ласурс, самый подозрительный из друзей Ролана, произнес речь, в которой обвинял Лакруа и Дантона в том, что они вступили с генералом в заговор с целью восстановить монархию.
В продолжении всей речи Ласурса на лице Дантона отражались попеременно и удивление гордого человека, считающего себя неуязвимым, и гнев, готовый разразиться над надменным врагом, и презрение народного любимца, и решимость бороться не на жизнь, а на смерть, и, наконец, притворное равнодушие. Никогда лицо Дантона не отражало за такое короткое время всю гамму чувств. У него занялся дух, как у человека, стоящего над бездной, глаза его горели в порыве страсти. Когда Ласурс сошел с трибуны, на нее поднялся Дантон; проходя мимо скамей Горы, он наклонился к друзьям Робеспьера и сказал им, указывая на жирондистов: «Мерзавцы, им хочется свалить свои преступления на нас!» Гора поняла, что Дантон решил перейти на их сторону и уничтожить их врагов.
«Граждане, — сказал он, показывая движением руки, что обращается к одной только Горе, — я должен начать с того, что воздаю вам хвалу. Вы, сидящие на Горе, рассудили лучше моего. Я долго думал, что, несмотря на необузданность моей натуры, обязан сдерживать себя во всех затруднительных случаях, в которые ставит меня моя миссия. Вы обвиняли меня в слабости, и вы были правы: я сознаюсь в этом перед всей Францией. Нас обвиняют! Нас, созданных для обличения обмана и подлости! Люди, которых мы щадили, теперь нахально выступают нашими обвинителями!»
Объяснив свое поведение относительно Дюмурье, он замолчал на минуту, чтобы нащупать почву под ногами; затем, овладев собою, продолжал: «Меня обвинили в том, что я позорю Конвент! Но кто больше моего старался поддержать его авторитет? Разве я не отзывался с почтением даже о своих врагах? Мы — говорят нам — хотим иметь короля? Только те, кто были настолько малодушны, что обратились с воззванием к народу, думая этим спасти тирана, могут быть заподозрены в желании иметь короля! Только те, кто хотели наказать Париж, подняв против него департаменты, только те, кто принимали участие в тайных ужинах Дюмурье, когда он находился в Париже, только те — участники в заговоре!»
Каждое из этих обвинений Гора встречала одобрениями, которые прерывались резкими восклицаниями Марата.
«Назовите тех, на кого вы намекаете!» — кричат Жансонне и Гюаде оратору. «Так слушайте! — отвечает Дантон, обращаясь к жирондистам. — Слушайте имена тех, кто хотят задушить отечество! Хотите выслушать слово, которым будет сказано все?» — «Да, да!» — кричат ему со всех сторон. Тогда Дантон восклицает тоном человека, решившегося не щадить далее своих противников: «Мне кажется, теперь порвалась последняя нить между Горой и патриотами, хотевшими смерти тирана, и теми трусами, которые, желая спасти его, оклеветали нас на всю Францию!»
Депутаты Горы поднимаются как один человек и продолжительными криками подтверждают слова Дантона, показывая этим, что они окончательно отделяются от жирондистов. «Я жил окруженный клеветой, — с горечью продолжает Дантон. — Я возмутил народ в начале революции, и меня оклеветали аристократы; я подготовил 10 августа, и меня оклеветала умеренная партия; я направил Францию к границам, а Дюмурье — к победе, и меня оклеветали лжепатриоты; теперь жалкие рацеи лукавого старика Ролана подают повод к новым обвинениям; бред этого старика, окончательно потерявшего голову, зашел так далеко, что он повсюду видит смерть и воображает, что каждый гражданин собирается убить его! Ему и его друзьям все время чудится гибель Парижа. Но если погибнет Париж, то не станет и республики!»
Вдруг чей-то голос произносит имя Кромвеля. «Кто этот мерзавец, осмелившийся сказать, что я похож на Кромвеля?! — восклицает оратор. — Я требую, чтобы этот низкий клеветник был наказан! Я — Кромвель? Но ведь Кромвель был союзником королей! Кто, подобно мне, поразил короля, навсегда становится предметом ненависти всех королей! Так соединитесь же вы, призвавшие гибель тирана, против трусов, хотевших пощадить его! Уничтожьте силой вашей воли всех негодяев, всех аристократов, всех тех, кто оклеветал вас перед департаментами! Пусть у вас не будет более с ними ни мира, ни перемирий, ни соглашений!
Положение, в котором я нахожусь в данную минуту, — заканчивает он свою речь, — показывает вам, что необходимо быть твердыми и объявить войну вашим врагам, кто бы они ни были. Мои стремления направлены к республике, будем же стремиться к ней сообща; увидим, кто достигнет цели: мы или наши клеветники. Я требую, чтобы комиссия Шести, которую вы выбрали по предложению Ласурса, обсудила поведение не только тех, кто нас оклеветал и злоумышлял против единства республики, но и тех, кто пытался спасти тирана».
Дантон, спустившись с трибуны, немедленно попадает в объятия монтаньяров. Слова его стали сигналом к началу борьбы между якобинцами и жирондистами, которую сдерживал только он один.
Кордельеры, якобинцы, Коммуна, все партии с удвоенной энергией разразились проклятиями против жирондистов, старавшихся поселить раздор между Парижем и департаментами. Революционный трибунал, только что учрежденный Конвентом, сетовал на то, что ему еще не пришлось судить ни заговорщиков, ни изменников. На суд немедленно отправили множество аристократов, эмигрантов и генералов из армии Дюмурье, виновных не в соучастии в его измене, а в его поражении.
Опасность, в которой находилось общество, заставило Конвент на время забыть о раздорах, и все, по-видимому, стали единодушны, хотя затаили в сердце честолюбивые замыслы и ненависть, ожидая только удобного случая, чтобы проявить их. С того времени как Дантон произнес речь, партия Марата, чувствуя на своей стороне силу, с каждым днем становилась все смелее. Кумир черни пользовался поддержкой центрального клуба восстания, обратившегося благодаря ему в исполнительную власть анархии и заседавшего в зале архиепископства. Там по предложению Марата для составления революционных воззваний и возмущения предместий собирались члены клуба — люди, для которых бунт сделался ремеслом.
Петион представляет в Конвент одно из этих воззваний, в котором требует убийства некоторых народных представителей. Дантон, забыв всякие приличия, вместе с Фабром д’Эглантином и несколькими членами из партии Горы, взбегает на трибуны, чтобы согнать оттуда Петиона. Депутаты встают со своих мест и, подобно двум потокам, окружают трибуны с двух противоположных сторон. Один жирондист обнажает кинжал. Президент прерывает заседание.
После восстановления порядка Петион требует мщения за оскорбления, нанесенные представителям народа. Но шум и взрывы смеха прерывают его на каждом слове. Давид выходит на середину зала и угрожает Петиону. Тот не смущается, стыдит Конвент, что среди его членов присутствует человек, рядом с которым несколько месяцев назад не хотел никто сидеть, а ныне он пользуется большей благосклонностью, чем лучшие из граждан. Этот человек — Марат!
Дантон сменяет Петиона. «Имеем ли мы право, — говорит он, — требовать от народа большего разума, нежели выказываем сами? Разве народ не имеет права впасть в патриотический бред в то время, когда эта трибуна представляет собой арену гладиаторов? Разве меня самого не осаждали только что на этом самом месте? Разве не сказали, что я хочу быть диктатором? Я требую, чтобы предложение Петиона оставили без внимания. Если Париж негодует, то имеет на это право в особенности касательно тех, кто столько раз клеветал на него, несмотря на заслуги, которые он оказал отечеству».
Тут в негодовании встает депутат Фонфред и поддерживает предложение Петиона. «Я не считаю нескольких человек за народ», — говорит он. Гюаде восклицает: «Не разрешайте нескольким мерзавцам безнаказанно утверждать, будто Конвент можно подкупить!» Встает Робеспьер. «Те, кто утверждает, — говорит он, — что большинство Конвента подкуплено, — безумцы; но те, кто решился бы отрицать, что Конвент не может быть введен в заблуждение шайкой глубоко испорченных людей, — обманщики! Я приподниму немного завесу!..»
При этих словах Верньо требует, чтобы Робеспьера выслушали: «Хоть мы и не приготовили артистической речи, мы все же сумеем ответить и опровергнуть слова этих негодяев!»
Робеспьер яростно нападает на Верньо и его партию и в заключение требует предать их суду. Монтаньяры аплодируют ему. После Робеспьера на трибуну всходит Верньо и с трудом добивается, чтобы его выслушали.
«Я осмелюсь, — говорит он, — возразить Робеспьеру, который искусно придуманными коварными выдумками и холодной иронией хочет посеять новый раздор в Конвенте; я отвечу ему не задумываясь. Мне не надо прибегать, подобно ему, к искусству: с меня довольно моей души. Робеспьер обвиняет нас в том, что мы противились свержению Людовика Капета? Я возражу на это, что я первый заговорил 3 июля с этой трибуны о его свержении, и прибавлю, что моя горячая речь немало способствовала тому, что королевская власть была низвергнута.
Робеспьер обвиняет нас в том, что мы включили в декрет, отрешающий короля от власти, пункт, которым королевскому принцу назначается воспитатель? Семнадцатого августа я встал со своего президентского кресла около девяти часов утра, чтобы в течение десяти минут составить декрет о свержении короля. Мне кажется, что я был введен в заблуждение мотивами, на основании которых включил этот пункт. Робеспьеру, из предосторожности скрывавшемуся в то время в каком-то погребе, не подобает осуждать меня так строго за минутную слабость. Ведь в то время, когда я наскоро составлял проект декрета, победа склонялась то на сторону народа, то на сторону дворца. Назначение воспитателя королевскому принцу в случае победы тирана окончательно разлучало отца с сыном и отдавало его в качестве заложника народу.
Затем Робеспьер обвиняет нас в том, что мы восхваляли Лафайета и Нарбонна. Но Гюаде и я, несмотря на ропот Законодательного собрания, ополчились на Лафайета, когда он вздумал разыграть роль маленького Цезаря.
Робеспьер обвиняет нас в том, что мы объявили войну Австрии. В то время решать вопрос — воевать нам или нет, не приходилось: война уже была объявлена.
Говорят, что мы оклеветали Париж. Робеспьер и его друзья одни оклеветали этот славный город. Мысль моя всегда с ужасом останавливалась на прискорбных событиях, запятнавших революцию; но я всегда утверждал, что в этом виноват не народ, а несколько негодяев, хлынувших сюда со всех концов республики, чтобы жить грабежом и убийством в городе, громадные размеры и волнения которого открывают обширную арену для их преступной деятельности. Чтобы охранить народ от позорной славы, я требовал отдать их законной власти.
Мы хотели бежать из Парижа, заявляет Робеспьер, сам собиравшийся бежать в Марсель.
Робеспьер обвиняет нас в том, что мы подали голос за апелляцию. Разве не из-за него я должен был отказаться от мысли, которую считал хорошей и которая могла бы, в случае осуществления ее, предохранить народ от войны, пугавшей меня своими бедствиями?
И мы — интриганы и заговорщики! Это мы-то — умеренные?! Я не был умеренным 10 августа, Робеспьер, когда ты прятался в погреб! Нет, я не из числа тех умеренных, которые хотят подавить народную энергию. Обязанность законодателя — насколько возможно предупреждать мудрыми советами бедствия, причиняемые революцией, и если для того, чтобы оставаться патриотом, придется объявить себя защитником насилия и убийств, то — да! — я умеренный!
Со времени упразднения королевской власти я слышал много разговоров о революции, и я сказал себе: „Возможны только два вида революций: революция, касающаяся собственности или земельного закона, и революция, которая снова приведет к королевской власти“. Я твердо решился бороться с той и другой. Если это значит быть умеренным, то — да! — я умеренный…»
Ответив таким образом обвинителям, Верньо, перейдя к предложению Петиона, продолжал: «Вы распорядились в декрете, чтобы принимавшие участие в деле 10 марта были преданы революционному суду. Сколько же голов скатилось? Ни одной. Какой заговор был пресечен? Никакой. Вы приказали освободить одного из виновных, чтобы его могли выслушать как свидетеля: это равносильно тому, как если бы римский сенат повелел Лентулу явиться свидетелем в деле Катилины. Вы призвали к ответу членов центрального комитета восстания. Повиновались ли они? Явились ли? Итак, кто же вы?
Граждане! Если бы вы были простыми людьми, я спросил бы вас: „Вы трусы? В таком случае отдайтесь течению событий, ожидайте спокойно, пока вас прогонят или убьют, и объявите, что сделаетесь рабами первого явившегося к вам разбойника, который вздумает заковать вас в цепи!“ Вы ищете единомышленников Дюмурье? Вот они! Вот же они! Эти люди хотят так же, как и Дюмурье, уничтожения Конвента; эти люди так же, как и Дюмурье, хотят короля, и это нас-то называют единомышленниками Дюмурье! А между тем все забыли, что мы постоянно указывали на существование заговора в пользу Орлеанов! Вы забыли, что во время бурного заседания, длившегося в течение восьми часов, именно мы настояли на издании приказа, которым все Бурбоны изгонялись из республики!
Я ответил на все обвинения и уничтожил Робеспьера; теперь я спокойно буду ждать, чтобы народ решил, кто прав: я или мои враги! Граждане, я прекращаю этот спор, столь тягостный для меня и губительный для народного дела; я думал, что измена Дюмурье приведет к счастливому исходу, соединив нас всех чувством общей опасности; я думал, что вместо того, чтобы ожесточиться и стремиться погубить друг друга, мы должны стараться спасти отечество. Вследствие какого рокового стечения обстоятельств представители народа беспрерывно обращают это место в очаг клеветы и борьбы страстей? Пусть этот день будет последним днем, который мы проводим в постыдных пререканиях!»
Эта речь, облегчившая душу Верньо, привлекла на его сторону большинство умеренных; Париж и вся Франция повторяли ее в течение нескольких дней. Гюаде, подобно Верньо, тоже решил защитить себя от обвинения в заговоре Дюмурье, сообщив, что встречался с генералом в людных местах всего несколько раз, и то мельком. «А вот кого постоянно видели рядом с Дюмурье во всех общественных собраниях Парижа? — заявил он. — Кто был всегда и всюду вместе с ним? Ваш Дантон!..»
При этих словах Дантон вскакивает с места как ужаленный: «А! Ты меня обвиняешь, меня?! Ты не знаешь моей силы! Я буду возражать тебе, я докажу твои преступления! В Опере я сидел в ложе, соседней с Дюмурье, а не в его; а ты был там, ты!» Гюаде как ни в чем не бывало продолжает: «Дантон, Фабр д’Эглантин, генерал Сантерр составляли двор генерала Дюмурье; а ты, Робеспьер, обвиняешь нас в том, что мы действовали заодно с Лафайетом! Где ты был в тот день, когда его несли во всем блеске его могущества из Тюильрийского дворца в этот зал под восторженные клики? Я один взошел на трибуну и обвинил его, не тайно, как ты, а открыто; и ты, вечный клеветник, все-таки обвиняешь меня в злоумышлении; ты говоришь, что заговор, в котором якобы мы принимаем участие, составляет цепь, начальное звено которой находится в Лондоне, а последнее — в Париже, и что звено это золотое! Пойдемте, мои обвинители, в мой дом, пойдемте, и вы увидите, что моя жена и дети питаются одним хлебом, как нищие».
Гюаде убедительно доказывает, что измена Дюмурье выгодна лишь Орлеанскому принцу. «Но, — спрашивает он, — кто же душа заговора 10 марта? Кто составил его? Граждане! У меня хватит смелости сказать всю правду прямо: это Робеспьер! В то время как этот новый Магомет облекал такой таинственностью имена жертв, которых следовало поразить, его [военачальник] Омар называл их в своих листках, а другие брали на себя обязанность убивать их. Граждане, неужели вы думаете, что если вы до сих пор избегали этой опасности, то она вам уже не угрожает? Разочаруйтесь в этом и слушайте…»
Гюаде читает Конвенту воззвание якобинцев к своим собратьям: «К оружию! — пишут они, к оружию! Нас обманули! Самые грозные враги ваши среди вас, контрреволюция гнездится в правительстве и в Национальном собрании; там, в центре вашего оплота, преступные представители держат в руках нити заговора, в который они вступили с ордой деспотов, готовых убить нас; но негодование уже овладело вами. Пойдемте, республиканцы, вооружимся!»
«Все это правда!» — восклицает Марат. При этих словах правая сторона и центр встают в сильном негодовании и громкими криками требуют, чтобы Марат был обвинен. Марат, видя поддержку в молчании Горы и одобрении трибун, взбегает на трибуну, старается быть услышанным. Но крик трехсот голосов заглушает его.
На другой день Конвент поставил на голосование вопрос об обвинении Марата; за обвинение высказались двести двадцать голосов против девяноста двух. Марата, вышедшего из залы в сопровождении большого числа кордельеров, однако не арестовали и не отвели в Аббатство. Никто не решился коснуться народного кумира, а на следующий день огромная толпа на руках внесла его в Конвент. Оратором от секций выступил молодой человек, получивший от Дантона специальные наставления. «Мы явились сюда, — сказал он, — чтобы требовать мести изменникам, позорящим народных представителей. Народ преследовал изменников, сидевших на троне, почему же он должен оставить безнаказанными тех, которые находятся в Конвенте? Неужели храм свободы уподобится убежищам в Италии, где скрываются преступники, чтобы избежать наказания? Неужели республика отказалась от права очистить народное представительство?»
Робеспьер продолжал каждый вечер развивать перед якобинцами свою теорию социальной философии, применения которой он требовал в конституции. Таким образом благодаря ему якобинцы сделались вдохновителями Конвента. Декларация прав, послужившая основой конституции 91-го года, расширенная Робеспьером, должна была послужить основой для новой конституции.
В социальных истинах, изложенных Робеспьером, так же как и у Руссо, врожденные побуждения человека вылились в законные права, охраняемые обществом. Это было нравственное и разумное общество вместо эгоистического и тиранического; государство превращалось в единую семью. Какой-то верный инстинкт подсказал Робеспьеру и его сторонникам остановиться именно на этом проекте организации общества, который мог быть приведен в исполнение немедленно. Подобно архитекторам древности, которые, строя новый храм богам, всегда оставляли во вновь строящемся здании часть стены или несколько столбов старой постройки, Робеспьер сохранил традиции прежнего общества и в новом. Но он пошел так далеко, насколько только могла пойти реформа. Он дошел чуть не до утопии, поставив Бога источником и порукой всех прав. С первых же его слов становилось видно, что он вознесся до высшей истины, чтобы извлечь из нее второстепенные. Для того чтобы опровергнуть его доктрины, пришлось бы опровергнуть Бога.
«Национальный Конвент, — говорил он, — провозглашает перед всей Вселенной и перед лицом бессмертного Законодателя следующую декларацию прав человека и гражданина:
Ст. 1. Цель всякой политической ассоциации — охрана естественных и неотъемлемых прав человека и расширение их.
Ст. 2. Основное право человека — заботиться о своем существовании и охранении своей свободы.
Ст. 3. Это право равно принадлежит всем людям, независимо от их физических и умственных сил. Равенство прав установлено природой.
Ст. 5. Закон может запрещать только то, что вредно для общества, и предписывать только то, что служит ему на пользу.
Ст. 12. Помогать неимущим — долг богатого; закону предоставляется определить способ, каким образом этот долг должен быть уплачен.
Ст. 18. Закон равен для всех.
Ст. 19. Все граждане могут занимать всякие должности сообразно своим нравственным качествам и способностям.
Ст. 20. Все граждане пользуются равными правами при назначении народных уполномоченных и при издании законов.
Ст. 25. Сопротивление притеснению вытекает из прав человека и гражданина: над всем обществом производится насилие, если притеснен хоть один из его членов.
Ст. 34. Все люди — братья, и народы должны помогать друг другу по мере своих сил, так же как и граждане одного государства.
Ст. 35. Тот, кто притесняет хоть одну нацию, — враг всех остальных.
Ст. 37. Короли, аристократы, тираны, кто бы они ни были, — возмутившиеся рабы против владыки земли, человеческого рода, и против законодателя Вселенной — Природы».
Эта декларация представляла собой скорее собрание нравственных правил, нежели кодекс законов правления; однако она объясняла сам дух совершавшегося движения. Революция, несмотря на ее преступления, велика тем, что она есть догмат. Ее вожди в то же время стали и ее апостолами. Ее лозунги оказались так высоки, что если бы не рука, запятнанная кровью, которая их начертала, то их можно было бы приписать гению Сократа или милосердию Фенелона. Потому-то теории революционных движений возрождаются и живут и будут жить при всяком стремлении человека к свободе. Они были осквернены, но остались священными. Если вы очистите их от крови, проглянет истина.
XL
Торжество Марата — Памфлет Камилла Демулена — Арест герцога Орлеанского — Комиссия Двенадцати — Арест Эбера — Упразднение комиссии Двенадцати
Обсуждения проектов новой конституции, открыв Конвенту перспективы человеческого счастья, успокоили на несколько дней мятежные души. Расходясь во взглядах на настоящее положение вещей, Верньо, Робеспьер, Кондорсе, Дантон и Петион сходились относительно будущего. Волнения среди жирондистов, якобинцев и кордельеров улеглись, и они предстали перед Собранием с прояснившимися лицами. Даже Дантон, менее всех государственных деятелей склонный к иллюзиям, с упоением устремлял взоры вдаль и отдыхал после пролитой крови. «Это утешает меня, — говорил он, выходя с заседаний. — Никто не знает, как дорого достается торжество какого-нибудь учения людям, которые завещают его потомству».
Но идиллия продолжалась недолго.
Двадцать четвертого апреля Марат предстал перед Революционным трибуналом. Смелость его осанки, вызывающий взгляд, которым он смотрел на своих судей, толпа, сопровождавшая его до самых дверей, приветственные крики народа, теснившегося вокруг здания суда, заранее обязывали присяжных признать его невиновным, что и было исполнено. Кордельеры и предместья, которые распоряжались на суде, заранее подготовили торжество. Четыре человека подхватили оправданного Марата и высоко подняли над головами, чтобы показать его толпе, затем отнесли «друга народа» на эстраду, на которой возвышалось в виде древнего трона кресло. Женщины увенчали его лавровыми венками. Марат разрешил это без возражений: «Так народ, — воскликнул он, венчает себя! Пусть все головы, возвышающиеся над народом, падут от моего голоса!»
Шествие направилось к Конвенту с криками: «Да здравствует „друг народа“!» Депутации от ремесленных цехов ожидали Марата на мостах, на площадях и при входе на главные улицы. После каждой остановки эти группы примыкали к толпе, шедшей впереди или следовавшей за носилками, на которых восседал Марат. В окнах домов стояли женщины, осыпавшие голову триумфатора целым дождем лент, венков и цветов. «Друзья мои, пощадите мою чувствительность! — восклицал Марат. — Я сделал слишком мало для народа, я могу отплатить ему, только отдав свою жизнь!»
Оправданный злодей, голову которого покрывали венки, а плечи, руки, туловище и ноги опутывали гирлянды зелени, буквально утопал в цветах. Едва можно было разглядеть его черный поношенный сюртук, грязное белье, обнаженную грудь и длинные пряди волос, свисающие на плечи. Руки его беспрестанно двигались, точно он хотел обнять толпу. Равномерное покачивание головой и это движение рук придавали всей его фигуре нечто принужденное и механическое, близкое к безумию, заставлявшее постороннего зрителя недоумевать, что он видит: пытку или триумф. Это была судорога народа, олицетворенная Маратом, способная скорее внушить отвращение к восторгу толпы, нежели возбудить зависть Робеспьера или Дантона.
Толпа вышибла двери Конвента. Заседание было прервано.
Марат, которого на руках донесли до трибун под аплодисменты галерей, долго и тщетно пытается жестами прервать крики, заглушающие его голос. Наконец он добивается тишины.
«Законодатели французского народа, — говорит он, — сегодня возвращен народу один из его представителей. Перед вами стоит гражданин, на которого возвели обвинение и которого только что оправдали. Он будет продолжать изо всех сил отстаивать права человека и права народа!» При этих словах толпа машет в воздухе шляпами. Дантон, делая вид, что разделяет энтузиазм толпы по отношению к ее идолу, требует, чтобы триумфальному шествию Марата воздали должное в Собрании. Марат с венком в руке поднимается на верхние скамейки, занимаемые Горой, и садится рядом со свирепым Армонвилем. «Теперь, — говорит он громко группе депутатов, поздравляющих его, — я держу в руках жирондистов и сторонников Бриссо; они тоже пройдут с триумфом, но только на гильотину!» Дерзкая выходка Марата вызывает в зале улыбку презрения, Робеспьер только пожимает плечами. Тогда Марат окидывает его вызывающим взглядом и называет «подлым злодеем». Робеспьер притворяется, что не слышит.
Когда Марат вышел из Конвента, его опять пронесли по главным улицам Парижа, а под колоннами рынка устроили пиршество. Затем Марата проводили в клуб кордельеров. Там Марат обратился к толпе с длинной речью и пообещал ей много крови.
Но его кровожадная душа уже сжигала его тело. Этот день славы и власти вызвал лихорадку, окончательно изнурившую его. Хоть болезнь и не остановила его работу, но часто удерживала его в постели. Дверь его дома день и ночь осаждали доносчики, рука его, уже холодевшая, прибавляла все новые и новые имена к списку приговоренных, постоянно лежавшему на его постели.
Этот день, показавший народу его силу, Конвенту — его зависимость, жирондистам — их бессилие, заставил последних принять крайние меры. Успехи вандейцев, отбросивших республиканцев вдоль всего левого берега Луары; раздел Франции, который открыто обсуждался генералами и уполномоченными держав на военном совете в Анвере; отступление Кюстина под Ландо перед ста тысячами немецких конфедератов; блокада Майнца и возникшее вследствие этого бездействие двадцатитысячной отборной Рейнской армии, находившейся в его стенах; одновременное нападение на три лагеря, находившиеся под началом Сервана; волнения, готовые разразиться в Лионе и принять огромные масштабы; Марсель, возмущенный оскорблением, которое нанес парижский люд федератам; Барбару, набравший новые батальоны, чтобы отомстить за павших сыновей Республики; голодающие у дверей булочных; газетные листки, полные желчи; гильотина, побуждавшая народ к требованию новой крови вместо того, чтобы насытить его мщение, — все это приводило население Парижа к крайнему раздражению. Отчаяние идет рука об руку с преступлением. Народ, чувствуя, что погибает, хотел отомстить хоть кому-нибудь за свою гибель, а якобинцы направляли его месть против жирондистов. Кража из королевской сокровищницы, откуда деньги и бриллианты, как говорили, перешли в руки Ролана и в ларцы его жены, придавала народному негодованию налет личного оскорбления.
Даже в Конвенте прения приняли характер словесного боя. Когда по поводу погребальных почестей, возданных Коммуной Лазовскому, Гюаде осмелился сказать, что потомство когда-нибудь удивится тому, какие от имени нации были возданы почести человеку, в ночь на 10 марта желавшему пойти во главе грабителей разрушать здание Конвента, Лежандр бросился вперед с намерением возразить Гюаде. Ропот, поднявшийся в центре, не разрешил ему взойти на трибуну.
На другой день молодой Дюко постарался объяснить Конвенту, какой вред может повлечь за собой объявление «максимума» цен на зерно: топот, угрожающие жесты, крики присутствовавших заглушили его голос и принудили сойти с трибуны.
«Граждане, — вскричал тогда Гюаде, — раз национальное представительство унижено, значит, оно уже не существует. Пора прекратить эту борьбу между целой нацией и горстью бунтовщиков, прикидывающихся патриотами. Я требую, чтобы Национальный Конвент объявил, что в понедельник его заседание будет происходить в Версале!» При этом предложении жирондисты и часть депутатов встают и кричат: «Вперед! Спасем достоинство и свободу народных представителей от кинжалов парижан!»
Марат, сидевший в этот день на самой верхней из скамеек, спускается вниз с величественным жестом примирителя. Он боится, чтобы предложение жирондистов не лишило Конвент непосредственного влияния на толпу. «Предлагаю самую решительную меру, — говорит он, — которая может успокоить все подозрения. Назначим цену за головы всех бежавших Бурбонов и изменников, включая Дюмурье. Я уже требовал казни Орлеанов; повторяю свое предложение: требую, чтобы государственные мужи довели до конца дело об эмигрировавших Капетах, как патриоты довели до конца свое требование смерти тирану!»
«Я не поддерживаю и не отвергаю это предложение Марата, — отвечает Бюзо. — Я вижу, как хотят отвлечь наше внимание от предложения Гюаде. В общественных местах, на наших улицах, у наших дверей, на наших трибунах — что слышим мы? Крики бешенства! Что видим мы? Отвратительные лица людей, запятнанных кровью и преступлениями. Когда вы спрашиваете о причинах беспорядков, над вами смеются. Когда вы требуете применения законов, смеются и над вами, и над вашими законами. Когда вы наказываете одного из вашей среды, его несут с триумфом, чтобы поднять вас на смех. Взгляните на это общество якобинцев, слава о котором будет жить вечно: едва ли тут наберется тридцать его настоящих основателей. Среди них вы видите только людей, запутавшихся в долгах, и преступников».
После этого оскорбительного вызова Гора встает как один человек и выступает против Бюзо. «Мы все якобинцы!» — единодушно кричат двести голосов. Депутат Дюран де Майан не обращает внимания на этот грозный крик и сообщает Конвенту, что, когда последний курьер приехал от имени парижских якобинцев в клуб в Марселе, этот клуб назначил цену за головы пяти марсельских депутатов, которые требовали апелляции по поводу осуждения короля: десять тысяч ливров первому же убийце. Шум в Собрании удваивается. Одни требуют, чтобы поставили на голосование предложение перейти в Версаль, другие — чтобы приступили к обсуждению подлой трусости жирондистов.
Дантон, с некоторых пор старавшийся избегать крайних мер, пытается успокоить спорящих. «Мы все полагаем, — говорит он, — что народное достоинство требует, чтобы граждане оказывали уважение депутату, являющемуся выразителем мнения народа, и мы все согласны, что в данном случае ему не было оказано должного уважения, а правосудие обязано покарать только виновных. Вы хотите быть в одно и то же время жестокими и справедливыми? Тогда…» Нетерпение Горы и негодование жирондистов не дают Дантону закончить, он вынужден сойти с трибуны. Но, сходя, Дантон делает знак публике, и трибуны, которые занимает народ, пустеют. Добровольное удаление виновных уничтожает предлог к распре и повод требовать их наказания.
Несколько дней спустя Камилл Демулен обнародовал один из самых колких своих памфлетов. Ролан, Петион, Кондорсе, Бриссо были изображены в нем в самом безобразном виде. Даже госпожа Ролан, в то время уже находившаяся в изгнании и преследуемая, изображалась в виде кровожадной куртизанки. Властолюбие, лихоимство, союзы с чужеземцами, стремление восстановить королевскую власть — таковы были преступления, существование которых Камилл Демулен старался доказать посредством вымышленных им фактов. Эту карикатуру сочли манифестацией Горы против господствующей партии. Напечатанная за общественный счет в количестве, превышавшем сто тысяч экземпляров, она заключала в себе обращение к гражданам всех департаментов и моментально распространилась по улицам Парижа. Камилл Демулен, достаточно умный, чтобы восхищаться жирондистами, но слишком робкий для того, чтобы подражать им, стал игрушкой низких страстей, которые овладевают даже лучшими из людей. Льстя одному за другим всем временщикам и затем ругая их, он перешел из кабинета Мирабо и тесного кружка Петиона к ужинам Дантона и прихлебательству у Робеспьера. Пасуя в Конвенте перед мощным голосом Верньо, он возвышал свой голос на улице, призывая смерть на голову оратора.
Народ, верящий на слово всему дурному, подозревающий тем более, чем менее ему известна истина, обрадовался, когда смог наконец взвалить на жирондистов причину всех бед. Герцог Орлеанский разделил с ними их непопулярность. Час испытать человеческую неблагодарность уже пробил для этого принца. Поводом к изгнанию выставили бегство его сына, вовлеченного Дюмурье в заговор. Герцог безропотно подчинился декрету. Предвидел ли он заранее, как будут оценены его заслуги, понял ли свое ложное положение в республике, служа которой вызывал в ней смуты, или ум его, утомившийся от треволнений, дошел до полной бесчувственности, но только герцог Орлеанский не выказал ни слабости, ни удивления, узнав о предательстве депутатов Горы. Он удалился в сопровождении двух жандармов в свой дом, теперь обратившийся в тюрьму.
Вскоре после этого его привезли в темницу Аббатства, а оттуда в Марсель, в крепость Нотр-Дам де ля Гард, вместе с сыном, юным графом Божоле, герцогиней Бурбон, его сестрой, и принцем Конти, его дядей. Единственное исключение в декрете было сделано для герцогини Орлеанской, уже давно жившей отдельно от мужа.
Прибыв в Нотр-Дам де ля Гард, герцог Орлеанский встретился там со вторым своим сыном, юным герцогом Монпансье, который был арестован в один день со своим отцом, когда находился под республиканскими знаменами в Итальянской армии. Отец и оба сына обнялись в темнице ровно через год после встречи в лагере Дюмурье в день Жемаппской победы. Одного лишь герцога Шартрского недоставало для довершения зрелища превратностей судьбы; но он уже скрывался в это время под чужим именем за границей. Единственная дочь герцога Орлеанского, разлученная с матерью и имевшая покровительницу только в лице госпожи Жанлис, скиталась по берегам Рейна, вскоре достигла Немецкой Швейцарии и поселилась там под чужим именем.
Герцог Орлеанский смотрел на свое личное несчастье и на то, как разбрелась по свету его семья, с хладнокровием стороннего зрителя. На четвертый день заключения администраторы крепости и офицеры национальной гвардии вошли в комнату герцога, когда он завтракал со своими детьми, и объявили, что получен приказ перевести герцога Монпансье в другую половину тюрьмы. «Что касается вашего младшего сына, — сказал офицер, — то вследствие его юного возраста ему разрешено оставаться при вас, но запрещается видеться с братом». Принц тщетно протестовал против этого варварского распоряжения. Герцога Монпансье, заливавшегося слезами, вырвали из объятий отца и увлекли на другой этаж крепости.
После первого допроса они были переведены в крепость Сен-Жан, ужасную тюрьму, находившуюся на окраине Марселя. Три комнаты, расположенные одна над другой, служили местом заключения принцу и обоим его сыновьям. Младшему было позволено несколько часов в день дышать свежим воздухом на прогулке под наблюдением двух сторожей. Отправляясь на прогулку, юноша проходил мимо помещения, которое занимал его брат. Тогда герцог Монпансье прикладывал лицо к двери и они поспешно обменивались несколькими словами через замочную скважину. Однажды, возвращаясь с проулки, граф Божоле увидел, что дверь комнаты брата отворена. Юноша одним прыжком очутился в ней, вырвавшись из рук своих сторожей, и те с трудом смогли оторвать его от брата. Тогда приняли строгие меры против неожиданных проявлений нежности, как они принимаются против заговоров злоумышленников. Одному было тринадцать лет, другому — восемнадцать.
Отец не мог ни видеть, ни общаться с ними. Желание лицезреть принца крови, одновременно зачинщика и жертву революции, постоянно привлекало все новых посетителей в его темницу. Герцог, которого более тяготило одиночество, нежели заключение, и который постоянно находился под гнетом своих дум, не старался избегать взоров и вопросов любопытных. Каждый из них, казалось, облегчал ему тяжесть времени.
Однажды он услышал голос одного из сыновей. «А! Монпансье! — крикнул он ему из своей камеры. — Это ты, мое бедное дитя! Какое облегчение слышать твой голос!» Сын слышал, как отец вскочил со своего ложа и молил тюремщика позволить ему взглянуть на своих детей; но ему было отказано в этой милости, дверь, сквозь которую отец и сын обменялись вздохом, затворилась навсегда.
Между тем час от часу увеличивалась реальная опасность, грозившая республике. Вандея восстала, подняв контрреволюционное знамя. Сантерр повел парижские батальоны прекратить гражданскую войну. Кюстин, отступивший к Ландау, с трудом мог прикрыть границу по Рейну. Вюрмсер и принц Конде осадили Майнц, Марсель и Бордо. Лион и Нормандия волновались.
Петиция, присланная из Бордо, дала Горе и Жиронде возможность помериться силами на заседании 14 мая. «Законодатели, — говорил оратор от Бордо, — Жиронда видит опасность, угрожающую ее депутатам. Она знает, что двадцать два ее представителя приговорены к смерти. Национальный конвент и вы, парижане, спасите представителей народа или мы все бросимся в Париж! Мы все скорее погибнем, чем подчинимся власти разбойников и убийц!»
Лежандр возмутился этой «петицией, подсказанной вероломными депутатами, которые, не получив ни одной царапины, жалуются, что их хотят убить».
Гюаде заявил: «Я взошел на трибуну не для того, чтобы защищать депутатов от Бордо; они не нуждаются в защите! Если вы не отправите на эшафот горсть убийц, замышляющих все новые и новые преступления против представителей народа, то департаменты нападут на Париж!» — «Тем лучше! — послышались голоса Горы. — Нам только того и надо!» — «Вчера, — продолжал Гюаде, — якобинцам предложили, прежде чем отправиться в Вандею, истребить всех нас, и это предложение убийц встретили аплодисменты. Говорят уже о том, что пора положить конец республике! Неужели вы думаете, что департаменты будут спокойно смотреть, как их представители падут от руки убийц? И от нас требуют, чтобы мы заранее показали свои раны? Но Каталина именно так ответил Цицерону: „Покушаются на вашу жизнь? Но ведь все вы живы!“ И что же? Цицерон и сенаторы пали под ударами убийц в ту же самую ночь».
Огромным большинством голосов президентом был избран Инар, человек крайностей, невоздержанный во взглядах и речах. Верньо с сокрушением смотрел на это избрание. Он хотел поставить между двумя крайними партиями Конвента здравомыслящее большинство, проникнутое патриотизмом, способное ослабить удары, которые собирались нанести друг другу крайние партии. Каждый день президента Инара был ознаменован бурей и кончался катастрофой.
В первый день, во время заседания 9 мая, секции города Парижа потребовали освобождения некоего Ру, противозаконно арестованного по приказанию революционного комитета. «Партия приверженцев государственного переворота, — восклицает Марат, — хочет поддержать в лице этого человека контрреволюционеров!» — «Что же, наконец, мы такое, — возражает Мазюйе, — свободная республика или деспотия? Без суда и следствия, среди ночи, арестовали гражданина у его очага, и мы потерпим это?» Отдается приказ освободить Ру. Лежандр требует, чтобы это постановление поставили на голосование, тогда народ узнает покровителей заговорщиков. Президент Инар противится этому и объявляет заседание закрытым. Два часа продолжается сильное волнение, не смолкают крики на Горе и в трибунах. Верньо требует, чтобы заседание распустили, а копии протокола отправили в департаменты.
Кутон, заместитель Робеспьера, хочет говорить со своего места. Жирондисты противятся этому, но Кутон объясняет, что вследствие болезни ног не может подняться на кафедру. Жирондисты не желают сжалиться над его недугом. Тогда депутат Мор, человек атлетического телосложения, поднимает Кутона на руки и относит его на трибуну. Присутствующие аплодируют. «Меня обвиняют в том, что я анархист и взволновал свой департамент, — говорит Кутон. — Ах! Если бы единственные виновники ужасов, которые здесь происходят, были так же искренни и чисты, как я, они тотчас взошли бы на трибуну и отдали бы себя на суд своих департаментов, подав вместе со мною в отставку». Кутона под гром аплодисментов переносят на его место.
Верньо, долго сидевший молча, наконец встает. Он доказывает, что арестованный был заключен под стражу вопреки всем законам. «Что же касается доктрины Кутона о большинстве и меньшинстве, — прибавляет Верньо, — то он ошибается. Впрочем, я не признаю постоянного господства большинства: по-моему, оно должно быть там, где разум и истина; место ему не намечено ни справа, ни слева; но где бы оно ни находилось — преступно восставать против него. Кутон говорит: „Предположим, что большинство составляют негодяи“, а я говорю: „Предположим, что из негодяев состоит меньшинство“, и это предположение столь же вероятно, как и первое. Предположим, что меньшинство жаждет власти, господства, добычи; предположим, что оно хочет основать свое могущество на беспорядке и анархии. Не очевидно ли, что большинство в таком случае не имеет средства оградить свободу от насилия и мало-помалу может перейти к триумвирам и даже к королевской власти? Кутон требует, чтобы те, кого считают виновниками междоусобиц, подали в отставку. Граждане, мы все прикованы к нашему посту данными нами клятвами и опасностью, в которой находится отечество. Те, кто удалились бы только ради того, чтобы избежать подозрений, поступили бы как трусы!»
Ночь прекратила грозу. На следующем заседании она возобновилась. Гора продолжала настаивать на том, что во всех вопросах меньшинство имеет право требовать голосования. «Когда в Англии, — говорил Гюаде, — хотели распустить Долгий парламент, пустили в ход такие же меры: меньшинство превозносили над большинством, чтобы оно одержало верх. И вы же знаете, что произошло? Меньшинство действительно победило большинство! Оно призвало себе на помощь „чрезвычайных патриотов“, дикую толпу, которой обещало разрешить грабеж и раздел земель. Мясник Прайд (вспомните Лежандра) его именем очистил парламент. Сто пятьдесят членов были изгнаны, а меньшинство осталось господствовать над государством. Эти „чрезвычайные патриоты“, орудие Кромвеля, в свою очередь оказались изгнаны им. Однажды он явился в парламент и обратился к этим мнимым спасителям отечества. „Ты вор“, — сказал он одному из них; „Ты пьяница!“ — сказал он другому; „Ты обогатился за общественный счет! Ты посещаешь предосудительные места! Убирайтесь! Уступите место порядочным людям“. Они удалились, а Кромвель стал править государством! Граждане! Подумайте: разве нас не хотят заставить разыграть во Франции этот последний акт английской истории?»
Гюаде среди глубокой тишины зачитывает три декрета, предложенных жирондистами, которые должны начать атаку против Коммуны и снова подчинить государство закону. «Представители власти в Париже пали. Муниципалитет через двадцать четыре часа будет заменен представителями секций. Наконец, выборные от Собрания поедут в Бурже, чтобы образовать парламент там, где могут сосредоточиться представители революционной власти, как только услышат о покушении на свободу Конвента».
При чтении этих постановлений Колло д’Эрбуа восклицает: «Наконец-то заговор разоблачен самими зачинщиками его!» Барер, человек крайне фальшивый, начинает выступать в качестве представителя Комитета общественного спасения. «Это правда, — говорит он, — что в департаментах имеется план начать смуты с целью ниспровергнуть республику, но в нем принимает участие одна только аристократия. Это правда, что Шометт и Эбер аплодировали предложению Коммуны распустить Конвент. Это правда, что избиратели, собравшиеся в количестве восьмидесяти четырех человек в Архиепископстве, обсуждают средства очистить национальное собрание. Мы уже предупредили об этом парижского мэра Паша. Наконец, верно и то, что люди, собравшиеся в известном месте, изыскивают средства погубить двадцать два члена Конвента. Все это, конечно, заслуживает вашего внимания и должно вызвать вашу бдительность». Правая сторона аплодирует. Но Барер, обратившись к Горе, продолжает: «Что же, однако, предлагает вам Гюаде? Уничтожить власть в Париже! Если бы я желал анархии, я поддержал бы это предложение. — Этим словам в свою очередь аплодирует Гора. — Вы дали мне возможность увидеть вблизи этих представителей власти. И что же я увидел? Слабые и малодушные департаменты, секции, которые управляются самостоятельно, подобно маленьким муниципалитетам, общинный совет Коммуны, где заседает человек по имени Шометт, гражданские добродетели которого мне неизвестны, но я знаю, что раньше он был монахом. Я видел Коммуну, произвольно толкующую и применяющую законы и создавшую революционную армию. Какое средство можно употребить для исправления такого положения дел? Комитет общественного спасения видит единственное средство — образовать комитет из двенадцати выбранных из вашей среды членов, которым должно быть поручено принятие мер, необходимых для общественного спокойствия, и проверка действий Коммуны».
Эта речь успокоила волнение, отсрочив приведение в исполнение предложений Гюаде, но в то же время оставив жирондистам уверенность в победе благодаря избранию двенадцати комиссаров из их числа.
Как только в Париже узнали о победе, одержанной жирондистами в Конвенте, во всех секциях и клубах поднялся крик. Коммуна собралась 19-го. На заседании громко обсуждались самые крайние меры. Конвент объявили порабощенным и не способным спасти отечество; предложили арестовать подозрительных лиц, потребовали голов двадцати двух жирондистов; решились даже предложить ночное убийство и устранение по одиночке этих тиранов как законную меру, необходимую для народного блага. Один оратор привел в пример Варфоломеевскую ночь. «В полночь, — сказал он, — Колиньи разгуливал при дворе, а в час ночи его уже не было в живых!» Разошлись, ничего не решив, если не считать решимости отомстить.
Комиссия Двенадцати, ежечасно извещаемая о настроении умов, изыскивала меры одним ударом положить конец волнениям. Но все меры казались ненадежными. Комиссия требовала от мэра Паша одного предписания за другим и даже сама готовила доклад Конвенту, чтобы заставить мэра действовать решительно. Но в подобных обстоятельствах трусливые по природе люди желают, чтобы им помогали, а не требовали помощи от них. К ним надо являться уже после победы, и они всегда одобрят ее. До и во время сражения они способны только мешать.
Собрание готовится поставить на голосование первый параграф проекта постановления, подготовленного комиссией Двенадцати: «Конвент принимает под свою защиту добрых граждан и народное представительство Парижа». Дантон медленно всходит по ступеням трибуны и старается под притворным хладнокровием скрыть свою нерешительность. «Этот параграф, — говорит он, — не заключает в себе ничего дурного. Конечно, народное представительство должно находиться под охраной нации, но ведь об этом и так говорят законы. Постановить то, что вам предлагают, значит объявить себя трусами! Неужели Конвент может объявить республике, что им овладел страх? Париж оклеветали! Берегитесь, чтобы, образовав комиссию, долженствующую раскрывать заговоры, которые составляются в Париже, вас не заставили затем образовать вторую, чтобы обнаруживать преступления тех, кто волнует умы в департаментах!»
Встает Верньо. «Я буду говорить, — сказал он, — с не меньшим хладнокровием, чем Дантон, хоть и хочу убедить людей, намеревающихся казнить меня, что не страшусь их! Дантон сказал, что не следует клеветать на Париж, поверив в существование заговора. Если эти слова относятся ко всему Конвенту, то это клевета! Если они относятся только к тем, кто, подобно нам, не переставали повторять, что надо отличать граждан Парижа от кучки негодяев, — да, в таком случае оклеветали Париж, но кто? Негодяи, которые для того, чтобы быть уверенными, что их не постигнет кара за их преступления, имели нахальство влиять на народ! Как люди, мы не должны думать о своих жизнях; но, как представители народа, вы несете обязательство перед отечеством, которому грозит опасность, принять чрезвычайные меры предосторожности. Не тот страшится, кто защищается против убийцы, а тот, кто предоставляет ему победить и торжествовать».
Собрание, наэлектризованное этими словами, принимает декрет, предложенный комиссией Двенадцати.
Жирондисты поспешили воспользоваться оружием, которое только что получили. В девять часов вечера Эбер, один из членов Коммуны, получил приказ явиться на заседание комиссии. Прежде чем исполнить приказание Конвента он летит в совет Коммуны и пытается возбудить ее негодование против новой тирании. Он напоминает своим соратникам, что они дали клятву считать удар, нанесенный одному из них, покушением на всех остальных. Он выходит, снова возвращается, обнимает Шометта, как человек, идущий на смерть. Президент и члены совета сжимают Эбера в объятиях. Минуту спустя Шометт объявляет, что Мишель и Марино, два полицейских чиновника, только что арестованы по приказу комиссии Двенадцати. Совет объят ужасом, депутации от разных секций являются одна за другой для выражения сочувствия. Каждый час совет посылает своих депутатов в комиссию Двенадцати, чтобы осведомиться о судьбе Эбера и его арестованных товарищей. В полночь объявляют, что Эбера допрашивают; в два часа — что допрос окончен; в три часа узнают об аресте одного из самых пылких ораторов партии кордельеров Варле; в четыре утра поднимается общий крик негодования при известии о тюремном заключении Эбера, которого комиссия Двенадцати отправила в Аббатство.
На следующий день газеты распространили по всему Парижу воззвание о мести, к которой призывал совет Коммуны. Напечатали также письмо Верньо к своим соратникам-жирондистам, в котором вместо числа стояло «Париж под ножом».
Опубликование этого письма, совещания секций, мрачные новости, полученные ночью из Вандеи и с границ, проделки Паша, раздражение якобинцев, кордельеров и Коммуны довели волнения в народе до последних пределов. Коммуна решила отправить в Конвент петицию о немедленном предании суду Эбера. Эта петиция, переходившая из одной секции в другую, подала повод к самым ожесточенным спорам: одни подписывали ее, другие отвергали, но большинство дало клятву идти вместе с гражданами, которые осмелятся отнести ее.
По пути шествие увеличивается: толпу всегда привлекает поток народного волнения. Подателей петиции в небольшом числе пропускают в зал. Председательствует Инар. Он устремляет на подателей петиций такой взгляд, каким Цицерон смотрел на Катилину, когда обдумывал свою бессмертную обвинительную речь. «Мы пришли, — говорит оратор Коммуны, — рассказать вам о покушении на личность Эбера».
Жирондисты негодуют при слове «покушение».
«Да, — продолжает оратор. — Эбер был схвачен в самой ратуше и отведен в тюрьму Аббатства. Совет, рискуя жизнью, будет отстаивать его невиновность». Трибуны и Гора разражаются рукоплесканиями. Инар встает и энергичным жестом прекращает аплодисменты. «Уполномоченные народа, — говорит он подателям петиции. — Конвент, издавший закон о неприкосновенности прав человека, не потерпит, чтобы гражданин остался в оковах, если он не виновен. Верьте, что вам не замедлят показать правосудие; но выслушайте, в свою очередь, истины, которые я хочу вам высказать. Франция учредила в Париже центральное народное представительство; необходимо, чтобы Париж уважал его. Если когда-нибудь Конвент будет уничтожен, если когда-нибудь одно из тех волнений, которые беспрерывно продолжаются начиная с 10 марта и о которых представители вашей ратуши, — прибавляет он, намекая на Паша, — ни разу не предупредили Конвент… — Сильный ропот раздается на Горе. Инар спокойно продолжает: — Если во время одного из этих непрекращающихся волнений будет совершено покушение на народных представителей, то, объявляю вам от имени всей Франции…» — «Нет, нет, нет!» — восклицает Гора. Остальное Собрание встает, и триста членов кричат в один голос: «Да, да, да! Говорите от имени Франции». — «Да, объявляю вам от имени всей Франции, — продолжает Инар. — Париж будет уничтожен!..» Последние слова немедленно заглушаются проклятиями Горы, свистом и стуком на трибунах. Жирондисты и их друзья подтверждают угрозы председателя поднятой как бы для клятвы рукою. «Сойдите со своего места, — кричит Марат, — вы позорите Собрание!» Президент, не взглянув на Марата, заканчивает свою фразу: «И скоро, быть может, от Парижа не останется и следа!»
Инар садится. Его заменяет Дантон. «Много и даже слишком долго клеветали на Париж. Что означают эти проклятия председателя? К чему предполагать, что когда-нибудь будут искать на берегах Сены, существовал ли Париж? Такие чувства не должен был бы высказывать президент Конвента! Он должен рисовать нам только утешительные перспективы. Хорошо, что республика знает, что Париж никогда не изменит своим принципам; что, разрушив трон одного тирана, он никогда не посадит на него нового деспота! Если в партии, которая служит народу, есть виновные, то народ сумеет наказать их. Среди хороших граждан всегда есть слишком пылкие: к чему вменять им в преступление энергию, которую они употребляют на служение народу? Если бы не было пылких натур, не было бы и революции. Я никого не хочу раздражать, потому что чувствую свою силу, защищая правду. Я не думаю, чтобы в моей жизни нашли преступление. Я требую, чтобы меня первого предали революционному суду, если меня находят виновным. Я сказал все!» «Не в этом дело!» — кричат ему с правой стороны. Дантон возвращается к трибуне. «Как?! — восклицает он. — Париж, сломавший железный скипетр, способен осквернить священные договоренности национального представительства? Нет, Париж, любит революцию; Париж заслуживает объятий всей Франции! Французский народ спасет себя сам. Как только будет сорвана маска с тех, кто прикидывается патриотами, Франции восстанет и отвергнет своих врагов». Этот угрожающий намек Дантона, сделанный по адресу жирондистов, заставляет предвидеть в более или менее близком будущем новый «сентябрь».
На заседании 27 мая Паш поручился за спокойствие столицы и безопасность Конвента. Вслед за докладом, повергшим в уныние жирондистов, Марат потребовал упразднения комиссии Двенадцати как бесполезной и вызывающей волнения. «Я веду войну не только против комиссии Двенадцати. Если бы вся нация стала свидетельницей ваших заговоров против свободы, — говорит он, обращаясь к Верньо и Гюаде, — то она сама велела бы свести вас на эшафот». В зале возникает шум: депутаты от секций явились просить выдачи арестованных граждан и дерзко требуют, чтобы члены комиссии Двенадцати были преданы революционному суду. «Граждане, — отвечает им президент Инар, — Собрание прощает вам из-за вашей молодости и неопытности». При этих словах Гора негодует. «Вы тиран! Подлый тиран!» — кричит Марат Инару. «В Аббатство тиранов!» — раздается со всех сторон.
Голос Верньо перекрывает крики. «Довольно пререканий, — требует он. — К делу! Поставим на голосование, чтобы узнать, надо ли созывать предварительную выборную ассамблею: это единственное средство в нашем положении. Только Франция может спасти Францию!»
Начинается поименное голосование. Его прерывают давка и шум огромной толпы, наполнившей коридоры Конвента. Гора обвиняет жирондистов в том, что они собрали около залов Конвента преданные им роты солдат. Допрашивают командира Раффе. Он заявляет, что выступил по приказанию своих начальников и что в ту минуту, когда он старался восстановить порядок в коридорах, Марат приблизился к нему с пистолетом в руке и, приставив дуло к его виску, угрожал выстрелить, если он не удалится. «Я отвел пистолет и исполнил свою обязанность», — прибавляет офицер. Марат отрицает этот факт. Шум усиливается, рукоплескания вознаграждают командира Раффе за оскорбление, которое ему нанес Марат. Ему разрешают присутствовать на заседании. Негодующее общественное мнение склоняется на сторону Жиронды.
Собрание переживает одну из тех минут колебания, когда одно слово может увлечь огромную аудиторию к самым крайним мерам. Министр внутренних дел Тара входит в зал вместе с Пашем. Все взоры обращаются на них. Тара получает слово. Он старается оправдать секции и заговорщиков и нападает на комиссию Двенадцати: «Я заявляю Конвенту, что он не подвергается ни малейшей опасности и что каждый из вас может мирно вернуться домой. Я отвечаю за это головой».
Молчание, преисполненное ужаса, воцаряется после этих слов министра на скамьях, занимаемых жирондистами, потому что он таким образом выдает их врагам. Паш с еще большим коварством пускается в обвинения. «Я должен заявить вам, — говорит он, заканчивая свою речь, — что комиссия Двенадцати отдала приказ трем надежным секциям держать наготове триста вооруженных людей».
Общий крик негодования раздается при этих словах на трибунах. Депутаты секций с шумом толпятся у дверей залы. Паш просит Конвент выслушать их. Жирондисты хотят закрыть заседание. Председательствующий Фонфред встает с кресла. Его заменяет [член Комитета общественного спасения] Эро де Сешель: одно его присутствие есть признак уступки. Многие удаляются, чтобы не становиться свидетелями оскорблений, наносимых национальному представителю. Монтаньяры рассаживаются на скамьях. Оратор от имени двадцати восьми парижских секций снова требует у Конвента освобождения Гербера. «Верните нам истинных республиканцев! Освободите нас от тиранической комиссии, и немедленно!..» Эро де Сешель едва дает оратору секций окончить его фразу. «Граждане, — отвечает он подателям петиции, — положитесь на энергию нации, проявления которой вы видите со всех сторон. Представители народа, мы обещаем вам правосудие, и мы дадим вам его!»
Эти слова председателя, переходящие из уст в уста, от подножия трибун в сады и дворы, сообщают народу об одержанной им победе. В несколько часов большинство, олицетворенное тремя председателями заседания, трижды менялось под давлением извне: вначале решительное и неумолимое в лице Инара, затем умеренное и примирительное в лице Фонфреда, наконец, злоумышляющее и мятежное в лице Эро де Сешеля.
Ободренные этим приемом, другие ораторы секций усиливают нападки против комиссии Двенадцати: «Патриоты в оковах. Неужели этот дворец сделается новым Тюильри? Мы требуем освобождения Эбера, суда над бесчестным Роланом и уничтожения комиссии Двенадцати!»
«Когда права человека попраны, — снова отвечает Эро де Сешель, — надо сказать: удовлетворение или смерть!» Этот призыв из уст президента от имени большинства становится приказом. Просьбы подателей петиции, превращенные Лакруа в декреты, ставятся на голосование. Петиционеры смешиваются с депутатами, чтобы заполнить пустые места жирондистов, и подают голоса вместе с ними. Эбер, Варле и их сообщники освобождены. Комиссия Двенадцати упразднена. В полночь Конвент закрывает заседание, и народ, удовлетворенный, расходится с криками «Да здравствует Гора!» и «Смерть двадцати двум!».
XLI
Эбер возвращается с триумфом — Народные бедствия — Политика Верньо — 31 мая — Робеспьер обвиняет жирондистов
Ночь прошла в волнениях, страхе и тайных совещаниях. В то время как жирондисты, собравшись у Валазе, обсуждали способы вырвать победу из рук монтаньяров, около шестидесяти наиболее горячих членов секций собрались в Архиепископстве, в зале, закрытом для публики, и оплакивали результаты победы, которая не принесла им ни добычи, ни жертв, оставив их врагам жизнь, трибуну, печать, сторонников в некоторых секциях центральной части Парижа и возможность вновь захватить власть. Какое дело было этим кровожадным людям до колебаний большинства в еще свободном Конвенте? Они хотели Конвента рабского, прикрывающегося именем народного представительства только для того, чтобы скрыть свое подчиненное департаментам положение.
В эту ночь обсудили тысячи планов. Молодой человек по имени Варле составил целый план, очевидно под влиянием воспоминаний о сентябрьских событиях. Он предъявил фальшивую, подделанную им самим переписку жирондистов с принцем Кобургским, с целью возбудить негодование народа против этих мнимых изменников отечества. Предполагалось арестовать их той же ночью поодиночке в их жилищах. Отправленные в уединенный дом в предместье Сен-Жак, они были бы судимы при закрытых дверях. Могилы, заранее вырытые в саду, примыкавшем к дому, скрыли бы останки жертв. На следующий день обнародование поддельной переписки предало бы их имена общественному позору. Распространили бы слух об их бегстве за границу; когда, позднее, истина опровергла бы это ложное сообщение, республика была бы уже спасена, Коммуна стояла бы во главе правления, а народ благодарил бы своих мстителей.
Так выглядел план Варле. Он пришелся по вкусу сентябрьским палачам, но был отвергнут Маратом: число жертв оказывалось слишком ограниченно. Решили предоставить народу право самому разделаться со своими врагами и указать, какие жертвы ему нужны для удовлетворения чувства мести. Одни заговорщики доводили число жертв до тридцати, другие — до восьмидесяти. Наутро они расстались, чтобы сообщить секциям и предместьям новый лозунг. Этот лозунг, сочиненный Маратом, звучал так: «Долой полумеры!» (Писали, что в ту же самую ночь другой высший исполнительный комитет, состоявший из Робеспьера, Дантона, Фабра, Паша и еще нескольких главных членов Коммуны и Конвента, собрался в Шарантоне, в том самом доме, где были составлены заговоры 20 июня и 10 августа, и там главные предводители Горы выдали друг другу своих врагов, подобно Октавиану, Антонию и Лепиду. Но факт этот так никогда и не был доказан.)
Вечером следующего дня Эбера торжественно привели из тюрьмы в ратушу. Там он получил лавровый венок из рук Шометта и, быстро сняв его со своей головы, возложил на бюст Жан-Жака Руссо.
Заседание клуба якобинцев 30 мая стало началом бури. Пока революционный комитет обсуждал в Архиепископстве, какого образа действий ему следует придерживаться, Лежандр и Робеспьер старались убедить якобинцев, а Марат и Дантон — кордельеров. «Я чувствую себя не способным, — говорил Робеспьер, — указать народу меры, которые могли бы его спасти. Это не дано мне, изнуренному четырьмя годами революции и раздирающим душу зрелищем торжества тирании! Не мне указывать эти меры; не мне, снедаемому изнурительной лихорадкой и особенно лихорадкой патриотизма!» — «Нет, нет, — отвечал ему один из самых восторженных якобинцев, — потомство никогда не поверит, как могли двадцать пять миллионов человек позволить горсти интриганов взять над собою верх, или же оно будет видеть в нас только двадцать пять миллионов трусов. Завтра же должно раздастся бряцание оружия! Все, кто не восстанет против общего врага, должны быть объявлены изменниками отечества!»
Народ свалил на жирондистов все бедствия того времени. Для борьбы с направленными против них обвинениями у жирондистов была только сила закона. Вначале успокоенные симпатией, которую им выражала буржуазия Парижа, они теперь предчувствовали свою гибель и готовились к ней не как политические деятели, а как мученики. Однако они еще отказывались верить, чтобы честные люди, вооруженные секциями, могли употребить против народных представителей свои штыки, которые они носили для защиты народа.
Объединенные общностью мыслей и опасности с большинством депутатов, составлявших «болото», и Горой, жирондисты с тайным чувством удовлетворения пересчитывали эти триста голосов, которые склоняли на их сторону перевес во всех решительных случаях. Они верили в право, в здравый смысл, разумную пользу собраний. Они забывали зависть, страх, увлечение, робкие извинения, которыми люди прикрывают свою трусость перед лицом опасности. Они ходили с этими неопределенными мыслями на разные ночные сборища уже после заседаний. Бюзо, Луве, Барбару, Инар, Ребекки всходили по одиночке, прячась от взоров народа, по лестнице Ролана, скрытой в глубине двора на улице Лагарп. Там эти бесстрашные молодые люди обвиняли в медлительности и нерешительности комиссию Двенадцати, которая должна была, по их мнению, предупредить действия Коммуны: в первую же ночь привлечь к борьбе Конвент, предать Марата, Паша, Дантона и Робеспьера революционному суду, призвать в Париж военную силу департаментов и закрыть клубы, откуда выходили анархия, преступление и страх.
Ролан, оскорбленный из-за своего падения и все еще желающий утвердить расшатанную в своих основах республику, выказывал в речах мрачную энергию, ничего не стоящую в руках безоружных людей. Госпожа Ролан, которая то проникалась страстным участием в отношении своих друзей, то чувствовала прилив мужества, воодушевляла или старалась тронуть участников этих собраний. Бюзо боготворил в лице ее воплощение и голос отечества. Барбару слушал ее с почтением и восторгом. Они готовы были умереть, но хотели умереть в борьбе.
Верньо, Кондорсе, Сийес, Фонфред, Дюко, Гюаде, Жансонне начали все чаще собираться то на улице Сен-Лазар, то у Фонфреда. Это были политики партии. Сийес советовал действовать энергично, но не хотел принимать на себя ответственность. Кондорсе негодовал на неудачу своих либеральных теорий и приготовился умереть, намереваясь расстаться со своими идеями только вместе с жизнью. Фонфред и Дюко, монтаньяры по образу мыслей, оставались в своей партии только из ненависти, которую им внушал Робеспьер. Гюаде не признавал никакой тактики, кроме импровизации, никакого оружия, кроме своего слова: он был равно готов победить или умереть, лишь бы это случилось на трибуне. Жансонне, более рассудительный и опытный в делах правления, хотел обратиться к штыкам секций за защитой и победой, которых он не находил более у колеблющегося большинства. Верньо молча слушал требования, предъявляемые ему его друзьями, и не мог сразу принять какое-нибудь решение. Он редко увлекался заблуждениями своей партии. Устремив взоры на Европу, великий оратор чувствовал так же глубоко, как Дантон, необходимость укрепить единство республики, чтобы бороться против расчленения своего отечества. Отчаянный федерализм Барбару, Луве, госпожи Ролан вызывал у него едва ли не жалость. Он понимал, что самые ожесточенные враги Франции не могли бы придумать ничего более гибельного, чем это добровольное расчленение, о котором мечтали некоторые безумцы. Любовь к отечеству окончательно заглушила в сердце Верньо партийный дух.
В этой сложной внутренней борьбе Верньо, как все люди, поставленные лицом к лицу с невозможным выбором, просил у судьбы, у своих друзей и врагов только времени. Он принес жертву времени, приняв республику на другой день после 10 августа, в то время как еще накануне верил во временную необходимость конституционной монархии. Он принес жертву времени, когда против своей совести подал голос за казнь Людовика XVI. Эти две уступки отсрочили опасность. Верньо хотел выиграть еще одну отсрочку и, уступив правление Горе, бороться против анархии народа и предупредить разрыв между Парижем и департаментами. Уступая власть, он в сущности ничего не уступал, даже славы, потому что слава самопожертвования в его глазах была выше славы власти.
Итак, Верньо склонялся к мировой сделке. Дантон добросовестно поддерживал его намерения. Робеспьер и Паш, уверенные в победе, старались доказать, что мятеж носит характер непреклонной воли народа. Они хотели властвовать над Конвентом, но не уничтожить его. «Не надо крови, не надо жертв!» — таков был новый пароль Паша и его сторонников.
Упразднить комиссию Двенадцати, исключить из состава Конвента двадцать два члена, признать большинство за Горой, предоставить революционное правление Коммуне, учредить законный террор от имени запуганного национального представительства, — вот каковы оказались результаты, к которым пришли заговорщики после целого дня совещаний. Физическое насилие, пролитая кровь, головы, выданные народу, дали бы департаментам слишком много предлогов к восстанию и слишком много поводов к мести. Междоусобица в Конвенте могла сделаться сигналом к междоусобице во всей Франции. Следовало скрыть тиранию под видом умеренности и уважения к чужому мнению — ради департаментов.
Робеспьер, Дантон, Паш, даже сам Марат нашли, что это намерение благоразумно. Анрио получил приказ поддерживать порядок во время восстания и сочетать приказы Конвента с приказами Коммуны так, чтобы бунт носил характер законности, а толпы, направляющееся к Тюильри, не знали, идут ли они освобождать или низвергать народных представителей. Этим лицемерным и двусмысленным налетом дни 31 мая и 2 июня всецело обязаны коварному гению Паша. Он внушил свою политику Коммуне и сыграл лучше, нежели Петион 10 августа, двойную роль зачинщика и усмирителя мятежа.
Заседание 30-го числа, непродолжительное и без прений, ознаменовалось только приходом депутации от двадцати семи парижских секций. Один юный патриот, под влиянием важности минуты, в высокопарных словах выразил желание народа. «Я вам скажу недлинную речь! — воскликнул он. — Спартанцы говорили мало слов, но умели умирать. Мы, парижане, поставленные при Фермопилах республики, сумеем умереть, и у нас будут мстители!» Конвент, в котором на этот раз собралось немного членов, проголосовал за опубликование этой петиции. Такая уступчивость делала Коммуну с каждым часом все смелее, а народных представителей — все терпимее.
Вечером собрался общий совет Коммуны. С этой минуты Париж разделился на два лагеря: один включал в себя Тюильри, площадь Карусель, Пале-Рояль, все богатые и торговые кварталы города, батальоны которых, состоявшие из сторонников порядка, еще держали сторону жирондистов; другой, простиравшийся от ратуши и включавший предместья Сен-Марсо и Сент-Антуан, был предан якобинцам. Образовалось как будто два народа: один постоянно хотел двигаться вперед, хоть бы и к анархии; другой хотел оставаться в положении пусть неопределенном и сомнительном, но спокойном. Нищета — беспокойная, мятежная, но по своей натуре бескорыстная — вот наступательная армия революций. Богатство, эгоистическое и неподвижное, — оборонительная армия установившегося порядка. Убеждения большей части людей идут рука об руку с цифрами их состояний. Народ — армия новых идей; богачи — армия правительств. Одну вербует надежда; другая присоединяется из страха. Таковы были в это время два Парижа, стоявшие лицом к лицу: один — поднятый монтаньярами; другой — дрожавший вместе с умеренными.
Паш, Шометт, Эбер, Пани в течение всей ночи на заседании совета Коммуны делали вид, что стараются сохранить законность. Паш, извещенный, что клуб Архиепископства собирается прибегнуть к крайним мерам, пошел туда, чтобы убедить бунтовщиков повременить, потом вернулся и объявил своим товарищам, что его просьбы оказались бессильными перед раздражением народа и комитет только что объявил о начале восстания и распорядился закрыть заставы и арестовать подозрительных лиц. Едва Паш закончил говорить, как с башен собора загудел набат.
Было три часа утра. Зловещие звуки быстро передавались с одной колокольни на другую и будили граждан Парижа. Набат, еще со времени 14 июля, стал первым шагом в великих мятежах народа. Среди смятения, поднятого этим шумом в ратуше и на Гревской площади, молодой человек по имени Добсент, один из ораторов комитета Архиепископства, входит в залу совета Коммуны во главе депутации от большинства секций. Добсент заявляет от имени народа, представляемого секциями, что он, оскорбленный в своих правах, принял крайние меры, чтобы спасти самого себя, и что все чиновники муниципалитета и представители власти в департаментах смещены. Шометт требует от своих товарищей в Коммуне, чтобы они передали власть в руки народа. Все члены совета встают, отказываются от своих полномочий и дают клятву не отделяться от нации. Делегаты удаляются под крики: «Да здравствует республика!»
Добсент тотчас же создает новый совет, большинство которого составляют прежние члены. Этот совет призывает Паша, Шометта, Эбера и утверждает их в прежних должностях. Совет меняет свое название на более знаменательное и объявляет себя главным революционным советом Парижской коммуны. Жандармы и национальные гвардейцы из караулов, стоящих на Гревской площади, также приносят присягу. Каждую четверть часа подходят все новые и новые депутации от кварталов и от войск, чтобы брататься с мятежниками.
Наступает день; весь город кипит. Паш, диктатор целой ночи, является в Конвент дать отчет о положении дел в Париже. Его сопровождают члены совета, чтобы в случае нужды заслонить собой от направленного против него кинжала. Огромная толпа народа следует за Пашем до площади Карусель.
Депутаты, которым грозила опасность, не ночевали у себя дома. Один Верньо упорно отказывался принять какие бы то ни было меры предосторожности. «Что для меня жизнь? — сказал он накануне, выходя от Валазе. — Моя кровь будет, быть может, красноречивее моих речей. Пусть они прольют ее, если она должна быть пролита!»
Другие разошлись, чтобы отдохнуть в домах друзей хоть несколько часов.
Заседание Конвента открылось в шесть часов. Министр внутренних дел Тара, а за ним Паш дают отчет о волнении в Париже; они приписывают его продолжению работы комиссии Двенадцати.
Валазе, желая выяснить, какой оборот должны принять дела в этот день, всходит на трибуну первым. Верньо, боящийся смелости своих друзей, жестом выражает свое неудовольствие и задумывается. «Со времени закрытия вчерашнего заседания, — говорит Валазе, — набат гудит, бьют в барабаны, и по чьему же приказу? Осмельтесь указать на виновных! Анрио, временный начальник национальной гвардии, послал приказ на пост на Новом мосту — стрелять из вестовой пушки. Это явное преступление по должности, подлежащее наказанию смертью». (В зале возникает шум.) «Если шум будет продолжаться, — бесстрашно заявляет Валазе, — я объявляю, что заставлю уважать мою личность. Я здесь представитель двадцати пяти миллионов человек! Я требую, чтобы Анрио был предан суду. Я требую, чтобы комиссия Двенадцати, на которую возведена клевета, была призвана, чтобы сообщить сведения, которые она собрала».
Тюрио сменяет Валазе. Он требует, чтобы комиссия была упразднена, бумаги ее опечатаны, а расследование действий поручено Комитету общественного спасения. Речь Тюрио прерывается криками трибун и потом окончательно заглушается звуком набата. Верньо пробует достичь примирения: «Я убежден в том, что вам говорили о мятеже, который, по-видимому, готовится в Париже, я убежден, что этот мятеж неминуемо погубит свободу и республику, что тот, кто желает, чтобы он начался, — сообщник наших внешних врагов, независимо от исхода мятежа. Вам рисуют комиссию как язву Франции в ту самую минуту, когда вы слышите пушечные выстрелы! Требуют, чтобы она была упразднена, если действовала по произволу! Если это правда, она, без сомнения, должна быть упразднена. Но надо сначала выслушать ее. Однако теперь, по моему мнению, не время слушать ее доклад. Этот доклад неизбежно возбудит страсти, а этого надо постараться избегнуть в день возмущения. Необходимо только, чтобы Конвент доказал Франции, что он свободен. Но чтобы доказать это, он не должен упразднять сегодня комиссию. Итак, я требую отсрочки до завтра. А пока постараемся узнать, кто приказал стрелять из вестовой пушки, и потребуем в наш суд главного командира!»
Поднимаются единодушные крики одобрения, санкционирующие требование отсрочки Верньо. Она не спасала ни свободу, ни честь, но спасала положение Конвента. Она успокаивала народ, обещая ему победу. Она удовлетворяла Гору, не допуская ее до гнусности насилия. Она сохраняла головы жирондистам. Она стала проявлением уважения к закону. Она оказалась удобна для всех, в особенности для слабых.
Но Дантон захотел вырвать у Собрания победу, уже наполовину уступленную Верньо: «Вы создали эту комиссию не ради нее, а ради себя. Рассмотрите ее действия.
Если она виновна, покажите пример, который устрашил бы всех тех, кто не уважает народ, даже в минуты его революционного пробуждения. Пушка прогремела? Но если Париж хотел только дать сигнал к началу представлений, которые он вам преподносит, если Париж призывом, слишком торжественным и громким, желал только предупредить граждан, чтобы они шли требовать у вас правосудия, — Париж имеет за собой еще большую заслугу перед отечеством! Не только не порицайте этот порыв, но обратите его на пользу народного дела, упразднив вашу комиссию».
Одни ропщут, другие рукоплещут. Дантон, начавший речь в духе умеренности, внезапно увлекается и чувствует, что его опьяняет восторг аудитории и он сам возбуждает страсти, которые хотел обуздать. «Если некоторые люди, — говорит он, — к какой бы партии они ни принадлежали, захотят продолжить волнение, которое сделается бесполезным после того, как вы совершите правосудие, то сам Париж заставит их исчезнуть!»
Среди шума Рабо тщетно требует, чтобы комиссию по крайней мере выслушали. Он упоминает Сантерра, который должен был вступить ночью в Париж с волонтерами, отправлявшимися в Вандею, но задержанными у ворот столицы. Речь Рабо прерывают крики. Прежде всего хотят выслушать депутацию от Коммуны.
Допускается депутация от округа Обсерватории. «Народ, — говорит оратор, — восставший в первый раз 10 августа, чтобы свергнуть с трона тирана, восстает вторично, чтобы положить конец убийственным для свободы заговорам контрреволюционеров!» — «Укажите, какие это заговоры!» — кричат жирондисты. Гюаде бросается на трибуну: «Петиционеры говорят нам о заговоре; они ошибаются только в одном: вместо того чтобы сказать, что они его раскрыли, они должны были сказать, что они привели его в исполнение». При этих словах кажется, что трибуны сейчас обрушатся на голову Гюаде. «Как вы полагаете, — продолжает он, — законы издают секции Парижа или вся республика? Те, кто приказывают бить в набат, запирать городские ворота и стрелять из вестовой пушки, разве не ставят себя выше закона?» — «Вы хотите погубить Париж, вы клевещет на него!» — кричит Гора. «Друг Парижа — это я; враги Парижа — вы!» — отвечает оратор. Он хочет продолжать свою речь; крики и ругательства прерывают его.
Слово дают Кутону. Робеспьер шепотом говорит несколько слов своему сотоварищу и провожает его глазами до трибуны. «Без сомнения, Париж волнуется, — говорит Кутон. — Коммуна приказала бить в набат; но мы переживаем кризис, и она берет под свою ответственность меры, необходимые в подобных обстоятельствах. Гюаде обвиняет Коммуну в том, что она подготовила возмущение. Где же это возмущение? Это значит оскорблять парижский народ — сказать, что он возмутился. Если и есть волнение, то его спровоцировала ваша комиссия, ваша преступная партия, которая, желая скрыть огромный заговор, хочет, чтобы поднялось сильное волнение. Эта партия хочет, распространяя клевету, разжечь гражданскую войну. Вспомните, граждане, как двор, изыскивая все новые средства погубить свободу, придумал учредить Центральный комитет! Подобным же образом партия государственных мужей заставила создать комиссию. Комиссия Двора приказала арестовать Эбера, комиссия Двенадцати также приказала арестовать его. Комиссия Двора издала приказ об аресте трех депутатов, а когда увидела, что общественное мнение оставляет ее, то прибегла к вооруженной силе. Разве это не то же самое, что делает комиссия Двенадцати?»
Хитрая параллель Кутона заставляет народ на трибунах содрогнуться. Оратор, прерванный рукоплесканиями, наслаждается ненавистью, которую возбудил, и ему не хватает голоса, чтобы продолжать речь.
Верньо почувствовал удар: сердце у него застучало. Он обращается к сторожу, приносившему воду для ораторов трибуны: «Дайте стакан крови Кутону: он жаждет ее!» Затем он пробует овладеть собою и, чувствуя, что необходимо сделать уступку обстоятельствам, чтобы обезоружить народ, восходит на трибуну. «И я также, — говорит он, — требую, чтобы вы постановили, что парижские секции оказали большую услугу отечеству, поддержав спокойствие в этот критический день, и чтобы вы предложили им продолжить надзор до тех пор, пока все заговоры не будут уничтожены». Это двусмысленное предложение принимают обе утомившиеся партии: каждая из них думает, что подает голос против другой.
Являются новые петиционеры. Они уже более настойчиво требуют, чтобы депутаты, изменившие отечеству, были подвергнуты суду; они требуют, чтобы было образовано революционное войско Парижа, оплачиваемое жалованьем по сорок су в день, требуют ареста двадцати двух жирондистов, таксы на хлеб, вооружения всех санкюлотов. После этих петиционеров появляются чиновники парижской администрации и читают грозный декрет против жирондистов: «Народ раздражен вашей медлительностью. Пусть трепещут его враги. Пусть они трепещут! Вселенная содрогнется от его мести!»
Едва успевают прочесть этот декрет, как толпа, сопровождавшая депутацию, рассеивается по скамьям Горы. Верньо и Дульсе протестуют против противозаконного беспорядка, мешающего ходу прений. «Национальный конвент, — говорит Верньо, — не может заседать в том состоянии, в котором он находится теперь; присоединимся же к вооруженной силе и попадем под защиту народа».
С этими словами Верньо уходит вместе с некоторыми своими друзьями, но вскоре возвращается, оттесненный толпой или движимый сожалением, что оставил трибуну своим врагам. Робеспьер успел уже занять ее и упрекал Собрание в слабости его постановлений. Верньо, услыхав последние аргументы оратора, просит слова. Робеспьер с презрением смотрит на Верньо с высоты трибуны.
«Я не буду занимать внимание Собрания, говоря о возвращении тех, кто покинул заседание, — говорит он. — Полумерами не спасешь отечества. Ваш Комитет общественного спасения сделал вам несколько предложений. Одно из них я принимаю, а именно: предложение об упразднении комиссии Двенадцати. Но неужели вы думаете, что этого довольно для успокоения тех людей, которых волнует, каким способом спасти отечество? Нет. Комиссия эта однажды уже была упразднена, а измены все-таки не прекратились. Примите против ее членов более решительные меры, на которые вам только что указали петиционеры. Здесь есть люди, которые хотели бы наказать это восстание как преступление? Значит, вы предоставите вооруженную силу в распоряжение тех, кто хочет направить ее против народа?..» Тут Робеспьер собирается, по-видимому, вмешаться, чтобы рассмотреть различные меры, предложенные по этому поводу. Верны), утомленный ожиданием удара, который Робеспьер собирается ему нанести, уже нетерпеливо кричит: «Делайте же свое заключение!» Робеспьер с презрительной улыбкой смотрит на своего противника: «Да! Я сейчас сделаю заключение, и оно будет против вас! Против вас, который после революции 10 августа хотел отправить на эшафот тех, кто произвел ее! Против вас, который не переставал взывать к разрушению Парижа! Против вас, хотевшего спасти тирана! Против вас, составлявшего заговор вместе с Дюмурье! Против вас, с ожесточением преследовавшего тех самых патриотов, головы которых требовал Дюмурье! Против вас, преступная мстительность которого вызвала возмущение, которое вы хотите вменить в преступление вашим жертвам! Мое заключение — это обвинительный декрет против сообщников Дюмурье и всех тех, на кого указали петиционеры!»
Каждое из заключений Робеспьера, поддержанное аплодисментами Горы, петиционеров и трибун, отнимало у Верньо даже мысль о возражении. Конвент и народ всею тяжестью обрушились на жирондистов. Они молчали. Поставили на голосование декрет, предложенный Барером. Этот декрет помимо упразднения комиссии Двенадцати включал и некоторые, с первого взгляда кажущиеся самостоятельными, меры Конвента, целью которых было сохранить в глазах департаментов внешние приличия. Декрет был принят без прений «болотом» и Горой. Радость, с одной стороны притворная, с другой — злорадная, объяла все Собрание и сообщилась через трибуны толпе, теснившейся у дверей зала. Базир предложил Конвенту пойти брататься с народом. Предложение было встречено с восторгом.
Коммуна тотчас приказала иллюминовать Париж. Члены Конвента, окруженные людьми, несшими факелы, почти всю ночь ходили по главным кварталам столицы, сопровождаемые членами секций, и отвечали криками на крики «Да здравствует республика!». Жирондисты, боявшиеся обратить на себя внимание своим отсутствием, следовали за шествием и выражали притворную радость при виде торжества победы, одержанной над ними самими. Людовик XVI был отомщен: у заговорщиков 10 августа оказалось свое 20 июня. «Что нравится тебе больше: эти овации или эшафот?» — спросил настолько громко, чтобы его слышали, Фонфред у Верньо, который шел с ним рядом, опустив голову. «Мне все равно, — ответил на это Верньо со стоическим равнодушием, — нет разницы между этой прогулкой и эшафотом: это дорога к нему!»
XLII
Попытка арестовать Ролана — Госпожа Ролан в Собрании — Она арестована — Власть Комитета общественного спасения — 2 июня — Конвент перед народом — Суд над жирондистами
В те часы, когда жирондисты предчувствовали свое падение, революционный комитет Коммуны отправил вооруженных людей арестовать Ролана. Представители секций явились к нему и потребовали именем революционного комитета последовать за ними. «Я не встречал такой власти в конституции, — ответил Ролан, — и отказываюсь повиноваться приказаниям, исходящим от власти незаконной. Если вы употребите силу, то я могу противопоставить вам только сопротивление человека моих лет; но я буду протестовать до последнего вздоха». — «У меня нет приказа применять насилие, — сказал начальник секционеров, — я просто доложу об этом совету Коммуны, а здесь оставлю своих товарищей, которые отвечают мне за вас».
Госпожа Ролан вооружается всей силой негодования, которое внушает опасность, угрожающая ее мужу. Она поспешно набрасывает письмо Конвенту, требуя, чтобы он отомстил за них. Кроме того, она пишет президенту и просит его позволить ей лично присутствовать на заседании суда. Она бросается в первую попавшуюся карету и велит везти себя в Тюильри.
Толпа и войско заполняют двор Тюильри. Госпожа Ролан опускает на лицо вуаль из страха быть узнанной врагами. Сначала ее отталкивают часовые, но затем она хитростью добивается пропуска в зал петиционеров. Она слышит оттуда, в течение нескольких томительных часов, глухой отголосок шума в зале и волнения трибун, которые поносят ее друзей и одобряют ее врагов. Она посылает записку председателю через депутата «болота» по имени Розе, который узнает ее и берет под свое покровительство. Розе возвращается после продолжительного отсутствия и сообщает ей о происках против жирондистов, об удрученном состоянии, в котором они находятся, об опасности, грозящей двадцати двум жирондистам, о невозможности для Конвента уклониться на время от этой борьбы. Она продолжает настаивать. Розе приводит к ней Верньо.
Госпожа Ролан и Верньо разговаривают в то время, как их партия терпит поражение. «Устройте так, чтобы меня впустили, чтобы мне разрешили говорить, — просит бесстрашная женщина, — я расскажу новости, способные вывести Конвент из оцепенения!» Красноречие, на которое она чувствовала себя способной, заставляет ее заблуждаться насчет трусости Собрания. Верньо сжимает ее руки в своих, прощаясь с нею, и возвращается в зал растроганный и ободренный, чтобы ответить Робеспьеру.
Госпожа Ролан выходит из Тюильри и бежит к Луве, мужество которого ценит давно. Но Луве в Конвенте. Когда она возвращается домой, привратник объявляет ей, что Ролан, освобожденный из-под надзора, скрылся в соседнем доме. Она бежит туда, но ее муж уже переменил убежище. Она следует за ним из дома в дом и наконец находит его; она падает в его объятия, рассказывает ему о своих попытках, радуется его освобождению и снова уходит, чтобы заставить открыть для себя двери Конвента.
Наступает ночь. Дойдя до площади Карусель, где только что стояло сорок тысяч солдат и волновалась бесчисленная толпа, она застает площадь пустой и безмолвной. Только несколько часовых охраняют ворота дворца. Они с восторгом рассказывают ей, что комиссия Двенадцати упразднена, что эта жертва примирила патриотов, что Париж спасает республику, что царство изменников кончилось и победоносный муниципалитет не замедлит с арестом двадцати двух жирондистов. Госпожа Ролан, подавленная, возвращается домой, целует свою спящую дочь и раздумывает, не искать ли спасения от ареста в бегстве. Убежище, где спрятался ее муж, не могло скрыть их обоих. Сердце ее, снедаемое двойной страстью — преданной любовью и безнадежным патриотизмом, с некоторых пор рисовало ей единственное убежище для ее добродетели и бессмертие для ее имени — в смерти. Участь второй Лукреции не пугала ее воображения, лишь бы кровь ее обагрила собой знамя республики.
Побежденная усталостью и мучительной тревогой, пережитой в течение дня, несчастная женщина только заснула, когда члены секции ворвались в дом и приказали служанке разбудить ее. Она встает, надевает скромное платье и связывает в узел самые необходимые вещи. Секционеры ждут ее в гостиной; они предъявляют ей приказ Коммуны об ее аресте. Она просит обождать минуту, чтобы уведомить запиской одного из друзей о своем положении и поручить ему свою дочь. Ей разрешают; но когда начальник секционеров хочет узнать имя ее друга, она с негодованием разрывает письмо на клочки, предпочитая лучше исчезнуть не простившись, чем выдать человека, чувство ее дружбы к которому было бы вменено ему в преступление.
На рассвете ее увезли от дочери и рыдающих слуг. «Как вас любят!» — с удивлением сказал один из секционеров, видевших в прекрасной женщине только главу гнусной партии. «Потому что и я люблю!» — с гордостью ответила ему госпожа Ролан.
Ее посадили в карету, окруженную жандармами. Женщины, сбежавшиеся полюбоваться зрелищем этого ареста, провожали карету криками «На гильотину!». Комиссар Коммуны спросил госпожу Ролан, не желает ли она опустить шторы на окнах кареты, чтобы избавиться от этих взглядов и криков. «Нет, — сказала она, — гонимая невинность не должна иметь вида преступления и стыда; я не боюсь взглядов порядочных людей и презираю своих врагов». — «У вас больше характера, чем у многих мужчин, — сказал ей комиссар, — вы спокойно ожидаете правосудия». — «Правосудия! — ответила она. — Если бы существовало правосудие, я не была бы здесь!» Двери тюрьмы закрылись за нею. Все добродетели, ошибки, надежды и весь героизм ее партии, казалось, вошли туда вместе с нею.
Комитет общественного спасения, которому Конвент своим декретом передал всю власть и ответственность, отнятые накануне у комиссии Двенадцати, начал свои совещания. Большинство его составляли депутаты Горы. В этом неожиданно облеченном диктаторской властью комитете Барер, как всегда, старался все разнюхать, а Дантон господствовал всецело. Комитет, осведомленный через своих агентов о решениях Коммуны и о проекте ареста двадцати двух, провел ночь и часть дня в совещаниях. Мнения колебались; приходилось выбирать одно из двух: или во всем отказать Коммуне, или при посредничестве Конвента помочь ей уничтожить его собственных членов. Паш не скрывал уже от комитета, что арест двадцати двух был единственной мерой, которая могла успокоить брожение в Париже.
Тара стенал возле Дантона о мрачных последствиях принесения подобной жертвы. Потом, озаренный одной из тех внезапных мыслей, которые, подобно вспышке молнии, освещают темноту, воскликнул: «Я вижу средство к спасению, но для этого нужен героизм, которого нельзя ожидать в наше время всеобщей испорченности». — «Говори, — сказал Дантон, — революция не унизила человеческой природы». — «Итак, — снова с робостью начал Тара, — вспомни о ссорах Фемистокла и Аристида, которые чуть не погубили их отечества, терзая его раздорами двух ожесточенных партий. Аристид спас отечество величием своей души. „Афиняне, — сказал он народу, — вы не будете спокойны и счастливы до тех пор, пока не бросите меня и Фемистокла в пропасть, куда вы бросаете преступников“». — «Ты прав, — воскликнул Дантон, поняв намек прежде, чем Тара успел применить его к данным обстоятельствам, — ты прав! Единство республики должно восторжествовать на наших трупах, если это необходимо; мы и враги наши должны в равном числе удалиться из Конвента, чтобы вернуть ему силу и мир! Я бегу объявить это решение героическим друзьям с Горы и предложу себя в качестве первого заложника в Бордо».
Весь комитет, увлеченный великодушным энтузиазмом Дантона, согласился на его предложение, которое, оставляя честь жертвы монтаньярам, спасало честь жирондистов и давало победу патриотизму.
Но энтузиазм испаряется по мере того, как люди успокаиваются, внезапные решения узкого круга редко принимаются в больших собраниях. Дантон увлек нескольких друзей; остальные просили дать им время подумать. Он просил узнать мнение Робеспьера. Робеспьер отнесся к мечтаниям Дантона критически. «Дело не во мне, — пояснил он, — а в моих взглядах, которые суть взгляды народа и настоящего времени. Ради них я не имею права отречься. Пусть возьмут мою голову, но сам я не выдам ее. Пропасть Аристида — всего лишь софизм. Или Аристид думал, что он вредит отечеству и должен сам броситься в пропасть, или он думал, что спасает его, и тогда должен был бросить в пропасть своих врагов. Вот логика».
Дантон, Барер, Лакруа, Тара, пораженные непоколебимостью Робеспьера, вынуждены были отказаться от этого проекта и теперь видели спасение Конвента в добровольном отречении двадцати двух. Они всячески старались убедить вышеупомянутых депутатов в необходимости пожертвовать собой ради единства республики. Патриотизм и страх помогли им убедить в этом нескольких человек. Но большинство и предводители партий предпочитали ждать, чтобы преступление выступило во всем своем ужасе, нежели ослабить удар, предупредив его. Подобно Робеспьеру, они ответили посредникам от Комитета общественного спасения: «Пусть возьмут наши головы: мы отдаем их республике, а не нашим убийцам!»
Исполнительный комитет с этих пор беспрерывно заседал в ратуше, в зале, соседнем с залом совета Коммуны. Он состоял из приверженцев Марата, который внушил им мысль вернуть в Париж батальоны волонтеров, выступивших против Вандеи, окружить Конвент и блокировать его до тех пор, пока он не выдаст двадцати двух членов и комиссию Двенадцати. В то время как эмиссары комитета восстания отправились привести назад эти батальоны, на всех колокольнях Парижа снова забил набат.
Под звуки набата и барабанов жирондисты сошлись в последний раз, но не для совещаний, а чтобы укрепиться духом перед смертью. «Чокнемся за жизнь или за смерть! — сказал Верньо, вставая из-за стола, Петиону, сидевшему против него. — Эта ночь в своем мраке скрывает для нас то или другое. Будем заботиться не о себе, но о своем отечестве. Да будет это вино в стакане кровью, пролитой за спасение республики». Приглушенные крики «Да здравствует республика!» ответили на возвышенные слова Верньо. Несчастные жирондисты вынуждены были понижать голос из страха, чтобы их не услыхал тот самый народ, за который они готовились умереть.
Выстрелы из вестовой пушки, раздававшиеся один за другим на площадке Нового моста, указывали жирондистам, что дольше колебаться нельзя. Они расстались, не придя ни к какому единодушному решению. Одни искали спасения, бежав ночью за парижские заставы; другие отправились ожидать исхода заседания у своих друзей, самые великодушные пошли на заседание Конвента, чтобы умереть на своем посту.
Заседание открылось на рассвете. Как и накануне, председательствовал Маларме. Более умеренный, нежели Эро де Сешель, он умел придать насилию вид законности. Гора поручила ему позаботиться о том, чтобы при осуждении не пострадало достоинство закона.
Ланжюине смотрит на почти пустые скамьи жирондистов и просит слова. «Долой Ланжюине! — кричат с трибун. — Он хочет разжечь гражданскую войну!» — «До тех пор пока здесь будет разрешено говорить свободно, — заявляет Ланжюине, — я не позволю унижать достоинство представителей народа. Я скажу правду. Вы уже три дня совещаетесь под дамокловым мечом. Внутри — подкупленные наемные убийцы, извне — пушки!» При этих словах Лежандр, Друэ, Жюльен и Билло-Варенн бросаются, вооруженные пистолетами, к трибуне, чтобы согнать оттуда Ланжюине. Председатель прерывает заседание. «Свобода погибнет, — говорит он с грустной торжественностью, — если подобные беспорядки продолжатся». — «Однако что же вы сделали, — спрашивает Ланжюине, — чтобы охранить членов Конвента, на которых нападают и уже в течение двух дней угрожают их жизни?!» Крики, поднятые кулаки, направленное против него оружие не вызывают даже дрожи в голосе Ланжюине. В заключение он требует обуздания Коммуны и медленно сходит с трибуны.
«Болото» настаивает на рассмотрении повестки дня. «На повестке, — кричит нетерпеливый Лежандр, — спасение отечества!» Пока Конвент колеблется после слов Лежандра, которые служат условным знаком для Горы и публики, люди с шумом сбегают с трибун и кричат «К оружию!». Двери с треском подаются под напором толпы. Какое-то мгновение депутатам кажется, что над ними учинят насилие прямо в их убежище. «Спасите народ от него самого! — кричит депутат правой стороны Ришон. — Спасите головы ваших собратьев, издав декрет об их временном аресте!» — «Нет, нет, — отвечает с неустрашимостью древних Ларевельер-Лепо, чье религиозное чувство служило опорой чувству долга, — нет, нет, не нужно слабости! Мы все разделим участь наших собратьев!»
Левассер, друг Дантона, бросается на трибуну. Враг Жиронды, но враг открытый, он хочет, чтобы Конвент был очищен, но не хочет проливать крови своих сотоварищей. «У нас требуют, — говорил он, — приказа о временном аресте двадцати двух, чтобы защитить их таким образом от народного гнева. Я настаиваю на том, что их следует арестовать окончательно, если они того заслужили. А они заслужили, и я сейчас вам это докажу». В длинной речи он перечисляет преступления, которые приписывают жирондистам, и прибавляет, что даже если они не виновны в этих преступлениях, то по крайней мере их подозревают в совершении их и, как подозреваемые, они должны быть судимы Конвентом на основании законов.
Молчание, воцарившееся во время речи Левассера, свидетельствует о внутренней борьбе, происходящей у членов Собрания. Барер, которого с нетерпением ожидают из Комитета общественного спасения, всходит на трибуну, чтобы прочесть решение комитета. Лицо его, выражающее неудовольствие, когда он смотрит на правую сторону трибун, расцветает в улыбке, когда он переводит взгляд на Гору. «Комитет, — говорит он кратко, — полагает, что из уважения к нравственному и политическому положению Конвента не может издать декрет об аресте. Но комитет полагает, что он обязан обратиться к патриотизму и великодушию двадцати двух и потребовать от них добровольного отказа от полномочий. Наконец, комитет принял все меры, чтобы поставить вышеупомянутых членов под защиту народа и вооруженной силы Парижа».
Гробовое молчание Горы доказывает жирондистам, что эта мера только наполовину удовлетворяет нетерпение их врагов. Некоторые спешат ухватиться за нее, как за якорь спасения. Инар с опущенной головой всходит по ступеням трибуны. «Когда на весы кладут жизнь человека и отечество, — говорит он упавшим голосом, — я всегда склоняюсь на сторону отечества! Объявляю вам, что если бы понадобилась моя кровь, чтобы спасти мою родину, то я сам снес бы свою голову на плаху. Требуют, чтобы мы отказались от наших должностей, требуют как единственной меры, могущей предупредить страшные несчастья, угрожающие нам. Итак, я сам себя отрешаю и не хочу иной охраны, кроме народа!» Инар спускается с трибуны под одобрительные крики одних и презрительные жесты других. Лантена, слабохарактерный друг Ролана, следует примеру Инара. Старик Дюсо, ослабевший под бременем лет и науки, также выражает свою покорность судьбе.
Ланжюине в последний раз всходит на трибуну. «Я полагаю, — говорит он как человек, у которого чиста совесть, — вы не можете ожидать, чтобы я отказался от своей должности. — При этом гордом заявлении Ланжюине с презрением смотрит на толпу, издали грозящую ему. — Когда древние жрецы, — продолжает он, — тащили к алтарям свои жертвы, чтобы убить их, они венчали их цветами и надевали на них гирлянды! Подлецы! Они не оскорбляли их!» Услышав мрачное сравнение оратора с жертвой, а жреца — с народом, трибуны затихают. «Все кончено, — продолжает Ланжюине, — нельзя ни выйти отсюда, ни даже подойти к окнам, чтобы потребовать правосудия у народа. Ни одно законное желание не может быть высказано в этом зале».
«Жертвы! — кричит Марат. — Они забывают, что нужно быть чистыми, чтобы предлагать такие жертвы! Это я, истинный мученик свободы, должен отдать себя за всех! Я обещаю отказаться от своих полномочий в ту минуту, когда вы издадите приказ об аресте двадцати двух; я требую, чтобы, исключив из списка Дюко, Лантена и Дюсо, не заслуживающих чести подвергнуться изгнанию, вы прибавили имена Дефермона и Валазе, которые в него не попали!»
В эту минуту Лакруа, друг и поверенный Дантона, вбегает в зал с вытянутыми руками, как человек, умоляющий защитить его от убийц. «Оружие было направлено мне в грудь! — кричит он. — Конвент под обстрелом! Мы поклялись жить свободными или умереть. Так умрем, но умрем свободными!»
Жиронда и «болото» подтверждают слов Лакруа. Они заявляют, что многие из них были буквально вытеснены в зал и подверглись оскорблениям. Дантон тоже выражает негодование. Барер кричит, что Конвент, которому угрожают, не может издавать законы, что в эту самую минуту на глазах у Конвента раздают войскам, окружившим его, жалованье за службу у мятежников. Дантон поддерживает Барера и требует, чтобы Комитет общественного спасения отомстил за притесняемых народных представителей. Маларме уступает место председателя Эро де Сешелю, величественно исполнявшему эту обязанность в дни позора и слабости.
Быть может, если бы на заседании присутствовали все жирондисты, если бы Верньо произнес в эту минуту одну из своих превосходных речей, успокоил народ и заставил покраснеть Конвент, то попытка Лакруа и Дантона спасения двадцати двух удалась бы. Но все ораторы Жиронды или отсутствовали, или молчали. Один Барер вторично обратился к Собранию. «Граждане, — сказал он, — постараемся узнать, свободны ли мы. Я требую, чтобы Конвент отправился к войскам, которые, конечно, защитят его».
Эро де Сешель встает с кресла и возглавляет процессию из нескольких депутатов. Жирондисты и члены «болота» идут вслед за ними. Монтаньяры в нерешимости остаются на своих местах. «Не ходите, — кричат им якобинцы с трибун, — это ловушка! Вас убьют!» — «Как? Вы покидаете своих сотоварищей, которые хотят ринуться в толпу, и обрекаете их на верную смерть, заставляя предполагать, что существует два Конвента?» — спрашивают, сопровождая свои слова умоляющими жестами, депутаты «болота». Дантон в порыве великодушия бросается к ним. Робеспьер с минуту говорит с Кутоном, Сен-Жюстом и несколькими якобинцами, а затем они наконец решаются сойти со своих скамей и также присоединиться к шествию.
При появлении президента, опоясанного трехцветным шарфом, двери растворяются. Часовые отдают честь. Толпа пропускает народных представителей. Они подходят к площади Карусель. Народ, запрудивший площадь, приветствует депутатов. Конвент бесстрастно слушает эти крики и продолжает шествие до пушек, около которых их дожидается генерал Анрио, окруженный своим штабом. Эро де Сешель приказывает Анрио очистить проход представителям нации. Анрио поднимает свою лошадь на дыбы и делает повелительный жест. «Вы не пройдете до тех пор, — говорит он, — пока не выдадите двадцати двух». «Хватайте этого бунтовщика!» — кричит Эро де Сешель солдатам, показывая на Анрио. Солдаты не трогаются с места. «Канониры, к орудиям! Солдаты, в ружья!» — командует Анрио своим батальонам.
Слова эти передаются офицерами по всей линии. Конвент поворачивает обратно и проходит под сводом дворца в сад. Оставшиеся верными батальоны, стоящие в конце длинной аллеи, кричат членам Собрания, чтобы они шли к ним, и обещают защитить их своим штыками. Эро де Сешель направляется туда. Батальон мятежной секции преграждает ему путь, прежде чем он успевает дойти до моста. Конвент, плотно сомкнувшись вокруг президента, останавливается.
Марат, показавшийся из боковой аллеи в сопровождении толпы молодых кордельеров, кричащих: «Да здравствует друг народа!», призывает депутатов, покинувших свой пост, вернуться назад. Кутон присоединяет насмешки к оскорблениям, которыми осыпают депутатов. «Граждане! — говорит он. — Все члены Конвента должны быть теперь спокойны. Вы прошли среди народа и повсюду нашли его почтительным к своим представителям и неумолимым к заговорщикам. Теперь, когда вы можете совещаться на свободе, я требую уже не обвинительного декрета против двадцати двух, но прямого приказа арестовать их, а также членов комиссии Двенадцати и министров Клавьера и Лебрена!»
Неискренние, но всеобщие аплодисменты свидетельствуют, что Конвент перестал стыдиться своего положения. Лежандр, Кутон и Марат пытаются, однако, вызвать сочувствие к членам комиссии Двенадцати, которые протестовали против ареста Эбера и Варле. Из списка осужденных вычеркивают Фонфреда, Сен-Мартена и некоторых других.
Члены Горы молча спускались со своих скамей, избегая смотреть на тех, кого они только что осудили. Многие бежали. Барбару, Ланжюине, Верньо, Моллево, Гардьен остались на местах, тщетно ожидая вооруженных людей, которые должны были взять их под стражу. Не дождавшись ареста, они отправились по домам.
XLIII
Разрыв между департаментами и Конвентом — Блокада портов — Союзники на границах — Новая конституция — Жирондисты в Кане — Генерал Вимпфен — Общественный обвинитель Марат
Оказав нешуточное давление на своих представителей, народ разошелся, не прибегнув ни к какой крайности. У людей появилось сознание огромной услуги, оказанной свободе. Иллюминовали улицы и предоставили жирондистам свободно выйти из Тюильри и разойтись по домам. Казалось, народу нужны не головы, а власть. Он воображал, что освободил Конвент от ига нескольких честолюбцев и этого вполне достаточно. Народ готов был повиноваться Конвенту, поскольку считал его уже свободным. Ничем невозможно было бы увлечь его к тирании.
Один только человек хотел воспользоваться народным движением ради личного честолюбия: Марат. Это ему не удалось, и теперь он вынужден был клясться перед якобинцами в том, что не стремится к диктатуре. «На меня клевещут, — говорил Марат, — будто бы я требовал для Франции тирана. Я явился сюда не затем, чтобы оправдываться, потому что я убежден, что никто не поверит этой клятве. Неприятно говорить по-французски перед невеждами, которые не понимают этого языка, или перед бездельниками, которые не желают понять его. Вчера в девять часов вечера депутации многих секций явились посоветоваться со мною относительно того, какой линии им держаться. „Как?! — сказал я им. — Бьет набат, возвещающий свободу, а вы спрашиваете советов?“ И тут же прибавил: „Я вижу, что народ не может спастись без предводителя, который направлял бы его действия“. Граждане, окружавшие меня, вскричали: „Вы требуете властелина?“ — „Нет, я требую вождя. Это большая разница“».
Марата упрекали за честолюбие, а Дантона — за бездействие. Тот самый Варле, который в комитете Архиепископства предлагал принять самые жестокие меры против жирондистов, осмелился напасть на Дантона на трибуне кордельеров, среди его друзей и в самом очаге его могущества. Кордельеры, разрешив Варле выступать таким образом против своего кумира, показали этим, что их расположение к нему ослабевает. Дантон при этом отсутствовал.
Вечером Камилл Демулен, яростно защищавший своего патрона, пришел рассказать ему о нахальстве Варле. «Благодарю тебя за то, что ты отомстил за меня этой гадине, — сказал Дантон. — Когда народ найдет второго Дантона, тогда он сможет пожертвовать мною ради своих капризов. Но я ничего не боюсь, — прибавил он, ударив себя по лбу ладонью. — Вот здесь две головы: одна для того, чтобы поднять революцию, другая для того, чтобы управлять ею».
На другой день Гора возобновила работу всех комитетов, кроме Комитета общественного спасения. Депутаты Горы отрешили от должности министров, которых подозревали в приверженности к побежденным, отправили комиссаров в неспокойные департаменты, отменили проект конституции, предложенный жирондистами, и поручили Комитету общественного спасения составить в течение недели проект новой демократической конституции. Депутаты спешили с набором рекрутов и вооружением революционной армии. Кроме того, был издан декрет о насильственном займе у богатых целого миллиарда. Заседания Горы стали уже не прениями, а короткими решениями, тотчас же утверждаемыми голосованием.
Исполнительную власть лишили последних остатков независимости. Комиссары, посланные в департаменты, были облечены диктаторской властью, упразднявшей все инстанции-посредники и даже все законы. Это коллективное диктаторство имело перед диктаторством одного лица то преимущество, что не могло быть уничтожено ударом кинжала.
Отныне перестали спорить, а начали действовать. Исчезновение жирондистов отняло голос у Революции. Вместе с Верньо было изгнано красноречие. В Конвенте водворилась тишина, нарушаемая лишь шагами проходивших за оградой батальонов, залпами вестовой пушки и ударами топора гильотины.
Бюзо, Барбару, Гюаде, Луве, Салль, Петион, Лесаж, Кервелеган, Ланжюине бежали в Нормандию и, подняв восстание в департаментах между морем и Парижем, основали в Кане центр восстания против тирании столицы, назвав его Центральным собранием сопротивления тирании. Биро и Шассе добрались до Лиона: кварталы этого города уже успели вооружиться. Бриссо бежал в Мулен, Рабо Сент-Этьен — в Ним. Гранжнев, посланный Верньо, Фонфредом и Дюко в Бордо, набрал батальоны, готовые идти против столицы. Тулуза последовала этому примеру. Западные департаменты все были охвачены мятежом и обрадовались, что раздираемая на части республика предлагает им поддержку одной из двух партий для восстановления королевской власти.
Семьдесят департаментов объявили о разрыве с Конвентом и поручили своим властям принять все меры для отмщения за народных представителей. Они обменялись депутациями, чтобы обсудить общий план восстания. Марсель, по призыву Реббеки и молодых друзей Барбару, набрал десять тысяч человек и заключил в тюрьму комиссаров Ру и Антибуля. Роялизм, всегда тлевший на Юге, незаметно превратил это патриотическое движение в восстание в пользу монархии. Ребекки, огорченный тем, что нанес невольный удар республике, и в отчаянии, что увидит, как роялисты овладеют южными провинциями, избавился от угрызений совести с помощью самоубийства: утопился в море. Шесть тысяч марсельцев были уже в Авиньоне, собираясь подняться по Роне и присоединиться к мятежникам Нима и Лиона. Соединившиеся Бретань и Нормандия сосредоточили свои силы в Эвре.
Внешнее положение Конвента было не менее напряженным. Англия блокировала все французские порты. Стотысячная армия — англичане, голландцы и австрийцы — занимала северные департаменты. Валансьен, бомбардированный тремястами артиллерийскими орудиями, обратился в груду пепла. Пруссаки перешли Рейн и угрожали эльзасским департаментам: Кюстин и рейнские гарнизоны с трудом удерживали их. Майнц, предоставленный самому себе, геройски отражал атаки генерала Калкройта с его 70-тысячным войском. Прусский король, с другим армейским корпусом стоявший против Кюстина, ожидал известий о сдаче Майнца, чтобы нанести последний удар. Восстание жирондистов взволновало Франш-Конте от Страсбурга до Альп и сделало высоты Юры недоступными для эмигрантских войск. Война с Испанией велась с обеих сторон довольно вяло и не покрыла славой ни одну из них. Неудачи революционной армии в Вандее довершали эту картину бедствий республики.
Надо было так же верить в освобождение, как верила нация, чтобы не отчаяться в исходе борьбы. Конвент обладал этой верой: он решил или погибнуть самому и погубить вместе с собой Францию, или выиграть дело.
Конвент, после нескольких дней прений, принял новую конституцию, план которой поручил составить Комитету общественного спасения. Эро де Сешель прочитал проект 10 июня, 24-го дело было решено. Робеспьер, взгляды которого одержали верх в этой затее, защищал ее от нападок фанатиков-демагогов, вроде Ру и Шабо. «Остерегайтесь, — говорил он, — этих бывших сторонников союза с австрийцами. Берегитесь новой маски, которой хотят прикрыться аристократы! Я предвижу в будущем новое преступление, но мы обнаружим его и уничтожим врагов народа, под каким бы видом они ни явились!»
Якобинцы, притворявшиеся, что на их стороне выгода людей умеренных и что своим могуществом они обязаны этому обдуманному образу действий, аплодировали словам Робеспьера. Они отправили депутацию умолять кордельеров, чтобы те заставили замолчать хулителей конституции. Кордельеры склонились на сторону якобинцев: проект конституции, санкционированный таким образом двумя обществами, управлявшими общественным мнением Парижа, был послан во все муниципалитеты для представления французскому народу.
Что касается Дантона, то он бросил эту конституцию народу, как сломанную игрушку. Он любил в народе только его силу, мало верил в свободу, принадлежал к числу людей, которые восстают против тирании, только примкнув к еще большей тирании. Когда они перестают быть взбунтовавшимися рабами, то становятся самыми наглыми властителями. Все эти конституционные теории были в глазах Дантона ребячеством; ему ничего не стоило написать их, потому что ничего не стоило потом уничтожить.
Скоро пронесся слух, что Конвент, поставленный в затруднительное положение арестом жирондистов в Париже, не решается ни судить их, ни освободить, и предполагает даровать двадцати двум амнистию. Вал азе, возмущенный оскорблением, заключавшимся в подобном прощении, написал Конвенту, что не может поверить, чтобы у Комитета общественного спасения имелся такой проект. Верньо отправил письмо в том же духе. «Я требую, чтобы меня судили, — писал он. — Я добровольно дал арестовать себя; если мои обвинители не представят доказательств моей вины, то я требую, чтобы они были отправлены на эшафот. Граждане, сотоварищи! Обращаюсь к вашей совести! Ваш суд принадлежит суду потомства».
Остатки партии Жиронды, ободренные восстанием департаментов, отправились на заседание Конвента, чтобы настоять на прочтении петиций в пользу арестованных. Но Конвент не обратил на эти петиции внимания. Барер прочел донесение Комитета общественного спасения. Он прославлял 31 мая, но требовал строгих мер для восстановления среди якобинцев и членов Коммуны уважения к верховной власти. «Граждане Горы, — в заключение сказал Барер, — конечно, вы заняли самое верхнее место не для того, чтобы вознестись выше истины; сумейте же выслушать ее. Не выносите раньше времени приговор вашим сотоварищам, которых вы изгнали из своей среды, дайте заложников взволнованным департаментам». Робеспьер, Лакруа, Тюрио и Лежандр были возмущены этим проявлением слабости.
В это время Конвенту донесли, что административные власти восставших департаментов только что приказали арестовать комиссаров Ромма, Приера из Кот-д’Ора, Рюля и Приера из Марны. Депутаты единогласно потребовали немедленного наказания восставших. Некоторые члены правой стороны предложили держаться выжидательной тактики. При этих словах Дантон вышел из флегматичного состояния, которое ему ставили в упрек.
«Как?! — вскричал он. — Кажется, сомневаются в республике?! Во время тяжелых родов политическим телам так же, как и физическим, грозит смерть! Нас окружают грозовые тучи! Гром гремит! Ну так из его раскатов родится деяние, которое обессмертит французскую нацию. Говорят, что восстание в Париже вызывает волнение в департаментах? Объявляю перед лицом Вселенной, что нынешние события создадут славу этому чудному городу! Объявляю перед лицом Франции, что если бы не пушка 31 мая, то сейчас нам предписывали бы законы заговорщики! Пусть преступление этого восстания падет на нас!!!»
Этот гордый вызов, брошенный потомству, был встречен единодушным одобрением Горы. Дантон присоединился к восстанию 31 мая и перед лицом всей Франции окрестил его патриотическим.
Кутон воспользовался вызванным этими словами энтузиазмом и предложил поставить на голосование не только вопрос об амнистии шайкам, осаждавшим Конвент, но также о выражении одобрения Коммуне, народу и комитету мятежников Парижа, действовавшим 31 мая, 1 и 2 июня.
Дюко, оставшийся с Фонфредом на опустевших скамьях жирондистов, пытался смягчить гнев победителей. Ему ответили ропотом. Указали на побег Ланжюине и Петиона, которые бежали, чтобы присоединиться к своим товарищам в Кане. Робеспьер потребовал немедленного отчета об арестованных депутатах.
Фонфред пытался добиться хотя бы того, чтобы в приказе об аресте его друзей указали особую тюрьму, куда они должны быть заключены, чтобы не смешивать их с обыкновенными преступниками. Но и тут встретил холодное равнодушие. Жены и дети арестованных просили разрешить им разделить участь их мужей и отцов. Гора отчасти удовлетворила, отчасти отвергла эти частные просьбы, смотря по личному отношению к просителям.
Наконец Сен-Жюст по поручению Робеспьера прочитал доклад о событиях 31 мая. В этом докладе, где были собраны в один обвинительный акт все наветы Камилла Демулена, жирондистов изобразили в виде заговорщиков, имевших целью восстановить низвергнутую королевскую власть и предать республику иностранцам. Предлагалось даровать амнистию восставшим департаментам. Объявлялись изменниками отечества Бюзо, Барбару, Горза, Ланжюине, Салль, Луве, Бергуин, Бирото и Петион; отдавали под суд Жансонне, Верньо, Моллево и Гардьена; Бертрана, члена комиссии Двенадцати, обязывали явиться в Конвент. На основании этого Шабо потребовал и получил обвинительный декрет против Кондорсе, который только что перед этим защищал своих друзей в послании к французам.
Конвент, свирепствуя таким образом в центре, в то же время боролся и на окраинах. Очаги восстания федералистов появились в Кане, в Нормандии, и в Бретани.
Восемнадцать депутатов, бежавших в Кан, по своему прибытию представились Комитету восстания и разжигали пыл федералистов рассказами о преследованиях. Город дал им убежище в доме бывшего интендантства. Они скорее оставались зрителями, чем действующими лицами восстания. Число мятежников увеличилось несколькими полками, составлявшими гарнизон Кана и его окрестностей, и несколькими батальонами волонтеров, составленными из цвета молодежи Ренна, Лориена и Бреста. Авангард этих войск, бывший под началом де Пюизе, эмигранта, преданного королю, стоял в Эвре. Он провел целый год, скрываясь в трущобах среди лесов Бретани, и оттуда своими посланиями раздувал пламя восстания, а теперь носил трехцветную одежду и разделял мнения жирондистов.
Де Пюизе повел свои войска в количестве двух тысяч человек на Вернон. Но так как имел неосторожность расположить их лагерем в окрестностях Брекура, а сам уехал в ночь на 13 июля, то достаточно было нескольких пушечных выстрелов со стороны войск Конвента, чтобы рассеять их. Это поражение стало сигналом к поражению всех мятежных войск. Даже бретонские батальоны вернулись в свои департаменты. Робер Линде, комиссар Конвента, беспрепятственно вступил в Кан. Депутаты думали только о собственной безопасности. Генерал Вимпфен предложил им убежище в Англии, но они отказались, не желая смешивать свое дело с делом эмигрантов.
Жирондисты обнаружили в Кане больше равнодушия к своему положению, чем желания улучшить его. Они возбуждали скорее любопытство, чем энтузиазм. Все гибло у них на глазах. Республика, которую они создали, отказала им в поле битвы, сохранив для них только эшафот. Франция жалела этих преследуемых людей, но не хотела унизиться до мести за них. Людей приводили в ужас жестокости, причиненные представительству, притеснения Конвента, эшафоты, но еще более они опасались вторжения чужеземцев. Они не могли поставить на один уровень временную тиранию Комитета общественного спасения, как бы ни была жестока эта тирания, и гибель Отечества.
Имя федералиста сделалось худшим проклятием в представлении народа: то было отцеубийство, которое могло быть искуплено только смертью. Каждый день по подозрению в федерализме в революционный комитет отправляли людей, которых это имя обрекало на народную месть. Марат не переставал клеймить этим именем всех приверженцев изгнанных депутатов, открыто обличал Коммуну, кордельеров и весь Конвент. Благодаря нерешительности Дантона, медлительности Робеспьера и умеренности якобинцев Марат в это время достиг апогея своей популярности и могущества.
«Марат нам необходим, — говорил Камилл Демулен Дантону, желая оправдаться в том, что льстил этому человеку. — Пока Марат с нами, народ будет за нас; для него ничего нет выше мнений Марата. Он выше всех, и никто не может превзойти его».
После изгнания жирондистов Марат отказался оставаться депутатом, не желая, как он говорил, произносить приговор над теми, кого считал своими личными врагами. Снедаемый проказой, он почти не выходил из своего мрачного жилища, не переставая оттуда предписывать народу, кого он должен подвергнуть изгнанию, указывал на подозрительных лиц, намечал жертвы и отдавал приказания даже Конвенту. Разъехавшиеся по департаментам жирондисты, чтобы усилить ненависть Франции к своим врагам, назвали их маратистами. Это оскорбительное прозвище еще более возвеличило Марата во мнении толпы.
XLIV
Шарлотта Корде
На широкой и густо заселенной улице, пересекающей город Кан, столицу низменной Нормандии и центр восстания жирондистов, рядом со старинным домом с серыми стенами, выцветшими от дождя и потрескавшимися от времени, известным под именем Большого замка, стоял двухэтажный домик, проковывающий к себе внимание благодаря воспоминаниям, которые возбуждает.
Через низкую, редко отворяемую дверь в конце узкого прохода виднелся небольшой дворик, а в глубине его — каменные ступени винтовой лестницы. Два окна с поперечными перекладинами, одно из которых выходило на двор, а другое — на задворки Большого замка, пропускали через свои восьмиугольные стекла бледный свет, скупо озарявший скромную комнату, единственным украшением которой служил камин. Тусклый свет придавал этой удаленной от уличного шума комнатке, ветхой и мрачной, характер таинственности и меланхолии, которыми народное воображение, как саваном, любит окутывать колыбели великих мыслителей. Тут в начале 1793 года жила внучка великого французского трагика Пьера Корнеля. Поэты и герои сходны между собой. Между ними нет другого различия, кроме того, что существует между замыслом и исполнением: одни приводят в исполнение то, что задумывают другие.
Дом в Кане принадлежал бездетной вдове, старой и хворой, госпоже Бретвиль. С ней уже несколько лет жила ее родственница, которую она приютила и воспитала, чтобы иметь опору на старости лет и не чувствовать одиночества. Девушке было в то время двадцать четыре года. Грация и достоинство сквозили в ее походке и во всех движениях. Горячий Юг наложил печать на цвет ее лица. Глаза — большие, с широким разрезом — меняли свой цвет, как морская волна, оттенок которой зависит от состояния погоды: они были голубыми, когда она погружалась в размышления, и почти черными, когда оживлялась. Очень длинные ресницы придавали ее взгляду особенную глубину, рот классической формы демонстрировал идеальный рисунок губ. Округленный овал носил отпечаток молодости и цветущего здоровья. Девушка легко краснела и бледнела. Руки ее были сильными, мускулистыми, кисти рук — длинными, с продолговатыми пальцами. Простота и темный цвет платья соответствовали ее скромности. Звук голоса — живое эхо, отражающее всю душу в одном колебании воздуха, — производил глубокое впечатление. В клавиатуре этой души звучали такие глубокие и звучные ноты, что голос девушки производил еще большее впечатление, чем ее наружность.
Эту девушку звали Шарлотта Корде д’Армон.
Отец ее принадлежал к числу тех провинциальных дворян, которых бедность поставила почти в положение крестьян. Земля, обрабатываемая этими «сельскими дворянами», едва способна была прокормить их. Дворянство и земля во Франции вступили в такой же союз, как аристократия и море в Венеции.
Франсуа де Корде занимался политикой, а также литературой, что являлось в то время обычным явлением. Он от всей души желал, чтобы скорее вспыхнула революция, написал несколько сочинений против деспотизма и закона о старшинстве, выказав в них пылкость философа и предчувствие переворота. Вследствие ли недостатка ума, беспокойного характера или стесненных имущественных обстоятельств, ему не удалось пробиться в жизни. Пятеро детей — два сына и три дочери — все более заставляли его чувствовать тяготы нужды. Благодаря своему благородному происхождению и бедности девочки Корде были приняты в монастырь в Кане, игуменьей которого являлась госпожа Бельзунс. Аббатство Святой Троицы, с широкими переходами и часовней в романском стиле, было построено еще в 1066 году женой Вильгельма Завоевателя, затем разорилось и стояло в развалинах до 1730 года, когда его великолепно отреставрировали и оно превратилось в один из лучших монастырей в королевстве.
Восприимчивая душа и пылкое воображение довели Шарлотту до мечтательного созерцания, когда кажется, что видишь Бога, — состояние души, которое легко может перейти в подвиги благочестия. В течение нескольких лет она оставалась образцом набожности, мечтала закончить свою едва начавшуюся жизнь на первой странице и погрести себя в могиле, где вместо смерти нашла бы покой, любовь и счастье; чем больше крепла ее душа, тем быстрее Шарлотта утверждалась в своих мыслях. Она быстро постигла глубину своей детской веры и провидела за общепризнанными догматами другие, новые, светлые и высокие. Она не отреклась ни от Бога, ни от добродетели — двух главнейших душевных своих привязанностей, но придала им другие имена, другие формы.
Игуменья госпожа де Бельзунс и ее помощница госпожа де Понтекулан отличали Шарлотту. Они приглашали ее на свои носившие отчасти светский характер собрания, которые обычай разрешал игуменьям, чтобы поддерживать отношения с родственниками, жившими за монастырской оградой. Таким образом Шарлотта познакомилась с двумя молодыми людьми, племянниками этих дам: с Бельзунсом, полковником кавалерийского полка, стоявшего гарнизоном в Кане, и Понтекуланом, офицером королевского конвоя. Первый из них был вскоре убит во время народного мятежа в Кане; другой, требовавший от революции умеренности, принял участие в Законодательном собрании и в Конвенте и подвергся гонениям по делу жирондистов. Говорили, что слишком нежное воспоминание о молодом Бельзунсе побудило Шарлотту поклясться в мести. Ничто, однако, не подтверждает этого предположения и все опровергает его. Если бы революция вселила в сердце Шарлотты только жажду мести за смерть возлюбленного, то ее ненависть распространилась бы одинаково на все республиканские партии и она под влиянием фанатизма не совершила бы такого кровавого дела, которое обагрило память о ней.
Шарлотте было девятнадцать лет, когда упразднили монастыри. Оба ее брата, состоявшие на службе у короля, эмигрировали. Одна из сестер умерла. Другая заведовала в Аржантаке бедным хозяйством своего отца. Старая тетка, госпожа де Бретвиль, приютила Шарлотту у себя в Кане.
Исполнив обязанности по дому, проводив тетку в церковь и обратно домой, Шарлотта могла свободно располагать остальным своим временем. Ее ни в чем не стесняли, не руководили ни ее взглядами, ни ее чтением. Возраст Шарлотты, казалось бы, делал в ее глазах привлекательными романы, которые преподносят праздным умам уже готовые мечты. Но разум увлекал ее к чтению философских сочинений, обращающих смутные инстинкты человека в величественные картины, и исторических книг, рассказывающих, как приводились в исполнение теории и осуществлялись идеи.
Она находила удовлетворение этой двойной потребности разума и сердца в Руссо, Рейнале и Плутархе. Эти три автора сменяли один другого в ее руках. Она прочитала также «Элоизу» и «Фоблаза». Хоть ее воображение и распалялось, но душа оставалась чистой и непорочной. Снедаемая потребностью любить, она вследствие осторожности и бедности тем не менее всегда удерживалась от окончательного признания. Шарлотта буквально разрывала в клочья свое сердце, чтобы уничтожить узы, которые могли бы связать ее. Любовь, отвергнутая рассудком и судьбой, изменила не свойство свое, а идеал, превратилась в смутную, но горячую преданность мечте об общем благе. Страсть, которую она питала бы к одному человеку, Шарлотта перенесла на отечество. Девушка дошла до того отчаянного состояния души, которое разбивает личное счастье, не ради славы или честолюбия, как госпожа Ролан, но ради свободы, как Юдифь или Эпихариса. Недоставало только случая; Шарлотта ждала его, и ей казалось, что он уже близко.
Присутствие в Кальвадосе изгнанных и бежавших депутатов довело преданность города Кана жирондистам до обожания, а отвращение к Марату до крайности. В Нормандии до 10 августа более желали конституционной монархии, чем ниспровержения трона. Руан, главный город этой провинции, был предан Людовику XVI и предложил ему убежище. Казнь монарха опечалила и тронула добрых граждан.
Шарлотта Корде, сердцу которой уже был нанесен удар, чувствовала, как все несчастья, обрушившиеся на отечество, вызывают отчаяние в ее сердце. Она видела гибель Франции, видела жертвы и думала, что знает мучителя. Она дала себе клятву отомстить за первых, наказать второго и спасти всех. В течение нескольких дней Шарлотта таила это смутное решение в своем сердце, не зная еще, какого деяния потребует от нее родина и какой узел преступлений всего необходимее рассечь. Она только пристально наблюдала события и людей, чтобы не обмануться в своем мужестве.
Жирондисты, которых город Кан принял под свою защиту, поселились в прежнем дворце интендантства.
Вместе с комиссией мятежа туда перенесли и правительство федералистов; тут происходили народные собрания, на которые граждане приходили, чтобы послушать первых жертв монархии и последних мстителей свободы. Так долго царившие имена Петиона, Бюзо, Луве, Барбару говорили воображению Кальвадоса еще больше, чем их речи. Шарлотта Корде, невзирая на предрассудки своего сословия, пол и возраст, несколько раз решилась посетить эти собрания вместе со своими подругами. Она обратила на себя общее внимание безмолвным энтузиазмом, который выражался только слезами и еще более увеличивал ее красоту. Она хотела увидеть тех, кого хотела спасти. Манеры, речи, лица этих первых апостолов свободы, почти все молодые, запечатлелись в ее душе и придали ее желанию пожертвовать собой ради их дела страстный характер.
Генерал Вимпфен, получивший от Конвента приказ стянуть войска к Парижу, ответил, что двинется туда с 60 тысячами не для того, чтобы подчиниться воле похитителей власти, но чтобы восстановить неприкосновенность народного представительства и отомстить за департаменты. Луве с зажигательными прокламациями обращался к городам и деревням Морбигана, Кот-дю-Нор, Майенны, Иль-э-Вилен, Нижней Луары, Финистера, Эра, Орна и Кальвадоса. «Силы департаментов, направляющиеся к Парижу, — говорил он, — идут туда не затем, чтобы искать встречи с врагами и бороться с ними, а для того, чтобы побрататься с парижанами и утвердить колеблющуюся статую Свободы! Граждане, когда вы увидите, что эти войска идут по вашим дорогам, братайтесь с ними. Не допустите, чтобы жадные до крови изверги остановили их во время их шествия!»
Слова эти завербовали множество добровольцев. Более шести тысяч человек собрались в Кане, в воскресенье 7 июля депутаты Жиронды и власти Кальвадоса сделали им смотр. Эти добровольцы напоминали собрание патриотов 1792 года, увлекавшее на границы всех, независимо от взглядов и суждений. Шарлотта Корде с балкона смотрела на вербовку и отъезд. Энтузиазм юных граждан едва достигал степени ее собственного энтузиазма, она находила его еще даже слишком слабым.
Этот энтузиазм был, говорят, отчасти подогрет в ней тайной привязанностью, которую она питала к одному из юных волонтеров. Молодого человека звали Франкелен. Он вел с Шарлоттой переписку, полную сдержанности и уважения. Она отвечала ему с грустной и нежной осторожностью девушки, которая может принести в приданое только свои несчастья. Шарлотта подарила свой портрет юному волонтеру и позволила ему любить себя по крайней мере в мечтах.
Франкелен записался в Канский батальон. Шарлотта не могла не побледнеть, увидев, как этот батальон дефилирует перед своим отъездом. Слезы навернулись на ее глаза. Петион, знакомый с девушкой и проходивший в этот же момент под ее балконом, обратился к ней со словами: «Неужели вы были бы довольны, если бы они остались?» Шарлотта покраснела. Петион не понял причину этого волнения, но будущее объяснило его.
Ни у кого не могла бы она узнать о происходящем в Париже больше, чем у жирондистов. Под благовидным предлогом Шарлотта являлась в здание интендантства, где граждане, имевшие дело к депутатам, могли видеться с ними. Она встречалась там с Бюзо, Петионом, Луве, два раза разговаривала с Барбару. Беседы под предлогом политики молодой энтузиастки с самым юным и красивым из жирондистов Луве могли вызвать у некоторых улыбку недоверия. Так и было в первую минуту. Луве, написавший впоследствии гимн в честь молодой героини, сначала думал, что ею руководит одно из тех низменных чувственных побуждений, которые он описывал в своем романе. Бюзо, чьей душой владел другой образ, едва взглянул на Шарлотту. Петион, проходя через приемную, где Шарлотта дожидалась Барбару, ласково посмеялся над ее усердием и, указав на контраст между ее поведением и происхождением, сказал с улыбкой: «Вот прекрасная аристократка, пришедшая поглазеть на республиканцев!» Девушка поняла намек, оскорбительный для ее скромности, сначала покраснела, потом возмутилась тем, что покраснела, и ответила серьезно, но с нежным укором: «Гражданин Петион, теперь вы судите обо мне, не зная меня, но когда-нибудь вы узнаете, что я из себя представляю».
Во время аудиенции у Барбару она просила рекомендательное письмо к одному из коллег Барбару в Конвенте, который мог бы представить ее министру внутренних дел. Шарлотта говорила, что у нее на руках есть доказательства в пользу мадемуазель де Форбен, ее подруги детства. Она вынуждена была эмигрировать вместе с родителями и терпела нужду в Швейцарии. Барбару дал Шарлотте письмо к Деперре, одному из депутатов Жиронды, не попавшему в число изгнанников. Это письмо, приведшее Деперре к эшафоту, не заключало в себе ни одного слова, которое можно было бы поставить ему в вину. Барбару ограничился тем, что поручал молодую гражданку Кана вниманию и покровительству депутата.
Взяв это письмо и паспорт для поездки в Аржантан, Шарлотта поблагодарила Барбару и простилась с ним. Звук ее голоса поразил молодого человека и вызвал предчувствие, которого он тогда не понял. «Если бы мы знали тогда ее намерение, — говорил он, — и были бы способны воспользоваться ее рукой для совершения преступления, то направили бы ее месть не на Марата».
Веселость, не покидавшая Шарлотту даже во время серьезных разговоров о политике, исчезла, когда она навсегда покинула убежище жирондистов. Она постаралась скрыть внутреннюю борьбу под суетливостью и притворством. Только серьезное выражение ее лица и несколько слезинок, которые она не могла утаить от своих близких, выдали тоску, овладевшую самоубийцей. На вопрос тетки она ответила: «Я плачу о несчастьях моей родины, моих родителей и о ваших. Пока Марат жив, никто не может ручаться ни за один день своей жизни».
Госпожа де Бретвиль вспомнила впоследствии, как, войдя в комнату Шарлотты, чтобы разбудить ее, нашла на постели Библию, раскрытую на Книге Юдифи, и прочла следующий подчеркнутый стих: «Юдифь вышла из города, сверкая чудной красотой. Бог одарил ее для спасения Израиля».
Восьмого июля она выехала в Аржантан. Там Шарлотта навеки простилась с отцом и сестрой, сказала им, что идет искать убежища в Англии и хочет получить родительское благословение перед долгой разлукой.
Отец согласился на ее отъезд.
Уныние и бедность, царившие в родительском доме, могила матери, изгнание братьев, крушение всех надежд, разрыв со всеми связями детства, вместо того чтобы ослабить решение молодой девушки, еще сильнее подкрепили его. Ей не о чем было жалеть, нечего было ожидать. Обнимая отца и сестру, она больше оплакивала прошлое, чем сокрушалась о будущем. В тот же день она вернулась в Кан.
Девятого июля на рассвете она взяла подмышку небольшой сверток, обняла тетку и сказала ей, что хочет рисовать сушильщиц сена на соседних лугах. Девушка вышла из дома с папкой в руках, — чтобы никогда уже не вернуться.
Внизу лестницы она встретила сына бедного работника по имени Робер, который жил в доме, выходившем окнами на улицу. Мальчик по обыкновению играл на дворе. Иногда она давала ему картинки. «Возьми, Робер, — сказала она, подавая ему папку для рисования, — будь умником и поцелуй меня. Ты меня больше никогда не увидишь». Это была последняя слеза, пролитая ею. Теперь ей оставалось только пожертвовать своей кровью.
Ее отъезд, причины которого не знал никто из ее соседей, обнаружили с помощью одного обстоятельства, ясно обрисовавшего спокойствие ее души. Против дома госпожи де Бретвиль, на противоположной стороне улицы, жило семейство Лакутюр. Сын, страстный любитель музыки, ежедневно посвящал несколько утренних часов игре на фортепьяно. Через открытое окно игра его была слышна и в соседних домах. Шарлотта, приоткрывала свое окно и, наполовину спрятавшись за занавесками, облокачивалась на каменный подоконник и мечтала под звуки музыки. Молодой музыкант, воодушевленный присутствием девушки, не пропускал ни одного дня, чтобы в обычный час не сесть за свой инструмент, а Шарлотта каждый день отворяла свое окно. Сходные вкусы, казалось, установили безмолвную связь душ, узнавших друг друга благодаря музыке.
Накануне того дня, когда Шарлотта окончательно решила привести в исполнение свое намерение, звуки фортепиано раздались в обычный час. Шарлотта по привычке раскрыла окно и слушала музыку так же сосредоточенно, как всегда, а замечталась еще глубже. Но она захлопнула окно раньше, чем музыкант закрыл крышку инструмента, как будто желала избежать тяжелого прощания с последним пленявшим ее удовольствием.
На следующий день молодой музыкант, сев за свой инструмент, посмотрел, не откроется ли при звуках прелюдии окно племянницы госпожи де Бретвиль. Окно не открылось. Таким образом он узнал об отъезде Шарлотты.
Она приехала в Париж в четверг 11 июля, в полдень, и попросила проводить ее в гостиницу, которую ей рекомендовали в Кане, — «Провидение» на улице Старых Августинцев. Шарлотта заснула в пять часов вечера и проспала крепким сном до следующего дня. Никто не может знать, что она пережила в своей душе в течение долгих часов уединения в гостинице, среди шума столицы, суматоха которой поглощает все мысли: только проснувшись, она ясно увидела, что принятое решение должно быть приведено в исполнение. Кто может соразмерить силу идеи и внутреннюю борьбу? Идея восторжествовала.
Надев простенькое, но приличное платье, Шарлотта отправилась к Деперре. Друг Барбару заседал в Конвенте. Дочери его, за отсутствием отца, взяли у молодой девушки рекомендательное письмо, а она вернулась к себе и провела весь день в своей комнате: читала, размышляла и молилась. В шесть часов она опять пошла к депутату. Он ужинал со своим семейством и друзьями, встал из-за стола и принял ее без свидетелей. Шарлотта просила проводить ее к министру внутренних дел Тара, чтобы своим присутствием и влиянием поддержать правдивость доказательств, которые хотела представить.
Деперре, вследствие позднего времени и присутствия гостей, отказался проводить Шарлотту к Тара, но сказал, что заедет за нею на следующий день утром и отвезет в Собрание. Она сообщила ему свое имя и адрес и сделала несколько шагов к выходу; потом, как бы поддавшись чувству симпатии, которую ей внушило честное лицо это человека, она сказала ему голосом, полным задушевности: «Позвольте мне подать вам совет, гражданин: оставьте Конвент, вы не можете принести там больше пользы; поезжайте в Кан и присоединитесь к вашим друзьям и братьям». — «Мое место в Париже, — ответил депутат, — и я его не покину». — «Вы делаете ошибку, — многозначительно возразила Шарлотта. — Верьте мне, — прибавила она, понизив голос, — бегите, бегите до завтрашнего вечера!» Слова эти Деперре объяснил себе как простой намек на опасность, угрожавшую в Париже людям его партии. Он вернулся к друзьям и сказал им, что в манерах и словах молодой девушки, с которой он только что разговаривал, было что-то странное.
Вечером того же дня Конвент издал декрет, повелевавший опечатать бумаги депутатов, подозреваемых в сношениях с двадцатью двумя. В их числе был и Деперре. Однако на следующий день, 13-го, рано утром он зашел за Шарлоттой, чтобы проводить ее к Тара. Министр не мог принять их ранее восьми часов вечера. Эта неудача огорчила депутата. Он объяснил молодой девушке, что вследствие мер, принятых Конвентом прошлой ночью, отныне его покровительство может скорее повредить ей, чем принести пользу, и расстался с нею у дверей гостиницы. Она сделала вид, что входит туда, тотчас же вышла опять и, спрашивая дорогу на каждой улице, добралась до Пале-Рояля.
Шарлотта вошла в сад не как путешественница, желающая удовлетворить свое любопытство лицезрением памятников и общественных садов, но как человек, у которого в городе есть дело и который не хочет потерять ни одного часа и сделать лишнего шага. Отыскав под галереями магазин оружейника, она вошла туда, выбрала кинжал с ручкой из черного дерева, заплатила три франка, спрятала его под косынку и медленными шагами вернулась в сад, где присела на минуту на одну из каменных скамеек.
Там, хоть и погруженная в свои мысли, она все же любовалась играми детей, некоторые из которых доверчиво прислонялись к ее коленям. Девушку угнетала мысль не о самом поступке, который она уже решила совершить, но способ его осуществления. Она хотела придать убийству вид торжественного заклания, которое повергло бы в ужас души подражателей тирана. Сначала Шарлотта намеревалась подойти к Марату и убить его на Марсовом поле во время торжественной церемонии праздника Федерации, которая должна была состояться 14 июля. Отсрочка этого торжества до дня победы над вандейцами и мятежниками лишила ее арены действий. Второй мыслью было убить Марата на вершине Горы, посреди Конвента, на глазах его поклонников и соратников.
Но из разговоров с Деперре она узнала, что Марат больше не появляется в Конвенте. Значит, приходилось искать свою жертву в другом месте и, чтобы приблизиться к ней, следовало обмануть ее. Шарлотта написала Марату записку, которую отдала привратнице «друга народа». «Я приехала из Кана, — писала она. — Ваша любовь к отечеству заставляет меня предполагать, что вам очень интересно будет узнать о печальных событиях в этой части республики. Я приду к вам около часу, будьте добры принять и выслушать меня. Я предоставлю вам возможность оказать Франции большую услугу».
Шарлотта, рассчитывая на впечатление, которое должна была произвести ее записка, отправилась в назначенный час к Марату, но ей не удалось попасть к нему. Тогда она оставила вторую записку, еще более убедительную и искусно составленную. Девушка взывала уже не только к патриотизму, но и к милосердию «друга народа» и ставила ему западню, рассчитывая именно на предполагаемое великодушие. «Я писала вам сегодня утром, Марат; получили ли вы мое письмо? Я сомневаюсь в этом, потому что меня отказались пропустить к вам. Повторяю, что приехала из Кана, что могу сообщить вам вещи, чрезвычайно важные для блага республики. К тому же меня преследуют за мою приверженность к свободе. Я несчастна; этого достаточно, чтобы я имела право на ваш патриотизм».
Не ожидая ответа, Шарлотта вышла из дома в семь часов вечера, одетая с большей тщательностью, чем обыкновенно, чтобы обмануть бдительность людей, окружавших Марата. Поверх белого платья она накинула шелковую косынку. Эта косынка, прикрывавшая грудь, была собрана у талии и завязана сзади узлом. Волосы были прикрыты нормандским чепчиком, нежные кружева которого спускались ей на щеки. Широкая зеленая лента стягивала прическу на висках, волосы выбивались из-под нее на затылке, и несколько локонов падали на плечи. Ни бледность лица, ни блуждающий взгляд не разоблачили намерений девушки. Оставаясь все такой же привлекательной, она постучала в жилище Марата.
Этот дом, можно сказать, кичился своей бедностью. Казалось, его хозяин хотел сказать посетителям: «Взгляните на „друга народа“ и на образец для народа! Он остался верен народу в жилище, в своих привычках, в одежде». Бедность стала вывеской трибуна; хотя она и казалась неестественной, но все-таки была искренней. Хозяйство Марата велось так же, как у любого простого рабочего. Известна женщина, заведовавшая его хозяйством. Раньше звали ее Катериной Эврар, но с тех пор как «друг народа» дал ей свое имя, женившись на ней по примеру Руссо «в прекрасный день при свете солнца», ее начали называть Альбертиной Марат. Одна-единственная служанка помогала этой женщине в ее хлопотах по дому. Посыльный исполнял поручения вне дома, а в свободные минуты занимался в передней сортировкой и отправкой листков и объявлений «друга народа».
Медленно подтачивавшая силы Марата болезнь не остановила его лихорадочной деятельности. Более спешивший убивать, чем жить, он желал отправить на тот свет раньше себя как можно больше жертв. Страх, внушаемый домом Марата, возвращался туда же в виде вечной боязни убийства. Его подруге и близким казалось, что они видят столько же кинжалов, сколько он сам направил на триста тысяч граждан. Доступ в его дом оказался так же труден, как доступ во дворец тирана. К нему допускались лишь верные друзья и доносчики, после строгого предварительного опроса.
Хоть Шарлотта и не знала об этих препятствиях, но подозревала, что они могут существовать. Она вышла из кареты на противоположной стороне улицы, против жилища Марата. День клонился к вечеру; особенно казалось темно в этом квартале, с высокими зданиями и узкими улицами. Привратница сначала отказалась пропустить незнакомую молодую девушку во двор. Но Шарлотта настаивала и, несмотря на протест привратницы, поднялась на несколько ступеней лестницы. Услышав шум, подруга Марата приотворила дверь и тоже отказалась впустить незнакомку. Спор двух женщин, из которых одна умоляла разрешить ей переговорить с «другом народа», а другая продолжала загораживать дверь, достиг слуха хозяина дома. Он понял, что посетительница — та самая особа, от которой он получил два письма в течение дня. Повелительным и громким голосом он приказал впустить ее.
Из чувства ли ревности или вследствие недоверия, но Альбертина исполнила приказание ворча и крайне неохотно. Она ввела молодую девушку в небольшую комнату, где находился Марат, и, уходя, оставила дверь открытой, чтобы слышать каждое слово и видеть каждое движение.
Комната была освещена слабо. Марат сидел в ванне. Но, несмотря на принудительный покой, в котором находилось его тело, душа его не отдыхала. Плохо выструганную доску, положенную на ванну, покрывали бумаги. В правой руке он держал перо, которое приподнял при появлении незнакомки. Рядом с ванной, на тяжелом дубовом чурбане, стояла свинцовая грубой работы чернильница: грязный источник, откуда в течение трех лет вылилось столько доносов, ненависти и крови! В чертах лица этого человека не было ничего, что могло бы смягчить сердце женщины и поколебать ее решение. Сальные волосы, обвязанные грязным платком, покатый лоб, нахальный взгляд, большой, с насмешливым выражением, рот, волосатая грудь, багровая кожа: таков был Марат.
Стоя около ванны с опущенными глазами и руками, Шарлотта ожидала вопросов о положении в Нормандии, отвечала кратко, придавая своим словам смысл и тон, соответствовавшие планам демагога. Он спросил у нее имена депутатов, нашедших убежище в Кане. Она назвала их.
Марат их записал, а потом сказал тоном человека, который уверен, что исполнит свою угрозу: «Хорошо! Не пройдет недели, как все они сложат свои головы на гильотине!»
При этих словах Шарлотта, как бы ожидавшая этой угрозы, выхватила спрятанный на груди кинжал и со сверхъестественной силой погрузила его по самую рукоятку в грудь Марата. Затем стремительно вытащила окровавленный нож из тела своей жертвы и уронила к своим ногам. «Ко мне, дорогой друг! Ко мне!» — воскликнул Марат и тут же испустил дух.
На отчаянный крик жертвы в комнату вбежали Альбертина, служанка и посыльный: он подхватил голову Марата. Шарлотта, окаменев после совершенного преступления, стояла неподвижно, скрытая оконными занавесками. Сквозь прозрачную материю при последних лучах солнца ясно обрисовывались очертания ее фигуры. Посыльный Лоренц, схватив стул, нанес ей по голове плохо рассчитанный удар, а затем опрокинул ее на пол. Жена Марата начала в бешенстве топтать ее ногами. На шум и крики сбежались жильцы дома; прохожие останавливались на улице, поднимались по лестнице, наполнили двор и весь квартал и с неистовыми криками требовали выдачи убийцы. С ближайших постов прибежали солдаты и национальные гвардейцы. Суматоха на некоторое время успокоилась, когда появились врачи. Красный цвет воды придавал картине такой вид, будто «друг народа» принимал кровавую ванну.
Шарлотта встала сама. Два солдата держали ее руки, в ожидании, пока принесут веревки. Окружавший ее частокол из штыков едва мог сдержать толпу, которая рвалась, чтобы растерзать ее. Сожительница Марата, вырываясь из рук утешавших ее, то бросалась на Шарлотту, то снова принималась рыдать. Один фанатик-кордельер по имени Ланглуа, парикмахер с улице Дофина, поднял окровавленный нож и сказал над телом жертвы надгробное слово. Он прерывал свои похвалы покойному резкими жестами, как будто погружая при каждом из них нож в сердце убийцы. Шарлотта безучастно смотрела и на волнение, и на угрожающие жесты и оружие, почти касавшееся ее. По-видимому, ее трогали только раздирающие душу крики Альбертины. При виде этой женщины лицо Шарлотты выражало изумление: она не подумала, что подобный человек мог быть любим, и теперь сожалела, что нанесла удар двум сердцам, чтобы пронзить одно. А вот оскорбления оратора вызвали на ее губах только горькую презрительную улыбку. «Бедные люди, — сказала она, — вы требуете моей смерти, а должны бы были воздвигнуть мне алтарь за то, что я избавила вас от такого чудовища! Отдайте меня этим бесноватым, — обратилась она к солдатам, — если они жалеют о нем, то достойны стать моими палачами!»
Эти слова и улыбка вызвали еще более бешеные проклятия и угрозы. Комиссар квартала Жильяр вошел в сопровождении конвоя, составил протокол и приказал отвести Шарлотту в приемную Марата, чтобы подвергнуть ее допросу. Он записывал ее спокойные, ясные, обдуманные ответы; она давала их твердым, громким голосом, в котором слышалось только чувство гордого удовлетворения в совершенном поступке. Административные лица департаментской полиции, Луве и Марион, подпоясанные трехцветными шарфами, присутствовали при допросе. Они дали знать о случившемся в совет Коммуны и Комитет общественного спасения. Известие о смерти «друга народа» распространилось с быстротою электрического тока. Весь Париж точно остолбенел при вести о совершенном преступлении. Бледные и дрожащие депутаты, прервавшие заседание Конвента, смутили зал сообщением об убийстве. Им не хотели верить, как не хотят верить святотатству. Главнокомандующий национальной гвардией Анрио, явившийся вслед за ними, подтвердил это известие. «Да, трепещите все, — сказал он. — Марат пал от руки молодой девушки, которая гордится нанесенным ею ударом. Удвойте бдительность. Опасность угрожает всем нам. Остерегайтесь зеленых лент, и дадим клятву отомстить за смерть этого великого человека!»
Депутаты Мор, Шабо, Друэ и Лежандр, члены правительственных комитетов, тотчас же вышли из залы и поспешили на место преступления. Они застали там все прибывающую толпу и Шарлотту, по-прежнему отвечающую на вопросы. Они остановились, пораженные, при виде молодости и красоты, соединенных со спокойствием и обдуманностью ответов. Никогда еще преступление не являлось под такой оболочкой. Жалость к убийце охватила их у самого трупа.
Когда протокол был составлен и показания Шарлотты записаны, депутаты приказали отвести ее в Аббатство. Позвали ту же самую карету, в которой она приехала. Глухой ропот толпы, прерываемый взрывами бешенства, затруднял переезд. Отряды постепенно прибывавших фузильеров[2] с трудом оттесняли и сдерживали толпу. Кортеж едва пробил себе дорогу. Но еще в самом начале, когда Шарлотта со связанными руками и поддерживаемая под локти двумя солдатами национальной гвардии хотела взойти на подножку кареты, ей показалось, что тысячи рук раздирают ее тело: девушка лишилась чувств.
Придя в себя, она удивилась, что еще жива, пожалела, что не погибла во время бури, которую подняла, и что имя ее умрет прежде нее; однако она горячо поблагодарила тех, кто защищал ее от насилия толпы.
Шабо, Друэ и Лежандр провели в тюрьме вторичный допрос. Он затянулся до поздней ночи. Некоторые из членов комитета, привлеченные любопытством, проникли в зал вслед за своими коллегами и присутствовали при допросе, который часто прерывался паузами и разговорами. Лежандр, гордившийся своим влиянием в республике, признал в Шарлотте — или, вернее, притворился, что признал, — девушку, приходившую к нему накануне в одежде монахини, которую он отказался принять. «Гражданин Лежандр ошибается, — сказала Шарлотта с улыбкой, задевшей самолюбие депутата. — Я не посягала на жизнь человека, столь полезного для блага республики».
Ее обыскали. В карманах нашли ключ от чемодана, серебряный наперсток, клубок ниток, двести франков ассигнациями и металлической монетой, золотые часы и паспорт. Под косынкой у нее еще были спрятаны ножны от кинжала, которым она поразила Марата. «Признаете вы этот нож?» — спросили ее. «Да». — «Кто побудил вас совершить это преступление?» — «Я видела, как гражданская война грозит раздробить Францию; убедившись, что главной причиной бедствий отечества является Марат, я решилась пожертвовать своей жизнью, убив его, чтобы спасти родину». — «Назовите нам лиц, подстрекнувших вас совершить это гнусное злодеяние». — «Никто не знал о моем намерении. Я обманула насчет цели моей поездки тетку, у которой жила. Я обманула отца. Почти никто не бывает в доме моей родственницы. Никто не мог даже и заподозрить моего намерения». — «Разве вы уехали из Кана с твердым решением убить Марата?» — «Я уехала только с этой целью». — «Где вы достали оружие? С кем вы виделись в Париже? Что вы делали с четверга, дня вашего приезда?» Шарлотта рассказала обо всем с мельчайшими подробностями. «Не пытались ли вы бежать после совершения преступления?» — «Я убежала бы через дверь, если бы не встретила препятствия». — «Девица ли вы и не любили ли вы кого-нибудь?» — «Никогда!»
По окончании допроса Шабо, недовольный результатом, долго рассматривал лицо, волосы, всю фигуру девушки. Ему показалось, что он увидел у нее на груди сложенную и приколотую булавкой бумажку; он протянул руку, чтобы взять ее. Шарлотта забыла о бумаге, содержавшей составленное ею воззвание к французам, призывавшее граждан к наказанию тиранов и к миру. Ей почудилось в движении Шабо оскорбление ее невинности. Лишенная возможности владеть связанными руками, она не могла защитить себя от оскорбления. Охваченная негодованием и ужасом, она так быстро и конвульсивно подалась назад всем туловищем, что шнурок, стягивавший ее платье, лопнул и грудь ее обнажилась. Смутившись, она быстрее молнии нагнулась, согнувшись почти вдвое, чтобы скрыть от судей свою наготу.
Патриотизм не сделал этих людей ни циничными, ни бесчувственными. Один из них развязал веревки. Из уважения к ее непорочности все прикрыли глаза. Когда ей развязали руки, Шарлотта Корде отвернулась к стене и поправила на груди косынку. Воспользовались моментом, пока руки ее были свободны, чтобы заставить ее подписаться под показаниями. Веревки оставили на ее руках следы и синие полосы. Когда ее хотели снова связать, она попросила позволить ей опустить рукава и надеть под веревки перчатки, чтобы избавиться от бесполезных страданий до казни.
Вот отрывки из воззвания Шарлотты к французам, ускользавшего до сих пор от изысканий любознательных историков. (Оно было передано нам его нынешним обладателем, горевшим желанием раскрыть истину.) Оно написано крупным, твердым, будто мужским почерком. Лист бумаги сложили в восемь раз, чтобы он занял под платьем как можно меньше места.
«Доколе, о несчастные французы, будете вы находить наслаждение в смутах и раздорах? О французы, пройдет еще некоторое время и о вашем существовании останется лишь воспоминание!
Восставшие департаменты идут уже на Париж, пламя раздора и гражданской войны охватило половину огромного государства; есть еще средство потушить его, но оно должно быть применено немедленно. Французы! Вам известны ваши враги. Восстаньте! Идите! Пусть от уничтоженной Горы останутся только братья и друзья! О Франция! Твой покой зависит от исполнения законов; я не нарушила их, убив Марата: осужденный Вселенной, он стоит вне закона. Какой суд будет судить меня? Если я виновна, значит, был виновен и Геракл, убивая чудовищ?
О родина! Твои несчастна разрывают мне сердце! Я могу отдать тебе только мою жизнь! Благодарю Небо за то, что я свободна располагать ею; никто ничего не потеряет с моей смертью; я не последую примеру Пари, убийцы Лепеллетье де Сен-Фаржо, и не убью себя. Я хочу, чтобы мой последний вздох был полезен моим согражданам, чтобы моя голова, сложенная в Париже, послужила знаком к сближению для всех друзей закона! Чтобы колеблющаяся Гора увидала свою гибель, начертанную моею кровью! Чтобы я была последней жертвой и чтобы отомщенный мир признал, что я оказала услугу человечеству! В конце концов, если на мой поступок даже посмотрят другими глазами, это меня мало трогает.
Моих родных и друзей можно не беспокоить — никто не знал о моих намерениях. Я прилагаю к этому воззванию свидетельство о моем крещении, чтобы показать, на что способна самая слабая рука, направляемая полным самоотвержением. Если мое предприятие не удастся, французы, то я все же показала вам путь: вы знаете своих врагов. Восстаньте! Идите! Разите!»
Благодаря снисходительности своих тюремщиков Шарлотта получила чернила, бумагу и уединение. Она воспользовалась этим, чтобы написать Барбару короткое письмо. Она описывала в этом письме все обстоятельства своего пребывания в Париже — языком, в котором патриотизм, смерть и веселость мешались так же, как мешается горечь и сладость в последнем кубке прощального ужина.
Описав почти забавные подробности своего путешествия в Париж в обществе монтаньяров и любовь, которую внезапно почувствовал к ней один из них, она продолжала: «Комитет общественного спасения допрашивал путешественников. Я утверждала сначала, что не знаю их, чтобы избавить их от неприятной обязанности давать объяснения. В этом случае я следовала совету своего кумира Рейналя, который говорит, что мы не обязаны быть искренними со своими тиранами. Они узнали от путешественницы, которая ехала со мной, что я знаю вас и виделась с Деперре. Против него нет улик, но его стойкость вменяется ему в преступление. Я слишком поздно раскаялась в том, что говорила с ним. Желая исправить свою ошибку, я умоляла его бежать и присоединиться к вам, но он слишком самостоятелен, чтобы дать повлиять на себя… Поверите ли, наш депутат Фоше, даже не подозревавший о моем существовании, арестован как мой сообщник! Мои стражники недовольны тем, что могут принести в жертву тени великого человека лишь одну незначительную женщину! Простите, о люди! Имя Марата бесчестит ваш род. Это был дикий зверь, который хотел поглотить все, что осталось от Франции в огне гражданской войны. Вот его последние слова: узнав имена всех вас, находящихся в Эвре, он сказал мне, что через несколько дней прикажет всех гильотинировать! Эти слова решили его участь. Уже два дня я наслаждаюсь миром. Счастье моей родины — мое счастье. Жертва доставляет мне тем больше радости, чем больше труда стоило решиться на нее. Пылкое воображение и чувствительное сердце сулили мне бурную жизнь. Прошу тех, кто будет сожалеть обо мне, принять это во внимание и порадоваться за меня. В нашем поколении немного найдется патриотов, которые решились бы пожертвовать собой ради отечества. Теперь почти все эгоисты. Какой жалкий народ!..»
Письмо обрывалось на этих словах вследствие того, что заключенную перевели в Консьержери. Она продолжала писать и в своей новой тюрьме: «Вчера мне пришло в голову подарить департаменту Кальвадос свой портрет. Комитет общественного спасения не дал мне ответа, а теперь уже слишком поздно. Мне полагается защитник — таков закон. Я выбрала себе защитника из партии Горы. Я думала обратиться к Робеспьеру и Шабо… Меня будут судить завтра в восемь часов. Вероятно, в полдень я уже буду в прошлом, как говорили римляне. Не знаю, как пройдут последние минуты. Мне не надо притворяться бесчувственной, потому что до сих пор я всегда дорожила жизнью лишь настолько, насколько она могла быть полезной для других. Марат не попадет в Пантеон. Между тем он этого заслуживал… Вспомните о деле мадемуазель де Форбен. Скажите ей, что я люблю ее всей душой. Я напишу своему отцу. Остальным своим друзьям я ничего не скажу, только попрошу их, чтобы они скорее забыли меня: их печаль наложила бы бесчестие на мою память. Передайте генералу Вимпфену: я думаю, что помогла ему выиграть не одно сражение, облегчив достижение мира. Прощайте, гражданин. Заключенные в Консьержери не только не проклинают меня, как уличная толпа, но жалеют. Несчастье делает людей сострадательными. Это моя последняя мысль».
Письмо к отцу оказалось коротким и трогательным; в нем уже не было того веселого тона, каким было написано письмо к Барбару. «Простите меня, что я распорядилась своею жизнью без вашего разрешения, — писала Шарлотта. — Я отомстила за многих невинных жертв. Я предупредила много несчастий. Образумившись, народ будет радоваться, что избавился от тирана. Когда я старалась убедить вас, будто еду в Англию, то надеялась, что не узнают, кто я. Я поняла, что это невозможно. Надеюсь, вас не будут беспокоить; во всяком случае, у вас есть защитники в Кане. Я взяла себе адвокатом Густава Понтекулана. В подобном преступлении не полагается защиты, это только для формы. Прощайте, дорогой отец, прошу вас порадоваться за мою судьбу. Обнимаю сестру, которую люблю всем сердцем. Не забывайте слов Корнеля: „Преступление — вот стыд, а не эшафот“…»
На следующее утро в восемь часов за ней пришли жандармы, чтобы вести ее на заседание Революционного трибунала. Зал суда помещался над сводами Консьержери. Прежде чем подняться туда Шарлотта поправила волосы и платье, чтобы оставаться привлекательной и перед лицом смерти; потом она сказала, улыбаясь, привратнику, присутствовавшему при ее сборах: «Господин Ришар, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы мой завтрак был готов, когда я вернусь: мои судьи, конечно, спешат. Я хочу в последний раз позавтракать с вами и госпожой Ришар».
Когда Шарлотта заняла место на скамье подсудимых, ее спросили, есть ли у нее защитник; она ответила, что поручила исполнить эту обязанность одному из своих друзей, но, не видя его в зале, предполагает, что у него не хватило на это мужества. Тогда председатель назначил ей защитника от суда: выбор пал на молодого Шово-Лагарда, уже известного к тому времени красноречием и смелостью и прославившегося впоследствии своей защитой королевы. Этот выбор указывал на тайное намерение председателя спасти Шарлотту. Шово-Лагард занял свое место. Шарлотта посмотрела на него испытующим и беспокойным взглядом, как бы опасаясь, чтобы защитник для спасения ее жизни не затронул ее чести.
Вдова Марата давала показания, непрерывно рыдая. Шарлотта, тронутая горем этой женщины, прервала ее показания, воскликнув: «Да, да, это я убила его!» — «Кто внушил вам такую ненависть к Марату?» — спросили ее. «Я не нуждаюсь в чужой ненависти, — ответила она, — с меня довольно было и своей собственной; притом плохо приводить в исполнение то, что не задумал сам». — «Что вы в нем ненавидели?» — «Его преступления!» — «На что вы надеялись, задумав убить его?» — «Вернуть мир моей родине». — «Разве вы думаете, что убили всех Маратов?» — «Раз этот убит, остальные, быть может, устрашатся». Ей показали нож, чтобы она признала его. Она оттолкнула его брезгливым жестом. «Кого вы посещали в Кане?» — «Очень немногих; я встречала муниципального чиновника Ларю и священника церкви Сен-Жан». — «У какого священника исповедовались вы в Кане: у присягнувшего или у не присягнувшего?» — «Я не ходила ни к тем ни к другим». — «С каких пор зародилось у вас ваше намерение?» — «С 31 мая, с того дня, когда здесь арестовали народных депутатов. Я убила одного человека, чтобы спасти сто тысяч. Я была республиканкой еще задолго до революции».
Ей устроили очную ставку с Фоше. «Я знаю Фоше только с виду, — сказала она с презрением, — считаю его человеком безнравственным и беспринципным и презираю его». Обвинитель Фукье-Тенвиль, ставя ей в упрек, что она нанесла удар сверху вниз, чтобы поразить вернее, сказал, что она, по всей вероятности, опытна в совершении подобных дел. При этом предположении Шарлотта громко вскрикнула: «О чудовище! Он принимает меня за преступницу!»
Фукье-Тенвиль резюмировал прения и в заключение сказал, что настаивает на смертной казни.
Встал защитник. «Граждане, — сказал он, — вот в чем состоит ее защита: это невозмутимое спокойствие и полное самоотвержение, не обнаруживающие ни малейшего упрека совести перед лицом смерти. Спокойствие и самоотвержение, кажущиеся столь величественными, противны человеческой природе; они могут быть объяснены лишь высшей степенью политического фанатизма, вложившего ей в руку кинжал. Ваше дело решить, какую тяжесть составляет такой непоколебимый фанатизм на весах правосудия. Полагаюсь на вашу совесть».
Присяжные вынесли единогласный приговор: осуждение к смерти. Шарлотта выслушала его, не побледнев. Когда председатель спросил, не имеет ли она сказать чего-нибудь против рода смерти, к которому она приговорена, девушка не удостоила его ответом и подошла к своему защитнику. «Милостивый государь, вы защищали меня так, как я того желала, — сказала она ему кротким и проникающим в душу голосом. — Благодарю вас за это; я обязана дать вам доказательство моей благодарности и уважения и предлагаю вам достойное вас. Эти господа, — она указала на судей, — только что объявили, что мое имущество конфисковано; я должна кое-что уплатить тюрьме, так вот завещаю вам заплатить мой долг».
В то время как присяжные слушали ее ответы, она заметила в зале художника, рисовавшего ее портрет. Не переставая отвечать, Шарлотта, улыбаясь, повернулась в его сторону, чтобы он мог лучше ее видеть. Она позировала для потомства.
Стоявший позади художника молодой человек, белокурые волосы, голубые глаза и бледный цвет лица которого обличали в нем уроженца Севера, поднимался на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть обвиняемую. Каждый ответ молодой девушки приводил его в содрогание и заставлял меняться в лице. Несколько раз, не будучи в силах сдержать своего волнения, он вызывал своими невольными восклицаниями ропот толпы и привлекал внимание Шарлотты Корде. В ту минуту, когда председатель произнес смертный приговор, молодой человек приподнялся с жестом человека протестующего — и тотчас же снова сел, точно ему изменили силы. Шарлотта заметила это движение и поняла, что в ту минуту, когда жизнь покидала ее, к ее душе привязалась другая душа и что в этой равнодушной и даже враждебной толпе у нее есть неизвестный друг. Она поблагодарила его взглядом. Так состоялся их единственный разговор на земле.
Это был Адам Люкс, немецкий республиканец, присланный в Париж майнцскими революционерами, чтобы совместить движение в Германии с движением во Франции, поскольку они имели целью одно общее дело — права человека и свободу народов. Молодой человек не спускал глаз с подсудимой до тех пор, пока она не исчезла под сводами лестницы, окруженная саблями жандармов. Мысль о ней уже не покидала его.
Художник, во время суда рисовавший портрет Шарлотты Корде, был Гойер, офицер национальной гвардии секции Французского театра. По возвращении в камеру Шарлотта просила привратника пропустить его к ней, чтобы он мог окончить работу. Гойера ввели. Шарлотта поблагодарила его за участие, которое он проявил к ее судьбе, и спокойно позировала для портрета, беседуя с ним об искусстве и о мире в душе. Она рассказывала о своих канских друзьях детства и попросила художника сделать уменьшенную копию с портрета и переслать эту миниатюру ее семейству.
Вскоре позади осужденной раздался легкий стук в дверь. Вошел палач. Шарлотта, обернувшись на шум, увидала ножницы и красную рубашку, которые палач держал в руках. Она вздрогнула и побледнела. «Как, уже?!» — воскликнула она, но быстро оправилась и, взглянув на неоконченный портрет, сказала художнику с ласковой улыбкой: «Сударь, я не знаю, как благодарить вас за ваш труд; я могу предложить вам только вот это: сохраните на память о вашей доброте и моей благодарности». С этими словами она взяла из рук палача ножницы, отрезала прядь своих длинных белокурых волос и передала ее Гойеру. При этих словах и при виде этого движения жандармы и палач почувствовали, как слезы навернулись у них на глаза.
Явился священник, чтобы, согласно обычаю, предложить осужденной утешение церкви. «Поблагодарите тех, — сказала она, — кто были так добры, что прислали вас ко мне; но я не нуждаюсь в вашем напутствии: кровь, которую я пролила, и моя кровь, которая вот-вот прольется, — единственные жертвы, какие я могу принести Всевечному». Палач остриг ей волосы; она собрала их, в последний раз взглянула на них и передала госпоже Ришар. Ей связали руки и надели рубашку. «Вот одежда, — заметила она, улыбнувшись, — которая хоть и сделана грубыми руками, но в ней идут к бессмертию».
В ту минуту, когда Шарлотта взошла на тележку, чтобы ехать на казнь, над Парижем разразилась гроза. Дождь не рассеял, однако, толпы, наводнившей площади, мосты и улицы на пути кортежа. Кучки разъяренных женщин бежали за тележкой с проклятиями. Шарлотта смотрела на народ взглядом, в котором светились сострадание.
Небо прояснилось. Одежда осужденной намокла, под шерстяной тканью обрисовались грациозные контуры ее тела. Так как руки у нее были связаны за спиной, все изгибы ее стана оказались выставлены напоказ. Заходящее солнце освещало ее голову как бы ореолом. Румянец щек, казавшийся ярче от отражения красной рубашки, придавал ее лицу сияние.
Адам Люкс ожидал тележку на въезде к улице Сент-Оноре и благоговейно следовал за нею до подножия эшафота. Молодой человек навсегда запечатлел в своем сердце, как он сам говорил, «это невозмутимое спокойствие среди диких воплей толпы, жгучие мысли, точно огненные искры, сыпавшиеся из ее сверкавших глаз». «Чудные глаза, которые в состоянии были тронуть и камень! — писал он. — Единственные бессмертные воспоминания, которые разбили мне сердце и наполнили его чувствами, неведомыми дотоле, чувствами, которые теперь умрут вместе со мною. Пусть освятят место ее казни и воздвигнут на нем статую со словами: „Величественнее, чем Брут!“ Умереть за нее, претерпеть подобно ей пощечину от руки палача, умирая, чувствовать холод того же ножа, который отрубил ангельскую головку, соединиться с нею с чувством героизма, свободы, любви, смерти — вот отныне мои единственные желания! Я никогда не достигну такой небесной добродетели, но разве не справедливо, чтобы предмет обожания стоял выше того, кто поклоняется ему?»
Через несколько дней после казни Адам Люкс напечатал эту свою апологию Шарлотты Корде и объявил себя соучастником ее преступления, чтобы разделить с нею мученический венец. Арестованный за этот смелый вызов, он был заключен в Аббатство и, переступая порог тюрьмы, воскликнул: «Итак, я умру за нее!» Он действительно умер, приветствуя эшафот, как алтарь любви.
Героизм Шарлотты был воспет Андре Шенье, который вскоре погиб во имя общей родины великих душ: во имя Свободы. Поэзия воспользовалась именем Шарлотты Корде, чтобы сотворить из него ужасное напоминание для тиранов. «Чья это могила? — спрашивал немецкий поэт Клопшток. — Это могила Шарлотты. Нарвем цветов и осыплем ими ее прах, потому что она умерла за родину. — Нет, нет, не рвите! Пойдем поищем плакучую иву и посадим ее в дерне, покрывающем ее могилу, потому что она умерла за родину. — Нет, нет, ничего не сажайте, но плачьте, и пусть ваши слезы будут кровавыми, потому что она умерла за родину».
Верньо, в тюрьме узнав о смерти Шарлотты, воскликнул: «Она погубила нас, но научила нас умирать».
XLV
Апофеоз Марата — Жирондисты покидают Нормандию — Отступление французских войск — Кюстин отозван в Париж — Терзания Дантона — Робеспьер побеждает анархию — Торжество новой конституции — Движение патриотов — Насилие — Преобразование Революционного трибунала — Закон о подозреваемых — Террор
Кровь Марата опьянила народ. Его похороны походили больше на апофеоз, чем на погребальное шествие. Конвент допустил, чтобы того, за кого он стыдился, сделали Богом. Коммуна поставила его бюст в зале заседаний. Секции отправляли в Конвент процессии выразить свое соболезнование и требовали, чтобы прах Марата позволили перенести в Пантеон. Кто-то хотел, чтобы набальзамированное тело «друга народа» провезли по всем департаментам, кто-то, наконец, хотел воздвигнуть в честь него пустые гробницы под «деревьями свободы», которые собирались посадить во всех коммунах республики. Робеспьер пытался умерить это идолопоклонство. «И меня тоже, — сказал он, — ожидают почести кинжала. Первенство выпало на его долю случайно».
Конвент постановил, что будет присутствовать на погребении в полном составе. Организацией распоряжался Давид. Он велел поставить тело Марата в церкви Кордельеров на катафалке, покрытом его окровавленной рубашкой. Кинжал, ванна, чурбан, чернильница, перья, бумаги были разбросаны вокруг тела как орудия философа и доказательства его стоической бедности.
Траурное шествие с церковными свечами двинулось вечером и только в полночь достигло места погребения. Для вечного упокоения выбрали то самое место, где Марат произнес столько речей и столько раз вдохновлял народ (подобно тому, как погребают воина на поле сражения), а именно двор клуба кордельеров. Тело опустили в могилу, вырытую в тени деревьев, листья которых, освещенные множеством ламп, бросали на его гроб неяркий и чистый свет. Народ под знаменами секций, представители департаментов, избиратели, Коммуна, кордельеры, якобинцы, Конвент — все присутствовали на этой церемонии. Президент Собрания Тюрио объявил, что Конвент собирается поставить статую Марата рядом со статуей Брута. Клуб кордельеров потребовал, чтобы ему отдали сердце Марата. Заключенное в урну, оно было подвешено под сводами зала заседаний. В конце концов постановили воздвигнуть алтарь.
Паломничество к могиле Марата происходило каждое воскресенье, постепенно приобретая религиозный характер. Все театры были украшены его портретами, а названия площадей и улиц заменены его именем. Журналисты назвали свои листки «Тень Марата». Это неистовство овладело всеми департаментами. Имя Марата сделалось знаменем патриотизма. Мэр Нима назвал себя Южным Маратом; мэр Страсбурга — Рейнским Маратом. Похоронные торжества провели во многих коммунах республики. Молодые девушки, одетые в белые платья, с кипарисовыми и дубовыми венками в руках, пели вокруг катафалков гимны в честь Марата. Все припевы этих гимнов требовали крови: кинжал Шарлотты Корде, вместо того чтобы остановить пролитие крови, казалось, вскрыл вены Франции.
После сражения у Вернона, где авангард федералистов рассеялся при первом залпе пушек, жирондисты снова отправились в Бордо, предоставив Нормандию и Бретань, с одной стороны, власти роялистов, а с другой — комиссарам Конвента. Петион, Луве, Барбару, Салль, Мейян оделись в мундиры волонтеров и смешались с солдатами, чтобы достичь Бретани. Бюзо, Дюшатель, Бергуин, Лесаж, Валади ушли с батальонами, Ланжюине опередил их в Бресте, распространяя повсюду мятежные настроения и гнев. Анри Ларивьер и Кервелеган, члены злополучной комиссии Двенадцати, опередили беглецов и приготовили им убежища.
Депутаты, число которых сократилось до девятнадцати, отделившись от Финистерского батальона, служившего им прикрытием, свернули с больших дорог и направились по тропинкам, прося приюта в хижинах, где им ежеминутно грозила измена. Когда в Монконтуре их узнали некоторые из федератов и вокруг раздался шепот: «Вот Петион, вот Бюзо», депутаты предпочли скрыться в лесах и провели там довольно много времени. Молодой горожанин из Монконтура, выследивший, куда они бежали, пришел за ними и проводил их ночью в уединенный домик. Оттуда они слышали, как в деревнях били тревогу, шарили по полям, лесам и домам, чтобы схватить их. Жиро и Лесаж отделились от своих товарищей и согласились воспользоваться гостеприимством, предложенным им в окрестностях. Остальные продолжили путь.
Кюсси, которого мучили припадки подагры, стонал при каждом шаге. Ослабевший Бюзо бросил оружие, как слишком тяжелую для себя ношу. Барбару, которому едва минуло двадцать восемь лет, был неповоротлив и тучен, точно пожилой человек, нога его распухла от вывиха, он мог идти, только опираясь на руку Петиона или Луве. Риуфф ободрал в кровь ноги и волочил их с трудом, оставляя кровавые следы. Только Петион, Салль и Луве сохраняли неутомимую энергию.
Однажды вечером, когда они подходили к небольшому городку, надежный проводник сообщил им, что десять жандармов и несколько солдат национальной гвардии ожидают их на дороге. «Надо опередить их, — сказал Барбару своим друзьям, — ускорить шаг и пробраться через город сегодня ночью. Прежде чем жандармы успеют оседлать лошадей, мы уже минуем опасность. Если они вздумают нас преследовать, то канавы и изгороди послужат нам прикрытием. Они или падут под нашими пулями, или получат только наши трупы. Лучше ползти на коленях, чем попасться в руки маратистов».
Изнуренные усталостью и голодом, депутаты наконец добрались до городка Кемпера, но не решались войти в него. Они послали одного из своих проводников известить Кервелегана о своем прибытии и просить его дать указания, как им дойти до убежища, которое он им приготовил. Посланный проводник не возвращался. Они ждали в течение тридцати двух часов без крова и пищи, под дождем, лежа в болоте. Кюсси громко призывал смерть, более милосердную, чем эти страдания. Риуфф и Жире-Дюпре утратили веселость, поддерживавшую их до тех пор. Даже Барбару почувствовал, что теряет надежду. Луве прижимал к груди заряженное оружие. Только образ обожаемой женщины привязывал его к жизни. Петион сохранял стоическое равнодушие человека, который сомневается в том, что судьба может низвергнуть его еще ниже, после того как вознесла так высоко.
Кервелеган ожидал их в Кемпере. Посланный им конный гонец проводил их к крестьянину, где они отогрелись у огня и подкрепились хлебом и вином. Затем их приютил у себя присягнувший священник. Потом они разделились на несколько групп, судьба которых оказалась различна. Пятеро, в том числе Салль, Жире-Дюпре и Кюсси, нашли убежище у Кервелегана; Бюзо доверился скромности великодушного гражданина, жившего в предместье Кемпера; Петион и Гюаде скрывались в уединенном домике в деревне; Луве, Барбару, Риуфф — у одного патриота в самом городе.
Находясь в своих убежищах, изгнанники обсуждали, какими способами им собраться вместе в Бордо, не подвергаясь опасностям путешествия по суше. Дюшатель отыскал небольшое судно, стоявшее на якоре в устье речки, впадающей в море, у Кемпера. Хотя комиссары Горы не решались еще показываться в департаменте, где все были настроены против них, проект Дюшателя рухнул. Другое судно, снаряженное в Бресте, доставило в устье Жиронды Дюшателя, Кюсси, Жире-Дюпре, Салля, Меняна и нескольких других. Петион, Гюаде и Бюзо, не желая разлучаться с тяжело больным Барбару, отказались ехать в Брест и ожидали в своем убежище выздоровления друга. Луве удалился с любимой в хижину, которую она приготовила для него, и наслаждался в промежутке между бурями минутами блаженства, тем более приятного, чем большая ему угрожала опасность.
Известие о взятии Тулона англичанами удвоило бдительность патриотов в отношении федералистов. Луве, Барбару, Бюзо, Петион, Гюаде и Валади наконец сели ночью в рыбачью лодку, которая должна была отвезти их на судно, стоявшее на якоре у берега. Спрятанные в трюме под рогожами, они проскользнули мимо двадцати двух республиканских судов. Изгнанники вошли в русло Жиронды и стали на якорь у Бек д’Амбе, маленького порта в окрестностях Бордо. Они думали, что вступают на землю свободы, но она стала для них землей смерти.
Между тем республика, окрепшая в центре, претерпевала волнения на окраинах. Границы оставались без прикрытия; местности, завоеванные в Германии армией Кюстина, и собственные крепости на Севере гибли под залпами пушек коалиции. Кюстин, придвинувшийся к Ландау, оставил в Майнце сильный гарнизон как залог скорого вторжения в Германию. Генерал Дойл (английский барон, сторонник Французской революции) был назначен комендантом крепости. Генерал Менье, прославившийся своими подвигами в Шербуре, начальствовал в Касселе, служившим прикрытием правого берега Рейна. Ребель и Мерлен из Тионвиля, в одно и то же время бывшие депутатами и солдатами, заперлись в Майнце, чтобы войска сражались на глазах у самого Конвента. Двести артиллерийских орудий защищали крепость. В блокаде принимали участие пятьдесят семь батальонов и сорок эскадронов. Хлеб в городе был в изобилии, а пороха не хватало.
Несмотря на чудеса удальства и храбрости, пример которых подавал войскам Мерлен из Тионвиля, надежда оставалась только на героическую защиту. Но эта защита держала в бездействии двадцать тысяч солдат, блокированных по ту сторону Рейна в завоеванной ими местности.
Кюстин отправил в прусскую армию офицера, который просил разрешения пройти в качестве парламентера через линии войск, чтобы передать приказание Майнцу сдаться с почетом. Комиссары Конвента Мерлен и Ребель и генералы, командовавшие городом и войсками, собравшись на военный совет, решительно отказались исполнить это приказание. Австрийцы и пруссаки обратили блокаду в осаду. Французы постоянными смелыми вылазками заставляли неприятельскую армию по нескольку раз завоевывать каждую пядь земли, приближавшую их к стенам. Генерал Менье, настигнутый во время одной из этих вылазок пулей, раздробившей ему колено, умер несколько дней спустя. Пруссаки прекратили огонь, чтобы дать время французам похоронить своего генерала в одном из городских бастионов. «Я теряю врага, который принес мне много зла, — воскликнул Фридрих-Вильгельм, — но Франция теряет великого человека!»
Бомбардировку производили из трехсот артиллерийских орудий. Мельницы, производившие для города и гарнизона муку, были сожжены. Мяса также не хватало, жители уже ели собак и кошек. Беспощадный голод вынудил генералов выслать из города лишние рты; старики, женщины, дети, в количестве двух или трех тысяч, изгнанные за городские стены, умирали, находясь между двумя армиями, от пушечного огня и от голода. Госпитали, не имевшие ни продовольствия, ни медикаментов, ни крова, не могли приютить раненых. Двадцать пятого июля город сдался.
Войска получили возможность свободно выйти из крепости со знаменами и с оружием при условии не сражаться против Пруссии в течение года. Гарнизон тем не менее роптал на своих начальников: солдатский инстинкт подсказывал им, что они получили бы помощь в скором времени.
Это первое отступление французских войск казалось постыдной изменой гению революции. Таково было мнение Конвента. Генерал Дойл, комендант крепости, и генерал Дюбайе, командир войск, были арестованы и отвезены в Париж.
Вскоре пала крепость Конде — одна из северных крепостей. Дампьер погиб, пытаясь отстоять ее. Генерал Шансель, запершись в городе с четырьмя тысячами солдат, не имел ни провианта, ни боевых припасов. Валансьен, разрушенный бомбами, сдался англичанам и австрийцам 28 июля. Храбрый генерал Ферран, семидесятилетний старик, служивший под началом Дюмурье, в течение трех месяцев защищал город, как будто хотел подготовить себе из его развалин могилу. Наконец гарнизон, после того как уничтожил двадцать тысяч солдат неприятеля и сам потерял семь тысяч человек, получил разрешение отступить вглубь Франции.
Известие об этих несчастиях поразило Париж, но не повергло его в уныние.
Сообщения, приходившие из департаментов, успокаивали Собрание. Бордо, вновь завоеванный якобинцами, отворил ворота. Кан после восьмидневных волнений вернул свободу заключенным комиссарам. Волнения в Бретани успокоились сами собой. Патриоты задержали на некоторое время в Тулоне роялистов. Тулуза покорилась. Лозер смирился. Два депутата Жиронды, Шассе и Бирото, поднявшие восстание в Лионе и в Юре, увидели, как вызванное ими вначале республиканское движение превратилось в роялистское, и сами устрашились того, что совершили. Нант изгнал из своих стен вандейцев.
Эти невзгоды, с одной стороны, и удачи — с другой, сделали якобинцев одновременно подозрительными и дерзкими. Доносы на Кюстина участились и стали ядовитее. Этого генерала обвиняли тем сильнее, чем большие надежды на него возлагались. Его смелость и удачи в первых сражениях заставили ожидать от него невозможного, и теперь его наказывали за эти ожидания. Его обвиняли в сообщничестве с герцогом Брауншвейгским, в слабости по отношению к прусскому королю, в тайных сношениях с роялистами и канскими жирондистами. Конвент послал Юостину приказ явиться на заседание и дать отчет в своих действиях. Левассер, депутат Сарты, взял на себя эту опасную миссию. Приехав в лагерь, представитель Конвента потребовал смотра войскам; под ружьем находилось 40 тысяч человек. Солдаты, подозревавшие, что Левассер явился, чтобы отнять у них вождя, отказались оказать ему воинские почести. Тогда депутат приказал преклонить знамена. «Солдаты республики, — сказал он им. — Конвент приказал арестовать генерала Кюстина». — «Пусть нам вернут его!» — сердитым голосом отвечали солдаты. Из рядов выступил сержант. «Мы хотим, чтобы нам вернули нашего генерала», — сказал он. «Подойди сюда, ты, требующий Кюстина! — отвечал Левассер. — Осмелишься ли ты поручиться головой за его невинность? Солдаты! Если Кюстин невиновен, вам вернут его; если же он виновен, то он искупит кровью свои преступления. Нет пощады изменникам! Горе мятежникам!»
Генерал был арестован. Кюстин не последовал примеру Дюмурье: он предпочел эшафот изгнанию. Приехав в Париж, он отчасти вернул себе популярность, которую ему ставили в упрек как преступление; он гулял по Пале-Роялю, и молодежь и женщины аплодировали ему.
Эта пассивная покорность подтолкнула якобинцев к новым обвинениям. Министр внутренних дел Тара и адмирал Д’Альбарад сделались предметом гнусных подозрений. Робеспьер, покровительствовавший анархии настолько, насколько считал ее необходимой для торжества революции, энергично восстал против подстрекателей к беспорядкам с той минуты, как революция показалась ему упрочившейся. «Значит, достаточно человеку быть у власти, чтобы его обвинили? — воскликнул он среди ропота якобинцев. — Неужели мы никогда не перестанем верить смешным выдумкам, которыми нас засыпают со всех сторон? Осмеливаются обвинять даже Дантона! Уж не хотят ли и на него навлечь наше подозрение? Обвиняют Бушотта, обвиняют Паша. Пора положить конец этим гнусностям».
Несколько дней спустя Робеспьер с такой же твердостью восстал против обвинений, направленных на дворян, служащих в войсках. «Что значат все эти пошлые выражения о дворянстве? — сказал он. — Мои теперешние противники не большие республиканцы, чем я. Разве вы хотите держать Комитет общественного спасения на помочах? Выскочки, однодневные патриоты хотят очернить во мнении народа его самых старых друзей. Привожу в пример Дантона, которого оклеветали; Дантона, на которого никто не имеет права возвести ни малейшего упрека; наконец, Дантона, которого можно уронить во мнении, только доказав, что обладаешь большей энергией, талантом и любовью к родине, чем он. Я не претендую на то, чтобы меня сравнивали с ним, но я только ссылаюсь на него. Два человека, состоящие на жалованье у врагов народа, два человека, на которых доносил Марат, притворяются, что заняли место этого патриота. Через них эти враги изливают на нас свой яд. Один из них — известный своими позорными поступками священник Жак Ру; другой — Леклерк, служащий доказательством того, что порок не чужд и юным душам. Они восхваляют Марата, чтобы иметь право унизить нынешних патриотов. Зачем хвалить мертвых, лишь бы оклеветать живых?»
В то время как Робеспьер, стараясь склонить на свою сторону общественное мнение, сдерживал таким образом якобинцев, Дантоном овладело состояние нравственного утомления, парализующее иногда самых пылких честолюбцев, когда их не поддерживает всемогущество бескорыстной идеи. В словах его стали заметны колебания и отчаяние души, оглядывающейся назад, у которой больше сил для сожалений, чем для желаний, — верные признаки упадка честолюбия, а у общественных деятелей — верное предсказание падения карьеры. «Несчастные жирондисты, — восклицал Дантон, иногда вздыхая. — Низвергли нас в пропасть анархии и сами были поглощены ею; мы, в свою очередь, тоже погибнем в ней, и я чувствую уже, как бездна поднимается над моей головой!»
В таком настроении Дантон оставил трибуну якобинцев, редко обращался с речами к кордельерам и молчал в Конвенте. Казалось, он предоставил революцию ее течению, а сам встал в стороне, чтобы наблюдать, как понесутся обломки.
По настояниям молодой жены и новой родни, побуждавших его не принимать участия и даже не вмешивать свое имя в дела Террора, уже начинавшего возмущать добрых граждан, он решился покинуть арену, бежать из Парижа и удалиться в Арсисюр-Об.
Он был слишком большим знатоком человеческого сердца, чтобы не понять, что его удаление в подобную минуту являлось поступком чересчур смиренным или чересчур горделивым для человека столь влиятельного. Удалиться из Конвента во время переживаемого им кризиса равнялось отречению или угрозе. Дантон знал это. Поэтому он скрыл настоящие причины своего отъезда, сославшись на утомление.
Главной причиной был ужас, внушаемый ему предстоящим вскоре судом над Марией-Антуанеттой. Он клялся, что спасет головы этих женщин и детей. Он предлагал отправить королеву, ее дочь и принцессу Елизавету в Австрию. Он скрывал под словами, выражавшими презрение, сострадание, которое ему внушали эти безоружные жертвы. Он не хотел, чтобы его запятнала кровь этих женщин.
Перед отъездом у Дантона состоялся секретный разговор с Робеспьером. Он унизился перед своим соперником до того, что просил, чтобы Робеспьер во время его отсутствия защитил его от клеветы, которую продолжали распространять кордельеры насчет его честности. Робеспьер, довольный тем, что перед ним смирился единственный человек, могущий поколебать его влияние в стране, не хотел удерживать Дантона.
В своем сельском уединении в Арсисюр-Об Дантон жил поглощенный единственно своей любовью, заботами о своих маленьких детях и домашних делах, счастливый свиданием с матерью, друзьями детства и видом родных полей. Казалось, он окончательно сбросил с себя бремя общественных дел и даже само воспоминание о них. Он никому не писал. Он не получал писем из Парижа. Нить всех его заговоров была порвана. Только изредка его посещал один из депутатов Конвента, депутат Куртуа, его соотечественник, которому принадлежали мельницы в Арсисюр-Об. С ним они разговаривали об опасностях, грозивших Франции.
В разговорах с женой, ее матерью и Рикорденом Дантон не скрывал своего искреннего раскаяния в революционных увлечениях, в которые его вовлек пыл страстей.
Он пытался оправдаться от соучастия в сентябрьских убийствах. Он говорил о них уже не так, как на следующий день по их совершении («Я взглянул в лицо своему преступлению, и я совершил его»), но как об исступлении патриотизма, к которому увлекли народ изверги Коммуны и которого он не в силах был бы предотвратить, несмотря на то что чувствовал к нему отвращение. Он не скрывал также надежды вернуть влияние, после того как настоящие волнения устранят с арены действий ничтожные умы и слабые характеры, господствующие в Конвенте. Он говорил о Робеспьере как о мечтателе, иногда жестоком, иногда добродетельном, но всегда предающимся химерам. «Робеспьер, — говорил он, — утопает в своих идеях, но не умеет трогать людей». Дантон не верил в долговечность республики.
Он читал историков Рима, а также много писал, но немедленно сжигал все написанное. Он хотел оставить после себя только один след — свое имя.
Робеспьер, наоборот, хоть и изнуренный умственным трудом, который мог бы истощить нескольких человек, забывал себя самого, чтобы с большим, чем когда-либо, рвением отдаться своему идеалу правления. Непостоянство Жиронды убедило его в том, что эти люди хотели возвращения монархии или учреждения республики, в которой господство богатства заменило бы собою господство церкви и монархической власти и где народ получил бы несколько тысяч тиранов вместо одного. После их падения Робеспьер начал надеяться, что достигнет своей цели. Этой целью являлось участие в правлении всех граждан через своих представителей, которые избирались бы народом и правили, имея в виду блага народа, составив избирательный совет, являвший собой единственную правящую власть.
Робеспьер усерднее, чем когда-либо, начал посещать вечерние заседания якобинцев, чтобы отвлечь их от заговоров, время которых, по его мнению, уже прошло. Он не хотел продолжать унижать революционные принципы до понятий испорченного и отставшего в своих взглядах народа, напротив, он хотел поднять народ до высоты духа своих принципов. Робеспьер ближе сошелся с небольшим кружком суровых, но честных людей, которые довели до культа жестокую логику демократии. Это были Кутон, Леба, Сен-Жюст, ничем не запятнавшие себя до тех пор, кроме фанатизма. Эти депутаты собирались каждый вечер у своего предводителя; там они рисовали прекрасную перспективу правосудия, равенства и счастья, которую сулила всем новая доктрина. При виде пустых стен, умеренной вечерней трапезы и философской беседы никто не подумал бы, что присутствует при заговоре демагогов, но скорее — на собрании мудрецов, мечтающих об учреждениях Золотого века.
Мирные картины чередовались с трагическими событиями, происходившими в это время. Любовь согревала сердца этих людей. Нежное чувство Кутона к женщине, служившей ему утешением на склоне дней, бурная и страстная любовь Сен-Жюста к сестре Леба, серьезное предпочтение, которое Робеспьер оказывал второй дочери своего гостя, любовь Леба к младшей сестре, проекты союза, мечты о счастье после бурь — все это придавало разговорам семейный, беспечный, подчас веселый характер, не возбуждавший подозрений в незаконности собраний главарей, а вскоре и тиранов республики. Там говорили только о счастье отречься от какой бы то ни было общественной роли тотчас после торжества принципов. Сам Робеспьер мечтал об уединенной хижине в глуши Артуа, куда он отвезет свою жену и откуда, счастливый, будет наблюдать общее счастье.
Итак, Робеспьер и Дантон, два человека, волновавшие в то время республику, столкнувшись, должны были бы уничтожить друг друга, а вместо того жаждали лишь отречься от власти. Но популярность не допускает отречения. Хоть взгляды Робеспьера и Дантона и различались, оба сходились в желании дать всю власть Конвенту. По их мнению, лучшим правительством стало бы правительство, способное упрочить победу над партиями, враждебными революции. Франция и свобода пребывали в опасности, а значит, законы переставали быть законами и превращались в оружие.
Все члены Собрания разделяли это мнение, и оно тотчас же отразилось на их действиях. Конвент не потребовал, чтобы ему предоставили диктатуру, а взял ее сам.
Подобно тому, как в 1789 году нация присвоила себе исключительную власть, Конвент единолично захватил власть в 1793-м.
Название Комитета общественного спасения было не новым для Конвента. Уже с марта предусмотрительные члены Собрания потребовали, чтобы всю власть сосредоточили в Комитете, состоящем из небольшого числа членов, в руках которого сходились бы отдельные нити слишком ослабевшей исполнительной власти. В состав его вошло большинство жирондистов. Власть оставалась бы в их руках, если бы они умели пользоваться ею.
Этому Комитету принадлежала инициатива всех мер, предпринимаемых против опасностей, угрожавших родине, внешних и внутренних. Он призывал министров, контролировал их действия, давал каждую неделю отчет Конвенту. Но вследствие борьбы мнений в нем царил антагонизм. Получалось не что иное, как сосредоточенная анархия. Робеспьер, сразу понявший это и не желавший запятнать своей популярности, отвечая за поступки, идущие вразрез с его взглядами, вышел из Комитета после первых же заседаний. Выход Робеспьера лишил этот первый Комитет популярности.
В начале апреля жирондисты вместе с Дантоном предложили усилить Комитет, преобразовав его и удалив некоторых из его членов. Бюзо, предчувствуя, что меч, который ковали его друзья, принесет смерть, отверг это намерение. Однако его приняли, несмотря на возражения. Число членов Комитета с двадцати пяти сократили до девяти. Ему поручили хранение государственной тайны, наблюдение над министерствами, предоставили право отменять декреты, которые он найдет вредными для народа, и самому издавать декреты. Ему не дали только одного права — произвольного ареста граждан.
Состав Комитета общественного спасения решили ежемесячно обновлять. Сначала в него вошли: Барер, Дельма, Бреар, Камбон, Дантон, Гитон де Морво, Трельяр, Лакруа и Робер Ленде. Дантона исключили из этого Комитета жирондисты, чтобы нейтрализовать его влияние на слабых и нерешительных членов «болота». После падения жирондистов Дантон отказывался от должностей, которые могли бы возбудить зависть. Его обвинили за удаление от дел, как раньше обвиняли за влиятельность в Комитете. Он увидел, что порой невозможно избежать внимания ни в то время, когда тебя окружает блеск, ни тогда, когда ты удаляешься в тень. «Учредите новый комитет, — сказал он, — учредите без меня комитет, более сильный и многочисленный, и я буду поощрять, а не сдерживать его».
После ряда колебаний, назначений и исключений, наконец был окончательно составлен Комитет общественного спасения, объявленный самими Дантоном временным правительством и облеченный верховной властью. В Комитете заседали двое его сторонников: Эро де Сешель и Тюрио.
Робеспьер вначале тоже отказывался стать членом Комитета, чтобы не оскорбить Дантона. Но его друзья составляли там большинство, и потому мнения его всегда выслушивались. Девятью членами Комитета стали: Сен-Жюст, Приер (Марнский), Кутон, Барер, Гаспарен, Тюрио, Эроде Сешель, Робер Ленде, Жан-Бон Сен-Андре. Когда Гаспарен вышел из состава, на его место единогласно выбрали Робеспьера. Карно и Приер (из Котд’Ора) были выбраны несколько дней спустя вследствие необходимости иметь представителей военного гения перед лицом коалиционной армии. Со вступлением Билло-Варенна и Колло д’Эрбуа в Комитете возобладал дух якобинства, который тем не менее, к большому сожалению Горы, чах под слишком холодным дыханием Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона.
Таким образом было сформировано это правительство, которое с мая 1793-го по август 1794 года приняло на себя все невзгоды, власть, славу и все проклятия потомства.
Постановления принимались большинством голосов. Однако достаточно было подписей трех членов, чтобы сделать меры действенными. Эти подписи по доверию производились впоследствии слишком легко, по-товарищески, часто безо всякой проверки. Торопливость Комитета, решавшего в день до пятисот дел, объясняла эту легкость, хоть и не могла служить ей оправданием. Много голов пало вследствие этого рокового любезного предоставления права подписываться за других. Тайна хранилась свято. Никто не знал, кто потребовал или отказался выдать ту или иную голову. Ответственность отдельных членов терялась в общей ответственности. Эти люди жертвовали всем, вплоть до своей репутации включительно. Удивительная вещь — в составе не было президента. В лице главы они боялись увидеть властелина. Председательствовала Республика.
В то время как Комитет общественного спасения захватил власть, Конвент созвал в Париж для санкционирования новой конституции представителей предварительных собраний, олицетворявших мнение всего народа. Число этих уполномоченных достигло восьми тысяч. Давид задумал устроить празднество, которое соединило бы в общенародном торжестве на Марсовом поле годовщину 10 августа и учреждение конституции. Сборным местом и точкой отправления кортежа, как во всех празднествах революции, назначили Бастилию. Власти Парижа, члены Коммуны, уполномоченные собраний, кордельеры, якобинцы, толпы народа и, наконец, сам Конвент собрались там на рассвете 10 августа 1793 года. На месте Бастилии фонтан, названный Фонтаном Возрождения, смывал следы былого рабства. Колоссальная статуя Природы возвышалась над фонтаном: фигура женщины, из сосков которой льются две чистые струи воды. Эро де Сешель, президент Конвента, зачерпнул воду золотым кубком, поднес его к губам и затем передал кубок старейшему из граждан. «Я стою на краю могилы, — воскликнул этот старик, — но мне кажется, что я снова начинаю жить вместе с возрожденным человечеством». Кубок долго переходил из рук в руки.
Кортеж прошел по бульварам под пушечную пальбу. Каждое общество несло свое знамя. Члены Конвента шли позади всех с букетами, плодами и свежими колосьями. Скрижали, на которых были начертаны права человека, и ковчег, где хранилась конституция, несли как священные предметы восемь членов Конвента. Восемьдесят шесть уполномоченных предварительных собраний окружали их, держа в руках развернутую трехцветную ленту, как бы заключая депутатов в узы родины.
После остановки перед Домом инвалидов, где толпа приветствовала свое собственное изображение в колоссальной статуе Геркулеса, народ рассеялся по Марсову полю. Представители выстроились на ступенях Алтаря Отечества. Миллион человек покрыли громадный амфитеатр, миллион голосов поклялись защищать принципы кодекса, представленного Эро де Сешелем на утверждение республики.
Между тем народный инстинкт принял конституцию только для будущего. Все чувствовали, что осуществление ее будет отсрочено до успокоения страны. Свобода, по мнению Горы, стала оружием, которое в это время послужило бы для подрыва самой же свободы. Никакая конституция, какой бы правильной она ни была, не может исполняться в руках врагов какой бы то ни было демократической конституции. Уполномоченные департаментов подали петицию, чтобы Конвент продолжал единолично управлять государством. Кризис послужил мотивом для этого самовластия.
Комитет назначил экстренное заседание, на котором постановил издать новый декрет. «Генералы, — писал Барер в рапорте от 23 августа, — до сих пор не знали народного характера. Внезапная атака, вторжение восставшего народа, сносящего своими разъяренными волнами неприятельские орды и разрушающего оплоты деспотизма — вот характер, вот картина войны за свободу! Римляне были тактиками, и они завоевали рабский мир; свободные галлы, не знавшие иной тактики, кроме своей стремительности, уничтожили Рим. Подобным образом и пылкость французов поразит эту колоссальную коалицию. Когда великий народ захочет быть свободным — он будет свободен, только бы недра его земли доставили ему металлы, из которых он выкует себе оружие».
Конвент воодушевился и принял следующий декрет: «Отныне и до того дня, когда враги будут изгнаны с территории республики, все французы могут быть призваны для службы в войсках. Молодые люди пойдут в сражения, женатые будут ковать оружие и доставлять продовольствие; женщины будут готовить палатки, одежду, служить в госпиталях; дети будут щипать корпию для перевязки раненых, старики на площадях — пробуждать в воинах мужество, ненависть к королям и любовь к республике. Общественные здания будут обращены в казармы, площади — в оружейные мастерские. Землю в подвалах выщелочат, чтобы добыть из нее селитру. Верховые лошади будут отобраны для пополнения кавалерийских корпусов. Все рабочие лошади, которые окажутся ненужными для земледельческих работ, повезут артиллерию и продовольствие. Комитету общественного спасения поручается все создать, организовать, потребовать у республики всего необходимого для приведения в исполнение этих мер. Народные представители, отправленные с этой целью в свои округа, будут облечены неограниченной властью. Восстание станет всеобщим. Неженатые, вдовые и не имеющие детей граждане в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет немедленно отправятся в главные города своих округов и будут там обучаться обращению с оружием до отправления в действующую армию. Знамя каждого организованного батальона будет иметь такую надпись: „Французский народ идет против тиранов!“»
За этим декретом в течение двух месяцев следовали все новые и новые, в таком же энергичном духе.
Финансовая комиссия с помощью Камбона улучшила положение финансов и привела в порядок дела обремененного долгами казначейства. В обращении находилось около четырех миллиардов потерявших ценность ассигнаций. Благодаря принудительному займу, равнявшемуся приблизительно годовому доходу богачей, — легкий способ спасти капитал, спасая родину, — в распоряжение правительства поступило на миллиард ассигнаций; Камбон сжег их, как только получил. Сумма податных недоимок достигала почти миллиарда: Камбон поместил эти деньги по номинальному курсу в государственные кассы. Таким образом сумма бумажных денег сократилась до двух миллиардов. Чтобы поднять эти ассигнации в общественном мнении, Камбон упразднил все общества, выпускавшие акции, чтобы ассигнации сделались единственными акциями, находящимися в обращении. Капиталистам было запрещено помещать свои капиталы куда бы то ни было, кроме французских банков. Торговлю золотом и серебром запретили под страхом смерти, эти металлы немедленно скупались для чеканки монет. Чтобы увеличить количество звонкой монеты, расплавили несколько церковных колоколов и пустили в обращение священный металл, отчеканенный со знаком республики.
Кроме того, Камбон занялся рассмотрением долгов государства частным лицам. Слово «банкрот» могло бы покрыть эту бездну, но повлекло бы за собой грабеж, долги и слезы. Камбон хотел, чтобы честность обязательно присутствовала и в отношениях республики к своим кредиторам. Он прибег к справедливой мере. Придав огласке все долги, он под общей рубрикой внес их в список, который назвал Большой книгой государственного долга. Каждый кредитор был занесен в эту книгу под суммой, равной той, которую государство признавало себя должным ему. Государство платило с этой суммы пятипроцентную ренту, которая сделалась в руках государственных кредиторов настоящим капиталом. Государство получило право скупать ее саму, если бы отношение процента к капиталу сделалось меньше, чем пять к ста. Благодаря этой мере государство могло расплатиться честно. Что касается капитала, то он никогда не мог быть выплачен: государство признавало себя обязанным вечно платить ренту, но не капитал. Вечная рента имела еще то преимущество, что делала таким образом граждан совладельцами государственного имущества и кредиторы ради своих выгод становились республиканцами. Наконец, она на развалинах частных капиталов создала обильный источник для государственного кредита.
Жестокие декреты последовали вслед за мудрыми и великодушными. Угрожающие волнения парижской черни, сумасбродство Шометта и Эбера в Коммуне принудили к прискорбным уступкам.
Конвент все-таки ввел тариф на съестные припасы, предмет первой необходимости для народа; это равнялось уничтожению самой торговли. Конвент на заседании 3 сентября установил «максимум» на хлеб, мясо, рыбу, соль, вино, уголь, дрова, мыло, масло, сахар, железо, кожи, табак, ткани. Он установил также максимум заработной платы. Это равнялось уничтожению свободы торговых сделок, спекуляций и труда, могущих существовать только при свободе рынка, равнялось вмешательству государства в отношения продавцов и покупателей, рабочих и собственников. Такой закон мог вызвать только нежелание пускать в оборот капиталы, замедление в оборотах, всеобщее разорение. Цены на предметы первой необходимости создает не закон, а положение вещей. Приказать пахарю продавать зерно, а булочнику — хлеб дешевле той цены, которую эти съестные припасы стоят, равносильно приказанию одному из них прекратить сеять, а другому перестать печь хлеб.
«Максимум» принес свои плоды, сократив повсюду денежные обороты, рабочие места и продовольствие. Народ обвинил в бедствиях, причины которых были естественны, коммерсантов, преследовал в своих петициях контрреволюцию в лице даже самых бессильных ее жертв, погребенных в темницах Тампля — королевские останки, покоившиеся в склепах Сен-Дени.
Конвент постановил, что королевские гробницы в Сен-Дени будут уничтожены и прах королей удален из храма. Но эти уступки уже не удовлетворяли народ. Он хотел, чтобы и его враги испытывали тот же ужас, который охватил его самого. Трон, церковь, дворянство — всех этих жертв ему уже становилось мало. Никто не мог владеть безнаказанно тем, чего не хватало народу. Громко требовали или особого суда над собственниками, или права грабить. «Если вы не учредите суда над богатыми, — воскликнул один из якобинцев, обращаясь к Конвенту, — мы сами будем судить их».
Робеспьер несколько раз тщетно пытался обуздать петиционеров, жаждущих крови и грабежа. «Революция погибнет, — сказал Робеспьер Пашу, — если не остановить этих безумцев. Надо, чтобы народ почувствовал, что его защищают грозные учреждения, или же пусть он сам себя уничтожит оружием, которым думает защищаться. Конвент имеет только одно средство вырвать у народа меч: это самому взять его и беспощадно разить своих врагов».
Паш отправился на заседание 5 сентября, чтобы заявить там о мнимом желании Парижа. Он поручил Шометту прочитать петицию, чтобы возложить ответственность за действие, которому сам явно противился, на прокурора Коммуны.
«Граждане, — сказал Шометт, — нас хотят уморить голодом, хотят заставить народ постыдно променять господство на кусок хлеба. Новые аристократы, столь же жестокие, столь же жадные и высокомерные, как и прежние, появились на развалинах феодализма. Они с ужасающим хладнокровием рассчитывают, какой барыш им принесут голод, бунт, резня. Где рука, которая направит ваше оружие против этих изменников? Где рука, которая поразит эти преступные головы? Или вы должны уничтожить ваших врагов, или они уничтожат вас. Они бросили вызов народу: народ принял этот вызов. Народная толпа хочет наконец сокрушить их! А вы, Гора, навсегда увековечившая себя на страницах истории, станьте Синаем французов! Святая Гора, обратитесь в вулкан, лава которого поглотит наших врагов! Мы требуем от имени парижского народа, чтобы была сформирована революционная армия. Пусть за ней следуют неподкупный суд и орудие смерти, которые одним ударом, вместе с жизнью заговорщиков, пресекли бы все заговоры! Мы заметили, — прибавил Шометт в конце своей речи, — что огородники образовали союз с целью уморить Париж голодом. Обозревая окрестности столицы, мы заметили огромные пространства земли, парки, сады, служащие для роскоши и ничего не производящие для пропитания народа. Взгляните на огромный сад Тюильри. Не лучше ли развести там овощи, которых так недостает в больницах, чем оставлять статуи и клумбы, предметы роскоши и гордости королей?»
Каждая фраза Шометта прерывалась рукоплесканиями Горы и трибун. Предложения оратора, изложенные в виде проектов декрета Моизом Бейлем, приняли единогласно. Потом выступила депутация якобинцев. «Безнаказанность придает смелости нашим врагам, — говорили они, — главные виновники ускользают от народной мести. Бриссо — это чудовище, порожденное Англией для того, чтобы поколебать и поставить в затруднительное положение революцию, — еще жив. Пусть судят его и его сообщников! Народ возмущается также, видя в республике лиц привилегированных. Как! Верньо, Жансонне и прочие негодяи, вследствие своей измены лишенные звания депутатов, живут вместо тюрем во дворцах, в то время как несчастные санкюлоты стонут в тюрьмах под кинжалами федералистов!.. Пора косе равенства пройтись над всеми головами, пора устрашить всех заговорщиков! Итак, законодатели, пустите в ход террор!»
Барер, предупрежденный Робеспьером и приготовившийся еще накануне, взошел на трибуну и от имени Комитета общественного спасения потребовал, чтобы проект Террора отозвали и приняли новый декрет. «С некоторых пор, — сказал он, — аристократы, оставшиеся внутри государства, замышляют движение. Ну так они увидят его, это движение, направленное против них! Роялисты хотят крови, ну так они получат кровь Бриссо и Марии-Антуанетты! Действовать будут уже не противозаконная месть, а чрезвычайные суды. Вы хотите уничтожить Гору, а Гора раздавит вас!»
Декрет, в котором резюмировались эти слова, встретили аплодисментами: «В Париже будет образовано вооруженное формирование, состоящее из шести тысяч человек и тысячи двухсот канониров: на них возложат обязанность повсюду вводить революционные законы и меры общественного спасения».
Вторым декретом изгонялись на двадцать лье от Парижа все, кто служил при особе короля и его братьев.
Третьим декретом предписывалось немедленно явиться в Трибунал Бриссо, Верньо, Жансонне, Клавьеру, Лебрену и Бодри, секретарю Лебрена.
Четвертым были вновь введены ночные обыски.
Пятым приказывалось немедленно выселить за море публичных женщин.
Шестой декрет предлагал установить плату в два ливра в день рабочим, которые будут уходить из мастерских, чтобы присутствовать на собраниях своих секций, и по три ливра тем лицам из народа, кто станут членами революционного комитета.
Наконец, седьмым декретом преобразовывался Революционный трибунал.
Это было правосудие Террора.
Конвент назначил судей и присяжных. Партийный дух составлял всё их правосудие. Не будучи способными более благородным образом служить делу, которому отдались, они жертвовали своей совестью. Чтобы играть хоть какую-нибудь роль, они взяли на себя роль самую низкую — зверскую и грубую: добровольно обратились в организованное орудие казней и гордились этой гнусностью. Такие люди встречаются во все времена — посредственные законники, привыкшие к ябедам, черствящим сердце, и к порядкам, заглушающим совесть. Присяжными стали граждане Парижа и департаментов, руководимые лишь инстинктом. Просматривая список шестидесяти присяжных, не встречаешь ни одного имени, которое не было бы достойно забвения.
Конвент назначил Ронсена главнокомандующим революционной армией. Страстно желая прославиться, он мечтал сначала найти славу на литературном поприще, а затем бросил перо и схватился за меч. Он вообразил, что у революции будет свой Кромвель, набрал в революционную армию всех пьяниц, воров и преступников, находившихся в Париже. «Чего вы хотите? — ответил он тем, кто упрекал его, — я не хуже вас знаю, что это скопище разбойников; найдите мне честных людей, которые захотели бы заняться тем, к чему я их призываю».
Когда армия была организована, а суд учрежден, оставалось только передать в их руки виновных. По мнению Горы, для всемогущества Конвента требовался один общий обвинительный акт, всеобъемлющий, как республика, произвольный, как диктатура, неопределенный, как подозрение. С этой целью Мерлен (из Дуэ) представил 17 сентября проект декрета, параграфы которого, составленные ловким законоведом, захватывали всю Францию в искусно сплетенную сеть узаконенного подозрения.
Декрет Мерлена, состоявший из семидесяти четырех обвинительных параграфов, постоянно пополнялся все новыми пунктами, измышляемыми доносчиками, и сделался самым мощным орудием произвола, которое когда-либо было предоставлено угодливостью законника в руки правительства.
Первый пункт гласил: «Немедленно по издании настоящего декрета все подозрительные лица, живущие на территории республики и находящиеся еще на свободе, будут арестованы.
Под „подозрительными“ подразумеваются:
Те, кто своим поведением, статьями или словами выказали себя сторонниками тирании или федерализма и врагами свободы.
Те, кто не в состоянии доказать, как добывают средства к существованию и тем исполняют долг граждан.
Те, кому отказано в получении сертификата о гражданстве.
Те, кто прежде были дворянами, отцы, матери, сыновья, дочери, братья, сестры, мужья, жены эмигрантов, не выказывавшие неизменно своей преданности революции…»
«Подозрительны, — прибавил Барер, комментируя декрет Мерлена, — дворяне! Подозрительны придворные! Подозрительны священники! Подозрительны банкиры! Подозрительны все, скорбящие о том, что происходит во время революции! Подозрительны все, кого огорчает наш успех!»
Последний пункт распространял кару даже на тех, кто был бы объявлен невиновным, и уполномочивал уголовный суд арестовывать и однажды оправданных.
Террор не был вызван, как полагают, произвольным и жестоким расчетом нескольких лиц, хладнокровно обдумавших систему правления. Он не стал также результатом скороспелого решения или решения под влиянием озлобления. Он явился плодом мысли людей из разных лагерей, которые, не видя выхода из положения, в котором оказались, искали его в мече и смерти. Но главным образом он стал следствием пагубного соперничества честолюбий, желания заслужить популярность, этого залога признания патриотических чувств, в недостатке которых отдельные лица и партии упрекали друг друга: Барнав — Мирабо, Бриссо — Барнава, Робеспьер — Бриссо, Дантон — Робеспьера, Марат — Дантона, Эбер — Марата, все — жирондистов. Так что, для того чтобы доказать свой патриотизм, каждый гражданин и каждая партия старались применить как можно больше насилия. Всеобщее соревнование в давлении, которое отдельные граждане и партии производили друг на друга, отчасти искренне, отчасти притворно, вызвало всеобщий Террор, который они все направили друг на друга и на своих врагов, чтобы отделаться от них.
Франция и Революция не имели в это время иного национального правительства, кроме Конвента. Потому Конвенту, по его мнению, принадлежали все права, которыми владели Революция и Франция. Первым правом было спасти самого себя. Единственный закон в подобную минуту — встать вне закона. У Робеспьера, Дантона и Горы хватило смелости искать власти в анархии. Конвент имел несчастье присоединиться к их предприятию и взял на себя ответственность перед потомством. Создавая диктатуру, он думал, что готовит необходимое оружие для охраны свободы; но оружие тирании слишком тяжело для человеческих рук. Вместо того чтобы, угрожая, делать выбор между людьми, оно разило наудачу, без суда и пощады. Оружие увлекло за собой поражающую руку. Вот в чем состояло преступление, и это преступление приходится искупать доныне.
XLVI
Генерал Кюстин перед Революционным трибуналом — Консьержери — Молодого дофина разлучают с матерью — Осуждение королевы и ее смерть
Одной из первых жертв Террора стал генерал Кюстин. Преступление его состояло в том, что он вносил в войну искусство. Монтаньяры хотели, чтобы война велась наступательно и форсированным маршем. Им нужны были генералы, вышедшие из простолюдинов, чтобы управлять толпами черни, и невежественные, чтобы вести войну в современном духе.
Мы видели, как Кюстин, вырванный из среды обожавшей его армии комиссаром Левассером, прибыл в Париж дать отчет в причине своего бездействия. Конвент поспешил арестовать его и предать суду.
Фукье-Тенвиль, прокурор суда, «железные уста» Террора, равнодушный к истине и клевете, прочел длинный, несвязный обвинительный акт. Допросили множество свидетелей. Одни из них были форменными доносчиками, разъезжавшими по лагерям, чтобы собирать и записывать смутный ропот и личное недовольство войск; другие оказались немецкими демагогами из Майнца и Люттиха, ставившими в упрек генералу его пренебрежение их советами и желание обуздать их страсти; наконец, третьи были клевретами народных представителей в армии, как-то: Монто, Легиньо, Леонар Бурдон, Мерлен из Тионвиля, Генц. Показания последних оказались выдержаны в самом умеренном духе. Они говорили о Кюстине как люди, порой не одобрявшие его поведение, но сознававшие его правоту и уважавшие его «несчастье». Ни один из них не произнес слова «измена».
Кюстин оспаривал некоторые пункты, возражал против показаний, восстанавливал факты, припоминал обстоятельства, числа и разбивал обвинения с ясностью и твердостью, по справедливости возвеличившими славу его талантов. Против него не осталось улик. Подозрение сохранилось только в душе тех, кто хотел питать его. В негодующем патриотизме генерала слышались такие оттенки величия и искренности, которые пристыдили неблагодарность его родины.
Когда Левассер заявил суду, что заметил в поведении Кюстина те же самые признаки измены, как и в поведении Дюмурье, когда последний предал своих собственных солдат в руки врагов, несколько слезинок скатились из глаз Кюстина и оказались его единственным опровержением.
Нетерпение якобинцев подстрекало судей скорее закончить дело, но убеждение в невиновности генерала, умиление и восхищение овладели всеми. После прений Кюстин в течение двух часов говорил речь, ясность и доказательность которой, мужество воина и красноречие убежденного патриота растрогали присутствовавших. Все были убеждены, что его оправдают. Присяжные против всякого ожидания обвинили его большинством голосов. Суд произнес приговор: смертная казнь.
Кюстин был потрясен. Он обвел глазами зал, ища защитников, которые подали бы за него в последний раз голос. Но защитники уже покинули зал. «У меня не осталось ни одного защитника, — воскликнул он, — все исчезли! Совесть ни в чем не упрекает меня. Я умираю спокойный и невиновный».
Присутствовавшие молчали или лили слезы. Народ, стоявший на улице, аплодировал. Кюстин вернулся в канцелярию Консьержери, последнюю инстанцию между жизнью и смертью. Там он упал на колени, опустив голову на руки, и провел в таком положении два часа, не произнеся ни слова. Поднявшись, он попросил прислать к нему священника, объявив себя побежденным теми доктринами, противником которых прежде являлся. Он написал трогательное письмо сыну, поручая ему восстановить честь своего имени, когда в республике настанут лучшие дни.
Генерал взошел на тележку со связанными руками. Только синий сюртук, на котором уцелели цветные канты и форменные галуны, свидетельствовал, что под платьем осужденного скрывается военный. Он горячо целовал распятие, которое прижал к его губам сидевший рядом с ним его духовник. Сойдя у подножия эшафота с тележки, Кюстин преклонил колени на первой ступени лестницы. Его молитва, которую не решались прервать, была очень усердна. Наконец он твердыми шагами взошел на эшафот; с минуту смотрел на нож, затем отдал себя в руки палача и умер.
Военная партия, эмигрировавшая с Лафайетом, обезглавленная с Кюстином и униженная с Дантоном, уже не пыталась бороться с Робеспьером, сделавшимся верховным властителем республики.
В течение двух месяцев девяносто восемь казненных обагрили своей кровью эшафот. Отдав однажды топор в руки народа, его уже не могли отнять обратно. Неумолимая и низкая месть непрерывно требовала головы Марии-Антуанетты.
Мы оставили королевскую семью в Тампле в ту минуту, когда король вырвался из прощальных объятий, чтобы отправиться на эшафот. Королева весь день 21 января пролежала одетая на постели. Она старалась угадать момент, когда роковой нож пресечет жизнь ее супруга, чтобы соединить свою душу с его душой и призвать к себе в защитники на Небесах того, кого на земле потеряла как мужа.
Королева просила своих тюремщиков разрешить ей отдать последний долг уважения покойному, надев по нему траур. Эта просьба была уважена, но с условием соблюдения простоты, почти бедности, напомнившей о законе против роскоши. Другим специальным постановлением совета Коммуны разрешили выдать пятнадцать рубашек сыну короля.
В первое время сами комиссары Тампля думали, что удовлетворенная республика не замедлит вернуть свободу детям и женщинам. Снисходительные чиновники намекали на это в своих речах. Принцесса Елизавета и юная принцесса старались, основываясь на этих намеках, если не вселить надежду в сердце королевы, то по крайней мере развлечь ее немного, но королева упорно отказывалась выходить в сад, где ей разрешили прогуливаться. Опасаясь, однако, последствий такого полного заключения для здоровья своих детей, она согласилась в конце февраля совершать прогулки на открытой площадке башни.
Совет Коммуны, извещенный о любопытстве, которое возбуждали эти прогулки в соседних домах, издал приказ закрыть просветы между зубцами башни.
После 31 мая Террор, господствовавший в Париже, проник и в тюрьму, увеличив тяжесть заточения. Конвент, после издания декрета о предании суду королевы, разлучил ее с сыном. Этот приказ пожелали прочесть королевской семье. Ребенок бросился в объятья матери, умоляя ее не отдавать его в руки палачей. Королева отнесла сына на кровать и, встав между ним и муниципальными чиновниками, объявила им, что, прежде чем они коснутся его, им придется убить ее. Напрасно грозили использовать силу, если она будет противиться декрету: в течение двух часов она стояла на своем, пока наконец не сдалась, побежденная угрожающими жестами комиссаров. Королева по настоянию принцессы Елизаветы и дочери одела дофина и со слезами передала его тюремщикам. Сапожник Симон, долженствовавший заменить при дофине нежно любившую его мать, отнес его в комнату, где юному королю суждено было умереть. Ребенок два дня пролежал на полу, отказываясь принимать пищу. Цинизм и грубость Симона разрушали тело и развращали душу его питомца. Он обращался с ним так же, как обращаются с дикими зверенышами, отнятыми у матери и посаженными в клетку. Он наказывал его за чувствительность, награждал за дурные поступки, поощрял пороки, учил ребенка с неуважением относиться к памяти отца, слезам матери, набожности тетки, невинности сестры и преданности приверженцев. Он заставлял его петь непристойные песни и стоя прислуживать ему за столом. Однажды, во время одной из диких забав, он чуть не выбил глаз дофину, ударив его салфеткой по лицу. В другой раз он схватил кочергу и, подняв над головой ребенка, грозился убить его. «Капет, — сказал он дофину после того, как вандейская армия перешла Луару, — что сделал бы ты, если бы вандейцы освободили тебя?» — «Я простил бы вас», — ответил ребенок. Симон был тронут этим ответом и признал, что в жилах дофина течет кровь Людовика XVI. Но опьяняемый сознанием своей значимости и вином, этот человек не оказался способен на сострадание. И в эти руки судьбе угодно было отдать последнего отпрыска королевского дома!
Второго августа в два часа утра королеву разбудили, чтобы сообщить постановление, повелевавшее перевести ее в Консьержери в ожидании суда. Королева молчала; она вынуждена была одеться перед мужчинами, наполнившими ее комнату. Они обыскали ее, опечатали вещицы и драгоценности, бывшие при ней: портфель, карманное зеркало, бумагу, на которой были оттиснуты два золотых сердца с инициалами, портрет госпожи Ламбаль и несколько символических знаков набожного поклонения Пречистой Деве, подаренных ей принцессой Елизаветой. Они оставили Марии-Антуанетте только носовой платок. Она, так же, как и Людовик XVI перед смертью, посоветовала дочери простить своих врагов и гонителей. Затем, вложив руки молодой девушки в руки принцессы Елизаветы, сказала ей: «Вот та, которая отныне должна заменить вам отца и мать; слушайтесь ее и любите, как если бы это была я. А вы, сестра моя, — продолжала она, бросаясь в объятия принцессы Елизаветы, — будьте второй матерью моим бедным детям. Любите их так же, как любили нас до самой смерти!»
Принцесса Елизавета сказала несколько слов королеве так тихо, что их не расслышал никто. Королева сделала головой знак, означавший, что она покоряется судьбе, и медленными шагами вышла из комнаты, опустив глаза и не решаясь в последний раз взглянуть на дочь и сестру. Переступая порог тюрьмы, она ударилась лбом о низкую притолоку. Ее спросили, не больно ли ей. «О нет, — ответила она, — теперь уже ничто не может причинить мне боль».
Тюрьма Консьержери занимает подземный этаж Дворца правосудия. Она, так сказать, врыта в его фундамент.
Спустившись по ступеням широкой лестницы и пройдя двое больших ворот, попадаешь в проход, арки которого выходят во двор, служащий местом прогулки арестантов. Ряд окованных железом дубовых дверей с массивными засовами тянется по левую сторону вдоль всего этого коридора. Вторая дверь от ворот вела тогда в маленькую комнату ниже уровня коридора. Свет в решетчатое окно проникал из узкого, окруженного высокими стенами, как пустой колодезь, двора. Нищенская кровать, стоявшая у стены против окна, без полога и балдахина, покрытая одеялом из грубого сукна, какие используются в госпиталях и казармах, сосновый стол и два соломенных стула составляли всю меблировку. Сюда-то среди ночи привезли королеву Франции. Два жандарма с саблями наголо были поставлены на караул на пороге, лицом к комнате королевы, получив приказ не терять ее из виду.
Но даже в тюрьмах можно встретить сострадание. Королева встретила его в госпоже Ришар, жене тюремного привратника. Роялистка по своему образу мыслей, госпожа Ришар не гордилась тем, что в ее власти находилась дочь, жена и мать королей, а скорее радовалась, что может осушить ее слезы. Она перенесла в тюрьму кое-какую мебель, отправила в Тампль за вышиванием, мотками шерсти и иголками, которые Мария-Антуанетта оставила там. Сама готовила кушанья для узницы, ежеминутно, под предлогом исполнения своих обязанностей, приходила узнавать, не нужно ли чего-нибудь заключенной, произносила несколько сочувственных слов и всячески старалась скрасить ее одиночество. С помощью сочувствовавших комиссаров она передавала сведения о королеве ее сестре и детям. Привратник Ришар, казавшийся с виду строгим, разделял чувства жены.
Долго никому не было известно, когда состоится суд на Марией-Антуанеттой. Эта отсрочка Комитета общественного спасения заставляла надеяться, что он хотел обмануть жестокое нетерпение черни и ждал, что время успокоит ее. Несколько муниципальных чиновников принимали участие в заговорах о побеге. Госпожа Ришар содействовала тому, чтобы провести в тюрьму этих преданных людей, и во время торопливых переговоров она отвлекала внимание жандармов. Мишонис, член муниципалитета и вместе с тем чиновник полиции, служивший королевской семье в Тампле с риском для собственной жизни, продолжал выказывать ту же преданность во время пребывания королевы в Консьержери. Есть благородные натуры, которых привлекают несчастья и опасности. К числу их принадлежал Мишонис, а также [служащие Тампля] Лепитр и Тулан.
Благодаря Мишонису в тюрьму проник дворянин по имени Ружвиль, который смог увидеть королеву и передать ей цветок со спрятанной в нем запиской. Записку эту выхватил из рук королевы один из жандармов. Мишонис был арестован, госпожа Ришар и ее муж, отставленные от должностей, заключены в ту же тюрьму. Королева почувствовала ужас.
Но и на этот раз нашлось благородное сердце. Господин и госпожа Бо, служившие прежде в тюрьме Лафорс, хлопотали о месте в Консьержери и получили его.
Госпожа Бо, вопреки приказаниям Коммуны давать королеве только хлеб и воду, как получали все заключенные, сама готовила ей пищу. Вместо вонючей воды из Сены королеве ежедневно приносили свежую воду, которую она привыкла пить в Трианоне. Рыночные торговцы, бывшие некогда поставщиками королевского дома, тайком приносили фрукты и цветы к воротам тюрьмы, а привратница передавала все это узнице. Таким образом, камера тюрьмы напоминала заключенной те сады, которые она так любила. Госпожа Бо, чтобы показать, как велика ее честность и неподкупность, никогда не входила в комнату королевы. Только муж ее входил туда в сопровождении полицейских надзирателей. Эти полицейские заметили однажды, что над кроватью повесили старый ковер, чтобы не дуло от стены. Они сделали выговор Бо за такое послабление, но последний оправдался тем, что так стоны узницы не слышны другим заключенным.
От сырости расползлись в клочья оба платья, которые были оставлены королеве, белое и черное, которые она носила попеременно. Три рубашки, чулки, башмаки, постоянно пропитанные сыростью, пришли в такое же состояние. Дочь госпожи Бо чинила одежду и обувь королевы и раздавала, как реликвии, клочья, отрывавшиеся от них. Эта нежная девушка, ежедневно приходившая в тюрьму, помогала королеве одеваться, оправлять постель и причесывала ее. Когда-то густые белокурые волосы тридцатисемилетней королевы поседели и начали выпадать, как будто природа предвидела, что жизнь ее продолжится недолго.
Королева записывала на штукатурке стены кончиком шпильки свои мысли. Большей частью это были немецкие или итальянские стихи, намекавшие на ее судьбу. Трогательна и славна судьба поэтов, в произведениях которых находят отклик несчастья и удачи! Как будто ни одно счастье или горе не могут быть полными, если не будут выражены в бессмертных стихах! Остальные надписи были взяты из псалмов и Евангелия. Ими была покрыта вся стена, противоположная окну. Один из комиссаров пожелал списать их; но его сотоварищи приказали выбелить стену, чтобы вопль души королевы не нашел отклика в сердцах людей.
Тринадцатого октября Фукье-Тенвиль явился к королеве, чтобы прочесть ей обвинительный акт. Она выслушала его как известную формальность, которую не стоит и оспаривать. Преступление ее состояло в том, что она была женой и матерью короля и ненавидела революцию, отнявшую у нее корону, мужа, детей и жизнь. Чтобы любить революцию, ей пришлось бы возненавидеть свою природу. Между ней и республикой существовала не тяжба, а смертельная ненависть, и вот сильная сторона карала более слабую.
Четырнадцатого октября в полдень она причесалась и оделась настолько прилично, насколько позволяли ей обстоятельства. Она не желала выставлять напоказ лохмотья, которые заставили бы покраснеть республику. Она не хотела разжалобить народ.
Окруженная отрядом жандармов, Мария-Антуанетта поднялась по лестнице, которая вела в зал суда, прошла среди толпы народа и села на скамью подсудимых. Ее чело оставалось спокойно, и она не казалась смущенной. Глаза с синими тенями, следами бессонницы и слез, еще излучали свет и прежний блеск. Хотя красота ее, когда-то ослеплявшая Европу, уже исчезла, но следы этой красоты все еще были заметны. Природная свежесть уроженки Севера все еще просвечивала сквозь синеватую бледность. Ее волосы, поседевшие от страданий, составляли контраст с моложавым лицом и стройным станом и ниспадали на плечи, как горькая и преждевременная насмешка судьбы над молодостью и красотой.
«Ваше имя?» — спросил председатель суда Эрман у обвиняемой. «Мария-Антуанетта Австрийская и Лотарингская», — ответила королева. Ее тихий взволнованный голос, казалось, просил присутствовавших простить за величие этих имен. «Ваше общественное положение?» — «Вдова Людовика, бывшего короля французов». — «Сколько вам лет?» — «Тридцать семь». Фукье-Тенвиль прочитал обвинительный акт. Королеве вменялось в преступление то, что она чужестранка, ее высокое происхождение и положение при дворе, где она царила благодаря слабости короля, а также и то, что она не разделяла идей, которых не понимала, и противилась учреждениям, лишившим ее трона. Эта часть обвинительного акта являлась приговором судьбы. Королева не могла оправдаться в обвинениях, предъявленных ее рангу так же, как народ не мог перестать обвинять ее. Остальная часть обвинительного акта была гнусным эхом слухов и ропота неудовольствия, которые в течение десяти лет распространялись в обществе: обвинения в расточительности, предполагаемом разврате и измене. Она выслушала все это без малейшего волнения или удивления, как женщина, привыкшая к ненависти, рассеянно постукивая пальцами по ручке кресла, точно старалась вспомнить мотив, подбирая его на клавишах рояля.
Вызвали и допросили свидетелей. После каждого показания Эрман обращался с вопросами к обвиняемой. Она отвечала спокойно и кратко, опровергая показания. Ответы Марии-Антуанетты не скомпрометировали никого.
Некоторые бесстыдные обвинения имели целью опорочить в ней чувство матери. Циник Эбер, допрошенный в качестве свидетеля о том, что происходило в Тампле, дошел до того, что обвинил королеву в растлении собственного сына. Принцесса Елизавета была выставлена как свидетельница и соучастница этих гнусностей, и у Эбера хватило совести выудить признание в этом у семилетнего ребенка!.. При этих словах раздался ропот всеобщего негодования. Королева лишь жестом выразила свой ужас, не зная, как ответить, чтобы не осквернить своих уст. Один из присяжных спросил обвиняемую, почему она не возражает на обвинение. «Я не возражаю, — сказала она с величественным простодушием, — потому что есть обвинения, на которые природа отказывается отвечать».
С не меньшим достоинством ответила королева на обвинение в том, что она злоупотребляла своим влиянием из-за слабости своего мужа. «Я никогда не замечала, чтобы у него был такой характер, — сказала она, — моя обязанность и счастье состояли в том, чтобы сообразовываться с его волей».
По окончании длительных прений Эрман объявил, что весь французский народ высказывается против Марии-Антуанетты. Присяжные для проформы посовещались и вернулись в зал после часового перерыва. Королеву пригласили выслушать приговор. По радостным восклицаниям толпы, наполнившей дворец Правосудия, она догадалась о сущности приговора и выслушала его, не произнеся ни одного слова и не сделав ни малейшего движения. Эрман спросил ее, не хочет ли она возразить что-либо против вынесенного ей смертного приговора. Мария-Антуанетта отрицательно покачала головой и встала как бы для того, чтобы самой идти на казнь. Она облачилась в молчание — последнее, что оставалось у нее неприкосновенным. Жестокие аплодисменты сопровождали ее до последних ступеней лестницы, ведшей из зала суда в тюрьму.
Начинался последний день ее жизни. Она попросила у привратника чернил, бумаги и перо и написала сестре письмо, найденное впоследствии в бумагах Кутона, которому Фукье-Тенвиль поднес его в дар как реликвию королевской власти.
«Пятнадцатого октября, в половине пятого утра.
Вам, сестра моя, пишу в последний раз. Меня только что приговорили к смерти, но не постыдной: она позорит только преступников, меня же соединит с вашим братом. Невинная, как и он, я надеюсь выказать такую же твердость, какую выказал он в последние минуты своей жизни. Мне глубоко жаль покинуть моих бедных детей; вы знаете, что я жила только для них и для вас — для вас, всем пожертвовавшей из дружбы к нам, чтобы остаться с нами. Пусть они возьмут пример с нас. Сколько утешений дала нам во время всех несчастий наша дружба: мы наслаждаемся счастьем вдвойне, если можем разделить его с другом, а где найдешь большую нежность и большую близость, как не в собственной семье? Пусть сын мой никогда не забывает последних слов своего отца, которые я повторяю исключительно для него: „Никогда не мстить за нашу смерть“.
Я умираю в католической вере моих отцов, в которой была воспитана и которую всегда исповедовала. Не ожидаю ниоткуда нравственного утешения и не знаю, имеются ли еще здесь священники этой религии: в том месте, где я нахожусь теперь, они подвергались бы большой опасности. Я от всего сердца прошу у Бога прощения во всех грехах, которые совершила с тех пор, как живу на свете. Я надеюсь, что он, по милосердию Своему, исполнит мои последние мольбы, а также и мое всегдашнее прошение принять душу мою по Своему милосердию и благости. Я прошу прощения у всех, кого знаю, а у вас, сестра моя, в особенности. Прощаю всем своим врагам то зло, которое они мне сделали. Прощаюсь с моими тетками и всеми моими братьями и сестрами. У меня были друзья; мысль, что я расстаюсь с ними навсегда, и их несчастья составляют одну из самых сильных горестей, которые я уношу с собою в могилу; пусть они по крайней мере знают, что я думала о них до последней минуты своей жизни. Прощайте, дорогая и нежная сестра моя! Не забывайте меня!.. Боже мой! Как грустно расставаться с вами навеки! Прощайте!.. Прощайте!.. Теперь я должна заняться исключительно своими духовными обязанностями. Так как я не свободна в своих действиях, то мне приведут, быть может, священника; но обещаю, что не скажу ему ни слова и обойдусь с ним как с человеком, совершенно для меня чужим».
Писали, будто бы в последние минуты ее жизни королеву посетил неприсягнувший священник и причастил по обряду католической религии. Умирая, она не имела ни одного из тех утешений, которые придают силу в последней борьбе. Вот правдивый рассказ, записанный со слов очевидца.
Республика, даже во время самых жестоких своих деяний, не порывала, как полагают, общения с Богом. Она подчинила религиозный культ нации, но не уничтожила ни его обрядовой стороны, ни платы за требы. Она сохранила прежний обычай уголовного суда — посылать к осужденным перед казнью служителей религии. Это были конституционные священники. Парижский епископ Гобель строго следил за тем, чтобы подчиненные ему священники добросовестно совершали в тюрьмах этот акт милосердия. Всякий раз, когда Трибунал приговаривал к смерти, председатель суда передавал список осужденных Фукье-Тенвилю, а Фукье отсылал его епископу.
Та же формальность была соблюдена и относительно королевы. Но величие жертвы, ужас перед исполнением этой миссии, страх связать свое имя перед лицом истории с одним из актов убийства, наконец, опасение, что разгневанный народ не даст кортежу доехать до эшафота и вместе с королевой убьет и служителя алтаря, заставило трусливых священников не торопиться исполнить эту обязанность относительно Марии-Антуанетты. Они старались свалить эту обязанность друг на друга.
Однако трое из них все-таки явились в Консьержери и смиренно предложили свои услуги королеве. Одним из них оказался конституционный священник по имени Жерар; второй — викарий парижского епископа Ламбер; третий — эльзасский священник Лотрингер. Королева встретила их скорее как предшественников палача, нежели вестников Христовых. Однако их слова и сдержанность их обращения тронули королеву, и она придала своему отказу оттенок сожаления. «Благодарю вас, — сказала она аббату Жирару, — но моя религия запрещает мне принять прощение от Бога через священника другого вероисповедания, кроме римского… Между тем я в нем сильно нуждаюсь, — прибавила она с грустным смирением, как бы исповедуясь перед ним не как перед священником, а как перед человеком, — потому что я великая грешница. Но я готовлюсь получить великое таинство». — «Да, мученичество!» — тихо молвил Жирар, священник церкви Сен-Ландри, и, поклонившись, вышел.
Аббат Ламбер, молодой человек с осанкой скорее воина, чем духовного лица, почтительно стоял в отдалении за своими двумя собратьями, молча смотрел на искупительную жертву, а потом вышел, удивляясь тому, что слезы наполнили его глаза.
Аббат Лотрингер настаивал на желании оказать милосердие королеве. Он был набожен по убеждению, хотел услужить от всей души, но оставался человеком ограниченного ума, смотревшим на священство как на ремесло. Он исполнял свои обязанности с тщеславным рвением, стараясь причастить в тюрьмах как можно большее число осужденных и направить мысли их к Богу, сопровождая их до подножия эшафота.
Однако назойливая настойчивость аббата Лотрингера не могла убедить королеву и заставить ее склониться к его ногам. Она молилась одна и исповедалась только Богу.
Написав письмо и помолившись, королева спокойно проспала несколько часов. Когда она проснулась, дочь госпожи Бо одела ее и причесала с большей тщательностью, чем обыкновенно. Мария-Антуанетта сняла черное платье, которое носила со дня смерти мужа, и надела белое в знак того, что примирилась с землей и радуется тому, что идет на Небо. Белая косынка покрывала ее плечи, а белый чепчик — волосы. Только черная ленточка, стягивавшая чепчик, напоминала свету о ее трауре, ей самой — о вдовстве, а народу — об убийстве, которое он готовился совершить.
Холодный осенний туман повис над Сеной, лишь кое-где его прорезывали несколько солнечных лучей, падавших на крыши Лувра и на башню дворца. В одиннадцать часов жандармы и палачи вошли в зал осужденных. Королева обняла дочь привратника, сама обрезала свои волосы, безропотно позволила связать себе руки и твердыми шагами вышла из Консьержери.
Спустившись с лестницы во двор, она заметила тележку, к которой направились жандармы. Мария-Антуанетта остановилась, как бы намереваясь вернуться обратно: она думала, что народ облечет свою ненависть в более приличную форму и что так же, как и короля, ее повезут на эшафот в закрытой карете. Но, подавив первое волнение, она покорно опустила голову и взошла на тележку. Аббат Лотрингер, несмотря на ее возражения, сел позади нее.
Кортеж выехал из Консьержери под крики: «Да здравствует республика! Дорогу австриячке! Дорогу вдове Капета! Долой тиранию!» Связанные руки королевы лишали ее опоры на тряской мостовой, и она с трудом могла сохранить равновесие. «Это не трианонские подушки!» — кричали ей.
После моста Менял и шумных кварталов Парижа тишина и серьезный вид толпы свидетельствовали об ином настроении у народа. Если это было не сострадание, то, по крайней мере, смущение. Лицо королевы приняло снова спокойное и равнодушное выражение. Священник, сидевший рядом, тщетно старался привлечь ее внимание. Она смотрела на фасады домов, на республиканские надписи, на костюмы и выражение лиц жителей столицы, так сильно изменившейся за ее пятнадцатимесячное заключение в тюрьме. Особенное внимание она обращала на окна верхних этажей, где развевались трехцветные флаги.
Народ думал, а очевидцы записали, что ее легкомысленное и пустое внимание привлекла внешняя витрина республиканизма. Однако мысли ее были далеко. Она искала глазами знак спасения среди этих знаков гибели. Она приближалась к дому, о котором ей сообщили, когда она находилась в тюрьме. Мария-Антуанетта старалась угадать, где находится то окно, откуда на ее голову снизойдет разрешение от грехов, данное переодетым священником, и узнала его по знаку, незамеченному толпой. Тогда королева закрыла глаза, склонила голову и сосредоточила свои мысли под благословлявшей ее невидимой рукой и, не будучи в состоянии пошевелить связанными руками, трижды совершила крестное знамение движением головы. Зрители думали, что она молится, и с почтением отнеслись к ее молитве. Радость с этой минуты осветила ее лицо.
Выехав на площадь Революции, командующие кортежем приказали, чтобы тележка остановилась на минуту у сада Тюильри. Мария-Антуанетта повернула голову к своему бывшему дворцу и несколько минут смотрела на арену своего величия и падения. Несколько слезинок скатились к ней на колени. Священник и палач помогли ей сойти с тележки, поддерживая ее под руки. На эшафоте она нечаянно наступила на ногу палачу. Он вскрикнул от боли. «Извините меня», — сказала она таким тоном, точно обращалась к одному из своих придворных. Затем опустилась на минуту на колени, вполголоса прочла молитву, встала и сказала, смотря на башни Тампля: «Еще раз прощайте, дети мои, я иду к вашему отцу». На лице ее не было, как у ее мужа, отпечатка преждевременного блаженства, но оно выражало справедливое нетерпение уйти скорее из этой жизни.
Так умерла королева, легкомысленная в счастье, величественная в несчастье, бесстрашная на эшафоте; кумир двора, низвергнутый народом; неудачный советник королевской власти, личный враг революции. Народ несправедливо обратил на нее всю ненависть, приписывая ей все придворные скандалы и измены.
Каких бы взглядов ни придерживалась история, она вечно будет омывать слезами этот эшафот. Одна против всех, невинная благодаря своему полу, освященная благодаря имени матери, убитая на чужой земле народом, не умеющим прощать ни молодости, ни красоты существу, служившему предметом поклонения! Призванная этим народом, чтобы занять трон, она даже не получила от него могилы, потому что мы читаем в книге кладбища Мадлен: «За могилу вдовы Капета — 7 франков».
Вот итог жизни королевы. Когда Провидение с грубым красноречием хочет рассказать людям о превратностях судьбы, оно одним знаком говорит больше, чем Сенека и Боссюэ в своих блестящих речах, и записывает ничтожную сумму в книгу могильщика.
XLVII
Процесс двадцати одного жирондиста
Третьего октября 1793 года в чудное осеннее утро семьдесят три депутата «болота», беспокойные остатки партии Ролана, Верньо и Бриссо, отправились на заседание Конвента. Их поразило необычное скопление вооруженных людей вокруг Тюильри. Места в зале, предназначенные для публики, были переполнены. Глухое волнение выражалось в разговорах, движениях, выражении лиц. Депутаты, медленно направлявшиеся к своим местам, казалось, были чем-то подавлены. Казалось, Гора и народ знали, какая трагическая сцена готовится. Семьдесят три депутата, ничего не понимая, смотрели друг на друга в недоумении.
Депутат Горы взошел на трибуну и заявил, что сегодня докладчик Комитета общей безопасности Амар прочтет доклад по поводу жирондистов, арестованных 8 июня. Чтобы успокоить нетерпение присутствовавших, депутат указал на доклад, заранее положенный на трибуну, и начал быстро перелистывать документы, содержавшие жизнь или смерть — что оставалось пока неизвестным — обвиняемых. Вскоре явился Амар. Его длинный доклад представлял собой свод всех противоречивых слухов, распущенных против жирондистов их врагами, и требовал в заключение:
1. Объявить виновными в злоумышлении против единства и нераздельности республики депутатов Бриссо, Верньо, Жансонне, Деперре, Карра, Малево, Гардьена, Дюфриш-Валазе, Валле, Дюпра, Силлери, Кондорсе, Фоше, Понтекулана, Дюко, Фонфреда, Ласурса, Лестера-Бове, Инара, Дюшателя, Дюваля, Деверите, Менвьеля, Делайе, Боннэ, Лаказа, Мазюйе, Савари, Гамона, Легарди, Буало, Руйе, Антибуля, Брессона, Ноэля, Кутара, Андре, Гранжнева, Виже, наконец, Филиппа Эгалите (бывшего герцога Орлеанского), о котором, казалось, забыли, но имя которого внесли в список по требованию Билло-Варенна.
2. Объявить изменниками отечеству, согласно предыдущему декрету, изданному в июле, бежавших депутатов Бюзо, Барбару, Горса, Ланжюине, Салля, Луве, Бергуина, Петиона, Гюаде, Шассе, Шамбона, Лидона, Валдай, Кервелегана, Анри Ларивьера, Рабо Сент-Этьена, Лесажа, Кюсси, Мейяна и Бирото.
По прочтении этих двух пунктов докладчик замолчал. Политические соратники депутатов Жиронды, арестованных и осужденных, вздохнули свободно. Они вообразили, что их помиловали.
Но этот самообман длился всего несколько минут. Амар равнодушно взял листы второй половины доклада; прежде чем начать читать, он объявил только что принятый декрет Конвента, требующий немедленно запереть двери зала, и продолжал: «Те из подписавшихся под протестами 19 июня (против постановления 31 мая об изгнании жирондистов), кто не предан революционному суду, будут посажены в тюрьму, а бумаги их опечатаны. Относительно них Комитету общественной безопасности будет сделан особый доклад».
Он начал читать имена семидесяти трех депутатов. Длинные промежутки между именами вызывали в душах всех надежду, что их имена пропущены. Вот список тех, кто услышал свои имена в числе подозрительных лиц, названных Амаром: Деперре, Казенёв, Ла Плань, Шассе, Дефермон, Руо, Жиро, Шателен, Дюге-д’Асс, Лебретон, Дюссо, Кулпе, Сорин, Кинет, Сальмон, Лаказ-старший, Корбель, Гите, Ферру, Бальель, Рюо, Обелен, Бабэ, Блад, Мэс, Пейре, Боан, Флерио, Вернье, Грено, Амийон, Лоренсо, Жарри, Рабо, Файоль, Обри, Риберо, Деразэ, Мазюйе (депутат Соны и Луары), Валлэ, Лефевр, Оливье, Жерант, Руайэ, Дюпра, Гарит, Дельвиль, Варле, Дюбюз, Савари, Бланки, Масса, Дебре-Дюбле, Деламар, Фор, Экке, Дешам, Лефевр, Серр, Лоране, Саладен, Мерсье, Дону, Периэ, Венсан, Турнье, Рузе, Бло, Блавье, Марбо, Эстаден, Брессон (из Вогез), Моисее, Сен-При, Гамон.
Обвинительный декрет был принят единогласно. Некоторые из вышеупомянутых депутатов хотели возразить, но нетерпеливые возгласы заглушили их голоса. Депутаты молча столпились в узком пространстве за перилами, как стадо, предназначенное на бойню.
Громкие крики требовали, чтобы их судили одновременно с жирондистами в Революционном трибунале, а суд равнялся смертному приговору. Робеспьер употребил все свое влияние, чтобы спасти депутатов. Будущее показало, что он хотел подготовить в их лице противовес всемогуществу Горы для того времени, когда он один будет господствовать в Конвенте. Это засвидетельствовали впоследствии те самые лица, которые считали его тайным подстрекателем их осуждения. Депутат Бланки, один из семидесяти трех, заключенных в тюрьму Лафорс, встречался с Робеспьером в Комитете народного просвещения. Он написал ему жалобу на дурное обращение, которому подвергались в тюрьме он и его сотоварищи, и упрекал его в насилии над народными представителями. Робеспьер ответил Бланки, но смутными намеками, в которых тем не менее сквозили гуманные чувства и давалось понять, что им будут тайно покровительствовать. Тара, все еще остававшийся министром внутренних дел, придя к Робеспьеру, умолял его спасти арестованных. «Не говорите мне больше об этом, — ответил Робеспьер. — Во время революций случаются такие дни, когда жить является преступлением и надо уметь жертвовать своей головой, когда у вас ее требуют. Может быть, потребуют и мою, — прибавил он, схватившись за голову, как человек, старающийся снять тяжесть, чтобы сбросить ее с себя, — и вы увидите, буду ли я оспаривать ее». Тара ушел смущенный.
Жирондистам, заключенным после 31 мая, то делались уступки, то снова устраивались притеснения — сообразно господствовавшему в обществе настроению. Вначале как бы номинальный, арест ограничивался заключением их в собственных жилищах под надзором жандармов. Случаи к побегу предоставлялись часто и оказывались легки. Гора больше тяготилась, нежели дорожила своими жертвами. Но после неудач Северной армии, успехов Вандеи, восстаний в Кальвадосе, Марселе, Лионе и Тулоне, суда над Кюстином, казни королевы и принятия закона о подозреваемых надзор за заключенными сделался строже. Их заключили в Кармелитскую тюрьму, в Аббатство, Люксембург и Лафорс. Жирондисты находились там вместе с жертвами своей политики, потерпевшими поражение 10 августа. Встречались и разговаривали хоть и не без удивления, но без взаимных упреков и ненависти.
Однако непоколебимые в своем республиканизме жирондисты сохранили революционные убеждения во всей их первозданной чистоте: не выказывали ни притворного раскаяния в своих мнениях, ни смирения в своем падении.
Когда назначили день суда, их всех заперли на несколько дней в огромном здании бывшего монастыря Кармелиток на улице Вожирар, обращенном в тюрьму и сделавшимся зловещим во время сентябрьских убийств. Так как нижние этажи этой тюрьмы уже переполняли заключенные, то для жирондистов осталось только узкое пространство под крышей старого монастыря, состоявшее из темного коридора и трех низких смежных келий.
Над карнизом первой двери можно было прочесть надпись печатными буквами, какие встречались на всех общественных памятниках того времени: «Свобода, равенство или смерть». Дверь эта вела в довольно большую келью, служившую общим залом, куда заключенные собирались для бесед и к столу. Налево находилась небольшая темная мансарда, где спали самые младшие. Направо дверь выходила в комнату немного поменьше, чем первая, служившую общей спальней. Стены и потолок этих комнат, покрытые грубым цементом, заменяли заключенным бумагу, которую им не давали, они были страницами, на которые они могли заносить острием ножа свои последние мысли. Почти все надписи поют гимн постоянству, презрению к смерти и воспевают бессмертие. Несколько имен их преследователей встречаются здесь рядом с именами жирондистов.
В одном месте читаешь:
Хотя Катон не мог спасти свободы Рима, он все еще свободен и умеет умереть как муж.
В другом:
Честного и настойчивого в достижении цели мужа не увлекут порочным делом ни возбужденное состояние повелевающих граждан, ни гневный вид сурового тирана.
А выше:
В ком есть добродетель, тот никогда не будет совершенно несчастлив.
Ниже:
Истинная свобода — это свобода души.
Рядом надпись религиозного содержания — можно догадаться, что ее сделал Фоше:
Вспомните, что вы призваны не для того, чтобы разглагольствовать и быть праздными, но чтобы пострадать и потрудиться. (Подражание Иисусу Христу.)
В другой части стены — воспоминание о чьем-то дорогом имени, которое не хотят открыть даже смерти:
Я умираю за… (Монталамбер).
На перекладине:
Без сомнения, достойное Бога зрелище — отважный муж, борющийся с невзгодами.
Выше:
Какая крепкая опора в величайшем несчастий! За меня добродетель, правосудие, сам Бог!
Ниже:
День не яснее глубины моего сердца.
На амбразуре окна:
В тяжелых обстоятельствах легко презирать жизнь.
Умереть за отечество приятно и почетно.
Я не весь умираю.
Я почитаю величайшим бесчестием предпочесть позорную жизнь смерти.
Крупными буквами рукой Верньо написано кровью:
Лучше умереть, чем быть опозоренным.
В ночь на 6 октября жирондистов перевели в последнее место заключения — в Консьержери. Королева была еще там. Под одной кровлей очутились королева, свергнутая с престола, и те, кто сверг ее. Там они встретились с Бриссо, который долгое время содержался один в Аббатстве, и с теми из своих друзей, кто был привезен с Юга и из Бретани.
Жирондисты встречались с другими заключенными только во дворе в течение долгих часов прогулок. Вследствие невозможности бежать из этих стен заключенным предоставили некоторые льготы, которыми они не пользовались до сих пор. Им дали бумагу и чернила, разрешили разговаривать через решетку с женами, детьми и друзьями.
Зять Верньо, Аллюо, приехал из Лиможа, чтобы передать заключенному небольшую сумму денег, потому что тот терпел крайнюю нужду. Аллюо привез с собой десятилетнего сына, черты лица которого напомнили Верньо любимую сестру. Ребенок, увидев дядю с похудевшим, истощенным лицом, растрепанными волосами, отросшей бородой, в грязной и потрепанной одежде, сползавшей с плеч, заплакал и с ужасом прижался к коленям отца. «Дитя мое, — сказал заключенный, взяв его на руки, — успокойся и вглядись в меня хорошенько; когда вырастешь, ты будешь рассказывать, что видел основателя республики в самое славное время его жизни и в самой лучшей его одежде: тогда, когда он терпел гонение от негодяев и готовился умереть за свободных людей».
Ребенок действительно запомнил эти слова и пятьдесят лет спустя повторил их пишущему эти строки.
В часы прогулок все заключенные теснились вокруг жирондистов. Их разговоры обращались вокруг грозящих родине опасностей, свободы и бедствий республики. Они рассуждали об этом как люди, которым нечем больше дорожить. Их беспристрастный голос, казалось, исходил из могилы. Бриссо читал товарищам страницы, которые он завещал потомству в свое оправдание. Он постоянно высказывал сожаление, что свобода, которую он наблюдал у молодого народа в лесах Америки, где она привилась благодаря чистой добродетели, была водворена кровопролитием у народа старого, где для того, чтобы преобразовать человеческие учреждения, приходилось вновь создавать самого человека. Ласурс утешался, видя гибель своей партии, тем, что она погибала в общем крушении Европы. Его мистически настроенный ум повсюду видел перст Божий. Карра мечтал о новом распределении земель между государствами Европы. Он чертил на глобусе карту свободы и принимал химеры своего воображения за гений государственного человека. Фоше бил себя в грудь с чистосердечным раскаянием в том, что отказался от верований своей молодости. Он радовался, что близкая смерть его будет носить характер двойного мученичества: раскаявшегося священника и упорного республиканца.
Дюко и Фонфред, в которых тюрьма не охладила пыла молодости и горячности уроженцев Юга, шутили над смертью, писали стихи, притворялись беспечно веселыми и делались серьезными только во время излияний своей геройской дружбы и опасений, которые высказывали относительно друг друга. Они часто обнимались и брали друг друга за руки, как бы ища взаимной опоры против судьбы.
Что касается Верньо, то он без сожаления доживал последние дни, вынужденная праздность которых не слишком шла вразрез с его характером. Одинокий и задумчивый, лежа на постели или гуляя во дворе, он иногда освещал разговор лучами своего красноречия, для которого тюрьма являлась не менее величественной декорацией, чем трибуна. Его растроганные сотоварищи аплодировали ему и умоляли записывать эти импровизации для потомства. Верньо не хотел собирать эти крохи своего гения. Красноречие являлось в нем не искусством, а природой. Когда мысль была высказана, он снова впадал в сон или в равнодушие.
Он часто беседовал с Фоше и, не разделяя его верований, с наслаждением выслушивал его теории и упования христианина. Он уважал христианство, как плавильщик дорожит золотом в подделанной монете. Верньо хотел не разрушения, а медленного, свободного и осторожного очищения этого вероучения. «Отделить Бога от его изображения, — говорил он, — вот конечная цель революции». Вне этих бесед Верньо, казалось, ко всему относился безразлично, но это было не безразличие человека, который не возвышается до величия своей судьбы и пренебрегает тремя самыми святыми вещами в жизни: совестью, несчастьем и смертью; это было спокойствие человека, находящего интерес в жизни до тех пор, пока не наступит час принести ее в жертву своему долгу. Дружба имела огромную власть над его душой. Накануне того дня, когда начался процесс, он выбросил во двор яд, который в течение пяти месяцев носил при себе: он хотел умереть одной смертью со своими друзьями и не разлучаться с ними вплоть до эшафота.
Двадцать второго октября заключенным вручили обвинительный акт, а 24-го начался суд. Никогда со времени процесса тамплиеров перед судьями не представала целая партия в лице своих столь многочисленных, знаменитейших и красноречивейших вождей. Большая часть судей и присяжных были друзьями или пользовались прежде покровительством обвиняемых. Но именно это заставило судей тем упорнее настаивать на их виновности, отклонив от себя всякое подозрение в соучастии с ними.
Обвинительный акт Фукье-Тенвиля, составленный, как говорили, вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом, представлял собой повторение, только распространенное и еще более язвительное, памфлета Камилла Демулена, озаглавленного «История заговора Жиронды». Это была история, написанная клеветником и засвидетельствованная палачом; к ней не прибавили ничего. Ненависть не нуждалась в убеждении.
Судьи вызвали в качестве свидетелей всех самых заклятых врагов подсудимых. Паш, Шабо, Эбер, Шометт, Фабр д’Эглантин, Леонар Бурдон, якобинец Дэфье вместо показаний разразились потоком ругательств. Обвиняемые спокойно возражали всем этим лжесвидетелям. Вместо того чтобы возвести защиту на высоту ее положения, поставить ее на почву общей политики и сознаться в своем славном преступлении — желании умерить революцию, чтобы сделать ее безупречной и непобедимой, они ограничились тем, что старались защитить свою личность. От этого оказалось унижено их личное достоинство. Ни одного слова, достойного быть запечатленным в памяти, не вырвалось из сердец этих великих обвиняемых. Страх запятнать последние минуты жизни заставлял их хранить молчание. Они снова сделались великими только тогда, когда потеряли последнюю надежду.
Процесс, продолжавшийся целую неделю, слово, потребованное Жансонне от лица всех заключенных, чтобы опровергнуть обвинение, утомили судей и присяжных и возбудили тревогу среди монтаньяров. Общественное мнение, растроганное видом жертв, начало склоняться к помилованию. Выходя после заседаний суда, публика громко рассуждала о том, чего же могут ожидать враги республики, если она поступает таким образом со своими основателями. Жалели, что погибает столько молодых, прекрасных и умных людей. Говорили о низкой зависти Робеспьера и Дантона, желавших, чтобы смерть закрыла эти красноречивые уста, дабы не иметь более необходимости отвечать им.
Эти первые признаки возвращения расположения к жирондистам взволновали Коммуну. Зять Паша Одуэн, бывший священник, теперь с ожесточением преследовавший духовенство, потребовал, чтобы Комитет общественного спасения прекратил прения, разрешив президенту объявить, что присяжные осведомлены достаточно. Суд, подчиняясь этому требованию, объявил прения оконченными 30 октября в восемь часов вечера. Все подсудимые были признаны виновными в заговоре против единства и нераздельности республики и приговорены к смерти.
При слове «смерть» на скамье подсудимых раздался крик изумления. Большинство, в особенности Буало, Дюко, Фонфред, Антибуль, Менвьель, рассчитывали, что их оправдают. Их протянутые к присяжным кулаки вызвали на несколько мгновений волнение в зале суда. Один из обвиненных, сделавший почти никем не замеченное движение в направлении груди, как бы желая разорвать на себе одежду, соскользнул со скамьи на пол. Это был Валазе. «Как, Валазе, ты слабеешь?!» — спросил Бриссо, стараясь его поддержать. «Нет, я умираю!» — ответил Валазе и вонзил себе в сердце кинжал.
В зале восстановилась тишина. Пример Валазе заставил покраснеть молодых осужденных за их минутную слабость. Только Буало, протестуя против приговора, смешавшего его с жирондистами, бросил шляпу в воздух и воскликнул: «Я невинен! Я якобинец! Я монтаньяр!» Эта выходка была встречена насмешками. Бриссо опустил голову на грудь и погрузился в размышления. Фоше и Ласурс переплели руки и подняли глаза к небу. Верньо, сидевший на самой верхней скамье, смотрел на судей, на своих товарищей и на толпу равнодушным взглядом, как бы стараясь припомнить в прошлом пример подобной насмешки судьбы. Силлери воскликнул: «Сегодня лучший день моей жизни!»
В эту минуту в толпе раздался крик. Какой-то молодой человек тщетно старался пробраться к дверям. «Дайте мне уйти, дайте мне не видеть этого зрелища! — кричал он, закрывая себе глаза руками. — Я, презренный, это я их убиваю! Это мой „Разоблаченный Бриссо“ предал их суду! Я не могу видеть последствий своего поступка! Я чувствую, как капли крови падают на эту руку, которая их предала!»
Это был Камилл Демулен, злобное и ребяческое легкомыслие которого то уступало слезам, то требовало крови. Равнодушная (или полная презрения) толпа задержала его и заставила замолчать, как ребенка.
Когда волнение несколько утихло, заседание было закрыто под крики толпы: «Да здравствует республика!»
Жирондисты, один за другим спустившиеся со своих скамей, окружили тело Валазе, желая проверить, жив ли он еще. Затем, как бы наэлектризованные прикосновением к республиканцу, принесшему себя в жертву собственной рукой, они вскричали в один голос: «Мы умираем невинные! Да здравствует республика!»
Некоторые начали бросать в народ пачки ассигнаций, не для того чтобы подкупить толпу, как многие думали, но чтобы, подобно римлянам, отдать народу деньги, отныне им ненужные. Толпа набросилась на это наследие умирающих и казалась растроганной. Эрман приказал жандармам увести осужденных. Присутствие духа, на минуту им изменившее, снова вернулось к ним, когда они увидели, что их участь решена. «Друг мой, — сказал Дюко Фонфреду, стараясь улыбнуться, — я вижу только одно средство спастись — это объявить, что наши жизни составляют одно целое и наши головы неделимы!» Фонфред грустно улыбнулся. Его мысли, более соответствовавшие такой минуте, с грустью перенеслись к очагу его юной семьи, от которой он был оторван. «Ах! Мои бедные дети!» — был его единственный ответ.
Тем не менее, желая сдержать обещание, которое они дали остальным заключенным в Консьержери, — сообщить, какая их постигает судьба, выходя из суда, они запели «Марсельезу».
При этих звуках заключенные проснулись и поняли, что осужденные поют гимн смерти. В ответ им изо всех камер раздались восклицания, вздохи и прощальные приветствия.
На последнюю ночь их заперли всех вместе в одну большую камеру. Суд распорядился, чтобы едва остывшее тело Валазе было перенесено в тюрьму, затем отвезено в одной тележке с осужденными на место казни и погребено вместе с ними. Вероятно, это был единственный в своем роде приговор, постановивший казнить мертвеца!
Ужин продолжался до рассвета. Верньо, занявший место в середине стола, председательствовал с тем же спокойным достоинством, как и в ночь на 10 августа в Конвенте. Из всех присутствовавших Верньо мог менее всех остальных сожалеть о расставании с жизнью, потому что он не оставлял после себя и отца, ни матери, ни жены, ни детей.
Долго ни по выражению лиц, ни из разговоров не было заметно, что этот ужин служил прелюдией к казни. Скорее это была случайная встреча в придорожной гостинице путешественников, спешивших насладиться кратковременным удовольствием трапезы, которую вот-вот прервет дальнейшее странствие. Они пили с аппетитом, но умеренно. За дверью слышался звон стаканов, прерываемый отрывочными фразами. Когда кушанья убрали и на столе остались только фрукты и вина, беседа оживилась. Это притворное веселье перед Богом казалось равно оскорбительным и для жизни, и для смерти. Эти предсмертные шутки падали с их уст подобно цветам, которые бросают в могилу и которые, смешивая свой аромат с запахом могилы, если не являются реликвиями, то походят на насмешку.
Под утро застольный разговор принял более торжественный характер. Бриссо начал предсказывать невзгоды республике, лишенной своих самых добродетельных граждан. «Сколько крови понадобится, чтобы смыть нашу!» — воскликнул он в заключение. Все на минуту замолчали и, казалось, были поражены призраком будущего, вызванным Бриссо. «Друзья мои! — сказал Верньо. — Мы погубили дерево прививкой; оно было слишком старо, и Робеспьер нынче рубит его. Будет ли он счастливее нас? Нет. Народ слишком юн, чтобы управлять собой по своим законам, не нанеся себе вреда; он вернется к своим королям, как ребенок возвращается к своим игрушкам! Мы ошиблись, родившись теперь и умирая за свободу мира, — продолжал он, — мы вообразили, что находимся в Риме, а находились только в Париже! Но революции заставляют народы созревать быстро, а кровь, текущая в наших жилах, достаточно горяча, чтобы оплодотворить почву республики. Оставим народу надежду взамен смерти, которую он нам приготовил!»
Дневной свет, проникавший в большую камеру через слуховое окно, заставил побледнеть свет свечей. «Идемте спать, — сказал Дюко, — жизнь — такая пустая вещь, что не стоит часа сна, который мы теряем, разговаривая о ней». — «Пободрствуем, — сказал в свою очередь Ласурс, — вечность так достоверна и так страшна, что не хватило бы тысячи жизней, чтобы приготовиться к ней».
В большой камере остались тринадцать человек. Некоторые беседовали вполголоса, другие старались подавить рыдания, многие спали. В восемь часов их начали выпускать по несколько человек в коридор. Аббат Ламбер, набожный друг Бриссо, проведший ночь у дверей их камеры, все еще находился на своем посту, ожидая разрешения поговорить с ними. Бриссо бросился к нему и судорожно сжал в объятиях. Священник робко предложил ему освятить его смертный час. Бриссо с благодарностью, но решительно отказался. «Знаешь ли ты что-нибудь более святое, чем смерть честного человека, умирающего за то, что отказал негодяям в крови себе подобных?» — спросил он аббата.
Аббат Эмери, хотя и был неприсягнувшим священником, получил возможность поговорить с Фоше через решетку, отделявшую двор от коридора. Он исповедал и дал разрешение от грехов кальвадосскому епископу. Прощенный и раскаявшийся Фоше выслушал исповедь Силлери и передал своему другу только что полученное им самим прощение.
В десять часов вошли палачи, чтобы приготовить головы осужденных к ножу и связать им руки. Все они подставляли свои головы под ножницы сами и протягивали руки, чтобы их связали веревками. Жансонне поднял прядь своих черных волос и передал ее аббату Ламберу с просьбой отдать жене, убежище которой он ему указал: «Скажи ей, что это все, что я могу ей оставить после себя, но что перед смертью мои мысли полны только ею». Верньо вынул часы и написал острием булавки на внутренней крышке инициалы и число, 30 октября; он опустил часы в руку одного из присутствовавших и просил передать их молодой девушке, на которой, как говорили, он собирался жениться. Во время этих приготовлений почти у всех вырвалось имя друга или любимой особы, почти у всех нашлись какие-нибудь реликвии, которые они хотели завещать тем, кого покидали на земле.
Когда все волосы упали на плиты тюрьмы, палачи и жандармы выстроили осужденных в колонну и повели во двор Дворца Правосудия. Пять тележек ожидали их. Их окружала огромная толпа. Как только жирондисты вышли из Консьержери, они затянули в один голос, точно похоронный марш, первый куплет «Марсельезы», многозначительно стараясь подчеркнуть стих, имевший двоякий смысл:
Против нас поднято кровавое знамя тирании.
Их голоса понижались в конце каждого куплета только затем, чтобы начать с большей силой новый. Их шествие и агония стали одной песней. Они сидели вчетвером в каждой тележке. Только в одной было пятеро пассажиров: тело Валазе покоилось на последней скамье. Его непокрытая голова, качавшаяся при толчках тележки, ударялась о колени его друзей, которые закрывали глаза, чтобы не видеть его посиневшего лица.
У подножия эшафота они обнялись в знак того, что заключили союз для защиты свободы, на жизнь и на смерть. Все умерли мужественно, Силлери — даже с иронией: взойдя на платформу, он обошел ее кругом, кланяясь народу направо и налево, как бы благодаря его за славу и за эшафот. После каждого удара топора песнь делалась тише, потому что одним голосом становилось меньше. Наконец один только голос продолжал «Марсельезу». Это пел Верных Его жизнь, начатая бессмертными речами, окончилась революционным гимном свободе.
Несколько лет спустя, просматривая архивы прихода Мадлен с целью найти там сведения касательно погребений того времени, любопытные могли прочесть счет расходов могильщика этого кладбища, написанный на листе гербовой бумаги и засвидетельствованный подписью президента, для получения по нему уплаты из национального казначейства: «Для двадцати одного депутата Жиронды гробы — 147 ливров; расходы по погребению — 63 ливра; итого — 210».
Таков был последний час этих людей. В продолжение короткой жизни у них имелись все иллюзии надежды; умирая, они получили величайшее счастье, которое Господь посылает великим душам: мученический венец, возвышающий до степени святого человека, пострадавшего за свои убеждения и за отечество. Молодость, красота, иллюзии, гений, красноречие древних — все исчезло вместе с ними у них на родине. Париж мог бы сказать себе то же, что сказали лакедемоняне, когда на поле битвы пало все их юношество: «Отечество лишилось своего цвета, свобода — обаяния, революция — весны».
В то время как двадцать один жирондист погибли в Париже, Петион, Бюзо, Барбару, Гюаде блуждали, как дикие звери, которых травят, в лесах и в пещерах Жиронды; госпожа Ролан ожидала смертного часа в тюрьме Аббатства; Дюмурье метался в своем убежище, стараясь заглушить угрызения совести, а Лафайет искупал в подземельях цитадели Ольмюц свое преступление, состоявшее в том, что он был апостолом свободы и проповедовал ее даже в оковах.
XLVIII
Герцог Орлеанский привезен из Марселя в Париж и заключен в Консьержери — Суд над ним — Казнь
15 октября парижские газеты принесли в Марсель весть о том, что Конвент постановил в скором времени начать суд над герцогом Орлеанским. Принц сидел за карточным столом со своими сыновьями. «Тем лучше, — сказал он, — все должно для меня скоро кончиться, так или иначе. Обнимите меня, дети! Сегодня прекрасный день моей жизни. В чем, — продолжал он, — могут они меня обвинить?» Он развернул газету и прочел обвинительный декрет. «Этот декрет ни на чем не основан, — вскричал он, — его сочинили великие негодяи! Но не беда, пусть их стараются, им ничего не удастся найти против меня. Перестаньте, друзья мои, не грустите о том, что я считаю для себя приятной новостью, и давайте продолжать игру».
Через день из Парижа приехали комиссары. Они обнадежили принца, что суд наверняка оправдает его и освободит.
Принц, в сопровождении одного только преданного слуги по имени Гамаш, ехал спустя неделю вместе с комиссарами Конвента по дороге в Париж, под конвоем отряда жандармов. Они ехали медленно и ночевали в гостиницах больших городов. В Оксере принц вышел из кареты, чтобы пообедать. Во время обеда один из комиссаров написал в Комитет общественной безопасности записку, извещая правительство о часе приезда принца в Париж и спрашивая, в которую из тюрем прикажут отвезти пленника.
У парижской заставы посланный Комитета остановил лошадей, сел в карету и приказал кучеру ехать в Консьержери. Принц вышел во дворе Дворца правосудия, который был полон любопытных. Его отвели в комнату рядом с той, в которой провела предсмертные часы Мария-Антуанетта. Преданного его слугу оставили при нем. Когда комиссары удалились, герцог сказал Гамашу: «Итак, вы пожелали последовать за мною даже в эту тюрьму? Благодарю вас, Гамаш, надо надеяться, что мы не вечно будем в тюрьме».
В течение четырех дней, предшествовавших началу процесса, принц переходил от иллюзий к равнодушию, как человек, для которого смерть является отдыхом. Шестого ноября он предстал перед судом. Обвинение было так же химерично, как и обвинение жирондистов. Краткие и точные ответы подсудимого не оставили никакого мотива для обвинения. Он принес в жертву республике все. На вопрос Эрмана, не подал ли он голос за смерть тирана из честолюбивого намерения наследовать ему, он ответил: «Нет, я поступил так по убеждению и по совести». Выслушав свой приговор, принц заметил судьям с оттенком легкой иронии: «Так как вы уже решили погубить меня, то должны были бы, по крайней мере, найти более веский предлог для моего осуждения, потому что вы никогда и никого не убедите в том, что считаете меня виновным в тех изменах, в которых вы меня обвиняете». Затем, пристально посмотрев на бывшего маркиза Антонелля, поверенного его революционных действий, а теперь старшину присяжных, он сказал ему с упреком: «Особенно вы, так хорошо знавший меня». Антонелль опустил глаза. «В конце концов, — продолжал принц, — так как моя участь решена, я прошу вас приказать немедленно вести меня на казнь». И он твердыми шагами вернулся в тюрьму.
Два священника, аббат Ламбер и аббат Лотрингер, те самые, которые беседовали в последнюю ночь с жирондистами, ждали принца у топившегося камина в большой камере, разговаривая со сторожами и жандармами.
Герцог Орлеанский вошел уже не с прежним напускным равнодушием, а расстроенный человеческой несправедливостью и спешащий под кровом тюрьмы излить все накопившееся в его душе; походка его была тороплива, движения порывисты, лицо пылало гневом. Отрывистые восклицания срывались помимо воли с его губ; он поднимал глаза к небу и широкими шагами ходил по камере. «Негодяи! — восклицал он время от времени, как бы пораженный внезапной мыслью или воспоминанием. — Негодяи! Я всем пожертвовал: положением, состоянием, честью, славой своего дома, даже попрал в себе естественное чувство и совесть, осуждая их врагов!.. И вот награда, которую они приготовили мне!.. Ах! Если бы я действовал, как они говорят, из личного честолюбия, то как несчастлив был бы я теперь! Но я поступал так из честолюбия, имевшего более возвышенный источник, чем желание достигнуть трона: из честолюбия добиться свободы для моего отечества и счастия для мне подобных! Итак, да здравствует республика! Этот крик раздается из моей темницы так же, как он раздавался из моего дворца!» Потом он растрогался при мысли о своих заточенных детях. Он призывал их, говорил громко и стучал ногами о плиты, а руками — по стенам своей темницы.
Жандармы и тюремщики, стоявшие в стороне, дали беспрепятственно излиться душе осужденного. Когда порыв его негодования утих, герцог Орлеанский подошел к камину. Немецкий священник Лотрингер, нетактичный и назойливый, без всяких вступлений прямо подошел к принцу и сказал ему: «Ну, сударь, довольно стонать, пора исповедоваться!» — «Оставь меня в покое, дурак!» — ответил герцог Орлеанский. «Значит, вы хотите умереть так же, как и жили?» — продолжал пораженный священник. «О да! — жестоко пошутили жандармы. — Он хорошо жил! Пусть он умрет так же, как и жил!»
Аббат Ламбер, человек сердечный, страдал в душе от неловкости своего собрата. Он подошел к принцу с растроганным видом. «Эгалите, — сказал он ему, — я пришел предложить тебе Святые Дары или по крайней мере утешение служителя Божия. Хочешь принять их от человека, отдающего тебе справедливость и чувствующего к тебе искреннее расположение?» — «Кто ты такой?» — спросил его герцог Орлеанский, выражение лица которого смягчилось. «Я главный викарий парижского епископа. Если ты отказываешься от моих услуг как священника, то, может быть, как человек я могу исполнить твои поручения?» — «Нет, благодарю, — возразил герцог Орлеанский, — я не хочу, чтобы в мою совесть заглянул кто-нибудь, кроме меня самого, и мне не нужно никого, чтобы умереть, как подобает доброму гражданину».
Он приказал подать себе завтрак, ел и пил много, но не досыта и не допьяна. Когда один из членов суда пришел спросить его, не имеет ли он сообщить что-либо значимое для республики, он ответил: «Если бы я знал, что нечто угрожает безопасности отечества, я не стал бы ожидать этой минуты. Впрочем, я не питаю ни малейшей злобы против суда, даже против Конвента: не они хотят моей смерти, но так предназначено свыше…»
В три часа за ним пришли. Заключенные в Консьержери, почти все относившиеся враждебно к той роли, которую играл герцог Орлеанский в революции, толпились на площадках, в коридорах и у решеток, чтобы посмотреть, как пройдет герцог. Его конвоировали шестеро жандармов с саблями наголо. По его осанке, манере держать голову и по тому, как он твердо шагал по плитам, его скорее можно было принять за солдата, идущего на сражение, нежели за осужденного, которого ведут на казнь. Аббат Лотрингер сел в тележку вместе с ним и тремя другими осужденными.
Они двинулись под конвоем конной жандармерии. Тележка подвигалась медленно. Никогда, казалось, принц не держал себя с большим достоинством. Вследствие тесноты или ухищренной жестокости тележку остановили на минуту на площади Пале-Рояль, против его бывшего дворца. «Зачем остановились здесь?» — спросил он. «Чтобы ты мог полюбоваться своим дворцом, — ответил священник. — Видишь, цель приближается, подумай о своей совести». Принц молча посмотрел на окна своего прежнего жилища, где он обдумывал зачатки революции, наслаждался рассеянной жизнью и испытывал семейные привязанности. Надпись «Национальная собственность» на дверях Пале-Рояля, заменившая его герб, дала ему понять, что эта кровля и эти сады не будут более служить убежищем даже его детям. Голова его упала на грудь, как будто ее уже отделили от туловища.
Он продолжал путь по улице Рояль унылый и безмолвный вплоть до площади Революции. Священник с еще большим усердием продолжал настаивать, чтобы он принял напутствие церкви. «Смирись перед Богом и покайся в своих грехах». — «Могу ли я сделать это среди этой толпы и этого шума? Место ли здесь для раскаяния?» — ответил принц. «Так покайся мне, — возразил священник, — в том из своих грехов, который более других тяготит твою душу: Бог зачтет тебе твое желание и невозможность исполнить его, а я разрешу тебе твой грех во имя его».
Принц склонился перед служителем Божьим и пробормотал несколько слов, которые затерялись в шуме толпы. Он получил прощение Неба в нескольких шагах от эшафота, на том самом месте, откуда Людовик XVI послал прощение своим врагам.
Когда он сошел с тележки и поднялся на помост гильотины, помощники палача хотели снять с него узкие, плотно облегавшие ему ноги сапоги. «Нет, нет, — хладнокровно остановил он их, — вам будет удобнее снять их потом; скорее, скорее!» Он не побледнев взглянул на лезвие ножа. Был ли это стоицизм характера? Проявился ли в нем в последний раз убежденный республиканец? Или им руководила честолюбивая надежда отца, что за несколько капель его крови непостоянная нация отдаст трон его сыновьям?
Все осталось загадкой в этом принце, и, произнося свой суд о нем, историк должен бояться впасть в ошибку, оправдывая или осуждая его. Сын его ныне царствует во Франции. Снисходительное отношение к памяти отца могло бы показаться ему лестью, строгость — предвзятостью. Страх показаться подобострастным или неприязненным равно заставляют писателя остерегаться прослыть несправедливым. Но справедливость, с которой мы должны относиться к умершим, и истина, которой мы обязаны истории, заставляют писателя, не прибегая к хитростям, писать одну только правду о своем времени. Память не разменная монета в руках живых.
Как республиканца, этого принца, по нашему мнению, оклеветали. Все партии точно взаимно согласились сделать его имя предметом всеобщего презрения: роялисты потому, что он был одним из главных деятелей революции; республиканцы потому, что его смерть стала одним из самых гнусных проявлений неблагодарности республики; народ потому, что он был принц; аристократы потому, что он перешел в народ; заговорщики потому, что он не позволял пользоваться его именем в заговорах против своего отечества; наконец, все потому, что он не отказался от подозрительной славы, которую называют героизмом Брута. Люди беспристрастные держались того мнения, что если он подал голос за смерть короля из убеждения, то это убеждение походило на посягательство на природу. Революция не должна питать к этому человеку ни глубокой благодарности, ни острой вражды. Она использовала его как орудие, которое в конце концов сломала. Он не был ни создателем ее, ни господином, ни Иудой, ни Кромвелем.
Он перенес все превратности судьбы со стойкостью принца, просящего у родины только звания гражданина, а у республики — чести умереть за нее. И он умер безропотно, как будто неблагодарность республики есть гражданская корона ее основателей. Он отказался от своего звания и всецело отдал себя народу, сначала служа ему, а затем сделавшись его жертвой. К несчастью для его памяти, он выступил также как судья в процессе, от участия в котором мог бы отказаться.
Если кто-нибудь шел слепо, но неуклонно за революцией до конца, не спрашивая себя, куда она ведет, так это был именно герцог Орлеанский. Эдип семьи Бурбонов, он воплотил в себе слова Дантона: «Пусть погибнет память о нас, но будет спасена республика!» Он был подл — если принес эту жертву ради популярности; жесток — если действовал по убеждению; гнусен — если поступал из честолюбия. Тайну мотивов своего политического поведения он унес с собою к престолу Божию.
Подобно Бруту, предмету его подражания и заблуждения, он навсегда останется загадкой в глазах потомства. Но оно извлечет для себя великий урок: когда в сердце гражданина борются убеждение и природа, то всегда надо слушаться голоса природы, потому что убеждения часто бывают ошибочны, а природа всегда непогрешима. Преступления, совершаемые против природы, осуждены Богом, и люди никогда их не прощают.
XLIX
Положение союзников — Дюнкерк осажден английскими войсками — Гушар — Битва при Витиньи — С Мобёжа снята осада — Генерал Шансель умирает на эшафоте — Шалье — Отчаянная защита лионцев
Никогда слабость союзников не обнаруживалась яснее, как в компаниях, последовавших за 1792 годом. Европейские генералы не знали цены двум вещам, которыми военные люди должны дорожить больше всего: времени и быстроте передвижений.
Вместо того чтобы напасть врасплох на безоружную и разъединенную Францию, двинуться колоннами в сто или двести тысяч человек на Париж через один из многочисленных проходов, которые природа создала в рейнских долинах, или через равнины Севера, эти генералы потратили восемнадцать месяцев на военные советы, на недостаточное вооружение и на робкую разведку.
Соперничество кабинетов не менее отсутствия военного гения у генералов способствовало тому, чтобы дать Франции время собраться с силами. Между ними не было никакого серьезного соглашения. Ни одна из держав не хотела помочь другой одержать сколько-нибудь серьезные победы. Все они боялись чужих побед, быть может, более, чем поражения. Они допустили Дюмурье пронестись с лучшими его батальонами из освобожденной Шампани в покоренную Бельгию; видя падение трона, суд над королем, убийство королевы, парижские волнения, они не сплотились даже в виду общей опасности. Откуда же эта разница между коалицией и Францией? Она происходила вследствие того, что Францию возбуждал энтузиазм, а движения слабых членов коалиции парализовал эгоизм. Франция поднялась, боролась, умирала за свободу, святость которой она чувствовала в своем деле и апостолом и учеником которой хотела стать. Если бы коалиция поставила общее дело выше интересов дворов, то, может быть, восторжествовал бы монархизм. Но общий интерес тронов был, на официальном языке коалиции, только словом, маскировавшим соперничество Германии и территориальные интересы во Франции и Польше. Каждая из держав из личных, зачастую вероломных, целей возбуждала или сдерживала другую.
Польша приближалась ко второму разделу. Россия, Пруссия и Австрия, более следившие за Польшей, чем за Францией, постоянно наблюдали друг за другом, боясь, чтобы одна из держав не овладела всецело добычей в ущерб другим. Россия, под предлогом наблюдения за турками и подавления революции в Южной Польше, не посылала подкреплений коалиции. Она ограничилась тем, что держала флот в Балтийском море.
После победы при Нервинде венский кабинет и принц Кобургский увлеклись больше укреплением австрийской власти в Бельгии, чем погоней за дальнейшими успехами во Франции. Дампьер сменил Дюмурье. Получив приказ от Конвента атаковать австрийскую армию, Дампьер повиновался, не питая ни малейшей надежды на успех, и пошел на неприятеля, прикрытого лесами и редутами. Пять раз французские колонны отступали в беспорядке поле атаки колонн Клерфэ, самого энергичного из генералов принца Кобургского. Во время шестой атаки Дампьер во главе отборного отряда бросился верхом на один из редутов. «Куда вы мчитесь, отец? — воскликнул его сын, состоявший при нем адъютантом. — Вы идете на верную смерть!» — «Да, друг мой, — отвечал ему отец. — Но я предпочитаю умереть на поле чести, чем под ножом гильотины!» Едва генерал произнес эти слова, как пушечное ядро опрокинуло его на землю.
Принц Кобургский, несмотря на побуждения Клерфэ и герцога Йоркского, командовавшего соединенной англо-ганноверской армией, не преследовал французскую армию и позволил ей спокойно завладеть сильной позицией. Через двенадцать дней союзники могли бы уже разбить лагерь на Монмартрских высотах. Австрия не желала ни одержать слишком большую победу, ни понести серьезное поражение. Пруссия желала этого еще менее. Герцог Брауншвейгский, продолжавший стоять во главе прусских войск, удовольствовался тем, что снова взял Майнц.
Король Пруссии, взоры которого все еще были обращены на Польшу, находился в своем лагере. Лорд Бошам, английский поверенный, приехал из Лондона, чтобы положить конец нерешительности принца и заставить его подписать союзный договор с Англией против Франции.
Когда принц Кобургский, завладев Конде, заявил, что занял его для своего императора по праву победителя, прусский кабинет возмутился и объявил, что был обманут честолюбивыми намерениями Австрии и Англии, и стал замышлять новые интриги. Начались секретные переговоры об условиях мира между французскими генералами и тайным агентом прусского короля Луккезини.
Вдруг король Прусский неожиданно уехал в Польшу, и одна только Англия теперь настаивала на борьбе с Францией насмерть. Сначала отнесшись безразлично к падению трона и унижению короля, она возмутилась против республики, когда Франция захотела укрепить владычество народа. Доктрины якобинцев казались богохульством против наследственных учреждений Великобритании. Торжество этих доктрин в Париже и на континенте являлось в ее глазах окончательным разрушением общественного строя. И ныне Англия выстраивала весь мир в виде санитарного кордона вокруг этого очага равенства. Она то расстраивала, то снова сплачивала постоянно распадавшуюся коалицию. Питт, являвшийся в своей стране олицетворением аристократии, был всемогущ, потому что первым разглядел опасность. Напрасно оппозиция в лице Фокса и его партии выступала против войны и налогов для ее ведения. Общественное мнение в Британии отвернулось от этих друзей Французской революции с тех пор, как революция начала убивать своих королей.
Союзниками Питта стали: Испания, договор с которой был нарушен вместе с падением Бурбонов во Франции; Россия и Голландия, ручавшиеся ему за Швецию и Данию; Пруссия, присоединившаяся к союзу после 14 июля; Австрия; большая часть независимых германских принцев, Неаполь, Венеция; наконец, Турция, отказавшая принять французского посланника Семонвилля. Даже швейцарские кантоны приказали арестовать французских посланников Маре и Семонвилля на Лаго Маджиоре и выдали их Австрии. Таким образом, Англия добилась того, что держала союзников в боевой готовности и платила им за насилие, которое они должны были совершить против Франции.
Питт, очень хорошо знавший настроение дворов и не ожидавший от них искренних действий, хотел по крайней мере укрепить за Англией пункт на французской земле, в одно и то же время морской и континентальный. Осада Дюнкерка была предрешена.
Адмирал Максбридж получил приказ подготовить эскадру, чтобы блокировать этот порт с моря, в то время как герцог Йоркский должен был атаковать его с суши. Англо-ганноверская армия разделилась на два корпуса, один из которых под командой герцога Йоркского осадил Дюнкерк, а другой, под началом маршала Фрейтага, занял маленький городок Гондшооте и прикрыл таким образом осаждающую армию. В обеих армиях насчитывалось до тридцати шести тысяч человек. Они соединились с армией принца Кобургского и корпусом принца Оранского.
Генерал Гушар, командовавший Северной армией французов, получил приказание во что бы ни стало освободить Дюнкерк. Этот город выказывал чудеса храбрости и патриотизма, желая избежать позора сдачи англичанам. Журдан, бывший несколько дней назад батальонным командиром, а теперь произведенный в генералы, командовал десятитысячным корпусом, расположенным в пяти лье от Дюнкерка. Узнав о намерениях неприятеля относительного этого города, он принял участие в плане его защиты и, возвращаясь к своей дивизии в Касселе, оставил комендантом Дюнкерка генерала Суама.
Другой офицер, имя которого не замедлило прогреметь, Лазар Гош, помогал генералу Суаму при обороне. Генерал Карно заметил его и оценил его темперамент и ум.
Карно отделил 15 тысяч лучших солдат из Рейнской армии и отправил их к главнокомандующему Северной армии, чтобы поднять дух новобранцев, а также лично сообщил Гушару о трудных операциях, которые Комитет общественного спасения поручил ему привести в исполнение.
Гушар во главе 40 тысяч человек приблизился к линии английской армии. Проходя Кассель, он соединился с 10-тысячным отрядом Журдана и двинулся на Гондшооте. Герцог Йоркский и маршал Фрейтаг укрепились на этой позиции; левый их фланг опирался на Берг, а правый — на Фурнё, центр же был защищен мельницами, редутами, изгородями, которые окружали Гондшооте, а в тылу у них находились огромные Моэрские топи.
Герцог Йоркский, Фрейтаг и генерал Вальмоден оставались спокойны, вполне полагаясь на свою сильную позицию. Однако они не переставали упрекать адмирала Максбриджа за медлительность в исполнении приказа Питта — привести эскадру к Дюнкерку на помощь осаждающим. Эскадра эта не показывалась на море, а между тем флотилия французских канонерских лодок, оставленных на дюнкеркском рейде, беспрестанно взрывала своими ядрами песок дюн, где стояла лагерем английская армия.
Шестого августа между передовыми отрядами обеих армий произошла стычка у Рекспоеда, большой деревни между Касселем и Гондшооте. Журдан, разнеся все, что лежало у него на пути, добрался до деревни и остановился в ней на ночлег. Деревню заняли три батальона. Главный корпус Журдана расположился лагерем позади, а кавалерия разбила бивуаки в лугах и садах.
С наступлением ночи генерал Фрейтаг и принц Адольф, один из сыновей английского короля, немного опередившие свои войска, оказались в плену у французов. Генерал Вальмоден в полночь снялся со своей позиции, напал на Рекспоед, рассеял авангард, освободил Фрейтага и принца Адольфа и чуть не захватил генерала Гушара и двух народных представителей. Довольный удачным исходом операции, он направил свою дивизию к Гондшооте и своими рассказами об успехе постарался укрепить дух английской армии.
Седьмого августа Гушар отделил от своей дивизии отряд для наблюдения за двадцатью тысячами англичан, стоявших лагерем под Дюнкерком. Таким образом, войска его разделились и он ослабил свою позицию. Восьмого числа французский генерал начал атаку.
Фрейтаг, раненный два дня назад, не мог сесть на лошадь, а потому командовал Вальмоден. Он расположил свои войска на равнине перед Гондшооте. Со стороны французов Колло командовал правым флангом, Журдан — левым, Гушар — центром, а Вандам — авангардом. Редут с одиннадцатью пушками прикрывал город и обстреливал одновременно дороги на Берг и Бленхейм. Другой редут защищал дорогу на Варем. Подножия этих редутов были затоплены водой: чтобы добраться до них, приходилось десять минут идти по пояс в воде, под пушечным огнем батальонов. Гушар, который берег свои войска, открыл огонь, но потерял день, хоть и в жарких, однако нерешительных атаках.
Депутат Левассер, ничего не понимавший в военном деле, но патриотически настроенный, требовал у генерала отчета в каждом из своих приказаний, грозя отрешить Гушара от должности, если он не будет повиноваться его требованиям. Подпоясанный трехцветным шарфом, с развевающимся султаном на шляпе, народный представитель скакал с левого крыла в центр и с центра к правому крылу, приводя в трепет генералов. Одной рукой он указывал на Гондшооте, находившемуся впереди, а другой — на гильотину, находившуюся позади.
В ту минуту, когда он с холма ободрял колеблющуюся колонну, завязавшую сражение и разбитую, пушечное ядро пробило крестец его лошади. Левассер упал, но тотчас вскочил, приказал привести себе другую лошадь и, заметив, что батальон остановился, крикнул: «Идите вперед, я пойду на редут вместе с вами!»
Он встретил Журдана, истекающего кровью и возмущающегося так же, как и он, нерешительностью главнокомандующего. «Что будет с нами при таком начальнике? — воскликнул Журдан. — У защитников Гондшооте войска в два раза больше, чем у нас для атаки». — «Журдан, — сказал Левассер, — вы военный; скажите мне, что надо делать, и все будет сделано!» — «Только одно, — ответил Журдан, — прекратить огонь, от которого мы теряем своих людей, не нанося урона неприятелю, бить к атаке по всей линии и ударить в штыки».
Левассер и Дельбрель (другой представитель Конвента) приказали привести в исполнение план Журдана. Сам Журдан, как только кровотечение остановили, бросился впереди своих колонн.
Тишина более ужасная, чем пальба, воцаряется по всей линии французских войск. Они наступают на английские позиции, как стальная волна. Четыре тысячи солдат и офицеров остаются раненными и убитыми на дорогах, у изгородей и укрепленных ветряных мельниц, окружающих редуты. Сами редуты прекращают огонь, залитые кровью своих канониров. Колло, Журдан, Гушар приказывают подвезти пушки и гаубицы на улицы, укрепления которых рушатся от ядер. Ганноверцы и англичане отступают в полном порядке. Старый замок Гондшооте, бывший в течение нескольких дней свидетелем празднеств, даваемых английским и ганноверским штабом, горит от огня гранат и погребает под своими стенами сотни трупов.
Осаждаемый и терпящий урон повсюду, Вальмоден отступает с остатками своей армии к Фурнё. Герцог Йоркский, не только присутствовавший, но и лично сражавшийся при Гондшооте, несется галопом к своему лагерю в Дюнкерке, чтобы снять осаду. Гушар два дня сидит в Гондшооте в бездействии и не видит или не хочет видеть преимущества своего положения. Он дает армии герцога Йоркского спокойно пройти вдоль морского берега и соединиться в Бельгии с корпусом Вальмодена и принца Оранского. Победитель Гушар ведет себя как побежденный и возвращается на позиции среди ропота всей армии.
Известие о победе при Гондшооте привело Париж в восторг; но даже радость народа выражалась устрашающим образом. Конвент упрекал победоносного генерала за его победу, как за измену. Комиссары Северной армии Генц, Пейсар и Дюкенуа отрешили Гушара от должности и отправили его под суд. «Гушар виновен, — говорили они в Конвенте, — в том, что одержал победу только наполовину.
Армия состоит из республиканцев и с удовольствием увидит, что представители народа наблюдают за генералами». Несчастный Гушар был приговорен к смерти и встретил ее с храбростью солдата и спокойствием невинного. Он был виновен только в том, что состарился.
Военные действия на других границах до января 1794 года ограничились занятием Савойи Келлерманом, графства Ниццы — Бироном, неудачной кампанией в Пиренеях, во время которой семидесятипятилетний французский генерал Дагобер покрыл себя славой и раз двадцать одерживал верх, несмотря на малочисленность своего отряда, препятствия и случайности, и маневрами Гушара и Журдана, имевшими целью прикрыть Мобёж, предмет интереса союзников, могущий открыть им путь в Париж.
Мобёж, укрепленный лагерем из 25 тысяч человек, был истощен голодом и эпидемиями. Его окружали еще 120 тысяч. Старый генерал Ферран командовал лагерем, а генерал Шансель — крепостью. Их храбрость не могла ничего поделать против голода, болезней и недостатка в припасах. Патриотизм генералов, солдат и жителей один отстаивал в продолжение нескольких часов эту дверь во Францию, когда Журдан и Карно возвестили пушечными выстрелами о своем прибытии. Восьмидесятитысячное войско принца Кобургского, укрепившееся за окопами, как некогда Дюмурье в Аргоне, ожидало французов. Французская армия приблизилась к ним, разделившись на пять колонн, 15 ноября в 10 часов утра.
Карно обвинил Журдана в трусости. Это оскорбление, переданное генералу, страшно возмутило его. Он бросился с одним из своих дивизионов, чтобы овладеть неприступным плато под выстрелами батарей Клерфэ, но почти вся его колонна оказалась перебита. Карно утешал его, сознаваясь, что был не прав, а затем позволил ему привести в исполнение первоначальный план. Тогда Журдан строит 25 тысяч солдат, находившихся в центре. Французские батальоны скрывают в своих каре летучие батареи; они размыкают строй, когда те стреляют, и снова смыкают его, чтобы прикрыть их, образуя подвижную цитадель на верху плато, у Ватиньи. Все нападения отражаются этой грозной колонной. Имперская кавалерия тщетно пытается опрокинуть головы других колонн. Только одна из них, а именно генерала Гратьена, рассеивается. Представитель Дюкенуа, находившийся там, лишает Гратьена права командовать и во имя отечества сам занимает его место, собирает солдат и одерживает победу. С высоты поля битвы Карно и Журдан видят Мобёж и слышат, как со своих укреплений крепость отвечает радостными пушечными залпами на пальбу ее освободителей.
Битва при Ватиньи, где впервые имел успех генерал, гений которого угадал Карно, получила бы более решительное значение, если бы 25 тысяч человек, стоявших у Мобёжа под командованием генерала Феррана, приняли участие в деле и не допустили принца Кобургского и Клерфэ перейти Самбру. Гарнизон и солдаты, находившиеся в лагере, желали этого. На этом настаивал и генерал Шансель, но Ферран проявил осторожность. Конвенту нужна была жертва, — и Шансель взошел на эшафот.
В Рейнской армии подозрительные народные представители произвольно сменяли командиров: вместо Кюстина назначили Богарне, после Богарне — Ландремона, после Ландремона — Карлена, который был за месяц перед тем простым капитаном; наконец, Карлена сменил Пишегрю. Эта армия, состоявшая из 45 тысяч человек, защищала дорогу на Эльзас укрепленными линиями Виссенбурга. Вюрмсер, самый отважный, хоть и самый старый из имперских генералов, напал на эти линии и овладел ими благодаря неопытности Карлена. Этот генерал, которому угрожал и герцог Брауншвейгский, отступил к Страсбургу. Вюрмсер, родом эльзасец, с триумфом вошел в Гогенау, на свою родину. Угроза террора развратила до уровня измены часть населения Страсбурга, этот оплот патриотизма. Между Вюрмсером и самыми значительными семействами города начались переговоры о сдаче крепости. В то же время Сен-Жюст и Леба отправились в Эльзас наказывать за измену или за трусость. Пишегрю и Гош прибыли: один — для командования Рейнской армией, другой — Мозельской армией. Надежда вернулась в лагерь вместе с их появлением, в то время как Террор вступил в город вместе с Сен-Жюстом. «Нами будут командовать, как подобает французам, — писали из армии после смотра, произведенного этими двумя генералами. — Пишегрю обладает уравновешенностью гения; Гош молод, как революция, и силен, как народ». Эти два новых генерала должны были оправдать энтузиазм армии. Пишегрю, бывший преподаватель математики в монастырской школе в Арбуа, участвовал в качестве простого солдата в американской Войне за независимость; вернувшись на родину во время революции, он был избран председателем якобинского клуба в Безансоне. Батальон, проходивший через этот город в 1791 году, за неимением командира выбрал его своим начальником, и в продолжение двух лет Пишегрю смог возвыситься до дивизионного генерала. Робеспьер и Колло д’Эрбуа покровительствовали ему. «Клянусь, — писал им Пишегрю поле того, как принял командование, — что принесу Горе победу!»
Гош, происходя из бедной семьи, тем не менее носил на челе печать аристократизма и величия; поступив шестнадцати лет во французскую гвардию, он за половинное вознаграждение исполнял обязанности своих товарищей и, стремясь и приобрести познания, и прославиться, ночи напролет проводил за штудированием сочинений по военной науке и истории. Посланный в Париж в качестве адъютанта генерала Левенёра после падения Дюмурье, он был приглашен в Комитет общественного спасения для доклада о состоянии армии и удивил комитет точностью своих ответов, дальновидностью и воинственным красноречием. Государственные мужи угадали в нем способного воина и назначили адъютантом генерального штаба. После удачной защиты Дюнкерка он обратил на себя внимание Карно и получил должность бригадного командира. Чем более его возвышали, тем он казался достойнее своего места. Искусные маневры при Фурнё и Ипре, имевшие целью исправить ошибки Гушара, принесли ему командование Мозельской армией. У Гоша имелся только один недостаток: сознание своего превосходства переходило у него часто в презрение к товарищам. Главенство во всем казалось ему настолько естественным, что он не мог допустить, чтобы его оспаривали. Во время революции, когда честолюбие и гений в состоянии добиться всего, трудно сказать, чего бы достиг Гош, если бы смерть не сразила его.
В Вандее генералы, посылаемые один за другим Комитетом общественного спасения, теряли свои батальоны в гражданской войне, которая разгоралась все сильнее. Два другие очага восстания, Лион и Тулон, привлекали взоры и отчаянную энергию Конвента к Югу.
Первые волнения в Лионе оказались вызваны Роланом и его женой, жившими в то время в его окрестностях. Ролан и его друзья раздули своими статьями, газетами и клубами чуть теплившийся огонь якобинства. Этот огонь, так легко вспыхивавший в остальной Франции, в Лионе разгорался медленно и с трудом. Как только какое-нибудь учение влекло за собой беспорядки и угрожало торговле, оно становилось непопулярным. У лионцев только одно знамя: экю. Все, что ему враждебно и может заставить его исчезнуть, — антисоциально. Население Лиона сделало собственность своим идолом.
Таким образом, якобинство, не найдя проповедников и вождей в рядах торговой буржуазии и среди честного и трудолюбивого рабочего класса, вынуждено было искать их в подонках большого города, между иностранцами, не имеющими родины, и людьми, погрязшими в пороках и долгах, которым нечего терять во время бунта и которые все могут найти во время разрушения. Подобно Бордо, Марселю и Тулону, Лион с восторгом принял учение и граждан Жиронды, поскольку Робеспьер, Дантон и Гора внушали большинству населения ужас. Богатые видели в этой партии Конвента грабителей собственности; народ — гонителей религии. Торговля пребывала в застое, роскошь исчезала, изготовляли одно только оружие. С того дня как республика стала посягать на банки, рынки, фабрики, мастерские и священников, Лион не признавал более республики. Город присоединил свои жалобы к жалобам роялистов, которые стекались со всех соседних провинций искать убежище в его стенах. Это настроение умов еще более возмущало и воспламеняло разъяренных якобинцев, находившихся в Лионе.
В то время в городе жил странный человек — худший из человеческих образчиков во времена смут, фанатик невозможного, один из тех, кого народ считает вдохновенным свыше, потому что такие, как он, обещают будущее более великое, чем то, на которое можно рассчитывать в реальности. Этого человека звали Шалье.
Подобно Марату, он явился из-за границы, привлеченный заревом революции. Мари Жозеф Шалье родился в Пьемонте в семье незнатной, хотя достаточно состоятельной, чтобы дать ему образование. Предназначенный к духовному званию, Шалье был подготовлен к этой профессии монахами в Лионе. Революционные волнения, достигавшие монастыря, мешали занятиям юного священнослужителя. Он пугал своих товарищей кровавыми призраками, овладевшими его воображением. Как раз в эту пору он написал следующие несвязные и отрывистые строки, которые напоминают библейские вдохновения пророков: «Мысли стеснены, души оледенели, род человеческий умер. Гений Создатель! Изведи новый свет и новую жизнь из этого хаоса! Я люблю великие проекты, головокружение, отвагу, борьбу, революции. Великий Создатель сотворил прекрасные явления, но Он слишком спокоен. Если бы я был Богом, то привел бы в движение горы, звезды, царства; я разрушил бы Природу, чтобы вновь создать ее».
Обуреваемый этими мыслями, Шалье вышел из священства, поступил на работу в торговую компанию и некоторое время путешествовал по коммерческим делам. Его изгнали из Италии за проповеди революционного учения. Благодаря этому его заметили Марат, Робеспьер, Камилл Демулен и Фоше. Под их покровительством он и основал в Лионе клуб, день и ночь вдохновляемый его речами. Муниципалитет, где две поочередно одерживавшие перевес партии и изменчивые решения то помогали восстановлению порядка, то воодушевляли бунтарей, все более и более становился игрушкой клуба. Шалье, Лоссель, его сообщник, священник, только что женившийся на родной сестре, Руло, член муниципалитета, наконец, Кюсси, выбранный в депутаты Конвента, всенародно проповедовали догмы насилия и грабежа. «Настало время, — говорили они, — когда должно исполниться пророчество: „Богатые будут лишены своего богатства, а бедные обогатятся“». «Хотите, — писал Кюсси, — услышать слова, которыми можно заплатить за все, в чем вы нуждаетесь в Лионе? Умрите или убейте других!»
Чтобы придать более устрашающую силу этим словам, Шалье и его соратники выписали из Парижа гильотину и помесили ее на площади Белькур. Жирондисты, желая умерить это увлечение, отправили Вите, своего сотоварища и друга, в Лион в качестве мэра. Вите явился в центральный клуб и выступил там с мужественной и суровой речью, стараясь переубедить мятежников, прежде чем нанести удар. Клуб встретил его оскорблениями. «Настал великий день мести! — воскликнул Шалье. — Среди нас находятся пятьсот человек, заслуживающих такой же участи, как и тиран. Я дам вам список их имен. Вам останется только поразить их!» Он предложил начать революционный суд, а потом, взяв распятие, прибавил: «Недостаточно того, что мы убили тирана нашего тела, нужно свергнуть и тирана наших душ!» И, разбив распятие, стал топтать его обломки. Затем Шалье повел толпу своих последователей на площадь Терро и здесь заставил их поклясться под «деревом свободы» в том, что они истребят всех аристократов, роландистов, умеренных и священников.
Муниципалитет, следуя призыву клуба якобинцев, начал производить обыски, послужившие прелюдией ко 2 сентября, и поручил комиссарам клуба указать и арестовать подозрительных лиц. Весь город некоторое время оставался во власти этих Катилин. Только один человек, мэр Нивьер, занявший место Вите, сдерживал с отвагой, достойной античного правителя, дерзость мятежников и вселял надежду в сердца добродетельных граждан. Нивьер знал, что Шалье и Лоссель собрали ночью своих приверженцев, которые назывались «тайным революционным судилищем», приготовили гильотину, избрав местом казней один из мостов на Роне, откуда трупы можно сбрасывать в волны, изготовили списки с именами осужденных, а так как недоставало палачей, то Лоссель заявил: «Все должны обратиться в палачей. Гильотина падает сама собою».
Мэр собрал около магистратуры несколько батальонов и восемь пушек. Голова этого великодушного человека была раньше других обещана убийцам, он рисковал ею ради блага отечества. Его твердость страшила мятежников. «Уйдем, мы промахнулись!» — вскричал Шалье, увидав штыки и пушки, выстроившиеся вокруг магистратуры. После своего триумфа Нивьер вернулся в ряды простых граждан, но, избранный тотчас восемью тысячами голосов из девяти тысяч избирателей, снова принял бразды правления.
Партия Шалье, которой в свою очередь угрожали умеренные республиканцы, была спасена от народной ярости тем же самым Нивьером, которого хотела убить. Центральный клуб якобинцев распался. Члены его взывали о помощи к своим собратьям в Париже. Конвент потребовал, чтобы два батальона марсельцев явились восстановить порядок в Лионе. Батальоны, проникнутые духом Жиронды, были встречены как освободители большинством населения и обратили в бегство Шалье и его сторонников. Якобинцы, лишившиеся влияния, задумали устроить новое 10 августа против муниципалитета. Шалье снова явился в город и восстановил клуб. «Аристократы, роландисты, умеренные эгоисты, — восклицал он, — трепещите! Десятое августа может вернуться, волны Соны и Роны скоро понесут ваши трупы в море!» Кюсси отвечал ему с вершины Горы: «Свобода для нас или смерть наших врагов — вот выбор, который приходится сделать республике!»
В Лион прибыли наиболее энергичные комиссары Конвента — Альбит, Дюбуа-Крансе, Готье и Ниош. Насильственным образом забрав у богатых шесть миллионов, они учредили Комитет общественного спасения, вроде того, какой уже действовал в Париже. Комитет начал притеснять граждан, вооружать своих сторонников, обрекать на смерть врагов. Шалье обнародовал список, носивший название «Компас патриотов». «К оружию! К оружию! — кричал он, бегая по улицам. — Ваши враги поклялись убить всех вас, даже грудных детей. Спешите одолеть их или погребите себя под развалинами города!»
Эти яростные крики долетели до Конвента; умеренная партия добилась декрета, по которому граждане Лиона получили право противопоставить силе силу. «Неужели вы думаете, — заявил Шалье, — что этот декрет испугал меня? Нет! Вместе со мною восстанет достаточно народа, чтобы убить двадцать тысяч граждан!» Он бежит в клуб, вооружает своих друзей и готовится взять приступом магистратуру. Секции, предупрежденные о его намерениях, собираются и вооружаются. Город разделяется на два лагеря. Муниципалитет переходит на сторону якобинцев. Народные представители Готье и Ниош вступают в Лион во главе двух батальонов и двух эскадронов. Шайки Шалье, вооруженные косами, пиками и дубинами, идут впереди. Льется кровь. Шале старается воодушевить членов клуба. «Вперед, — кричит он, — овладеем членами департамента, президентами, секретарями секций и умоем наконец руки в крови!»
Пока секции совещаются, якобинский муниципалитет овладевает арсеналом, укрепляется в нем и заполняет ратушу пушками, военными припасами и войсками. Секционеры, собравшиеся в количестве более двадцати тысяч на площади Белькур, выбирают комендантом фабриканта по имени Мадинье, человека с пылким сердцем и железной рукой. Мадинье овладевает арсеналом и идет к ратуше. Ниош пытается его не пропустить. «Оставьте, — отвечает ему Фременвиль, президент департамента, — вы подписались под подлыми постановлениями, посягающими на наше имущество и нашу жизнь, мы не можем доверять вам! Уходите; мы такие же, как и вы, республиканцы, но мы хотим республику законную. Если вы хотите, чтобы мы сложили оружие, прикажите уйти своим войскам и отрешите от должности весь состав муниципалитета».
Во время этих переговоров, которые и идут в арсенале, муниципалитет окружает себя линейными войсками и ополченцами. Трупы первых секционеров, убитых на улицах, лежат на ступенях лестницы ратуши.
Мадинье, уведомленный об этих безобразиях, задерживает Ниоша в качестве заложника и приказывает секционерам разделиться на две колонны, одна из которых направляется по набережным Соны, а другая — по набережным Роны, чтобы затем соединиться на возвышенности у ратуши. Голова колонны, шедшей вдоль набережной Роны, оказалась разгромлена батареей, стоявшей на Моранском мосту. Колонна, отправившаяся вдоль Соны, также была встречена картечью при выходе с площади Терро. Она отступает и занимает более защищенную позицию на площади Карм и начинает оттуда бомбардировать ратушу. Якобинцы стараются укрыться во дворах. Представитель Готье выходит к секционерам для переговоров. Его оставляют заложником, так же как и его товарища. Он подписывает, под угрозой казни, приказ о прекращении полномочий муниципалитета. Мадинье с триумфом въезжает на лошади в ратушу, хватает Шалье и главных его сообщников и провожает их до тюрьмы.
Этот триумф Жиронды был одержан 27 мая, за день до того, когда члены Жиронды были казнены в Париже. Шалье, приговоренный Революционным трибуналом к смерти несколько дней спустя, видел из своей темницы огни иллюминации, зажженной в честь победы умеренных. «Это факелы моей погребальной процессии, — сказал он. — Лионцы делают большую ошибку, требуя моей смерти; кровь моя, так же как и кровь Христа, падет на них и на их детей. Эшафот станет моей Голгофой, а нож гильотины — моим крестом».
Этот человек, жаждавший крови как фанатик, оказался самым чувствительным и мягким, очутившись в уединении тюрьмы. Женщина, любившая его, прислала ему прирученную пташку. Ему разрешили в последний раз увидеться с друзьями и любимой женщиной: он утешал их и завещал им все, что имел, не забыв и птичку.
Гильотина, выписанная Шалье из Парижа, испытала свой нож в первый раз на его голове. Распятие, которое он то боготворил, то разбивал, оставалось у него в руках. Плохо пригнанный нож гильотины, вместо того чтобы сразу пресечь жизнь Шалье, пять раз падал и снова поднимался, не будучи в состоянии отделить головы от туловища. Глаза Шалье с упреком смотрели на палача, моля скорее прекратить мучения. Шестой удар оказался смертельным. Кровь Шалье, пролитая с целью бросить вызов Конвенту, сделала всякое примирение невозможным. Лион мог подчиниться не иначе, как подвергнувшись мести монтаньяров. Лионцы от сопротивления перешли к восстанию.
Поводов к восстанию в Лионе имелось множество, и притом самых разнообразных. Когда жирондисты пали, Конвент распался, а анархическое правление Шалье и его сторонников было свергнуто, торговля остановилась, священники подверглись гонению, жизни каждого гражданина начала грозить опасность, роялизм, сконцентрировавшийся в Лионе и из своего убежища сзывавший отовсюду сторонников, — все способствовало тому, чтобы сделать этот город контрреволюционным центром республики.
Однако движение мятежников прикрывалось флагом республиканизма. Республиканец, возмущенный против республики, так близко стоял к роялисту, замышляющему против нее, что их действия рано или поздно должны были слиться.
Председателем народной комиссии являлся Рамбо, монархические убеждения которого были всем известны. Членами ее стали возмущенные жирондисты или скомпрометированные умеренные, чье подчинение Конвенту грозило им в перспективе смертью. Торговцы, у которых все сводится к выгоде, каждый день оплакивали упадок в делах и тайно сожалели о крушении монархии, служащей обеспечением труду, кредиту и безопасности. Дворяне и священники, нашедшие убежище в Лионе, раздували это недовольство: они надеялись обратить его в вулкан, извержение которого расчистит дорогу к трону бежавшим из Франции. Граф д’Артуа находился в то время на прусской территории. Он немедленно отправил маркиза Отишана в Савойю с приказанием ознакомиться вблизи с характером лионского восстания, сообщить свой вывод туринскому двору и заставить его направить к Шамбери более значительные силы. Сардинский двор, подкрепленный восемью или десятью тысячами австрийцев, быстро двинул главные силы в графство Ниццы, чтобы прежде всего прикрыть Пьемонт; он удовольствовался тем, что защищал савойские ущелья против малочисленных батальонов Келлермана. Маркиз Отишан и офицеры Конде сочли невозможным назначить эмигрантов начальниками в движении, которое, по крайней мере с внешней стороны, казалось республиканским. Роялистам Лиона пришлось отказаться от всякой надежды увидеть решительное вмешательство иностранцев. Теперь они рассчитывали только на время и осторожность, чтобы восстановить монархию в Лионе на развалинах партии жирондистов. Помимо простого люда, который был им предан по убеждению, они насчитывали в городе четыре тысячи неприсягнувших священников и шесть тысяч дворян, готовых взяться за оружие против войск Конвента.
Всякая попытка к примирению оказалась бы запоздавшей. Лион взялся за оружие. Народная комиссия приказала приступить к работам по обороне, возвела редуты, начала лить пушки, подвозить продовольственные припасы, выпустила на несколько миллионов монеты, стала вербовать наемную армию в девять тысяч человек. Формальным постановлением отказались от Конституции 1793 года и назначили главнокомандующего своими войсками.
Этот генерал, граф де Преси, уроженец Шароле, бывший полковник Вогезского полка, принадлежал к числу той военной аристократии, которая, несмотря на эмиграцию, сохранила свой патриотизм гражданина и верность дворянина. Он служил на Корсике, в Германии и в Конституционной гвардии Людовика XVI. Он поклонялся одновременно и конституции, и королю. Десятого августа Преси сражался вместе с офицерами, которые хотели умереть, защищая трон. Он оплакал смерть своего властелина, но не проклял отечества. Удалившись в свои владения в Брионне, он разделил тем самым участь всего гонимого дворянства.
Друзья его, остававшиеся в Лионе, указали на него комиссии как на вождя, наиболее способного обуздать смешанное движение, которое Лион осмелился начать против анархии. Преси не был главой партии, он, прежде всего, оставался воином. Однако природные качества, присущие всем людям его провинции, делали его способным объединить противоположные партии, приобрести их доверие и вести к цели.
Депутаты Лиона застали его, как некогда римляне своего диктатора, работающим на огороде, с лопатой в руке, занятым возделыванием овощей. Начались переговоры. Преси скромно заявил, что считает себя недостойным занять предлагаемый ему пост; что революция сломала его шпагу, а годы потушили его пыл; что гражданская война противна ему; что это крайнее средство, скорее гибельное, чем спасительное; что вооруженные силы Конвента рано или поздно сокрушат Лион. «Мы это знаем, — возразили делегаты, — но мы положили в нашем уме на весы эшафот и притеснения Конвента и выбрали эшафот». — «И я, — воскликнул тут Перси, — взойду на него с такими людьми!»
Приехав в Лион, он надел городской костюм, приколол трехцветную кокарду и поехал на смотр муниципальной армии. Командование артиллерией поручили полковнику Шенелетту, офицеру, испытанному в боях, и гражданину, уважаемому за свои добродетели. Граф Вирье был назначен командующим кавалерией. Знаменитый оратор Учредительного собрания, в начале революции он отстаивал права нации, но, с тех пор как Национальное собрание уничтожило круг, куда аристократия хотела запереть среднее сословие, все намерения революции казались ему крайними, а все поступки — преступлениями. На своей родине, в Дофине, и в Лионе он агитировал за изгнанную монархию. Как человеку, принадлежащему к знатному роду, преследуемой касте и гонимой религии, гражданская война казалось ему трижды священной. Лион, назначив его помощником главнокомандующего, заранее дал Франции понять если не цель, то подоплеку своего возмущения.
Конвент, со своей стороны, принял вызов с непоколебимой решимостью. Он приказал Келлерману, главнокомандующему Альпийской армией, покинуть границы и сконцентрировать все силы вокруг Лиона.
Келлерман принадлежал к воинам, созданным более для того, чтобы предводительствовать солдатами, чем вмешиваться в споры партий, охотно становившимся вождями войск республики, но не исполнителями ее жестокостей.
Прозвище Южного Мария приводило его в содрогание. Он выжидал, пробовал вступить в переговоры, несколько раз обращался к лионцам с требованием смириться. Все оказалось бесполезным. Лион ответил ему условиями, предписывавшими Конвенту отречься от 31 мая, отменить все меры, принятые с этого дня, восстановить в должности жирондистских депутатов и осудить самого себя.
Осаждающая армия заняла свою позицию в первых числах августа. Она разделилась на два лагеря. Лагерь у Гильотьера, состоявший из десяти тысяч человек с сильной артиллерией, под командованием генерала Вобуа тянулся вдоль Роны и преграждал лионцам путь в Дофине, Савойю и к Альпам. Миребельский лагерь, расположенный с северной стороны Роны и до Соны, угрожал предместью Круа-Русс.
По мере того как осаждающие колонны переходили на свои позиции, они заставляли войска Преси искать защиты в укрепленных постах, за редутами или городскими валами. Таким образом Преси приучал к войне свою подвижную армию, насчитывавшую около 10 тысяч сражающихся. Он образовал из этого наемного войска и из юных волонтеров ядро для внутренней охраны города. Воодушевленные идеей защиты своего дела, страстно преданные своему генералу, эти молодые люди, почти все роялисты, стали армией героев. С ними-то Преси и совершил чудеса храбрости, сдерживая в течение более чем двух месяцев — среди колеблющегося, возмущенного и голодного населения — натиск всей Франции.
Бомбардировка началась 10 августа, в день, имевший для республики счастливое предзнаменование. Батареи Келлермана и Вобуа в течение восемнадцати часов непрерывно осыпали город раскаленными ядрами и разрывными бомбами. Вероломные знаки, сделанные ночью друзьями Шалье, обозначали кварталы и дома, которые надлежало сжечь. Таким образом, ядрам была намечена цель, а бомбы почти всегда разрывались на улицах, на площадях или над домами врагов республики. В эти зловещие ночи роскошная набережная Сен-Клер, площадь Белькур, порт Тампль, улица Мерсьер раз триста загорались от падавших и взрывавшихся снарядов. Население города решилось до последней капли крови защищать его укрепления. После того как жители пожертвовали своим очагом, имуществом, кровом, богатством, немногого стоило пожертвовать своей жизнью. Как только бомба описывала кривую над улицей или крышей, они бросались не бежать, а тушить ее, вырывая фитиль. Если это им удавалось, они относили ее на городские батареи, чтобы отправить обратно неприятелю. Все городское население разделилось на две части, одна из которых сражалась на укреплениях, а другая тушила пожары, приносила на аванпосты боевые припасы и продовольствие, переносила раненых в госпитали, перевязывала раны и хоронила мертвых. В национальной гвардии, находившейся под командой Мадинье, насчитывалось тридцать шесть тысяч штыков. Она обуздывала якобинцев, обезоруживала клубистов, заставляла исполнять требования народной комиссии и отправляла на наиболее опасные посты многочисленные отряды волонтеров.
Якобинцы, обезоруженные, находившиеся под надзором, скрывались в предместьях, бежали в республиканские лагеря и делали тщетные попытки составить новые заговоры. В ночь с 24 на 25 августа, во время смятения, вызванного бомбардировкой площади Белькур, какая-то женщина подожгла арсенал, и огромное здание на берегу Соны на окраине города было уничтожено. В эту ночь пропали тысячи килограммов боевых припасов и восстание было почти подавлено; но это событие не лишило лионцев мужества. Восставшие числом три тысячи человек под заревом пожара сделали вылазку и отбросили республиканские войска с высот Сент-Фуа.
Бомбардировка, хотя и производила разрушения, но не наносила крепости существенного вреда. Конвент делал Келлерману постоянные выговоры. Сардинцы воспользовались его отсутствием, чтобы снова занять Савойю. Келлерман, под предлогом необходимости своего присутствия в Альпийской армии, просил о переводе его из Лиона. Комитет общественной безопасности назначил на место Келлермана генерала Доппе. В ожидании его прибытия в лагерь командование было вверено Дюбуа-Крансе.
Благородный, но изменивший королевской власти, Дюбуа-Крансе хотел сокрушить Лион как республиканец. В следующую же ночь, под прикрытием страшного огня со всех своих батарей, Дюбуа-Крансе двинулся на редуты осажденных, прикрывавшие мосты Улен и Мюлатьер. Он взял их штурмом, прежде чем триста лионцев, защищавших мосты, успели взорвать их. Высотами Сен-Фуа он овладел благодаря измене. Караульный капрал главного редута в ночь на 27 сентября поставил передового часового на такое место, откуда ничего нельзя было различить, а сам дошел до республиканских постов и сообщил пароль осажденных. При помощи этого пароля республиканцы проникли в редут и убили часовых.
Взятие редутов Сен-Фуа лишило прикрытия все западные лионские высоты, и Преси решился на отчаянную попытку вновь овладеть этими позициями. Лошадь под ним была убита и упала на генерала, но он высвободился из-под нее, собрал войска, выхватил ружье у одного из своих солдат и первый направился к пушкам; тут он был ранен картечью. Кровь текла у него из двух ран, но, размахивая окровавленным платком, как знаменем, он тем не менее устремил свои батальоны на неприятеля.
Между тем как Преси одержал таким образом победу в Сен-Фуа, генерал Доппе повел свой батальон к Перрашу, взял оба редута, которые его защищали, и грозной колонной обрушился на квартал, занимающий набережную Роны в самом центре Лиона. Городу пришел конец. По набережной Роны уже неслись ядра, когда Преси, извещенный о вторжении республиканцев, спустился с остатками своих батальонов с высот Сен-Фуа и, присоединяя во время перехода к горсточке своих храбрецов всех попавшихся ему по пути солдат, построил их на площади Милосердия в колонну.
Он прикрывает голову колонны четырьмя пушками, разбрасывает в низких местах Перраша множество стрелков, чтобы защитить свой правый флаг, и форсированным маршем идет к плотине, чтобы или отразить атаку республиканской армии, или умереть. Никакие маневры не возможны. Победа должна достаться той стороне, у которой больше готовности умереть. Республиканские батареи, расположенные по левому берегу Роны и по правому — Соны, а также и на самой плотине, обстреливают лионскую колонну с трех сторон. Преси с самыми отчаянными из своих волонтеров проносится по трупам и бросается на республиканские батальоны, прикрывающие батарею с фронта. Столкновение так ужасно и ярость так велика, что штыки ломаются в телах сражающихся, не вырывая у них даже крика.
Преси, желая довершить победу, оттеснил рассеянные колонны Доппе до моста Мюлатьер. Перейдя мост, республиканцы едва успели разрушить его и отступили к Улену. У Лиона оказалось несколько дней передышки. Но Преси потерял цвет лионской молодежи. Усталость, огонь, смерть и раны сократили число защитников до трех тысяч. Они покидали одну брешь лишь затем, чтобы перейти к другой, заливая все своей кровью. Тщетно, по обычаю осажденных городов, Лион поднял черное знамя над госпиталем — зданием, отличавшимся прекрасной архитектурой: артиллерия Конвента осыпала ядрами и гранатами стены и купола госпиталя. Съестные и боевые припасы иссякли, доедали последних лошадей. Подкрепление, ожидаемое со стороны Савойи и Италии, задержала в Альпах армия Келлермана. Марсель был усмирен. Восстание, которое Лион надеялся поднять своим примером в центре Франции, было повсюду подавлено. Кутон и Морье обратились к восставшим с умеренными и коварными требованиями. Народная комиссия сообщила об этих требованиях секциям. Секции выбрали депутатов, которые должны были отправиться в лагерь Кутона для переговоров с генералами и представителями. Последние дали городу пятнадцать часов сроку, чтобы защитники его могли позаботиться о своей безопасности.
В ночь с 8 на 9 октября Преси собрал товарищей своей славы и несчастья и сообщил им, что настал последний час Лиона, что, несмотря на обещания Кутона, террор и месть на следующий день войдут в город вместе с республиканской армией, что эшафот заменит им поле битвы и ни один из тех, кого занимаемая им должность, форма, оружие, или раны обличат как защитников города, не ускользнет от злобы Конвента и доноса якобинцев. О себе самом он заявил, что решил умереть как солдат, а не как жертва, что в ту же ночь выйдет из Лиона с последними наиболее отважными гражданами, обманет бдительность республиканского лагеря, пройдя через него с той стороны, где его ожидают меньше всего, и достигнет швейцарской границы через ущелье Юры. «Пусть те, — прибавил он, — кто желают испытать вместе со мною это последнее счастье солдата, соберутся с оружием и всем, что у них есть самого дорогого, на рассвете в предместье Вэз и следуют за мною. Я пройду или умру вместе с ними!»
Эта ночь стала для города предсмертной. В семьях повсюду шли обсуждения насчет того, на что решиться. Оставшимся в городе в перспективе грозила опасность; те же, кто решились бы выйти, шли на верную гибель. Только две тысячи человек, почти все — молодые благородные роялисты, сыновья самых знатных семейств Лиона, явились на рассвете на место, назначенное Преси. Триста или четыреста женщин, матерей, жен, сестер беглецов, с грудными детьми или ведя за руку детей немного постарше, пришли проводить своих мужей, отцов и братьев, и лишь некоторые присоединились к колонне. Эта смешанная толпа старалась подавить рыдания, чтобы их не услыхали в лагере противника.
Когда все собрались, Преси, встав на лафет одной из пушек, обратился к войску: «Я доволен вами, довольны ли вы мной?» Единодушный крик «Да здравствует генерал!» прервал его слова. «Все сделали всё, — продолжал Преси, — что только в силах человеческих для этого несчастного города. Теперь от вас зависит увидеть его снова счастливым и благоденствующим! Помните, что во времена крайней опасности, как теперь, все спасение заключается в дисциплине и в единоличной власти. Больше я вам ничего не скажу; время бежит, день наступает. Доверьтесь вашему генералу». — «Да здравствует Лион!» — грянула колонна, прощаясь с родными очагами.
Преси разделил свой корпус, или, вернее, погребальный кортеж, на две колонны: одна из них, состоявшая из полутора тысяч человек, осталась под его командой, другая — в пятьсот человек — шла под командой графа Вирье; женщины, дети и старики двигались безоружными в середине рядов.
На выходе из предместья Вэз пять республиканских батарей, находившихся в засаде за стенами, открывают по лионцам пальбу. Колонна приостанавливается. Преси строит два взвода из центра, переходит во главе их под огнем неприятеля ров и далеко отбрасывает республиканцев.
Благодаря этой диверсии лионцы выходят из ущелья и достигают обрывистых холмов, которые тянутся вдоль Соны до Сен-Сира. Преси уже с большей уверенностью идет по открытому свободному пространству. Вирьё и его колонна намереваются в свою очередь углубиться в ущелья Сен-Сира, когда восемь тысяч новобранцев лагеря Лимоне, предводительствуемые Ревершоном, налетают на его колонну сверху, разделяют ее на части и опрокидывают в Сону или расстреливают на месте.
Избиение оказалось полным, и никто не мог сообщить об участи Вирьё. Один драгун из республиканской армии уверял, будто видел, как Вирьё геройски сражался с несколькими республиканскими кавалеристами, отказался сдаться и бросился в реку. На берегу не нашли ни его, ни лошади, ни оружия. Это внезапное исчезновение долго поддерживало надежду в бежавшей в одежде крестьянки графине Вирьё: можно было предположить, что муж ее избежал смерти. Верная своей любви к нему, она в течение нескольких месяцев бродила по окрестностям, чтобы напасть на его след, и в продолжение нескольких лет ждала возвращения мертвеца.
Преси, разворачиваясь со своими пушками то к преследовавшей его кавалерии, то к стрелкам лагеря Лимоне, то к батальонам, загораживавшим ему дорогу, наконец ударил в последний раз в штыки республиканскую батарею, рассеял ее и вошел со своей колонной в лес. Левый берег Соны был усеян стрелками, перейти реку становилось невозможным. Единственным спасением для армии стало рассеяться по горам Форе. В местечках, разделенных лесами и реками, население оставалось религиозным, пророялистским, контрреволюционным, и маленькая армия лионцев могла надеяться найти убежище или возможность бежать. Преси собрал войско на военный совет и сообщил ему свое решение. Оно было отвергнуто небольшой группой его товарищей по оружию, видевших возможность найти спасение только по ту сторону Альп. Во время этих пререканий набат забил во всех деревнях, и крестьяне начали окружать лес. Половина армии покинула своего генерала, перешла Сону и была перебита на другом берегу. Преси с тремястами солдатами, бросив пушки и лошадей, вышел из леса, удалился от берегов Соны и, отбиваясь в течение трех дней, шел через горы, усеяв свой путь ранеными и трупами. Окруженные населением, преследуемые легкой кавалерией Ревершона, под страхом ежеминутного нападения, эти остатки десятитысячной армии достигли в количестве всего ста десяти человек возвышенного плато Сен-Ромен, защищенного оврагами и прикрытого лесом. Круг с каждой минутой все теснее смыкался вокруг них. Республиканские парламентеры, восхищавшиеся их храбростью, предложили им сдаться, обещали пощадить всех, кроме генерала. Его храбрые товарищи не захотели расстаться с ним. Преси в последний раз обнял их всех, снял с себя одежду военачальника, сломал шпагу, отвязал свою лошадь, пустил ее на свободу и в сопровождении одного из солдат пробрался через кустарники в недоступные пещеры, скрытые ельником.
Едва Преси покинул свою армию, как на аванпосты явился офицер республиканских гусар. «Выдайте нам вашего генерала, и вы получите свободу», — говорит он молодому Рейси, адъютанту Преси. «Его уже нет с нами, — отвечает храбрец, — и вот вам доказательство; смотрите: его лошадь пасется на свободе позади нас». — «Ты обманываешь меня, — кричит офицер, хватаясь за саблю, — генерал — это ты! И я тебя арестую». При этих словах Рейси пробивает пистолетным выстрелом голову республиканскому офицеру, затем, вложив дуло второго пистолета себе в рот, разносит свой череп и падает, отмщенный, на труп своего врага. Остатки лионцев перебили тут же.
Между тем Преси, которому двое бежавших солдат сообщили о бесполезности его жертвы и об избиении остатков его армии, три дня и три ночи бродил в лесах и по горным оврагам. Двое его спутников не покидали его. Один из них, крестьянин из деревни Виоле, довел генерала до леса, находившегося по соседству с хижиной его отца. Он потихоньку приносил ему туда в течение нескольких дней хлеб, который урывал от скудного ужина своих родителей, а затем достал ему крестьянское платье. Когда наконец все в Лионе поверили слуху о смерти Преси и поиски его прекратились, он нашел убежище в Швейцарии и вернулся на родину только вместе с Бурбонами. Он состарился во время их царствования, не получив от них ни награды, ни уважения, и был забыт, потому что сражался за отечество, а не за королевскую семью. Люди так созданы, что любят более тех, кто разделяет их ошибки, нежели тех, кто служит их интересам.
О Преси вспомнили только после его смерти. Лион устроил ему великолепные похороны в долине Бротто, залитой кровью его товарищей по оружию. Его похоронили рядом с останками этих героев. Его тело покоится там во славе: гражданские войны дают в награду лишь смерть.
L
Вступление республиканской армии в Лион — Осада Тулона — Вступление республиканской армии в Тулон — Массовые избиения
Рассказчик опечален тем, что от полей битв опять приходится возвращаться к эшафотам.
Республиканская армия вступила в Лион скорее настроенной дружественно, чем победно. Кутон отдал приказ оказывать гражданам уважение и не касаться их имущества. Республиканцы делились своим хлебом с голодным населением. Природное великодушие французского солдата предшествовало мести. Представители проявили ее только несколько дней спустя. Лион должен был послужить примером строгости республики. Мало казалось казнить отдельных личностей: надлежало подвергнуть казни целый город на страх врагам.
Все преступления республики в Лионе были приписаны Кутону, потому что Кутон был другом и поверенным Робеспьера во время подавления федерализма и победы республиканцев над гражданской анархией. Числа, факты и изученные речи с беспристрастностью опровергают эти предубеждения. Кутон вступил в Лион скорее как миротворец, чем палач; он боролся, насколько ему позволяло его положение, против ярости и мести якобинцев. Он боролся против Дюбуа-Крансе, Колло д’Эрбуа, Дорфея, стараясь смягчить горячность этих террористов. Он удалился перед первой же казнью, чтобы не быть свидетелем и соучастником в пролитии крови представителями самой непримиримой партии Конвента — Горы.
Робеспьер и Сен-Жюст, хоть и были очень дружественно расположены к Кутону и довольны победой, видели, что бессильны успокоить волнение Горы. Тогда они притворились, что разделяют его. Барер, готовый всегда подыгрывать всем партиям, взошел 12 ноября на трибуну и прочел Конвенту от имени Комитета общественного спасения декрет против Лиона. «Пусть Лион будет погребен под своими развалинами! — воскликнул Барер. — Плуг должен пройти по всем зданиям, кроме жилищ бедняков, мастерских, больниц и домов, посвященных образованию народа. Пусть самое имя города погибнет под его обломками. На развалинах этого нечестивого города будет воздвигнут памятник, который сделает честь Конвенту и будет свидетельствовать о преступлении и наказании врагов свободы. Надписью на нем будет сказано все: „Лион сражался против свободы, Лиона более не существует!“»
Этот декрет привел Лион в ужас. Фанатизм свободы еще не дошел до самоубийства; собственность еще не вменялась в преступление; грабеж еще не передал сокровища богатых в руки неимущих, жертв — доносчикам. Городу, сделавшему предметом своего поклонения собственность, был нанесен удар в его больное место. Кутон, притворившийся, что пришел в восторг от декрета, в течение двенадцати дней оставлял его без исполнения. Вследствие этого промедления бежало множество граждан, которым грозила смерть.
Ничтожный человек, ставший причиной несчастий Лиона, Колло д’Эрбуа, жаловался Комитету общественного спасения и парижским якобинцам на слабость народных представителей, посланных в этот город. Казалось, он питает к Лиону личную ненависть. Рассказывали, что бывший комедиант, без успеха дебютировавший в театре этого города, был освистан зрителями; что озлобление актера жило в душе депутата и, мстя за республику, он мстил за личную обиду. Дюбуа-Крансе подкрепил речь Колло д’Эрбуа своим свидетельством. Он принес на трибуну якобинцев отрубленную голову Шалье и показал на затылке следы от пяти ударов гильотины, которые изувечили, прежде чем убить, идола лионских революционеров. Гийяр, друг Шалье, при этом зрелище поднял руки к небу и воскликнул: «От имени отечества и братьев Шалье требую отмщения за преступление Лиона».
Кутон и его товарищи наконец решились уступить настояниям Горы и преобразовали революционные комитеты. Кутон предоставил им право устраивать обыски и прикладывать печати к домам лиц, находящихся на подозрении. Но все эти меры он окружил такими условиями и предписаниями, которые отчасти смягчали их. Кутон привел в исполнение, хоть и только для видимости, декрет Конвента, предписывавший разрушать здания. Он отправился с большой торжественностью в сопровождении муниципалитета на площадь Белькур, которая прежде всего была предназначена к разрушению вследствие роскоши зданий. Кутон, которого четверо простолюдинов принесли на кресле, как на троне, ударил серебряным молотком по угловому камню одного из зданий, находившихся на площади, и сказал: «Во имя закона, я тебя уничтожаю».
Кучка нищих в рубищах, несших на плечах кирки, рычаги и топоры, сопровождала кортеж представителей. Эти люди заранее радовались разрушению зданий, которое должно было успокоить их зависть; но Кутон, удовольствовавшись тем, что сделал вид, будто повинуется Конвенту, приказал им разойтись по домам. Разрушение отложили до той поры, когда жители площади унесут куда-либо свое имущество.
После церемонии представители издали приказ для секций, чтобы каждая из них приготовила по тридцать разрушителей, снабдив их ломами, молотками, телегами и тачками. Женщины, дети, старики были привлечены к делу сообразно их силам. Уплату следуемого им вознаграждения возложили на собственников, которых предполагалось грабить. Кутон, еще раз получивший выговор от Комитета общественного спасения за медлительность и, кроме того, предупрежденный о прибытии новых представителей, уполномоченных ускорить месть, написал Робеспьеру и Сен-Жюсту, умоляя своих друзей избавить его от миссии, которая тяжким бременем лежит на его душе, и послать его на юг. Робеспьер приказал отозвать Кутона. Его отъезд стал сигналом к началу бедствий в Лионе; кровь полилась рекой. Прибыли представители Альбит и Жавог. Дорфей, председатель судебной комиссии, приказал воздвигнуть на площади Терро гильотину. Вторая гильотина была воздвигнута в маленьком городке Фер, в центре восставших гор.
Дорфей председательствовал в центральном клубе на похоронном торжестве в память Шалье. «Он умер, — воскликнул Дорфей, — и умер за отечество! Поклянемся последовать его примеру и накажем его убийц! Нечестивый город! Мало тебе того, что ты в течение двух веков заражал своею роскошью и своими пороками Францию и Европу! Тебе понадобилось еще убить добродетель! Чудовища! Они совершили это преступление, и они еще живы! Шалье, мы обязаны отомстить за тебя, и мы это исполним! Мученик за свободу, кровь убийц — это очистительная вода, которая приличествует останкам! О граждане, стоящие по правую сторону от меня, вы стоите на том самом месте, где умер Шалье! Здесь умер смертью преступников самый невинный из людей! Выслушайте повесть о последних минутах его жизни! Он через меня обращается к вам в последний раз! Граждане, слушайте!»
Дорфей прочел среди рыданий и проклятий толпы письмо, написанное Шалье перед тем, как он взошел на эшафот. Его прощание с друзьями, родителями, женой было полно слез; прощание с братьями-якобинцами — полно энтузиазма. Смерть придавала торжественность его словам. Народ принял их как завещание патриота.
На другой день Дорфей в первый раз председательствовал в суде. Тысячи заключенных всех сословий, дворяне, священники, собственники, коммерсанты, земледельцы за несколько дней переполнили тюрьмы шести департаментов. Их партиями отправляли в Лион, развозили по пяти тюрьмам, где держали в течение нескольких дней, а затем отправляли на эшафот. В числе первых жертв обращала на себя внимание молодая сирота, почти еще ребенок, Александрина Эшероль; она каждый день приходила к дверям тюрьмы и со слезами умоляла разрешить ей встретиться с теткой, заменившей ей мать, а теперь заключенной в темницу. Вскоре она увидела, как тетку повели на казнь, последовала за ней до подножия эшафота и тщетно молила, чтобы и ее убили вместе с ней. Мы обязаны этой девушке несколькими самыми драматичными и трогательными страницами описания этой осады. Александрина кровью своей семьи и собственными слезами записала рассказ о катастрофе, свидетельницей которой стала. Женщины — лучшие историки гражданских войн, потому что принимают в них участие только своим сердцем.
Альбиту, которого сочли слишком снисходительным, пришлось уехать, подобно Кутону, когда приехали Колло д’Эрбуа и Фуше, новые проконсулы, назначенные Горой. Робеспьер хотел присоединить к ним Монто, непоколебимого, но честного республиканца. Монто, поняв из судьбы Кутона, чего от него ждут, отказался ехать. Оба представителя начали с того, что обвинили Кутона в отсрочке разрушений и казней. Они привезли с собой фанатичных якобинцев, а также тюремщиков из боязни, чтобы сношения между жителями города и заключенными и естественная жалость к согражданам не повлияли на непреклонность местных стражей. Они заказали изготовить гильотины, как заказывают оружие перед войной. Они возили по городу, чтобы воодушевить население, урну с прахом Шалье. Доехав до алтаря, воздвигнутого в честь его смертных останков, они преклонили колена. «Шалье, — воскликнул Фуше, — кровь аристократов послужит тебе фимиамом!»
Символы христианства, Евангелие и распятие, привязанные к хвосту бредущего за процессией осла, были брошены в костер, зажженный на алтаре в честь Шалье. Из жертвенной чаши напоили осла, а Святые Дары растоптали. Храмы, в которых до тех пор конституционными священниками совершалось богослужение, были осквернены песнями, плясками и богохульными церемониями.
«Вчера мы основали религию патриотизма, — писал Колло. — Все проливали слезы при виде голубки, которая утешала Шалье в темнице и вздыхала около его жертвенника. „Мщение! Мщение!“ — кричали со всех сторон. Мы клянемся, что народ будет отомщен! Все, что создано пороком и преступлением, будет уничтожено. Путешественник на развалинах этого роскошного и мятежного города увидит только несколько хижин, в которых будут жить друзья равенства!»
Головы десяти членов муниципалитета упали на следующий день. Самые лучшие здания города были взорваны. Патриотическая инструкция, подписанная Фуше и Колло, в следующих словах резюмировала права и обязанности: «Граждане, необходимо, чтобы все те, кто прямо или косвенно принимали участие в мятеже, сложили свои головы на эшафоте. Если вы патриоты, то сумеете отличить своих друзей; всех остальных вы лишите свободы. Пусть никакое соображение не останавливает вас: ни возраст, ни пол, ни родство. Отбирайте силой все, что у граждан имеется лишнего: каждый, владеющий чем-то сверх необходимого, может только злоупотреблять этим. По какому праву человек хранит излишние вещи и одежду? Пусть золото, серебро и все металлы поступят в народную казну! Уничтожьте религии: у республиканца нет другого бога, кроме отечества. Все коммуны республики не замедлят последовать примеру Парижской коммуны, которая на развалинах готического культа воздвигла храм разума. Помогите нам одержать победу, или мы поразим вас самих».
Сообразно духу этой прокламации Фуше и Колло назначили комиссаров для конфискации и доносов и присудили по 30 франков вознаграждения за каждый донос. Вознаграждение шло вдвойне за дворян, священников, монахов и монахинь. Цену крови уплачивали только тому, кто лично доставлял виновного в трибунал.
В то время как собственники и торговцы погибали, дома рушились под ударами молотов. Как только доносчик указывал на конфискованный дом, комитет, заведующий разрушением, немедленно направлял к его стенам своих землекопов. Жалованье разрушителям доходило до четырех тысяч франков за десять дней. В пятнадцать миллионов обошлось разрушение города, ценность зданий которого достигала трехсот миллионов.
Лион, оставшийся почти без жителей, молчал среди своих развалин. Рабочие, лишенные работы и хлеба, завербованные и состоявшие на жалованье у представителей, казалось, приходили в неистовство с топорами в руках, измываясь над трупом города, который их кормил. Шум падавших зданий, пыль, покрывавшая город, гул пушечных выстрелов и залпы взводов, расстреливавших жителей, стук тележек, привозивших из пяти городских тюрем обвиняемых в суд и отвозивших осужденных на гильотину, — остались единственными признаками жизни, эшафот — единственным зрелищем, клики оборванной толпы, раздававшиеся, как только чья-нибудь голова скатывалась к ее ногам, — единственным увеселением.
Наружные стены дворца Сен-Пьер и фасада ратуши были забрызганы кровью. По утрам в ноябре, декабре и январе — месяцы, наиболее изобиловавшие казнями, — жители этого квартала видели, как над почвой поднимался легкий розовый туман. Это была кровь их сограждан, убитых накануне, тень города, рассеивающаяся при лучах солнца. Дорфей, по настоянию жителей квартала, перенес гильотину немного дальше и поставил ее над открытой сточной трубой. Кровь, сочившаяся между досками, стекала в ров десяти футов глубины и оттуда уносилась в Рону вместе с нечистотами. Прачки перенесли на другое место свои плоты, чтобы не пачкать белье в окровавленной воде. Когда же казни, усиливаясь, как биение пульса во время гнева, дошли до двадцати, тридцати и сорока в день, то оружие смерти поставили посередине моста Моран, над самой рекой. Кровь спускали в реку, а головы и туловища казненных бросали через перила в середину течения Роны.
Почти все казненные принадлежали к цвету лионской и окрестной молодежи. Их возраст составлял их преступление. Тут встречались люди разных сословий, происхождений, состояний, мнений. Духовенство, дворянство, буржуазия, купечество, простолюдины — все смешалось. Ни один гражданин, на которого мог бы указать доносчик, не ускользнул от ареста. Немногие избежали смерти. Все, носившие знатное имя, имевшие состояние, профессию, фабрику, дом, все, на кого могло пасть подозрение, что они могут оказаться на стороне богатых, были заранее приговорены к смерти проконсулами и их клевретами. Десятая честь жителей города и окрестностей погибла.
Каждый день регистратор тюрьмы читал вслух на тюремном дворе список арестованных, которые должны были предстать перед судом. Все слушали чтение, затаив дыхание. Уходившие делили свои постели, одеяла, одежду и деньги между остававшимися, затем строились во дворе в длинную шеренгу, человек по шестьдесят или восемьдесят, и шли таким образом через толпу в здание суда. Размеры зала суда и утомление палача одни только и ограничивали число осужденных, убиваемых в продолжение дня. Пятеро судей, каждый из которых в отдельности имел человеческое сердце, судили все вместе как механическое орудие. Находясь под наблюдением подозрительной толпы, они сами дрожали под угрозой того террора, которым поражали других. Однако их действия не удовлетворяли более Фуше и Колло д’Эрбуа. Эти представители обещали парижским якобинцам чудеса строгости. Сентябрьские дни вставали перед ними как пример. Дорфей написал представителям народа: «Готовится великий акт народного правосудия. Он будет способен привести в ужас будущие века. Для того чтобы придать ему то величие, которое должно его отличить, чтобы он мог достигнуть такого величия, как история, необходимо присутствие администраторов, армейских корпусов, членов народного суда, должностных лиц в виде депутаций. Я хочу, чтобы этот день правосудия стал празднеством; я говорю „празднеством“ — и это совершенно верно: когда преступление сходит в могилу, человечество вздыхает свободно и настает торжество добродетели».
Представители одобрили план Дорфея, и массовые казни заменили казни отдельных лиц. На другой день после обнародования этой прокламации шестьдесят четыре молодых человека из лучших фамилий города были выведены из тюрем. Их привели с необычайной торжественностью в магистратуру, где после короткого допроса произнесли общий приговор. Оттуда они процессией прошли к берегу Роны. Их заставили перейти мост; гильотина осталась позади их, как уже негодное орудие.
По другую сторону моста, в низменной долине Бротто, в вязкой почве была вырыта двойная траншея или, вернее, двойной ров между двумя рядами ив. Три пушки, заряженные ядрами, стояли в конце аллеи, куда осужденных повернули лицом. Справа и слева отряды драгун, с саблями наголо, казалось, ожидали сигнала к выстрелам. На пригорках, образовавшихся от земли, выкопанной из рва, самые экзальтированные члены муниципалитета, председатели и ораторы клубов заняли места, как на ступенях амфитеатра; с балкона одного из конфискованных имений на берегу Роны Колло д’Эрбуа и Фуше, вооруженные подзорными трубами, казалось, председательствовали в этом торжестве убийства.
Жертвы хором пели гимн, который когда-то воодушевлял их в битве, стараясь найти в словах его забвение от удара, который должен был поразить их:
Умереть за отечество — самая прекрасная, самая завидная судьба!
Канониры слушали, пока горел фитиль, как умирающие воспевали собственную смерть. Дорфей дал голосам докончить торжественные модуляции последнего куплета; потом, подняв руку, подал условленный сигнал заведовавшему пушками, и три выстрела грянули разом. Барабаны забили, чтобы заглушить крики. Толпа бросилась смотреть, какое действие произвели выстрелы. Артиллеристы прицелились плохо: многие ядра не попали в цель. Только двадцать из приговоренных упали от выстрелов, увлекая тяжестью своих тел живых товарищей, делая их участниками своих конвульсий и обливая их своей кровью. Голоса, крики, жесты ужаса поднимались от этой кучи изуродованных тел. Канониры вновь зарядили пушки и дали новый залп. Раздирающий душу крик донесся через Рону до города. Несколько тел еще содрогались, несколько рук протягивались к присутствующим, моля о последнем ударе. Солдаты вздрогнули. «Вперед, — вскричал Дорфёйль, — в атаку!» По этому приказу драгуны пришпоривают лошадей, которые взвиваются на дыбы, и с ужасом приканчивают саблями и пистолетными выстрелами умирающих. Солдаты были новичками в управлении лошадьми и оружием, притом им было противно гнусное ремесло палачей, к которому их предназначили. Потому они невольно продлили более чем на два часа мрачную мистерию.
С негодованием был встречен в городе рассказ об этой казни. Народ чувствовал себя обесчещенным и сравнивал себя самого с самыми худшими из римских тиранов. Представители подавили этот ропот, издав прокламацию, которая требовала рукоплесканий и объявляла, что жалость будет считаться заговором. Тогда граждане постарались тщательно скрыть свой ужас под личиной лести. Изображение гильотины сделалось предметом украшения общественных празднеств; граждане носили ее на груди наподобие ордена; жены, дочери и любовницы носили маленькие гильотинки в виде серег.
Двести девять арестованных лионцев ждали суда в мрачной тюрьме города Роана. Гул пушки, расстреливавшей их братьев, достиг и этих стен. Они приготовились к смерти и провели ночь: одни в молитве, другие в покаянии перед переодетыми священниками, а самые младшие прощались с жизнью, распивая вино и горланя песни, в которых выражалось презрение к смерти. Ночью Колло д’Эрбуа пришел в канцелярию тюрьмы. «Какой характер должен быть у этой молодежи, — воскликнул он, — воспевающей таким образом свою агонию?»
В десять часов утра батальон выстроился перед дверью тюрьмы Роана, выходившей на берег Соны. Железная дверь отворилась, и через нее вышли двести девять граждан. Регистратор пересчитал их, пока они проходили, точно скот, предназначенный к убою. Длинная колонна, в которой один узнавал сына, другой родственника, друга или соседа, твердыми шагами направилась к зданию ратуши. Последнее приветствие, протянутые руки, заплаканные глаза, безмолвное прощание были обращены к ним из окон, дверей, через частокол штыков.
Зал заседаний оказался слишком мал, чтобы вместить всех, потому их судили на открытом воздухе, под окнами ратуши. Пятеро судей появились на балконе, приказали прочесть список имен, сделали вид, что совещаются между собой, и объявили приговор — формальность, лицемерно придававшая убийству вид суда. Напрасно некоторые из осужденных заявили свой протест судьям и народу. Непоколебимые судьи и оглохший народ ответили им презрением. Колонна, окруженная солдатами, продолжала путь к мосту Моран. При входе на мост офицер, командовавший отрядом, сосчитал арестантов, чтобы удостовериться, что ни один из них не сбежал по пути. Вместо двухсот девяти он насчитал двести десять. Офицер почувствовал ужас своего положения, остановил колонну и послал доложить о своем сомнении Колло д’Эрбуа. Разрешение этого сомнения вызвало бы новое расследование, пришлось бы отсрочить казнь; а народ собрался, смерть ожидала. «Что за беда, — ответил Колло д’Эрбуа, пусть будет больше, чем меньше. Притом, — прибавил он, желая умыть руки, — тот, кто умрет сегодня, не умрет завтра. Пусть кончают!»
Лишний казненный был якобинец, тщетно протестовавший против ошибки.
Колонна снова двинулась в путь с пением и остановилась между ивами на узком шоссе, пропитанном кровью, пролитой накануне. Рвы, менее глубокие, засыпанные свежей рыхлой землей, показывали, что заполнены только наполовину. Длинная веревка была протянута от одной ивы к другой. Каждого из осужденных привязали к ней концом той веревки, которой у него были связаны за спиной руки. Триста солдат стояли в четырех шагах, каждый против одного из приговоренных; кавалерия располагалась отрядами позади их. По команде: «Пали!» девятьсот тридцать солдат выпалили разом по три выстрела в каждую грудь. Когда дым рассеялся, рядом с трупами, распростертыми на земле или повисшими на веревке, увидали более сотни молодых людей, стоявших еще на ногах. Некоторые, освобожденные от веревки пулями, перебившими ее, ползли по земле или бежали, шатаясь, между ивами. Смущенные зрители и растроганные солдаты отворачивались, чтобы дать им убежать. Гранмезон, распоряжавшийся в этот день казнью, приказал кавалерии нагнать беглецов. Настигнутые драгунами и изрубленные саблями, они попадали под ноги лошадей. Только одному из них — Мерлю, мэру Макона, патриоту, стороннику Жиронды, удалось, обливаясь кровью, добраться до тростника, росшего на болоте. Кавалеристы притворились, что не видят его. Беглец направился к реке и собирался уже вскочить в лодку, чтобы незаметно пробраться в город, когда несколько безжалостных якобинцев настигли его и бросили в Рону; он умер одновременно от выстрелов и воды.
Солдаты прикончили прикладами и штыками умиравших на шоссе. Наступившая ночь заглушила стоны. На следующий день, когда могильщики пришли хоронить трупы, многие тела еще содрогались. «Мы возобновили, писал вечером Колло д’Эрбуа Конвенту, — республиканское правосудие, быстрое и страшное, как воля народа: оно должно поражать, как гром, и оставлять только пепел».
Монбризон, Сент-Этьенн, Сен-Шамон, все эти лионские пригороды стали ареной таких же жестокостей. Прибрежные провинции Верхней Луары были залиты кровью аристократов, роялистов и федералистов. Топор, так же как и в Лионе, казался слишком медлительным. Пули и тут заменили холодное оружие. Чудная липовая аллея, служившая местом прогулок и празднеств города Фер, была обращена в место казни, где расстреливали до двадцати человек в день. Ужас перед жизнью победил страх смерти. Молодые девушки и дети умоляли дать им умереть рядом с расстреливаемыми отцами и близкими. Каждый день судьи выслушивали отчаянные мольбы о смерти: это казалось менее ужасным, чем остаться в живых.
Варварство проконсулов не ожидало преступления: его видели в имени, воспитании, общественном положении. Детей убивали за их будущие грехи, старцев — за прошлые мнения, женщин — вменяя им в преступление их нежность и слезы. Траур был воспрещен, как во времена Тиберия. Многих казнили за то, что у них оказывалось печальное лицо или мрачная одежда. Все добродетели шли вразрез с человеческим сердцем. Якобинство лионских проконсулов ниспровергло инстинкт человека. Ложный патриотизм ниспроверг человеколюбие. Трогательные и высокие черты проявлялись в сатурналиях мщения. Человеческая душа возвысилась до трагического величия. Любовь Не обращала внимания на палачей. Сердца проявляли сокровища нежности и великодушия.
Пятнадцатилетний Дютайон, которого привели на казнь вместе с его семьей, радовался у подножия эшафота, что его разделяет с отцом только время, необходимое для удар топора. «Он бережет мне место на небе, не заставим же его ждать!» — сказал он палачу.
Сына Рошфора отвели вместе с тремя родственниками в ту самую аллею в Фере для расстрела. Отряд стреляет. Трое из приговоренных падают. Юноша, пощаженный состраданием солдат, остается жив. «Пощадите, пощадите! — кричат растроганные зрители. — Ему только шестнадцать лет. Он может сделаться хорошим гражданином». Солдаты замирают в нерешительности. «Нет, нет, не надо мне вашей пощады, не надо жизни! — кричит юноша, обнимая окровавленное тело отца. — Я хочу умереть! Я роялист! Да здравствует король!»
Дочь рабочего, девушка ослепительной красоты, была обвинена в том, что не пожелала носить трехцветную кокарду. «Почему ты упорно отказываешься, — спрашивает ее президент, — носить знак искупления народа?» — «Потому что вы носите его», — отвечает девушка. Президент, пришедший в восторг от такого мужества, делает знак тюремному стражнику, стоявшему позади обвиняемой, чтобы он пришпилил кокарду к ее волосам. Но она замечает его движение, с негодованием срывает кокарду, топчет ее и идет на смерть.
Другая, которая лишилась всего, что привязывало ее к жизни, расталкивает толпу, со слезами бросается на колени перед судьями и умоляет осудить на смерть и ее. «Вы убили моего отца, братьев, жениха, — кричит она, — у меня нет более ни семьи, ни привязанности, ничего дорогого на земле! Я хочу умереть! Моя религия запрещает мне покончить с жизнью самоубийством: убейте меня!»
Молодой узник по имени Кушу приговоренный вместе со своим восьмидесятилетним отцом, лишившимся способности владеть ногами, к казни, которая должна была состояться на следующий день, брошен в подземелье магистратуры в ожидании часа, когда он должен взойти на эшафот. Ночью он находит способ спастись через водосток, идущий от подземелья к руслу реки. Уверенный в счастливом исходе своего бегства, он идет за отцом. Старик прилагает тщетные усилия, чтобы устоять на ногах; падает на полдороге и заклинает сына бежать, чтобы спасти свою жизнь. «Нет, — отвечает молодой человек, — мы будем жить или умрем вместе». Он поднимает отца на плечи, ползет по подземному ходу, и благодаря потемкам ему удается пробраться незамеченным вместе со своей ношей до лодки на берегу Роны, в которую он бросается и таким образом спасается от смерти.
Двадцатисемилетняя госпожа Коше сражается с отвагой солдата; когда ее везут на казнь, она кричит с тележки окружавшему ее народу: «Вы поступаете подло, убивая женщину, которая сражалась, чтобы избавить вас от насилия! Я сожалею не о своей жизни, мне жаль ребенка, которого я ношу под сердцем! Невинный, он будет казнен вместе со мною!.. Чудовища, — прибавляет она, указывая на себя рукой, чтобы обратить внимание толпы на беременность, — они не хотели подождать нескольких дней, они боялись, чтобы я не родила мстителя за свободу!» Народ следует за нею. Крик о помиловании раздается в толпе, но упавший нож прерывает этот запоздалый вопль народа.
Злодейства прекратились только из-за неудовольствия со стороны солдат, возмущенных тем, что их превратили в палачей. Тела, брошенные без погребения на берегах Роны, распространяли запах тления и угрожали заразой. Якобинцы и депутаты оставались глухи к этим жалобам. Они черпали новую ярость в патриотических банкетах. Подражая Тайной вечере, они передавали из рук в руки чашу с вином и поощряли друг друга пить ее до дна. «Это чаша равенства, — воскликнул Гранмезон, — здесь кровь королей, примите ее и пейте!»
Колло д’Эрбуа, призванный в Париж после первого ропота общества, вознегодовавшего против массовых убийств, оправдывался перед якобинцами: «Нас зовут людоедами! Но ведь это говорят аристократы. Наблюдают с беспокойством, как умирают контрреволюционеры. Распространяют слухи, что они не умирают с одного удара! А якобинец Шалье разве умер после первого удара? Малейшая капля крови патриота падает мне на сердце. У меня нет жалости к заговорщикам. Мы их расстреляли двести человек сразу, а нам вменили это в преступление! Неужели не понятно, что это лишь доказательство нашей чувствительности? Народный гром поражает их, оставляя только ничто и прах!»
Якобинцы аплодировали.
Однако в самом Лионе некоторые из республиканцев осмеливались взывать к человеколюбию. Не находившиеся под подозрением граждане обратились к Робеспьеру как руководителю республики. Из переписки Кутона с несколькими лионскими патриотами стало известно, что Робеспьер возмущался в Комитете общественного спасения проскрипциями Колло д’Эрбуа и Фуше и выступал против разрушения второго города во Франции. «Эти Марии театра, — сказал он во время дружеской беседы у Дюпле, делая намек на профессию проконсула, — скоро будут царствовать на развалинах». Фуше в письмах к Дюпле старался ввести Робеспьера в обман и представил Лион олицетворением контрреволюции.
Всем в республике было известно о тайных разногласиях, возникших в Комитете общественного спасения между партиями Робеспьера и Колло д’Эрбуа; одни искали в революции социальный строй, сохранившийся под развалинами, в то время как другие — только возможности пограбить и отомстить. Несколько республиканцев из партии Робеспьера тайно прибыли в Лион и ждали малейшего признака возвращения милосердия в общественном мнении. Один из них, по имени Жиле, решил подписаться под общим письмом. «Гражданин представитель, — гласило это письмо, — я жил в подземельях и катакомбах, я терпел голод и жажду во время осады моей родины; еще день или два, и я пал бы жертвой моей преданности делу Конвента, составляющего в моих глазах центр соединения добрых граждан. Следовательно, я имею теперь право говорить о правосудии и умеренности относительно моих врагов. Те, кто посягает здесь на свободу вероисповеданий, — истинные виновники. Поспеши, гражданин, издать декрет, которым бы они осуждались на смерть, и очисти от них землю свободы. Но взрыв бомбы, которую заряжают здесь, уничтожит, быть может, весь Конвент, если ты не поспешишь потушить ее!.. Подумай, Робеспьер, о тех истинах, относительно которых я осмеливаюсь высказываться, хотя бы мне пришлось умереть за то, что я их написал!»
В то время как волнение Лиона потухало, залитое потоками крови, в Тулоне разгорался новый пожар.
Тулон, самый значительный порт республики, город кипучий и деятельный, как солнце и море Юга, быстро перешел от крайностей якобинства к разочарованию и отвращению в отношении революции. Зрелище моря делает человека более свободолюбивым и неукротимым. Он постоянно видит образ свободы в его волнах, и душа его усваивает независимость от этой стихии.
Тулонцы, подобно бордосцам и марсельцам, склонялись на сторону федерализма Жиронды. Общение с офицерами флота, почти сплошь роялистами; воздействие священников, пользовавшихся влиянием у южан; отвращение, возбужденное революционным насилием, устроенным армией Карто в Марселе; наконец, разделение республики, которая убивала своих основателей, — все побуждало Тулон к восстанию.
Английский флот адмирала Худа, крейсировавший в Средиземном море, поддерживал это настроение посредством секретной переписки с тулонскими роялистами. Флот этот состоял из двадцати линейных судов и двадцати пяти фрегатов. Адмирал Худ являлся к тулонцам скорее как союзник и освободитель, нежели неприятель. Он обещал охранять город, порт и флот не как завоевание, а как сокровищницу, которую он готовился передать приемнику Людовика XVI, как только Франция одолеет своих тиранов. Убеждения тулонцев переходили с быстротою ветра от якобинства к федерализму, от федерализма — к роялизму и от роялизма — к разрушению. Восемь тысяч марсельских беглецов, пришедших в Тулон из боязни мщения республики, надежда на свои стены и батареи своих кораблей, соединенная англо-испанская эскадра, готовая поддержать восстание, внушили тулонцам мысль об этом преступлении против отечества.
Один из двух адмиралов, командовавших французским флотом в тулонском порту, состоял в заговоре с роялистами; другой старался укрепить дух республиканизма. Разделившись таким образом во мнениях, партии флота нейтрализовали значение друг друга. Население Тулона восстало при появлении авангардов Карто с единодушием, исключавшим даже самую мысль о бывших раздорах. Тулонцы закрыли клубы якобинцев, убили их главу, заключили в тюрьму народных представителей Бейля и Бове, приехавших с полномочиями в город, и призвали англичан, испанцев и неаполитанцев.
При виде неприятельских эскадр Бове покончил в тюрьме самоубийством. Французский флот, за исключением немногих кораблей, на которых адмирал Сен-Жюльен в течение нескольких дней удерживал экипаж от измены, поднял белый флаг. Объединившиеся тулонцы, англичане и неаполитанцы, числом пятнадцать тысяч человек, укрепили городские валы против войск республики. Карто, подошедший к Марселю во главе четырех тысяч солдат, отбросил неприятельский авангард к ущельям Олиуля. Генерал Ла Пуап, отделившийся от Ниццской армии с семью тысячами человек, осадил Тулон с противоположной стороны. Народные представители Фрерон, Альбит, Баррас, Салицетти, Робеспьер-младший и Гаспарен в одно и то же время наблюдали, командовали и сражались. Незначительное число республиканцев, огромное пространство, которое они должны были занять, чтобы окружить горы Тулона, огонь с фортов, защищающих сверху этот амфитеатр, и неопытность генералов долгое время делали атаку безуспешной и приводили в раздражение Конвент. Как только Комитет общественного спасения смог располагать войсками, бывшими в Лионе, Карно поспешил двинуть их к Тулону. Он отправил туда же генерала Доппе, покорителя Лиона. Фрерон и Баррас решили уничтожить Тулон, хоть бы вместе с городом пришлось уничтожить флот и французские арсеналы.
Артиллерийский капитан, посланный Карно в Альпийскую армию, получил приказ во время своего пути заместить командующего артиллерией Тулонской армии Донмартена, раненого при осаде Олиуля. Этим молодым человеком был Наполеон Бонапарт. Здесь его ожидал успех. В несколько дней он проявил свой гений и сделался душой предприятия. Предназначенный к тому, чтобы ставить силу выше мнения и армию выше народа, он впервые появился среди дыма батареи, поражая одновременно анархию в Тулоне и врагов на рейде. Вся судьба его заключалась в этом положении: военный гений, проявившийся под огнем гражданской войны для того, чтобы овладеть солдатом, прославить шпагу, задушить слово, потушить революцию и отодвинуть свободу назад на целое столетие.
Дюгомье сменил Карго. Он собрал военный совет, на котором присутствовал и Бонапарт. Молодой капитан, немедленно возведенный в должность батальонного командира, преобразовал артиллерию, приблизил батареи к городу, определил центр позиции, направил туда огонь и шел прямо к цели. Английский генерал О’Хара, вышедший из форта Мальбоске с шестью тысячами человек, попал в засаду, устроенную Бонапартом, был ранен и взят в плен. Форт Мюльграв атаковали две колонны, вопреки приказанию представителей. Бонапарт и Дюгомье вошли туда первыми через брешь. Победа оправдает их. «Генерал, — сказал Бонапарт Дюгомье, удрученному годами и истощенному усталостью, — идите спать: мы только что взяли Тулон». На рассвете адмирал Худ увидел французские батареи, приготовившиеся обстреливать рейд. Осенний ветер выл, небо покрывали тучи, высоко вздымались волны на море; все предвещало, что недалекие зимние бури закроют англичанам выход из рейда.
Вечером неприятельские шлюпки незаметно прибуксировали брандер «Вулкан» в середину французского флота. Огромное количество взрывчатых веществ имелось на верфях, в магазинах и арсеналах. Английские офицеры с запалами в руках ждали сигнала к пожару. На портовых часах пробило десять. Ракета взмыла ввысь в Центре города и рассыпалась искрами. Это был сигнал. Арсенал, все постройки, морские припасы, строевой лес, смола, пенька и вооружение флота и морского склада сгорели за несколько часов. Костер, поглотивший половину французского флота, освещал воды Средиземного моря, склоны гор, лагерь французов и палубы английских судов. Тишина, водворившаяся в обоих лагерях вследствие ужаса, произведенного пожаром, была нарушена взрывом пороховых магазинов, десяти кораблей и пятнадцати фрегатов, выбросивших в воздух настилы и пушки, прежде чем погрузиться в волны.
Известие об уходе объединенной эскадры и сдаче города распространилось среди населения. Двенадцать тысяч тулонцев и марсельцев покинули свои жилища и толпились на морском берегу, споря за места на лодках, перевозивших их на английские, испанские и неаполитанские суда. Каждый крик с опрокидываемых лодок и трупы, выбрасываемые на берег, приводили в уныние матросов. Некоторые жертвовали собою, бросаясь в море, чтобы облегчить чересчур нагруженные шлюпки и спасти своих детей, матерей, жен. Ужасные и в то же время трогательные драмы скрыла эта ночь. Она напомнила трагедию древних жителей Малой Азии или Греции, покидавших отечество и увозивших с собою свои сокровища и богов в зареве пылающих городов.
На следующее утро англичане подняли якорь, уводя с собой те суда, которые не могли сжечь. Тулонские беглецы почти все попали в Ливорно, а затем большая часть из них поселилась в Тоскане. Их потомки до сих пор живут там, и французские фамилии слышатся на холмах Ливорно, Флоренции и Пизы среди местных имен.
20 декабря 1793 года депутаты Конвента вошли в Тулон во главе республиканской армии. Дюгомье, указывая на город, лежавший в пепле, заклинал их ограничить этим свою месть, великодушно предложив всем виновным добровольно покинуть город и пощадив оставшихся. Представители не согласились на предложение генерала: они были уполномочены не только победить, но и поразить ужасом. Гильотина въехала в Тулон вместе с артиллерией армии. Кровь потекла там так же, как в Лионе. Конвент уничтожил декретом даже самое имя города изменников. «Пусть бомбы и мины, — сказал Барер, — уничтожат кровли всех коммерсантов Тулона, и на месте города останется только военный порт, населенный защитниками республики».
LI
Новые казни в Париже — Госпожа Ролан в тюрьме — Она пишет мемуары — Ее осуждение — Самоубийство Ролана
После смерти жирондистов гильотина как будто поднялась в общественном мнении. Несколько кровожадных демагогов Коммуны и Горы требовали, чтобы смертоубийственное орудие построили из камня прямо на площади Согласия, против Тюильри. По их мнению, гильотина должна была свидетельствовать о том, что бдительность народа не прекращается, а мщение его — вечно.
Революционный трибунал, следивший за малейшим знаком Комитета общественного спасения, спешил убить всякого, на кого тот указывал ему. Суд превратился в формальность.
Имя госпожи Ролан не могло продолжительное время скрываться от злобы народа. Будучи душой Жиронды, эта женщина легко могла превратиться в мстительницу, если бы ей дали возможность пережить ее знаменитых друзей. Некоторые, впрочем, были еще живы: требовалось нанести удар их мужеству, поразив их кумира. Память тех, кто сошел в могилу, также имело смысл запятнать, связав ее с именем ненавистной женщины. Вот какие предлоги побуждали Коммуну и якобинцев требовать суда над госпожой Ролан.
Комитет общественного спасения, исполнявший иногда с огорчением, хоть и с постоянной угодливостью, желания черни, внес имя госпожи Ролан в списки, которые каждый вечер приносили Фукье-Тенвилю. Робеспьер подписал этот список со скрытым сожалением. Когда Учредительное собрание оскорбляло гордость Робеспьера и с презрением относилось к его речам, госпожа Ролан угадала его гениальность, оценила его настойчивость, поощряла его красноречие. Воспоминания об этом тяготили члена Комитета общественного спасения Робеспьера, когда он подписывал приказ о предании суду госпожи Ролан, приказ, вместе с тем являвшийся и приговором.
Робеспьер считал непоколебимость силой, а упрямство — признаком воли. Система убила в нем природу. Он считал себя сверхчеловеком, презирая в себе человеческие чувства. Чем больше он страдал от своего жестокосердия, тем более правым считал себя.
Госпожа Ролан находилась в тюрьме Аббатства с 31 мая. Есть люди, которых можно преследовать только тогда, когда находишься вдали от них. Красота смягчает всякого, кто приближается к ней. Ей перевели, без ведома комиссаров, в камеру, куда проникало солнце. Решетку ее окна густо переплели вьющимися растениями, чтобы дать глазам ее хоть иллюзию свободы. Некоторым из ее друзей разрешили навещать ее. Ей принесли книги, и она могла беседовать с самыми великими мужами древности. Спокойная за Ролана, который, как ей было известно, нашел убежище в Руане у преданных друзей, за участь дочери, которую ее друг поручил попечению госпожи Крезе-Латуш, она мирилась с уединением темницы.
Лишенная возможности действовать, госпожа Ролан погрузилась в размышления. При помощи тюремщиков она достала бумагу, чернила и перо и начала описывать свою жизнь. Каждый день она прятала одну из написанных страниц от бдительности тюремщиков и передавала ее все тому же другу, натуралисту Воску, который проносил ее незаметно под одеждой.
Хотя эти мемуары и предназначались для потомства, но по некоторым признакам можно было угадать, что они преимущественно писались для таинственного, неизвестного друга. Госпожа Ролан надеялась, что дружественная душа поймет ее лучше и ей будут яснее, нежели другим, намеки, вздохи и мысли, которые она излила на этих страницах. Эти мемуары можно сравнить с разговором, который ведется вполголоса и из которого публике понятно не все. При каждом слове охватывает страх, что беседа может оказаться прервана палачом. Казалось, видишь топор, висящий над головою писавшей.
Минутами появлялись проблески надежды. Госпожу Ролан даже освободили на несколько часов. Эта однодневная свобода стала западней: депутаты Коммуны подарили радость для того только, чтобы затем отравить ее. Они поджидали госпожу Ролан на лестнице ее дома, не дали переступить порог, увидеть слезы слуг. Ее вновь арестовали, несмотря на мольбы, и бросили в другую тюрьму, Сен-Пелажи, куда сгоняли проституток города Парижа. Несчастная готовилась встретить смерть — ее присудили к позору.
Сострадание тюремщиков в конце концов избавило ее от грязи. Ей отвели отдельную комнату, дали хоть и жесткое, но ложе, стол. Она снова принялась за мемуары, снова могла видеть своих друзей Боска и Шампаньи. Подлый Лантена, постоянно бывавший у нее в доме в дни ее могущества, неблагодарный Паш, достигший власти благодаря ей и ее мужу, заседали один на верху Горы, другой во главе Коммуны; они притворились, что забыли о ней. Дантон, находившийся в отъезде, делал вид, что ничего не знает. Робеспьер не решался вырвать жертву из цепких рук народа. Однако старинная дружба, существовавшая между ним и госпожой Ролан, пробудила в узнице минутную слабость. Она обратилась к нему с письмом.
«Робеспьер, я хочу испытать вас, — писала госпожа Ролан. — Я повторю вам то, что сказала другу, взявшемуся передать вам эту записку. Я ни о чем не хочу просить вас, не вообразите этого. Мольба создана для виновных и рабов. Невинность сама говорит за себя. При возникновении республик революции делают жертвами тех, кто содействовал их возникновению: такова судьба. Но благодаря какому странному стечению обстоятельств я подверглась бурям, которые обрушиваются обыкновенно на голову великих деятелей революции? Робеспьер, я запрещаю вам верить, что Ролан не честный человек. Чувствуя отвращение к ситуации, возмущенный преследованием, утомленный трудами, он хотел только вздыхать в уединении и исчезнуть в безмолвии, чтобы не допустить своих современников до преступления! Подозрение в моем соучастии в преступлении было бы смешно, если бы не было жестоко. Откуда явилась эта враждебность ко мне, никогда никому не сделавшей ничего дурного и даже не могущей желать его тем, кто делает его мне? Мишень ругательств обманутой толпы, я слышу, как под моими окнами расхаживают часовые, подслушивающие мои беседы с самой собою об ожидающей меня казни, и читаю отвратительную брань, которую изрыгают журналисты, никогда не видевшие меня!
Робеспьер, не для того чтобы возбудить в вас жалость, я изобразила вам эту картину в сильно смягченных красках; я сделала это, чтобы вразумить вас. Счастье изменчиво, любовь народная — тоже. Вспомните судьбу тех, кто волновал народ, нравился ему и управлял им, начиная с Вителия и кончая Цезарем! Какую бы участь ни готовили мне, я сумею встретить ее сообразно с моим достоинством или предупредить ее, если сочту это удобным для себя. После чести подвергнуться преследованиям, неужели меня ждет честь мученичества? Ответьте; узнать заранее свою судьбу значит многое, а с такой душой, как моя, люди способны взглянуть ей прямо в лицо. Если вы хотите оставаться справедливым и прочтете то, что я вам пишу, со вниманием, письмо мое не будет бесполезно для вас, а вместе с тем и для моей отчизны. Во всяком случае, Робеспьер, я уверена, и вы не можете не чувствовать этого, что тот, кто знал меня, не станет преследовать меня, не чувствуя угрызений совести».
Под кажущимся стоицизмом этого письма чувствовалось воззвание к чувству сострадания. По крайней мере со стороны госпожи Ролан это была попытка к примирению. Благоприятный ответ со стороны Робеспьера обязал бы ее быть благодарной человеку, который посылал на смерть тех, кого она обожала. Ей казалось, что почетнее и лучше лишиться жизни, чем быть обязанной ею Робеспьеру, а потому написав письмо, она разорвала его, однако спрятала клочки письма на память о том, что ей пришла мысль о личном счастье, которым она пожертвовала, чтобы сохранить свое достоинство.
Робеспьеру не приходилось колебаться между угрызениями совести и популярностью. Узница готова была умереть. Она наполняла время досуга занятиями музыкой, беседами и чтением. С особым усердием госпожа Ролан изучала Тацита, этого божественного анатома великих мертвецов, описывающего предсмертные содрогания горя и героизма. Ей пришла в голову мысль предупредить удар: она достала себе яду, но когда собралась выпить его, написала мужу, извиняясь в том, что хочет умереть раньше его: «Прости меня, человек, достойный уважения потомства, за то, что я хочу располагать по своему желанию жизнью, которую посвятила тебе! Твои несчастия удержали бы меня, если бы мне дано было облегчить их. Ты лишишься только бесполезного предмета, вызывающего у тебя душераздирающее беспокойство!» Переходя к мысли о дочери, она продолжала: «Прости меня, дорогое дитя, юная и нежная дочь, нежный образ которой колеблет мою решимость! Ах! Я не лишила бы тебя никогда твоего руководителя, если бы они могли оставить его тебе. О, жестокосердые! Разве они чувствуют сострадание к невинности? Друзья мои, обратите ваши взоры и ваши заботы на мою сироту! Не сокрушайтесь о моем решении. Если бы кто-нибудь мог поручиться, что на суде мне разрешат указать на тиранов, — я хотела бы немедленно предстать пред ним!»
В эту минуту из ее души вырвался последний вздох религии, который пытается вознестись за пределы небытия: «Боже! Верховное Существо! Душа Вселенной! Начало всего, что я чувствую в себе хорошего, великого и бессмертного, в существование Которого я верю потому, что должна иметь источником нечто выше того, что вижу вокруг себя! Я скоро соединюсь с Тобой!»
Она распределила между дочерью, слугами и друзьями свои фортепиано, арфу, два дорогих перстня, книги и мебель, бывшую у нее в темнице. Она вспомнила главные предметы своей страсти: «Прощай, солнце, чьи лучи вносили в мою душу такую же ясность, какую они вызывали на небесах! Прощайте, уединенные деревни на берегах Соны, вид которых так часто трогал меня, и вы, жители Тизи, чей пот я так часто вытирала, кому помогала в нищете и болезнях! Прощай, мирное жилище, где я старалась напитать ум познаниями, подчинить воображение науке, где я училась с презрением относиться к тщеславию! Прощай, дочь моя! Ты не ограждена от таких же испытаний, какие выпали мне! Прощай, дорогое дитя, которое я вскормила своею грудью и которое проникнется всеми моими чувствами!»
Образ ребенка заставил сжаться ее сердце. Госпожа Ролан отбросила яд и решила ждать смерти.
Ее перевезли в Консьержери. В течение немногих дней, проведенных там, она сумела возбудить среди многочисленных узников презрение к смерти, воодушевившее наиболее удрученных. Тень, бросаемая на нее эшафотом, казалось, увеличила ее красоту. Стоя на каменной скамье, ухватившись за железную решетку на окне, выходившем во двор, она нашла себе трибуну в тюрьме, а слушателей — среди своих товарищей по ожидавшей их смерти. Она вызывала у узников не слезы, но крики восторга. Ее слушали целыми часами, готовясь крикнуть: «Да здравствует республика!» Свободу не осуждали, ее боготворили даже в подземных темницах, вырытых во имя ее.
Допрос и процесс госпожи Ролан стали повторением всех обвинений жирондистов. Ее обвиняли в том, что она супруга Ролана и друг его сообщников. Она созналась в этих преступлениях, считая их славой для себя. Она с нежностью говорила о своем муже, с уважением — о своих друзьях, с гордой скромностью — о себе самой.
Госпожа Ролан бесстрастно выслушала свой приговор, встала, слегка поклонилась и с ироническим выражением на губах сказала судьям: «Благодарю вас, что вы сочли меня достойной разделить участь великих людей, которых вы казнили прежде меня». Она спустилась по лестнице Консьержери легкими шагами, напоминающими стремительность ребенка, бросающегося к цели, которой он хочет достигнуть. Проходя по коридору мимо узников, толпившихся там, чтобы увидеть ее, она посмотрела на них с улыбкой и, поднеся правую руку к шее, сделала жест, напомнивший нож, рубящий голову. Это было ее единственным прощанием, трагическим, как ее судьба, и радостным, как освобождение.
Несколько тележек, наполненных жертвами, везли в тот день свой груз к эшафоту. Ее заставили сесть в последнюю и занять место рядом с Ламаршем, слабым, больным стариком, бывшим директором фабрики ассигнаций. На ней было белое платье, символ невинности, в которой она хотела убедить людей. Лицо ее, побледневшее за время заключения, оживленное ноябрьским воздухом, приобрело свежесть юности. Глаза ее были полны эмоций. Толпа оскорбляла ее грубыми словами. «На гильотину! На гильотину!» — кричали женщины из толпы. «Я отправляюсь туда, — отвечала она им, — я буду там через минуту. Но те, кто посылают меня туда, последуют за мною. Я отправляюсь невинная, они явятся запятнанные кровью. А вы, рукоплещущие теперь, будете рукоплескать и тогда!» Старик Ламарш плакал. Она утешала его и уговаривала быть твердым. Ей удалось даже заставить его улыбнуться.
Колоссальная статуя Свободы из глины, хрупкая и недолговечная, как свобода того времени, возвышалась посреди площади. Эшафот был воздвигнут рядом со статуей. Госпожа Ролан сошла с тележки. В ту минуту, когда палач взял ее руки, чтобы помочь ей подняться на гильотину, ею овладело чувство самопожертвования, которое может пробудиться в подобный час только в сердце женщины. «Я хочу просить вас об одной милости, — сказала она, отстраняя руку палача, — окажите ее мне!» Затем она обернулась к старику. «Взойдите первый, — сказала она Ламаршу, — кровь моя, пролитая у вас на глазах, заставила бы вас дважды испытать смерть — вы не должны пасть духом, видя, как упадет моя голова». Палач согласился на это. Трогательная нежность, заставившая пожертвовать собою, чтобы избавить от лишней минуты агонии незнакомого старика, свидетельствует о самообладании в героизме смерти!
После казни Ламарша, на которую госпожа Ролан смотрела не побледнев, она легко взошла по ступеням эшафота и, наклонившись в сторону статуи Свободы, как бы для того, чтобы исповедаться ей, прежде чем умереть ради нее, воскликнула: «О, свобода! Свобода! Сколько преступлений совершается во имя твое!» — и отдала себя во власть палача.
Так умерла женщина, мечтавшая в пятнадцатилетием возрасте о революции, вдохнувшая в старика ненависть к трону, бывшая душою партии людей молодых и красноречивых, восхищавшихся античными теориями и опьяненных идеалом, неиссякаемым источником которого служили для них ее глаза и уста. Они были прикованы к ней ее сиянием. Партия мечтателей, они видели оракулом своих фантазий женщину. Она увлекла их, одного за другим, к смерти и сама последовала за ними. Душа Жиронды улетела вместе с последним ее вздохом.
Тело ее, кумир стольких сердец, было брошено в один из рвов Кламара.
Ролан, узнав о казни жены, в полном молчании вышел из дома, где ему оказывали гостеприимство в течение полугода. Он шел всю ночь, имея в виду только одну цель — удалиться как можно дальше от места, где нашел себе приют, чтобы скрыть свои следы и не погубить тех, кто его спас. Когда рассвело, небо и земля навели на него ужас. Он вынул кинжал, скрытый в трости, приложил его рукояткой к стволу яблони, росшей у большой дороги, и пронзил себе грудь. Утром пастухи нашли его тело. В записке, прикрепленной булавкой к одежде, было написано следующее: «Кто бы ты ни был, почти эти останки. Это останки честного человека. Узнав о смерти жены, я не хотел оставаться долее ни одного дня на земле, запятнанной преступлениями».
Он умер как Катон и как Сенека: как Катон — за свободу отечества, как Сенека — из-за любви к женщине. Если смерть есть величайший акт жизни, то этот человек, сначала заурядный, сделался в минуту смерти великим.
LII
Жирондисты-беглецы — Записки Робеспьера — Республиканский календарь — Основание религии Разума — Выкапывание смертных останков королей
Что делали в то время, когда умирали Ролан и его жена, их самые близкие друзья, бежавшие в Жиронду?
Комиссары Изабо и Тальен раньше них прибыли в Бордо. Они за несколько дней подавили федерализм, подняли предместья против города, посадили в тюрьму торгашей, отдали власть в руки народа, воздвигли гильотину, основали клуб и восстановили против жирондистов их собственное отечество. Взятие Лиона, гибель Тулона, казнь Верньо и его друзей заставили Жиронду по крайней мере внешне примкнуть к единству республики. Нигде так не боялись быть заподозренными в сношениях с бежавшими депутатами. Террор в Бордо был бдительней, чем где-либо. В каждой деревушке имелись свой Комитет общественного спасения, свое революционное войско, свои доносчики и палачи.
Приехав в Бек-д’Амбес, Гюаде расстался с товарищами, укрывшимися в доме его тестя. Убежище это было ненадежно. Гюаде поехал приготовить им более верное укрытие в Сен-Эмилионе, своем родном городе. Но тут он нашел надежный приют только для двоих, а их было семеро. Когда посланный привез это печальное сообщение в Бек-д’Амбес, он застал беглецов уже окруженных батальонами, присланными из Бордо, вооруженных несколькими револьверами: оружием, достаточным для того, чтобы отомстить за себя, но не для того, чтобы защищаться. Ночь помогла им бежать. Приверженцы Тальена, ворвавшиеся в их укрытие в Бек-д’Амбесе, написали в Конвент, что постели их найдены еще теплыми.
Отец Гюаде, семидесятидвухлетний старик, великодушно открыл им двери своего дома в Сен-Эмилионе. Прошло всего несколько часов, когда сообщили, что приближаются пятьдесят всадников. Тальен лично руководил действиями наиболее искусных шпионов бордосской полиции.
Жирондистские депутаты успели бежать в разные стороны. Тальен поручил отца Гюаде надзору двух вооруженных полицейских, конфисковал имущество сына и учредил клуб террористов в том самом городе, где жирондисты искали убежища против Террора.
Одна женщина отважилась спасти их. Это была невестка Гюаде, госпожа Буке.
Узнав об опасности, грозившей зятю и его друзьям, она поспешила приехать из Парижа, чтобы приютить у себя людей, большая часть из которых были ей неизвестны, зато некоторые очень дороги. Сострадание, эта слабая сторона женщины, становится силой в серьезных обстоятельствах. Гюаде, Барбару, Бюзо, Петион, Валади, Луве и Салль тайно пробрались ночью в подземелье, которое госпожа Буке приготовила для них. Оно выходило с одной стороны к колодцу в тридцать футов глубиной, а с другой примыкало к погребу дома. Никакой обыск не мог бы открыть вход в него. Великодушную хозяйку жирондистов беспокоил только страх, что арестуют ее саму: что станет с ее гостями, погребенными в подземелье, доступ куда известен только ей одной?
Когда поиски останавливались, госпожа Буке освобождала своих друзей из подземелья, сажала их за свой стол, давала дышать свежим воздухом, любоваться ночным небом. Она достала им бумаги и книг. Барбару начал писать мемуары, Бюзо — свое оправдательное слово. Луве писал рассказы тем же легким стилем, каким написаны его романы. Петион тоже писал, но в более серьезном духе. Тайна его популярности, так недостойно приобретенная, открывалась под его пером. Его записки, конечно, объяснили бы этого человека, ничтожного в дни могущества и великого в несчастье Двенадцатого ноября, в тот самый день, когда госпожа Ролан умерла в Париже, в Сен-Эмилионе распространился смутный слух о пребывании жирондистов у госпожи Буке. Пришлось разделиться на группы и искать новых убежищ. Разлука походила на предсмертное прощание. Валади один направился в Пиренеи. Там его ждала смерть. Барбару, Петион и Бюзо двинулись через поля к бордосским ландам в надежде, что следы их затеряются в этой пустыне. Гюаде, Салль и Луве провели ночь в каменоломне. Один из друзей Гюаде должен был явиться туда, когда стемнеет, чтобы проводить их за шесть лье в дом одной богатой женщины, которую Гюаде когда-то защищал в суде. У проводника не хватило мужества, и он не пришел. Гюаде и его друзья пошли одни, наудачу. Дойдя наконец в четыре часа утра, мокрые и продрогшие, до дверей своей клиентки, они стучат, Гюаде называет свое имя: ему отказывают. В отчаянии он возвращается к друзьям и застает Луве лежащим без чувств под деревом. Гюаде возвращается к дому и тщетно молит сначала о постели, затем просит обогреться и, наконец, дать стакан вина его умирающему другу. Неблагодарность оставляет мольбы без ответа. Гюаде снова возвращается. Благодаря стараниям друзей Луве согревается — и решается на отчаянный шаг.
Преследуемый образом подруги, которую он оставил в Париже, он решается взглянуть на нее еще раз. Он обнимает Салля и Гюаде, делится с ними деньгами, которые у него еще оставались, и один отправляется по дороге в Париж.
Гюаде, Салль, Петион, Барбару и Бюзо на следующую ночь снова собрались все вместе в Сен-Эмилионе, в доме бедного ремесленника. Там они узнали о трагической участи Верньо и его друзей и стоически сосчитали, сколько раз должна ударить гильотина, чтобы убить всех жирондистов. Но когда несколько дней спустя им сообщили о смерти госпожи Ролан, они упали духом. Бюзо вытащил нож, чтобы поразить себя. Друзья успокоили его и заставили дать клятву, что он будет жить ради той, которая так достойно встретила смерть. Бюзо с этого дня впал в меланхолию и безмолвие, которые прерывались только вздохами и отрывистыми восклицаниями.
Преданный Трокар, хозяин скрывавшихся в Сен-Эмилионе беглецов, успокаивал их, рассказывая о наступившем затишье. Но оно продолжалось недолго. Комиссары, присланные из Парижа, возбудили жажду мести, затихшую было в Жиронде. Большинство комиссаров оказались юными кордельерами и якобинцами из Парижа; еще безбородыми, но жадными до крови.
С приездом этих проконсулов снисхождению больше уже не оставалось места. Они послали из Бордо в Сен-Эмилион отряды революционного войска под предводительством сыщика по имени Марку, дрессировавшего собак для розыска федералистов. Таким образом республика подражала охоте на людей, какую испанцы вели в лесах Америки. Марку думал, что жирондисты скрываются в каменоломнях Сен-Эмилиона. Он явился туда неожиданно со своей свитой, наполнил дымом входы в некоторые пещеры, но собаки вернулись без добычи. Между тем другой сыщик, Фаверсо, проник со своими клевретами в дом отца Гюаде. Они тщетно шарили по всему дому и уже возвращались с пустыми руками, когда одному из жандармов показалось, что внутри толстых наружных стен дома кто-то разговаривает. Он зовет своих товарищей. Начинают исследовать стены, ударяя по ним прикладом ружья, прикладывают к стенам ухо. Раздается звук взведенного курка. Это Салль, видя, что убежище их открыто, заряжает пистолет. При этом звуке жандармы уговаривают беглецов сдаться. Стена рушится. Гюаде и Салль выходят оттуда. Их хватают, заковывают в цепи и с торжеством ведут в Бордо. Салль, которого приговорили быть казненным в тот же день, попросил только разрешения написать жене и детям.
«Шарлотта! — писал Салль. — Я сделал все, что считал для себя обязательным. Я думал, что у меня есть обязанности по отношению к тебе и моей родине; мне казалось, что народ околдованными глазами смотрел на чувства твоего несчастного супруга; мне казалось, что я должен жить, чтобы собрать все, что может служить памятником моим друзьям. Наконец, я должен был жить для тебя, для моей семьи, для моих детей. Небо решило иначе. Я умираю спокойным. Я не хотел отдаться живым. Однако у меня есть то преимущество, что я заранее выпил всю горечь из этой чаши и минута смерти не будет слишком тяжела. Шарлотта, победи свое горе и внушай нашим детям стремление к скромным добродетелям.
Друг мой! Я оставляю тебя в нищете, и мне это грустно! Однако, Шарлотта, пусть эта мысль не приводит тебя в отчаяние. Трудись, друг мой. Научи и детей трудиться, когда они подрастут. О, дорогая моя! Если бы ты смогла не обращаться к чужим людям за помощью! Будь, если возможно, так же горда, как и я. Надейся еще, надейся на Того, Который может все: Он мой утешитель в последнюю минуту. Человеческий род давно уже признал Его существование, и я чувствую слишком большую потребность быть уверенным, что где-либо должен существовать полный порядок. Он велик, справедлив и добр — этот Бог, пред судом Которого я скоро предстану. Я несу к Нему сердце, хоть и не свободное от слабости, но не запятнанное преступлением. „Кто почивает в лоне Отца, не должен беспокоиться о пробуждении“, — прекрасно сказал Руссо.
Поцелуй детей, люби их, воспитывай, утешься сама, утешь мою мать, мою семью! Прощай, прощай навеки! Твой друг».
«Кто ты такой?» — спросили Гюаде. «Я Гюаде. Палач, делайте свое дело. Идите с моей головой в руке требовать себе вознаграждения у тиранов. Они никогда не могли смотреть на нее, не бледнея; взглянув на нее теперь, они еще раз побледнеют!»
Барбару, Петион и Бюзо узнали в Сен-Эмилионе об аресте и казни своих товарищей. Земля, разверстая повсюду вокруг них, грозила поглотить их. Ночью они вышли из своего убежища, унеся с собой только одну краюху хлеба, куда предусмотрительный хозяин вложил кусок холодного мяса; у них в карманах оставалось несколько пригоршней зеленого горошка. Продолжительное бездействие в убежищах обессилило их.
На рассвете трое друзей находились неподалеку от селения Шатильон. Был день деревенского праздника. Флейтист и барабанщик созывали жителей деревни на пир и танцы. Волонтеры с ружьями с песнями проходили по дороге. Беглецы, которые думали только о своем положении, вообразили, что бьют тревогу и ищут их по полям. Они остановились у забора и некоторое время что-то обдумывали. Пастухи, издали наблюдавшие за ними, увидели, как внезапно вспыхнул порох, затем раздался выстрел и один из трех людей упал лицом на землю, а двое других побежали со всех ног и исчезли за опушкой леса.
Волонтеры примчались на шум и увидели плававшего в собственной крови молодого человека высокого роста, с благородным лицом, взор которого еще не угас. Он раздробил себе челюсть выстрелом из пистолета. Рана лишала его возможности говорить, и он мог объясняться только знаками. Его перенесли в Шатильон. Белье его было помечено буквами R и В. Когда его спросили, не Бюзо ли он, раненый отрицательно покачал головой; на вопрос: «Так ты Барбару?» — он сделал утвердительный знак. Его повезли в Бордо в тележке, причем кровь его всю дорогу капала на мостовую.
Никто не знал, какая участь постигла двух оставшихся беглецов, пока жнецы не обнаружили неделю спустя разбросанные там и сям на хлебном поле и по окраине леса клочки шляп, башмаков и несколько лоскутов одежды, покрывавших две кучи человеческих костей, растерзанных волками. Эти лоскутки платья, башмаки и кости принадлежали Петиону и Бюзо.
Партия Жиронды исчезла вместе с этими двумя последними трибунами. Они предоставили времени разгадывать тайну своей популярности. Один, которого называли Король Петион, и другой, которого называли, тоже в насмешку, Король Бюзо, явились из Парижа и Кана в поля Жиронды, чтобы умереть там. Земля федерализма поглотила людей, виновных в том, что они позволили себе мечты против единства страны! Какой еще другой суд может быть нужен? Разве можно судить кучу костей, обглоданных дикими зверями? Нет, о них жалеют, их погребают, и на этом всё.
Барнав узнал о своем преступлении из обвинительного акта. Его арестовали ночью в его деревенском домике в Сен-Робере в окрестностях Гренобля.
В продолжение десяти месяцев Барнав томился в крепости Барро, в холодной альпийской местности на границе Франции с Савойей. На окнах его не было решеток, и, когда стража погружалась в сон, он мог бы бежать, но не хотел этого. «Никому неведомый я бы мог скрыться, — рассуждал он, — но, будучи известен и ответственен за великие деяния республики, я должен защищать свои убеждения собственной головой, а свою честь — кровью».
Когда Барнав приехал в Париж, Комитет общественного спасения заявил, что имеет против него подозрения. Вернувшийся Дантон обещал матери Барнава и его сестре спасти его. Они последовали за Барнавом как две челобитчицы, уцепившиеся за колеса кареты, которая привезла его в Париж. Но Дантон не осмелился исполнить того, что обещал. Единственная милость, которую получил Барнав, было разрешение обнять мать и сестру перед смертью. Он защищался на суде с необычайным присутствием духа и красноречием. Но там, где еще недавно говорил Верньо, какое действие могла произвести холодная, рассудочная речь Барнава? Он вернулся в тюрьму осужденный. Бальо, его сотоварищ по Учредительному собранию, пришел утешить его в последние часы его жизни. Барнав жаловался, что в расчет его палачей входит лишить его пищи.
Дюпора-Дютертра, бывшего министра юстиции, судили вместе с Барнавом и также приговорили к казни. Дюпор выказал на позорной колеснице более твердости, чем его товарищ. Видели, как он несколько раз наклонялся к нему, стараясь поддержать в нем мужество. Поза Барнава указывала на болезненность тела, на душу, созданную скорее для трибуны, нежели для эшафота. Народ, казалось, задумался над чудовищными превратностями популярности. Он не оскорбил оратора. Он дал ему умереть.
Оставался Байи.
По-видимому, народ хотел отомстить ему оскорблениями за то уважение, которым окружал некогда мэра Парижа. Народы часто прибегают к такого рода мщению.
Это был гражданский Лафайет: один из тех людей, которых новые веяния толкают вперед, чтобы приобрести доверие толпы. Имя Байи стало вывеской на фронтоне революции, а время его правления — рядом побед народа над двором. Один день погубил популярность этой прекрасной жизни. Это был день, когда жирондисты вместе с якобинцами подняли мятеж на Марсовом поле. Байи, посоветовавшись с Лафайетом, двинулся во главе вооруженной буржуазии против бунтовщиков. Пролив эту кровь, Байи почувствовал раскаяние. Он отказался от власти, передав ее Петиону, и два года провел в уединении в окрестностях Нанта.
Скоро, однако, он почувствовал усталость от своего покоя и вернулся в Париж. Узнанный народом, он был с трудом вырван из рук озверевшей толпы, брошен в Консьержери и отправлен в суд. Казнь его стала продолжительным убийством. С обнаженной головой, остриженный, с руками, связанными за спиной, в одной рубашке в леденящий холод он медленно проехал по кварталам столицы. Чернь Парижа, которую он сдерживал во время своей работы, хлынула потоком под колеса везущей его тележки. Даже палачи, вознегодовавшие на такую жестокость, упрекали народ. Одна шайка потребовала, чтобы гильотина, обыкновенно находившаяся на площади Согласия, в этот день была воздвигнута на Марсовом поле — их требование удовлетворили. Люди, выдававшие себя за родственников и друзей павших на Марсовом поле, несли в качестве насмешки красное знамя на шесте. Время от времени они обмакивали его в потоки грязи и хлестали им по лицу Байи. Кто-то плевал в него. Запятнанное кровью и грязью, лицо его потеряло человеческий облик. Смехом и рукоплесканиями толпа одобряла этот ужас.
Когда приезжают на место казни, люди эти достигают в своей ярости апогея: они заставляют Байи сойти с тележки, пешком обойти все Марсово поле и вылизать языком землю, где была пролита кровь народа. Однако и это искупление не удовлетворяет их. Гильотину воздвигли в центре Марсова поля, но земля федерации кажется народу слишком священной, чтобы запятнать ее казнью. Палачам приказывают разобрать эшафот и перенести на берег Сены, на кучу нечистот, свезенных из живодерен. Палачи вынуждены повиноваться. Орудие казни разобрано. Из подражания крестному ходу Спасителя, эти чудовища взваливают на плечи старика Байи тяжелые дубовые доски, составляющие помост гильотины. Удары их заставляют осужденного тащиться под этой тяжестью, падая и опять вставая. Затем, на протяжении часа его заставляют присутствовать при постройке нового эшафота.
Дождь со снегом падает ему на голову, он дрожит всем телом. Но душа его тверда. Бесстрастный ум смотрит выше этой толпы. Байи спокойно беседует с окружающими. Один из них, видя, что он вздрагивает, задает вопрос: «Ты дрожишь, Байи?» — «Да, друг мой, — отвечает старик, — но только от холода».
Наконец топор положил конец этим мучениям. Они длились пять часов.
Вечером, выслушав рассказ об этой смерти, Робеспьер пожалел о Байи. «Таким образом, — воскликнул он во время ужина у Дюпле, — они предадут казни и нас!»
Топор уже рубил без разбора. Куртизанка умирала рядом с ученым. Народ рукоплескал всем одинаково.
Госпожа Дюбарри, любовница Людовика XV, умерла немногим позже Байи. Эта женщина начала еще ребенком торговать своими прелестями. Ее обворожительная красота привлекла к ней взоры поставщиков короля. Они вырвали ее из трущоб, чтобы выставить на позор, как порок коронованной особы. Мадемуазель Ланж-Вобернье, получившая титул графини Дюбарри, сделалась преемницей госпожи де Помпадур. Людовику XV необходима была примесь скандала, чтобы придать остроты своему испорченному вкусу. Он любил унижаться, как другие любят возвышаться. Единственное уважение, которого он требовал от двора, было уважением его пороков. Госпожа Дюбарри царствовала от его имени. Народ, надо в этом сознаться, постыдно склонился перед нею. Дворянство, министры, духовенство, философы — все курили фимиам идолу короля.
Оставшаяся еще молодой после смерти Людовика XV, госпожа Дюбарри на несколько месяцев из приличия ушла в монастырь. Освобожденная вскоре из затворничества, она поселилась в роскошном имении Лувесьен в предместье Парижа, около лесов Сен-Жермен. Огромное богатство делало ее изгнание почти столь же блестящим, как и время ее царствования.
После 10 августа она уехала в Англию. В Лондоне она носила траур по Людовику XVI и жертвовала огромные средства, чтобы облегчить несчастья эмигрантов. Но большая часть ее сокровищ была тайно зарыта ею и герцогом Бризаком в Лувесьенском парке. Госпожа Дюбарри вернулась во Францию, чтобы вырыть свои бриллианты.
На время своего отсутствия она поручила надзор и управление Лувесьеном молодому негру по имени Замор. Из женского каприза она воспитала этого юношу, как воспитывают домашних животных. Она заказывала свои портреты рядом с этим чернокожим, чтобы походить на венецианских куртизанок Тициана. Замор был неблагодарен и жесток. Неблагодарность казалась ему добродетелью угнетенных. Он заразился горячкой толпы, выдал ее сокровища и предал ее революционному комитету в Лувесьене, членом которого состоял.
Судимая и единогласно приговоренная, она шла на смерть среди гиканья толпы. Она была еще во всем величии красоты. Локоны ее, не обрезанные спереди, развевались и закрывали глаза и щеки. Она отбрасывала их назад движением головы, чтобы лицо ее смягчило народ. «Жизни, жизни! — кричала она. — Жизнь за мое раскаяние! Жизнь за мою преданность республике! Жизнь за мое богатство, которое я отдаю нации!»
Генерал Бирон, известный при дворе под именем герцога Лозена, умер в одно время с нею, но как подобает солдату.
В молодости герцог был крайне легкомыслен. Его положение, ум и приятное обращение придавали блеск даже его недостаткам. Скандалы только увеличивали его славу. Он старался распространить слухи, что был любим королевой. Промотав состояние в юные годы, герцог искал славы в войне. Он последовал за Лафайетом в Америку и увлекся свободой не из гражданской доблести, но вследствие моды. Будучи другом герцога Орлеанского, он принял участие в его заговорах. Партии прощают все тем, кто служит им, и герцог после благосклонности двора искал благосклонности народа. Он весело отдавал республике свое имя, свою шпагу, свою кровь. Солдаты обожали его, вышедшие из разночинцев генералы завидовали его влиянию. Когда в Вандее начались разногласия между ним и якобинским генералом Россиньолем, Бирона принесли в жертву.
Привезенный в Париж, он вошел в свою тюрьму так, будто это была его палатка накануне сражения. Он хотел до самого конца наслаждаться единственным удовольствием, которое у него осталось: удовольствием иметь хороший стол. За отсутствием других собеседников, он приглашал к столу тюремщиков и стражников; приказывал приносить себе устриц и белого вина. Пил он очень много. Когда за ним явились помощники палача, он сказал им: «Для того чтобы исполнить то дело, которому вы служите, вам нужны силы: выпейте со мною!»
Народ рукоплескал ему при последних минутах, потому что, бросая вызов рефлексии, он бросал вызов и самой казни. Генерал Бирон умер так, как хотел жить: храбро, гордо и под аплодисменты.
Наступил последний день 1793 года. Другие должны были умереть на следующий день, 1 января. Смерть не справлялась с календарем. Годы сливались, подобно рекам крови, которая не переставала течь.
Гильотина, по-видимому, стала единственным учреждением во Франции. Дантон и Сен-Жюст объявили, что конституция прекратила свое существование. Правосудие или подозревало, или мстило. Жизнь любого человека зависела от доноса. Конвент ни на минуту не мог перестать наносить удары, иначе сам был бы уничтожен. Франция, расстреливаемая в Тулоне, громимая картечью в Лионе, гильотинируемая в Париже, сидящая в тюрьмах, подвергаемая доносам и лишению имуществ, походила на страну, разоряемую одним из тех великих нашествий народов, которые после падения Римской империи уничтожали старую цивилизацию и несли с собой в Европу новых богов, новых властителей и новые законы. Ярость идей более неутолима, чем ярость людей, потому что у людей есть сердца, а идеи таковыми не обладают. Подобно ядрам на поле битвы, они убивают без разбора, уничтожая цель, которую им намечают. Ничто не может быть прекраснее новой идеи, загоревшейся на горизонте человеческого разума; и ничто не может быть ужаснее вида того, как она мучает своих врагов.
В эпоху всех этих казней партия Законодательного собрания пыталась время от времени излагать великие принципы и великие нововведения — подобно оракулам, под шум грозы. Робеспьер, властвовавший в Комитете общественного спасения, намечал в неопределенных чертах порядок правления, в обнародованных впоследствии записках рисовал справедливость, равенство и свободу, которых, как он думал, уже достигли. Как и во всем, что он говорил, делал или писал, в них чувствуется более философ, чем политик.
«Необходимо, чтобы власть была едина, — говорится в одной из этих заметок. — Необходимо, чтобы эта власть являлась либо республиканской, либо королевской. Для того чтобы она была республиканской, необходимы министры-республиканцы, республиканские газеты, депутаты-республиканцы, республиканское правление. Внутренние опасности происходят от буржуа. Чтобы восторжествовать над буржуазией, необходимо сплотить народ. Народ должен иметь доступ в Конвент, а Конвент — пользоваться услугами народа. Во внешней политике необходимо вступить в союз с незначительными державами. Но всякая дипломатия будет бессильна, пока у нас не будет единства власти».
После средств намечается цель: «Приведение в исполнение конституции, благоприятной для народа. Кто будут наши враги? Люди богатые и порочные. Какими средствами будут они пользоваться? Притворством и клеветой. Что необходимо сделать? Просветить народ. Когда же народ будет просвещен? Когда у него будет хлеб и когда богатые люди и правительство перестанут подкупать лживые перья и языки, чтобы обманывать его; когда благополучие богатых и самого правительства будет построено на народном благе. Когда же их благополучие будет построено на благополучии народа? Никогда!»
В ту минуту, когда это ужасное слово вырвалось у Робеспьера в конце диалога с самим собой, перо перестало писать. Сомнение или отчаяние продиктовало это последнее слово. Чувствуешь, что в душе, не желающей отказаться от надежд, это слово должно означать: «Надо силой заставить идти под знамя справедливости и равенства всех тех, чьи интересы не тождественны интересам народа». Логическая необходимость террора вытекала из этого слова. Оно буквально сочилось кровью.
На всех заседаниях Конвента и якобинцев в течение ноября и декабря 1793 года произносилось множество речей и издавались декреты, в которых чувствовался дух народного правления. Личные интересы, казалось, преклонились перед принципом преданности отчизне. Конвент на этих заседаниях как будто написал главу евангельской конституции будущего. Налоги распределены сообразно имуществам. Бедняки священны. Немощным назначили пособие. Безродные дети и сироты усыновлены республикой. Преследуемое законом материнство возвышено из того позора, которое заставляло убивать ребенка, бесчестя мать. Объявлена свобода совести. Всеобщая нравственность принята за основу законов.
Невольно спрашиваешь себя: откуда это противоречие между социальными законами Конвента и его политическими мерами? Между этим милосердием и этой жестокостью? Между человеколюбием и потоками крови? Дело в том, что социальные законы Конвента исходили из его догматов, а политические действия — из его гнева. Одни были его принципами, другие — его страстями.
Гордый новой эрой, которую он возвестил миру, Конвент хотел, чтобы Французская республика сделалась одним из таких событий, которыми знаменуется поворот в истории человеческого рода. Он установил республиканский календарь, чтобы всегда напоминать людям, что они сделались действительно людьми только с того дня, когда сами провозгласили себя свободными. Конвент поступил так еще для того, чтобы, переменив названия месяцев и дней, из которых образуется время, уничтожить самые следы религии. Он поступил так, чтобы, разделив дни на декады, не смешивать больше начальный день периода с днем, предназначенным католицизмом исключительно для молитвы и покоя.
В этой системе названия дней соответствовали месту, занимаемому ими в цифровом порядке республиканской декады. Названия эти были взяты из латинского: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, decadi. Значение их, чисто цифровое, позволяло вызывать числа в памяти, но — вместе с тем — не давало пищи воображению. Только одни образы окрашивают имена в памяти народной.
Названия месяцев, наоборот, заимствованные из особенностей времен года и земледельческих работ, были многозначительны, как картины, и звучны, как отголоски деревенской жизни. Это были, для осени: вандемьер, знаменующий сбор винограда; брюмер, омрачающий небо; фример, покрывающий изморозью горы. Для зимы: нивоз, облекающий белой пеленой снега нивы; плювиоз, орошающий дождем; вантоз, распускающий ветры. Для весны: жерминаль, заставляющий прорастать семена, флореаль, покрывающий цветами растения, прериаль, скашивающий луга. Наконец, для лета: мессидор, собирающий жатву; термидор, согревающий борозды, и фрюктидор, дарящий плоды.
Итак, все было согласовано с земледелием, первым и последним из искусств. Все сводилось к одной только природе. То же происходило и в администрации, финансах, уголовном законодательстве, гражданском и сельском кодексах. Специально избранные люди в Конвенте составили проекты этих законов на основании философии, науки и равенства, основаниях, положенных Учредительным собранием. Эти идеи, которыми воспользовался впоследствии организаторский деспотизм Наполеона и которым он дал только свое имя, были задуманы, обработаны и опубликованы Конвентом. Наполеон присвоил себе его славу. История не может санкционировать подобные кражи. Она обязана воздать должное республике. Плоды философии и свободы никогда не будут принадлежать деспотизму. Люди, которых Наполеон призвал в совет, чтобы подготовить свои кадры, разные Камбасересы, Сийесы, Карно, Тибо и Мерлены — все вышли из комитетов.
Между тем как Комитет общественного спасения боролся на границах, подавлял гражданскую войну и составлял человечные и нравственные законы, Париж и департаменты представляли собой вакханалию свободы. Безумие и ярость овладели народом. Опьянение истиной ужаснее, чем опьянение заблуждением, потому что оно продолжительнее и оскверняет самое святое.
Из трех учреждений, которые революция хотела ограничить или уничтожить — трон, дворянство и религия, — оставалась не сокрушенной до конца только религия, потому что она покоилась в глубинах совести и сливалась с мыслью и невозможно было преследовать ее и там. Духовенство, превращенное в гражданское учреждение, клятва, потребованная от священников и объявленная Римом схизмой, отречение от этой клятвы, исполненное множеством священников, чтобы остаться верными католическому центру, изгнание их из приходов и церквей, водворение национального и республиканского духовенства на их место, преследование их, противящихся закону, чтобы не изменить вере, заключение, изгнание на кораблях в Рошфор — все это насилие уничтожило прежнюю религию в республике. Колеблющаяся конституционная религия являлась не более чем игрушкой, которую Конвент оставил деревенскому люду, чтобы не сразу нарушить его привычки. Но нетерпеливые философы Конвента возмущались этим призраком религии, пережившим в глазах народа самую религию.
«Народ, — рассуждали они, — больше никогда не вернется в храмы, которые он разрушил собственными руками. Он никогда не преклонит колена перед алтарями, которые осквернил, никогда уже не будет поклоняться иконам, которые топтал ногами. Народное святотатство встанет между ним и прежним его Богом». Остаток католицизма, публично проповедующего в храмах, докучал главарям Коммуны. Они требовали у священников открытого вероотступничества и нередко добивались этого. Некоторые духовные лица всходили на кафедру, чтобы заявить, что были до сих пор обманщиками. Рукоплескания встречали этих изменников алтарю. Обряды, бывшие недавно священными, изображали в смешном виде: на быка или на осла надевали священнические облачения и, водя их в таком виде по улицам, поили вином из причастных чаш. На дверях мест погребения надписывали: «Вечный сон». Клубы водворялись в храмах. За несколько месяцев соборы, церкви, монастыри, колокольни, священнические облачения и самые священнослужители и обряды исчезли почти всюду.
Представители власти сами удивлялись в письмах к Конвенту той легкости, с которой был сокрушен весь строй старинных учреждений. Философы Коммуны решили в середине ноября ускорить этот процесс в Париже. Они знали, что если народ и быстро отказывается от духа своей веры, то гораздо труднее отвыкает от зрелищ и обрядов. Они захотели завладеть его храмами, чтобы дать ему новую веру, нечто вроде видоизмененного язычества. Законы Конвента, продолжавшего содержать на жалованье представителей национальной религии, противились насильственному вторжению этой философской религии Шометта в церкви Парижа. Следовало заставить «очистить» эти памятники посредством добровольного отречения конституционного епископа и его духовенства.
Епископ Гобель был человеком слабохарактерным, но искренне верующим. Его отчасти запугали, отчасти уговорили с помощью обещаний: заверили, что сложение с себя сана не принудит его отказаться от священнического звания, что это не более чем сложение с себя своих обязанностей и что, отказавшись от епископства, он свободно будет частным образом отправлять обязанности своей религии. Шометт, Эбер, Моморо, Анахарсис Клоотс и Бурдон из Уазы приставали к старику до тех пор, пока не добились от него согласия на их требования. Этот поступок Гобеля был назван вероотступничеством. Достоверные сведения свидетельствуют о заблуждении историков на этот счет.
Гобель отправился на заседание Конвента в сопровождении своих викариев. Моморо представил их и обратился к Собранию от имени Коммуны: «Вы видите перед собою людей, сбросивших с себя дух суеверия. Этот великий пример найдет себе подражателей. Скоро в республике не останется другой религии, кроме религии свободы и равенства — религии, которая вытекает из природы и обратится во всемирную». Вследствие слов Моморо положение Гобеля сделалось ложным, епископская совесть его была затронута; он задрожал, но не решился возразить.
«Граждане, — сказал он, читая заранее составленное отречение, — так как я родился плебеем, то в моей душе рано зародились принципы равенства. Призванный в Национальное собрание, я один из первых признал верховную власть народа. Воля его призвала меня на епископскую кафедру в Париже. Теперь, когда воля народа не допускает иной общественной и национальной религии, кроме религии святой свободы, я отказываюсь от исполнения своих обязанностей священнослужителя католического вероисповедания».
Викарии также подписались под этим отречением. Несколько отречений, устных и письменных, в этом же роде последовали вслед за отречением парижского духовенства. Робер Тома Ленде, епископ Эврё, отрекся в других выражениях: «Нравственное учение, которое я проповедовал, — одно и то же во все времена. Дело Божие не должно вызывать вражды между людьми. Каждый гражданин должен смотреть на себя как на священника своей семьи. Однако уничтожение общественных праздников проделает огромную брешь в привычках нашего народа: замените эти праздники праздниками национальными, служащими переходной ступенью от царства суеверия к царству разума».
Собрание рукоплескало так же, как и в ночь на 4 августа, когда дворянство отказалось от своих сословных привилегий. Среди этих рукоплесканий Грегуар, конституционный епископ Блуа, входит в зал и осведомляется о причине рукоплесканий. Его заставляют следовать примеру его собратьев. «Граждане, — говорит он, — у меня крайне смутные сведения относительно того, что здесь происходит. Мне говорят о жертвах отечеству? Я привык к ним. О приверженности к республике? Доказательства даны мною. О доходах, связанных с должностью епископа? Я отказываюсь от них без сожаления. Касается ли дело религии? Этот вопрос вне вашей компетенции, вы не имеете права затрагивать его. Будучи католиком по убеждению и чувству, священником — по влечению, избранный в епископы народом, я получил свою власть не от него и не от вас. Меня заставили принять бремя епископства. Теперь же меня мучают, чтобы вырвать у меня отречение, которого не добьются. Поступая по священным принципам, которые мне дороги и от которых вы не заставите меня отречься, я старался творить добро среди моей паствы; я остаюсь епископом, чтобы продолжать поступать в том же духе. Я требую свободы вероисповеданий!»
Ропот и улыбки встретили этот мужественный поступок. Грегуара обвинили в том, что он хотел обратить свободу в христианство. Шиканье трибун проводило его до скамьи. Однако уважение людей, философия которых восходила к Богу, вознаградило его за это презрение. Робеспьер и Дантон выказали свое одобрение. Они втайне возмущались насилием партии Эбера над совестью. Но течение было слишком сильно, чтобы остановить его в эту минуту.
Сийес нарушил молчание. Философ во все эпохи своей жизни, он получил разрешение проповедовать свою философию в дни своего торжества так же, как проповедовал ее до своей победы над католицизмом. «Граждане, — сказал он, — я давно призывал в своих мечтах торжество разума над суеверием и фанатизмом. Этот день настал, и я радуюсь ему, как самому великому благодеянию республики. Я жил как жертва суеверия, но никогда не был его апостолом и орудием. Я страдал от заблуждений других, но никто не страдал от собственных. Многие обязаны мне тем, что глаза их прозрели. Если меня удерживали священнические цепи, то та же самая сила сдавливала свободные души в королевских оковах. В день революции они все упали. Я не могу представить вам грамот на священство: давным-давно я их уничтожил. Но я отказываюсь от вознаграждения, которое мне назначили взамен моих доходов от исполнения обязанностей священника».
Шометт потребовал от Комитета народного просвещения, чтобы в новом календаре отвели место для празднования дня торжества разума. Председатель обнял парижского епископа. Священники, составлявшие его свиту, в красных колпаках, с триумфом вышли из зала и разошлись в разные стороны по Тюильри под гром рукоплесканий толпы.
Шометт, Эбер и их сторонники, начиная с этого дня, все более и более поощряли осквернение и опустошение храмов, заключение в темницу и мученичество священников, предпочитавших смерть вероотступничеству. Партия Коммуны хотела с корнем вырвать все, что могло напомнить религию. Колокола, этот звучный язык христианских храмов, были перелиты в монету или в пушки. Депутат Руль разбил на площади в Реймсе склянку с миром, которая, как гласила древняя легенда, была принесена с неба, чтобы помазывать королей. Директории департаментов запрещали учителям произносить самое имя «Бог» во время занятий с крестьянскими детьми. Андре Дюмон, посланный с полномочиями в департаменты Севера, писал Конвенту: «Я арестую священников, которые позволяют себе справлять праздники и воскресенья. Я уничтожаю кресты и распятия. Я в восторге. Повсюду запирают церкви, сжигают изображения святых, из богослужебных книг делают пыжи для орудий».
В Вандее преследовали даже торговцев воском, поставлявших свечи для религиозных обрядов. В Нанте на кострах, сложенных на площади, сжигались статуи святых, образа, священные книги. Депутации патриотов являлись на каждое заседание Конвента и приносили ему имущество, награбленное с алтарей. Жители соседних с Парижем городов и деревень целыми процессиями привозили в Конвент на тележках реликвии, митры, чаши, дароносицы из своих церквей. Знамена, водруженные на грудах этих предметов, сваленных в беспорядке, содержали одни и те же слова: «Обломки фанатизма».
Коммуна хотела заменить религиозные церемонии другими зрелищами. Народ сбегался на них, как на всякую новинку. Осквернение священных мест, насмешка над церковными обрядами привлекали толпу на эти торжества. Но этим празднествам недоставало искренности, в этих церемониях не видно было души. Религии не рождаются на площадях. Религия Шометта и Коммуны оставалась только народным лицедейством, перенесенным с театральных подмостков в скинию.
Объявление этой религии господствующей произошло в Конвенте 9 ноября. Шометт, в сопровождении членов Коммуны и огромной толпы, вошел в зал под звуки музыки и пение патриотических гимнов. Он вел за руку одну из самых красивых куртизанок Парижа. Группа проституток шла за нею. Их окружала свита из мятежников. Эта нечестивая шайка смущенно разошлась по залу и заняла депутатские скамьи. Председательствовал Лекиньо. Шометт приподнял вуаль с лица куртизанки, и она явилась глазам присутствовавших во всем блеске своей красоты. «Смертные, — воскликнул он, — не признавайте отныне другой истины кроме разума; я представляю вам самое прекрасное и самое чистое изображение его». При этих словах Шометт склоняется перед куртизанкой. Президент, Конвент, народ повторяют его жесты поклонения. Постановлено устроить празднество в честь Разума в кафедральном соборе Парижа. Это постановление приветствовали пением и плясками. Робеспьер, сидевший рядом с Сен-Жюстом, бросил взгляд на беспорядок, царивший в зале, взял бумаги и начал совещаться с соседом. Уничижение революции казалось ему самым большим из преступлений. В ту минуту, когда оргия стала вызывать больше всего рукоплесканий, он встал и с плохо сдерживаемым негодованием удалился из зала вместе с тем же Сен-Жюстом. Уход этот смутил Шометта. Президент закрыл заседание и восстановил благопристойность в храме законов.
Двадцатого декабря, в день, назначенный для провозглашения новой религии, Коммуна, Конвент и парижские власти в полном составе отправились в собор. Шометт вместе с Лаисом, актером из Оперы, составили план празднества. Мадемуазель Майяр, некогда фаворитка королевы, обожаемая публикой, была вынуждена разыгрывать роль народного божества. Перед ней шли женщины в белой одежде с трехцветными кушаками. Жрица, обутая в театральные котурны, с украшенными фригийским колпаком волосами, едва прикрытая голубой туникой, была принесена под звуки музыки к подножию алтаря. Огромный факел позади нее обозначал светильник философии. Актриса зажгла этот факел. Разбитая статуя Пресвятой Девы лежала у ее ног. Шометт обратился к этому мрамору с повелением не занимать прежнего места в почитании народа. Вынужденный присутствовать на этом празднестве, епископ Гобель стоял на одной из кафедр и, плача, смотрел на издевательство над таинствами, которые три дня назад он совершал на этом самом месте…
Вслед за провозглашением аллегорической религии Шометта началось разграбление алтарей и реликвий. На Гревской площади, служившей местом казней, сожгли останки святой Женевьевы, покровительницы Парижа; прах развеяли по ветру. Топор уничтожил бронзовые двери в базилике Сен-Дени — дар Карла Великого. Решетки, крыши, статуи — все было сокрушено молотом. Поднимали каменные плиты, взламывали склепы, вскрывали гробы. Насмешливое любопытство разглядывало под покровами и саванами тела королей и королев, принцев, министров, епископов, имена которых гремели в минувшие века по всей Франции. Пипин, родоначальник Каролингов и отец Карла Великого, представлял собой щепотку сероватого пепла, которую разнес ветер. Отрубленные головы Тюренна, Дюгесклена, Людовика XII, Франциска I валялись на паперти. Топтали кучи корон и святительских посохов.
Генрих IV, набальзамированный по всем правилам итальянского искусства, сохранил свой облик. На раскрытой груди его виднелись две раны, ставшие причиной смерти. Его борода, в виде веера спускавшаяся на грудь, свидетельствовала о той заботе, с которой этот сластолюбивый король относился к своей внешности. Память о нем, дорогая народу, оставалась ему некоторое время защитой против оскорблений: в течение двух дней толпа молча проходила мимо этого трупа, еще пользовавшегося популярностью. Положенный на хорах у подножия алтаря, он, мертвый, принимал выражения почтительного благоговения оскорбителей королевской власти. Но Жавог, народный депутат, возмутился этим суеверием. Он старался доказать народу, выступив с короткой речью, что этот король, храбрый и влюбчивый, скорее был развратителем, нежели благодетелем своего народа. «Он обманывал, — сказал Жавог, — Бога, своих любовниц и свой народ; пусть же он не обманывает потомство и ваше правосудие!»
Труп Генриха IV бросили в яму на кладбище Валуа, заполненную негашеной известью.
Его сыновья и внуки, Людовик XIII и Людовик XIV, последовали за ним. Людовик XIII обратился в мумию; Людовик XIV представлял собой бесформенную черную массу. Людовика XV последним вынули из могилы. Смрад его царствования, казалось, вырвался из его гроба. Вынуждены были сжечь большое количество пороха, чтобы уничтожить удушливый запах, распространившийся от трупа этого короля, полная скандалов жизнь которого унизила королевскую власть.
В гробнице Карла V нашли рядом с его телом золотую корону, а в гробу его жены Жанны Бурбонской — прялку и обручальные кольца.
Могила Валуа оказалась пуста. Справедливая ненависть народа тщетно искала там Людовика X. Этот король приказал похоронить себя в алтаре во имя Пресвятой Девы, которую он так часто призывал даже для того, чтобы стать свидетельницей его преступлений.
Тело Тюренна, изувеченное ядром, народ пощадил. Его избавили от поругания. И в течение девяти лет хранили на чердаках естественно-исторического кабинета, среди чучел животных. Этот герой был погребен в усыпальнице воинов, в Доме инвалидов, таких же солдат, как и он. Но Дюгесклен, Вандом, герои, аббаты, министры монархии, оказались брошены без разбора в землю, смешавшую память о славе с воспоминаниями о рабстве.
Дагобер I и его жена Нантильда покоились в одном и том же гробу в течение двенадцати веков. У скелета Нантильды не хватало головы, так же, как у скелетов многих королев. Король Иоанн завершил собой эту мрачную процессию мертвецов. Гробницы опустели. Обратили внимание, что недостает одного трупа: юной принцессы, дочери Людовика XV, бежавшей в монастырь от скандалов трона и умершей кармелиткой. Месть революции отправилась искать тело девушки в гробницах монастыря, куда она бежала от величия. Тело принесли в Сен-Дени, где подвергли его позору поругания и выбросили на живодерню. Ничьи останки не были пощажены. Ничто королевское не было сочтено невинным. Этот грубый инстинкт открывал в революции желание стереть из памяти долгое прошлое Франции. Она хотела бы уничтожить все страницы своей истории, чтобы все начиналось с республики.
LIII
Каррье и Ламберти — «Республиканские судьбы» — Лебон в Аррасе — Тальен в Бордо — Госпожа де Фонтеней — Робеспьер-младший в Везуле
Не один Париж стал жертвой подобных неистовств. Агенты Коммуны разбрелись по всей Франции. Каррье в Нанте старался превзойти по числу и жестокости казней Колло д’Эрбуа в Лионе. Переход Луары вандейцами, восстание дворян, духовенства и крестьян, мнимое соучастие жителей Нанта дали Каррье предлог производить экзекуции над всем населением.
Во все исторические эпохи встречались подобные кровожадные люди то на престоле, то среди народа и даже среди высшего духовенства. Родившийся в деревне, переселившийся в Орильяк на службу в конторе законника, он огрубел окончательно в занятиях низким крючкотворством, черствящим сердце и изощряющим речь на словопрениях в судах, обратился в оракула и агитатора, стал депутатом Конвента. В нем думали найти стойкого бойца революции — он оказался только палачом. Гора сочла его способным распространить террор в восставших провинциях. Он был низок в борьбе и жесток в мести. После поражения роялистской армии в декабре 1793 года он учредил в Нанте не суд, а сущую бойню. Были расстреляны более восьми тысяч жертв: пленников, больных, женщин и детей, которых бежавшая армия оставила в городе.
Но этого Каррье показалось мало. Он с обнаженной саблей явился на заседание народного собрания в Нанте, указал на торговцев и богачей — как на вредоносную категорию аристократов — и потребовал жизни пятисот граждан. Каррье открыто писал генералу Аксо, что Конвент намерен опустошить и выжечь страну. Он сформировал шайку наемных солдат, именовавшую себя «Товарищество Марата», с жалованьем по десяти франков в день, для охраны его особы и исполнения приказаний, а затем заперся, подобно Тиберию на Капри, в одном из домов предместья Нанта и сделал себя недоступным, чтобы усилить внушаемый им ужас. Из самой подлой и голодной черни он составил революционный комитет и военную комиссию, на которых возложил обязанность придавать законность его злодеяниям в Нанте. Выведенный из терпения их совестливостью, он начал оскорблять этих людей, угрожать им саблей, даже наносить удары, он отрешал их от обязанностей, снова восстанавливал, опять распускал и закончил тем, что перестал признавать иной формальности, кроме своего слова и жеста.
Некто Ламберти, взятый им себе в адъютанты, передавал его приказания военной комиссии, командовал его войсками, вербовал палачей, делил добычу. Не удовольствовавшись тем, что президент военной комиссии велел расстрелять без суда около восьмидесяти жертв сразу, Каррье приказал ему предоставить все места заключений в ведение Ламберти, чтобы тот мог бесконтрольно совершать свои ночные казни. «Товарищество Марата» и войска, стоявшие гарнизоном в Нанте, под предводительством Ламберти очищали тюрьмы, в то время как гражданские агенты проконсула заполняли их жертвами своих доносов.
В городе и департаменте не оставалось иного населения, кроме убийц и их жертв. Шпионы Каррье толпами приводили намеченных лиц из городов и соседних деревень в места заключения в Нанте. В одной из таких тюрем находилось до полутора тысяч женщин и детей, не имевших ни постелей, ни соломы, ни одеял, остававшихся иногда по два дня без пищи прямо среди извергаемых ими нечистот. Граждане могли выкупить свою жизнь только с помощью имущества, женщины — проституцией. Тех, кто отказывался от позорной угодливости, отправляли, даже беременных, на казнь. Огромное число вандейских женщин, последовавших за своими мужьями за Луару, были арестованы в деревнях и расстреляны вместе с детьми, которых они собирались произвести на свет. Палачи называли это «поражением роялизма в самом корне».
Матереубийца Нерон, погубивший Агриппину в потопленной галере, чтобы приписать свое преступление морю, подал приверженцам Каррье мысль, которую он одобрил, как внушенную гением преступления. Смерть посредством железа и огня производила шум, проливала кровь, давала возможность считать и погребать трупы. Молчаливые волны Луары были немы, и считать никого не придется, одно только дно морское узнает число жертв. Каррье приказал вызвать моряков и велел им, не делая из того особой тайны, просверлить в нескольких барках отверстия и заткнуть их так, чтобы можно было затопить барки в желаемый момент вместе с живым грузом: в момент, когда они будут переправлять узников из одной тюрьмы в другую. Кто-то из моряков попросил дать ему на это письменный приказ. «Разве я не представитель? — ответил ему на это Каррье. — И разве ты не должен относиться ко мне с доверием в деле, исполнения которого я требую от тебя? Тут нет никакой тайны, — прибавил он, — тебе надо лишь утопить пятьдесят священников, когда ты будешь посреди реки».
Эти приказания сначала исполнялись под видом несчастной случайности. Но вскоре водяные казни, свидетельства о которых волны Луары уносили к самому устью, сделались предметом зрелищ для Каррье и его приспешников. Под предлогом наблюдения за берегами реки он купил роскошное судно и иногда вместе с исполнителями его приказаний и куртизанками выезжал на нем для прогулок. В то время как он предавался на палубе наслаждениям плоти и возлияниям, жертвы, запертые в трюме, видели, как по сигналу открывались отверстия в дне, и волны Луары заливали их. Глухие стоны возвещали экипажу, что сотни жизней находившихся под ними, только что прекратили свое существование. А пиршество на этом плавающем гробе между тем продолжалось как ни в чем не бывало.
Каррье и Ламберти зачастую тешили себя ужасными зрелищами предсмертной агонии. Они приказывали приводить на палубу попарно жертвы разного пола. С них срывали одежду и связывали обнаженных лицом к лицу, священника с монахиней, юношу с молодой девушкой; пропустив веревки под мышками, их подвешивали к балкам судна; забавлялись некоторое время этой пародией брачного союза и затем сбрасывали их в реку. Эти зрелища назывались «республиканскими свадьбами».
Казни через потопление продолжались в Нанте несколько месяцев. Целые деревни погибли во время массовых убийств, о которых сами изобретатели и исполнители рассказывали: «Мы видели, как добровольные палачи по приказанию своего начальника перебрасывали детей, подхватывая их со штыка на штык, поджигали дома, вырезывали утробы беременных женщин и сжигали заживо подростков». Жители Нанта, зрители и жертвы этих ужасов, видя, что Конвент безмолвствует, не осмеливались обвинять Каррье в безумии. Самое незначительное выражение недовольства уже считалось преступлением. Когда Каррье узнал, что в Комитет общественного спасения послали донос, он приказал арестовать двести нантских купцов, заключил их в тюрьму, а затем, связав попарно, отправил пешком в Париж. Молодой комиссар Комитета народного просвещения, сын депутата, по имени Жюльен, поехал по приказу Робеспьера в Нант для расследования преступлений Каррье и сообщил Робеспьеру о зверствах. Каррье был отозван в последних числах февраля 1794 года. Но Гора не осмелилась выразить ему неодобрение. Безнаказанность этого изверга оказалась одной из подлостей, за которые справедливо осуждают Робеспьера. Не отомстить за лишение жизни стольких людей значило признать себя или слишком слабым, или гораздо более жестоким.
Жозеф Лебон из Арраса, земляк Робеспьера, в начале революции служил священником в городке Вернуа. Его деятельная набожность, нравственные качества и отзывчивая к людским несчастиям душа делали Лебона в этот период образцовым пастырем. Гуманные принципы революции совмещались в его сердце с духом христианского милосердия. Ему казалось, что факел политических истин заимствует свой свет у божественной веры. Он возлагал надежду на народную религию, которая представлялась ему тождественной религии Христа, отступил от Рима, чтобы примкнуть к конституционной церкви. Когда философия отвергла эту отступническую церковь, Лебон также отверг ее. Он женился и вернулся на родину. Доходы его, принесенные им в жертву республике, были ему возмещены назначением на общественную должность. Благодаря влиянию Робеспьера и Сен-Жюста в Аррасе он был послан в Конвент. Комитет общественного спасения полагал, что не может найти более верного человека, которому можно поручить пресечение заговоров против революции в пограничных департаментах, находящихся под влиянием священников, подстрекаемых Дюмурье. Сначала Лебон показал себя терпимым и справедливым. Он старался сдерживать, не поражая, врагов революции. Оговоренный якобинцами за умеренность, он был вызван Комитетом общественного спасения в Париж, чтобы выслушать выговор за свою снисходительность.
Тон ли этого выговора вселил в душу Лебона склонность к террору, который ему приказывали ввести в Аррасе, или огонь гражданской ярости распалил его, но только он вернулся совсем другим человеком. По его приказанию опустевшие было тюрьмы наполнились снова. Он назначил судьями и присяжными самых свирепых членов республиканских клубов. Он возил гильотину из города в город и оказывал почести палачу как первому должностному лицу свободы. Он публично приглашал его к своему столу, как бы желая внушить уважение к смерти. Кровь, от которой он прежде приходил в ужас, обратилась теперь в его глазах в вино. Лебон как будто раскаивался в своем прежнем мягкосердечии. Единственным преступлением в его глазах стало снисхождение к контрреволюционерам и в особенности к священникам. Он с триумфом въезжал в города, предшествуемый орудием казни и сопровождаемый судьями, доносчиками и палачами. Он сделал следующую надпись на своих дверях: «Те, кто явятся сюда с просьбой об освобождении узников, выйдут отсюда только затем, чтобы отправиться на их место». Он отбирал у лиц, находящихся на подозрении, их имущество, а у осужденных женщин — их драгоценности. Он выгонял из общественных собраний женщин, целомудрие которых не позволяло им принимать участие в патриотических танцах, которые предписывались под страхом смерти: Лебон приказывал выставлять их на позор и поругание толпы. Таким образом по его приказу была обречена на бесчестие семнадцатилетняя девушка, его двоюродная сестра, отказавшаяся плясать в гражданском хороводе. Он гильотинировал целые семьи.
Маркиз Вильфор, увезенный из дома, в котором нашли письмо от одного из его эмигрировавших племянников, стоял уже на эшафоте, когда Лебон получил от Комитета общественного спасения письмо с сообщением об одержанной только что победе. Лебон приказывает палачу повременить с ножом гильотины, всходит на балкон, чтоб оказаться на уровне гильотины, и читает народу и осужденному известие о торжестве, чтобы усилить мучения казни для старика горечью одержанных республикой побед.
В другой раз он продлевает мучения казни двум англичанкам. Он обращается с длинной речью к народу, читает депеши из армии и затем поворачивается к жертвам: «Такие аристократки, как вы, в предсмертные минуты должны услышать о торжестве наших войск!» Одна из осужденных, с негодованием обратившись к Лебону, говорит: «Чудовище, ты думаешь сделать нашу смерть для нас более горькой? Разуверься! Хоть мы и женщины, но умрем мужественно, а ты умрешь как подлец!»
Лебон боялся, что и таким способом не достигнет высоты образа мыслей Конвента. «Сладость дружбы! — восклицал он, ища оправдания этим жестокостям в своих собственных глазах. — Чудное чувство, свойственное нашей природе! Восхитительное зрелище представляет собой семья, зарождающаяся под знаменем самой нежной любви и самого высокого единения! Я откладываю удовольствие наслаждаться вами до наступления мира! Долг, ненавистный долг, только неумолимый долг — вот о чем вынужден я помнить непрестанно. О жена! О дети! Я погибну, это мне прекрасно известно, если республика разрушится; и я подвергаю себя, даже если она восторжествует, мести тысяч частных лиц!» Под влиянием этой тревоги он написал Комитету общественного спасения. Комитет ответил: «Продолжайте делать ваше революционное дело. Ваши полномочия неограниченны. Помилование — преступление. Проступки против республики не наказываются, а искупаются смертью посредством меча. Идите безостановочно, гражданин, по тому пути, который вы наметили себе с такою энергией! Комитет рукоплещет вашим трудам».
В Бордо семьсот пятьдесят голов федералистов уже скатились под ножом гильотины. Триумвират, состоявший из Изабо, Бодо и Тальена, усмирял Жиронду. Сын человека, бывшего в числе прислуги одной знаменитой семьи, воспитанный благодаря покровительству этой семьи[3], Тальен привнес в нравы республики вкусы, изящество, гордость, а также испорченность аристократии В то время когда Тальен приехал в Бордо, там находилась женщина ослепительной красоты, с нежной душой и пылким воображением, задержанная вследствие ареста ее мужа. Звали ее Тереза де Фонтене. Она была дочерью графа Кабаррюса. Граф, француз по происхождению, переселившись в Испанию, достиг там благодаря своему финансовому гению самых высоких служебных степеней в царствование Карла III. Дочери его только исполнилось пятнадцать лет. Родившись в Мадриде от матери-валансьенки, она соединила в себе пылкость южанок, томность северянок, грацию француженок и явилась живым воплощением красоты всех широт. Она принадлежала к числу тех женщин, которыми природа пользуется, как Клеопатрой и Федорой, для порабощения тех, кто порабощает мир. Преследования, которым подвергся граф Кабаррюс в Мадриде, несмотря на оказанные им услуги, с детства научили его дочь презирать деспотизм и обожать свободу.
В театрах, на смотрах, балах, празднествах и официальных церемониях жители Бордо видели ее радость и вдохновение. Казалось, они видят в ней воплотившегося в образе женщины гения республики.
Но госпожу де Фонтене приводили в ужас кровь и слезы. Она думала, что великодушие служит извинением могуществу. Желание добиться еще большей популярности, чтобы употребить ее на пользу милосердия, заставляло Терезу появляться иногда в клубах. Одетая в амазонку, в шляпе с трехцветным султаном, она несколько раз произносила там речи в духе республиканизма. Восторг публики очень походил на любовь.
Имя Тальена заставляло дрожать весь Бордо. О народном представителе говорили как о человеке непреклонном. Но Тереза чувствовала себя достаточно обворожительной, чтобы смягчить его. Ее опьянила честолюбивая мысль властвовать над человеком, который в настоящую минуту властвовал в республике.
Она покорила депутата с первого взгляда. Тальен, перед которым преклонялось все, буквально ползал у ее ног. Он хотел теперь власти для того, чтобы делить ее с нею, величия — чтобы подняться с нею, и славы — чтобы покрыть ею Терезу. Подобно всем людям, у которых страсть доходит до безумия, он выставлял свою связь напоказ. В то время как тюрьмы были переполнены заключенными, эмиссары представителей хватали подозреваемых по деревням, а кровь потоками текла по эшафоту, Тальен, опьяненный своей страстью, катал Терезу в роскошных экипажах под рукоплескания всего Бордо. Задрапированная, подобно греческим статуям, в легкую ткань, сквозь которую виднелись прекрасные формы ее тела, держа в одной руке пику, а другой опираясь на проконсула, Тереза походила на ожившую богиню свободы.
Но еще больше она радовалась, когда появлялась возможность стать божеством милосердия. Эта женщина управляла сердцем того, от кого зависели жизнь и смерть множества людей, к ней обращались с мольбами и ее боготворили, как Провидение. Скоро начали казнить только тех, на кого Комитет общественного спасения указывал как на представляющих опасность для республики. Судьи, из подражания представителю, также смягчились. Робеспьер не доверял Тальену, но и не настаивал на отозвании его в Париж. Он предпочитал видеть его сатрапом в Бордо, нежели заговорщиком в Конвенте. Он говорил о Тальене с презрением: «Эти люди годны только на то, чтобы возрождать пороки. Они прививают народу нравы аристократии. Но имейте терпение, мы избавим народ от его развратителей, как уже избавили от тиранов».
По возвращении Футе из командировки на Юг Робеспьер разразился упреками в адрес жестокости этого члена Конвента. «Неужели он думает, — говорил он о Фуше, — что меч республики — это скипетр, и не обратится против тех, кто его держит?» Фуше тщетно искал случая переговорить с Робеспьером, тот послал с полномочиями в города Везуль и Безансон своего младшего брата. После речи о милосердии, которую Робеспьер-младший сказал в народном собрании в Везуле, на свободу выпустили восемьсот заключенных. Такая снисходительность тотчас привела в негодование его товарища Бернарда де Сента, но молодой представитель продолжал свою миссию милосердия. Когда президент безансонского клуба, дворянин по рождению, начал рассказывать ему во время заседания о славе его семьи, Робеспьер-младший ответил: «Услуги, которые мой брат оказал революции, чисто личные. Наградой за них стала любовь народа. Ты говоришь, — прибавил он, — на языке аристократии. Время ее прошло. Разве ты не председательствуешь на этом собрании, ты, аристократ по крови, имеющий брата среди изменников отечества? Если бы имя моего брата давало мне здесь привилегию, то имя твоего обрекло бы тебя на смерть!»
Когда Робеспьера-младшего окружили родственники заключенных, жалуясь на несправедливость, он, не имея власти за пределами Верхней Сены, обещал им передать их жалобы Конвенту и просить у него правосудия. «Я вернусь сюда с оливковой ветвью или умру за вас, — сказал он им, — потому что я одновременно буду защищать свою жизнь и жизнь ваших родственников». Этот восторженный молодой человек с чувством почтения слушал речи и дружеские наставления своего брата. Фанатичный поклонник принципов революции, тем не менее красневший от ее жестокостей, он сохранил в чертах своего лица лишь слабый отпечаток характера Робеспьера-старшего. Речи его были монотонны, холодны, бесцветны. Сразу становилось ясно, что он черпает вдохновение скорее в известной системе, чем в чувствах. Его внешность и речь носили печать мистицизма. Республиканцы, утомленные безбожием, подумывали было обратить демократический принцип в религию и обоготворить свободу, на что имелось большее право, чем обоготворение королей в Средние века.
LIV
Сен-Жюст подавляет террор в Страсбурге — Шометт и Эбер — Женские клубы — Роза Лакомб — «Отец Дюшен» и «Старый Кордельер» — Робеспьер разгадывает Дантона — Попытка Эбера поднять бунт рушится — Казнь Эбера и сообщников — Друзья Дантона заключены в тюрьму
В течение первых месяцев 1794 года Сен-Жюст и Леба, то вместе, то по отдельности, переезжали из Северной армии в Рейнскую и из Лилля в Страсбург, чтобы наблюдать за генералами и возбуждать или умерять настроение общества в департаментах, которым грозила опасность. Сен-Жюст проявлял на трибунах непреклонную силу характера, а на полях битв — порывы молодости и неустрашимость, поражавшие солдат. Он не щадил своей крови так же, как и своей репутации. Под молодым депутатом было убито несколько лошадей. После битв он проводил бессонные ночи, занимаясь организацией армии. Он не знал иных наслаждений, кроме торжества своего дела. Этот двадцатичетырехлетний проконсул воплощал в себе революцию как догмат, из которого он не позволял себе поступиться чем бы то ни было ради человеческих слабостей. Равно неумолимый и к тем, кто пятнал республику, и к тем, кто изменял ей, он отправил на гильотину президента Революционного трибунала в Страсбурге, который повторил в Эльзасе неистовства Лебона.
Прибытие Сен-Жюста в Страсбург спасло тысячи жизней. Он писал Робеспьеру: «Наступление Террора уничтожило само понятие о преступности. Конечно, еще не наступило время делать добро; совершать добро частичное — только паллиатив. Надо дождаться достаточно сильного всеобщего горя, чтобы общество почувствовало потребность в реакции. Революция должна стремиться к достижению счастья и народной свободы посредством законов. Волнения ее не имеют другой цели и должны низвергнуть все, что противится ей. Кто сделает ее устойчивой? Она изменчива. Были народы, которые падали с еще большей высоты».
Робеспьер-младший, Сен-Жюст, Кутон, итальянец Буонаротти, Леба, несколько молодых девушек, наивных в своем патриотизме, несколько бедных и честных ремесленников, несколько членов партий, фанатичных поклонников демократических доктрин составляли весь двор Робеспьера. В то время он не чувствовал еще в себе достаточно силы, чтобы предписывать свою юлю Конвенту. Дантон был жив и мог поколебать его влияние на Гору, а Эбер, Паш, Шометт, Венсан, Ронсен не боялись его влияния в Коммуне. Комитет общественного спасения еще не вполне оказался в его руках. Революционный трибунал являлся послушным орудием всех партий. Разнузданная чернь Парижа устрашала истинный народ. Свобода позорила самих республиканцев.
Эбер и Шометт с каждым днем все больше разжигали это безумие: один в своих листках «Папаша Дюшен», другой своими речами. Они возбуждали невоздержанность человеческих сердец, проповедовали атеизм, свои беседы с народом приправляли крепкими словцами, которые в человеческой речи представляют собой то же, что в быту смрадные нечистоты. Цинизм и жестокость понимают друг друга. Жестокость — это цинизм сердца. Чернь гордилась, видя, что площадные выражения сделались языком политических деятелей. Язык утратил свою чистоту. Его откровенность не вызывала более ни у кого краски стыда. Он гордился ею, как проститутка.
Женщины толпы первыми рукоплескали бесстыдству Эбера. Мирабо подстрекнул их к этому, сказав им в Версале накануне 5 и 6 октября: «Если не вмешаются женщины, из восстания ничего не выйдет». Он знал, что ярость женщин, стоит ей только распалиться, доходит в своем неистовстве до пределов, далеко оставляющих за собой дерзость мужчин. Древнее вдохновение, священный гнев сильнее всего проявлялись у сивилл. Кроме того, было известно, что штыки притупляются, касаясь груди женщин. Парижские женщины первыми, став во главе шаек столицы, напали на дворец короля, занесли кинжал над постелью королевы и принесли в Париж на остриях своих пик головы телохранителей короля. Теруаньде Мерикур и ее шайка пошли брать приступом Тюильри 20 июня и 10 августа. Революция, суды, казни сделались для этих мегер таким же необходимым зрелищем, как борьба гладиаторов — для развращенных патрицианок Рима.
Стыдясь того, что их изгнали из мужских клубов, эти женщины основали свои собственные клубы. Рядом с этими собраниями пристроились клубы детей двенадцатипятнадцатилетнего возраста под названием «Красные дети», означавшим крещение этих скороспелых республиканцев посредством крови. Парижская коммуна, по предложению Шометта, постановила, что этим героиням великих дней революции будет отведено особое место во время гражданских церемоний и что впереди них будут нести знамя с надписью: «Они изгнали тиранов!» «Женщины, — говорилось в одном из постановлений Коммуны, — будут присутствовать на национальных празднествах вместе со своими мужьями и детьми и будут там вязать». Отсюда прозвище «вязальщицы Робеспьера», пятнающее собой это ремесло и домашний очаг. Каждый день отряды наемниц, находившихся на жалованье у Коммуны, располагались около зданий суда, по дорогам, где должны были проезжать тележки с осужденными, и на ступенях гильотины, чтобы оскорблять жертвы и насыщать свое зрение видом крови. В древности существовали наемные плакальщицы, Коммуна держала наемных фурий.
«Республиканско-революционное общество» заседало в церкви Св. Ефстафия. Его составляли авантюристки, погрязшие в пороке или нищете или в притонах безумия. Скандалы во время заседаний, порывистость движений, странное красноречие, дерзость их петиций тревожили Комитет общественного спасения. Эти женщины под предлогом подачи советов Конвенту являлись предписывать законы. Было очевидно, что их действия внушены им беспокойными членами Коммуны и кордельерами. Состоя в более близком общении с клубом кордельеров, находившимся со времени удаления из него Дантона в руках самых необузданных демагогов, женщины рабски подражали в своих взглядах воззрениям этих безумцев.
В последнем из названных клубов председательствовала женщина, которую звали Роза Лакомб[4]. Родившаяся от неизвестного отца за кулисами провинциального театра, она выросла на подмостках. Жизнь оказалась для нее скверной ролью. По природе подвижную и легко увлекающуюся, ее быстро унесло в своем вихре революционное исступление. Замеченная во время первых волнений в Париже, она почувствовала после этой величественной народной сцены отвращение ко всякой другой. Подобно Колло д’Эрбуа она перешла с театральных подмостков прямо на трибуну. Подобно ему же, перенесла в действительную трагедию республики выразительность и жесты своего первого ремесла. Это была пифия предместий. Погибшие создания, которыми кишели женские клубы, гордились, имея во главе своего общества особу, которую порок отметил с ранних лет той же печатью: Роза Лакомб, как им казалось, освящала их профессию безумием своего республиканизма.
Она имела могучее влияние на Коммуну: распекала депутатов, приказывала отворять для себя двери тюрем, оговаривала или оправдывала, добивалась арестов или помилований. Во время одного из своих посещений Роза ощутила любовь. Пораженная красотой молодого узника, племянника тулузского мэра, содержавшегося вместе с своим дядей, она употребила все усилия, чтобы спасти своего протеже.
Роза позорила Конвент. Базир и Шабо донесли на нее кордельерам как на интриганку, стремящуюся извратить патриотизм. «Она угрожала мне, если я не освобожу тулузского мэра, — говорит Шабо. — Она призналась мне, что не он, а его племянник затронул ее сердце. Я, которого обвиняют в увлечении женщинами, устоял. Именно потому, что я люблю женщин, я и не хочу, чтобы они извращали и позорили добродетель! Они осмелились совершать нападки на Робеспьера!» При этих словах Роза Лакомб встает и требует разрешения ответить. В клубе происходит смятение. Присутствующие разделяются: одни хотят, чтобы она была выслушана, другие требуют ее исключения. Председатель прерывает заседание. Клуб постановляет, что Комитету общественной безопасности будет составлено письмо с требованием очистки «Революционного общества».
Шометт боялся гнева Робеспьера и хотел избежать его. Он устроил театральное зрелище, в котором разыграл роль сурового трибуна нравов, борющегося с распутством, им же самим и вызванным. В конце января толпа женщин-революционерок, набранная и предводительствуемая Роза Лакомб, в красных колпаках и практически нагих, ворвалась в зал совета Коммуны и прервала заседание своими петициями и криками. Ропот негодования поднялся в Собрании. «Граждане, — воскликнул Шометт, — вы имеете полное право роптать так! Доступ в зал, где совещаются представители народа, должен быть воспрещен тем, кто оскорбляет нацию». — «Нет, — возразил один из членов совета, — закон разрешает доступ женщинам». «Пусть прочтут закон — продолжает Шометт. — Закон повелевает уважать обычаи и заставляет уважать их. Между тем я вижу, как их здесь попирают. И с каких это пор женщинам разрешено отрекаться от своего пола, бросать благочестивые занятия у домашнего очага, колыбель своих детей, для того чтобы являться на площади, говорить речи на трибунах, становиться в ряды войск и посягать на права, которые природа предоставила мужчине? Кому же природа поручила заботы о доме? Разве дала она нам грудь, чтобы вскармливать молоком наших детей? Нет, она сказала мужчине: „Будь мужем“, а женщине: „Будь женою, и ты сделаешься божеством домашнего святилища!“ Неблагоразумные женщины, желающие стать мужчинами! Разве вы обделены в чем? Вы властвуете над нашими чувствами! Ваш деспотизм есть деспотизм любви, следовательно, проистекает из природы». При этих словах женщины снимают с головы красные колпаки. «Вспомните, — продолжает Шометт, — развратных женщин, которые вызвали столько смут в республике, высокомерную гражданку Ролан, которая считала себя способной управлять целым народом и погубила себя; эта женщина-мужчина основала первое женское общество и заплатила жизнью за свои преступления. Женщины тогда только имеют значение, когда мужчины ни к чему не годны: Жанна д’Арк стала великой только потому, что Карл VII был полное ничтожество!»
Женщины удалились, побежденные доводами Шометта. Тем не менее Роза продолжала, подстрекаемая Эбером, волновать умы. Группы женщин в красных панталонах с кокардами в волосах избивали в общественных местах невинных девушек, которых заставали выражающими свой патриотизм.
Амар, вызванный Робеспьером, сказал по этому вопросу в Конвенте: «Я докладываю вам, что собралось более шести тысяч женщин, так называемых якобинок и членов так называемого революционного общества. Природа, вследствие разницы в силе и устройстве тела, назначила им другие обязанности. Стыдливость, воспрещающая им выступать публично, обязывает их оставаться в лоне их семьи». Конвент принял эти положения и закрыл женские клубы. Роза Лакомб вернулась к прежней неизвестности.
Партия Эбера в Коммуне открыто стремилась превзойти партию Марата. Идеалом этой партии стало полное ниспровержение всех принципов, верований, добродетелей, учреждений, на которые до тех пор опирался общественный строй; неограниченная и кровавая тирания Парижа над остальной нацией; массовые казни всех классов, имевших прежде влияние благодаря своему происхождению, образованию или предрассудкам; уничтожение народного представительства; наконец, учреждение вместо всякого иного правления диктатуры неограниченной, как народ, и не подлежащей ответственности, как судьба.
Неутолимая жажда крови, кощунство в церквях и издевательство над священными обрядами, почести, воздаваемые разврату, наконец, грязная и кровожадная проповедь, которую «Папаша Дюшен», газета Эбера, ежедневно печатал в назидание народу, были признаками, по которым Робеспьер и Дантон могли судить о намерениях этой партии. Дантон, проводивший почти все время в загородном доме, только изредка показывался среди якобинцев, и не для того, как некогда, чтобы все уничтожить или всех увлечь, а для того, чтобы оправдываться и сетовать. Он делал вид, что безразлично относится к власти и с большим пренебрежением — к партиям. Триумвират, состоявший из Эбера, Шометта и Ронсена, казался ему ничтожным.
Бестактное ожесточение партии Эбера по отношению к Дантону в то время, когда она хотела сделать непопулярным Робеспьера и обуздать Комитет общественного спасения, имело своим источником соперничество между Эбером и Камиллом Демуленом. «Папаша Дюшен», опустившийся ниже своего соперника, не переставал поливать грязью Демулена; тот отвечал Эберу памфлетами, в которых обида каленым железом запечатлевалась на лбу противника.
Однажды вечером в начале декабря Дантон, Субербьель, присяжный судья Трибунала, и Камилл Демулен вместе вышли из Дворца правосудия. День был кровавый. Пятнадцать голов скатились утром на площади Революции; двадцать семь человек были приговорены к смерти во время заседания и в числе их несколько лиц, занимавших высшие должности в прежнем парижском магистрате. Все трое шли молча, удрученные зловещим зрелищем, свидетелями которого они только что стали; темная и холодная ночь располагала к откровенности. Дойдя до Нового моста, Дантон вдруг обернулся к Субербьелю и сказал ему: «Знаешь ли ты, что при таком ходе дел скоро никто не будет в безопасности? Лучшие патриоты смешиваются без разбора с бездельниками. Кровь, пролитая генералами на поле битвы, не гарантирует им того, что остаток ее не будет пролит на эшафоте. Я устал жить. Взгляни! Река точно течет кровью!» — «Правда, — ответил Субербьель, — небо красно, за тучами скрывается много кровавого дождя! Но что могу сделать я, ничтожный патриот! Ах, если бы я был Дантоном!» — «Дантон спит, молчи! Он проснется, когда настанет время. Я сторонник революции, но не сторонник резни. А ты, — продолжал Дантон, обращаясь к Демулену, — отчего молчишь?» — «Я устал от молчания, — ответил Камилл, — иногда мне хочется заострить мое перо, как стилет, и пронзить им этих негодяев.
Пусть они берегутся! Мои чернила труднее стереть, чем их кровь. Они пятнают навеки!» — «Браво, Камилл! — воскликнул Дантон. — Так начинай же с завтрашнего дня! Это ты пустил в ход революцию, и ты должен затормозить ее».
На следующий день Камилл Демулен выпустил первый номер «Старого кордельера». Прочитав его Дантону, Камилл отнес его Робеспьеру. Он знал, что нападение на «бешеных» не будет неприятно главе якобинцев, который втайне ненавидел Эбера. За дерзостью Демулена таилась осторожность, а за вызовом — лесть. Робеспьер, еще не уверенный в намерениях якобинцев и Горы, не выразил ни одобрения, ни порицания. Но писатель понял, что, если его дерзость и не одобряется, его все же простят за нее.
Робеспьер не решался напасть на Террор из боязни ослабить и обезоружить Комитет общественного спасения, но он не колеблясь вступил один и открыто в борьбу с теми, кто развращал революцию и хотел вместо вероисповеданий ввести атеизм. Работая усидчивее, чем когда-либо, он давно ждал случая умыть руки от безобразий Шометта и Эбера. Последний, ободренный поддержкой некоторых членов Горы, не замедлил предоставить такой случай. Он заставил пройти до зала Конвента одну из процессий, одетую в облачения, награбленные в церквях. На другой день он явился к якобинцам, чтобы повторить эту сцену у них. Он призывал казнить богомольную сестру короля. Выступавший за ним Моморо потребовал истребить всех священников.
Робеспьер поспешил ответить: «Итак, нам остается отыскать истинные причины бедствий, удручающих отечество. Неужели правда, что наши самые опасные враги — это узники, имя которых служит поводом к вмешательству иностранных держав? Я всем сердцем желал, чтобы род тиранов исчез с лица земли; но неужели я могу впасть в такое ослепление, чтобы думать, что смерти сестры Капета будет достаточно, чтобы загасить очаг заговоров? Неужели правда, что главная причина наших бедствий кроется в религиозном фанатизме? Фанатизм угасает; я мог бы даже указать, что он угас. Вы боитесь, говорите вы, священников! А они спешат отказаться от своих званий, чтобы переменить их на звания муниципалов, администраторов и даже председателей народных обществ. Нет, не фанатизм должен теперь стать главным предметом нашего беспокойства. Пятилетнее существование революции, поразившей священников, свидетельствует об их бессилии. Но фанатизм — существо дикое и капризное. Он бежал от разума; призывайте его громкими криками, и он вернется.
Тот, кто желает запретить служить обедню, гораздо больший фанатик, нежели тот, кто служит ее.
Есть люди, которые, под предлогом искоренения суеверия, хотят возвести в религию самый атеизм. Национальный Конвент гнушается такой идеей. Конвент отнюдь не составитель метафизических систем; это учреждение, на котором лежит обязанность заставить уважать не только право, но и особенности французского народа. Недаром он провозгласил признание прав человека пред лицом Верховного Существа! Идея Верховного Существа, бодрствующего над угнетенной невинностью и наказывающего торжествующий порок, вполне народна».
Среди якобинцев, принадлежащих к беднякам, раздаются рукоплескания. Робеспьер продолжает: «Народ, несчастные рукоплещут мне; если бы я встретил осуждающих меня, то среди богатых и среди преступных. Я ни на один день с самого детства не отступал от нравственных и политических убеждений, которые только что изложил перед вами. Если бы Бога не существовало, надо было бы выдумать Его… Я говорю с трибуны, — продолжал он, — где бесстыдный жирондист осмелился вменить мне в преступление, что я произнес слово „Провидение“, и в какое время — когда, проливая горькие слезы над народом, я старался возвыситься над толпой заговорщиков, которые окружали меня, и призывал на них небесное мщение, за отсутствием народной грозы. О! Пока существуют тирании — чья энергичная и добродетельная душа не будет призывать втайне от их святотатственного торжества вечную справедливость?! Мне кажется, что последний мученик за свободу испустит дух, успокоившись на этой утешительной мысли. Это чувство всей Европы и всего мира, это чувство французского народа. Разве вы не видите ловушку, которую вам расставляют тайные враги республики и эмиссары чужестранных тиранов? Негодяи хотят оправдать таким образом грубую клевету, наглость которой признает Европа, и оттолкнуть от вас посредством предубеждений и извращенных понятий тех, нравственное чувство и общие интересы которых увлечены святым и высоким делом, которое мы защищаем».
Решили произвести чистку в среде якобинцев. Робеспьер, которого слушали сначала с удивлением, потом холодно, поразил Эбера и Шометта, разгромив атеизм. Исповедуя Бога, Робеспьер создавал самому себе и революции совесть и судью. Он поставил в своей речи свою популярность в связь с исповедуемой им верой.
Партия Эбера, побежденная в этот день якобинцами, отомстила за себя в Коммуне еще более немилосердными приказами о преследовании церковных обрядов. Дантон выступал в Конвенте против этих преследователей, но говорил как политик, желающий, чтобы уважали священный обычай народа, а не как философ, обожающий высочайшую идею человеческого ума. Тем не менее совпадение мыслей, выразившееся в порицании Эбера и Шометта, на короткое время сблизило Робеспьера и Дантона.
Очищение рядов якобинцев происходило следующим образом. Каждый из членов, вызывавшихся по очереди на трибуну, должен был публично изложить свои убеждения.
Третьего декабря, когда на трибуне появился Дантон, чтобы дать отчет в своих действиях, ропот негодования пробежал по всему залу. Дантон на минуту смутился, затем, вооружившись спокойствием отчаяния и непоколебимостью добродетели, которой у него, впрочем, не было, сказал: «Я требую, чтобы все те, кто мог иметь подозрения против меня, высказали свои обвинения. Я почувствовал, что я как будто в опале, когда всходил на трибуну. Разве я уже не тот самый Дантон, который был рядом с вами во все критические минуты? Разве я уже не тот, кого вы обнимали, как вашего друга, и кто должен умереть вместе с вами? Я был один из самых храбрых защитников Марата. Я взываю к тени „друга народа!“ Вы будете удивлены, когда я сообщу вам о своей частной жизни, и вы увидите, что колоссальное состояние, которое мне приписывают мои враги, сводится к небольшому имуществу, которым я владел всегда. Я хочу оставаться в дружеских отношениях с народом. Судите меня в его присутствии. Я не разорву более ни одной страницы своей истории, как вы не разорвете страниц вашей, и они обессмертят летописи свободы!»
После этого вступления, сломавшего, так сказать, печать, долго сковывавшую его душу, Дантон пустился в импровизацию, настолько обильно снабженную фактами и стремительную, что перья слушателей не в состоянии были следовать за ней. Он сделал обзор всей своей жизни и воздвиг себе пьедестал, с которого вызывал своих клеветников свергнуть его. Он потребовал выбора двенадцати комиссаров, чтобы расследовать его поведение. Эту просьбу встретили молчанием. Казалось, народ верил более в его гений, нежели в его совесть.
Робеспьер мог одним словом погубить или спасти Дантона. Он чувствовал, что ему нужен этот человек как противовес популярности Эбера. Робеспьер взошел на трибуну не размеренно, как всегда, но со стремительностью человека, который торопится отразить удар.
«Дантон, — заявил он строго, — ты требуешь, чтобы указали, в чем заключаются обвинения против тебя. Никто не возвышает голоса; ну, так это сделаю я! Дантон, тебя обвиняли в том, что ты эмигрировал. Говорили, что ты стремился быть регентом при Людовике XVII, что было время, когда ты собирался объявить диктатуру, что ни Питт, ни Кобург, ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия не были такими опасными нашими врагами, каким был ты, что Гора полна твоими сообщниками, одним словом, что тебя следовало бы обезглавить!
Конвент, — продолжал Робеспьер, — знает, что я во всем советовался с Дантоном, что во время измен Дюмурье мои подозрения опередили его. Я упрекал его тогда в том, что он недостаточно восстает против этого чудовища, что не преследовал Бриссо и его сообщников с надлежащей пылкостью. Я утверждаю, что это единственные упреки, которые я ему делал!.. Дантон! Разве ты не знаешь, — продолжал оратор почти растроганным голосом, — что чем больше у человека мужества и патриотизма, тем сильнее враги общественною дела стремятся погубить его? Враги отечества осыпают меня чрезвычайными похвалами, но я отвергаю их. Ты думаешь, я не вижу под этими похвалами нож? Дело у патриотов общее. Быть может, я ошибаюсь насчет Дантона, но, видя его среди его семьи, понимаешь, что он заслуживает только похвалы. В отношении политики я также наблюдал за ним. Разница в убеждениях моих и его заставляла меня зорко следить за ним, иногда даже с озлоблением. Дантон хочет, чтобы его судили, — он прав. Пусть также судят и меня! Пусть явятся эти люди, воображающие, что они большие патриоты, чем мы!»
Эта речь спасла Дантона, но не вернула ему утраченного доверия, как хотел Робеспьер. Ему нужен был этот голос на Горе, чтобы громить Коммуну. Но он не оказался столь снисходителен и не хитрил с другими крайними или порочными членами Конвента, пользовавшимися влиянием среди якобинцев и кордельеров. Когда очередь дошла до Анахарсиса Клоотса, «оратора рода человеческого»[5], Робеспьер воскликнул: «Можем ли мы смотреть как на патриота на немецкого барона? Как на демократа, на человека, у которого сто тысяч ливров годового дохода? Как на республиканца на человека, посещающего только иностранных банкиров и контрреволюционных врагов Франции? Граждане! Вы видели его то у ног тирана и его двора, то пресмыкающимся перед народом. Он льстил Бриссо, Дюмурье, Жиронде. Он хотел, чтобы Франция ополчилась на весь свет! Он напечатал памфлет „Ни Марат, ни Ролан“. Его нелепые убеждения, упорство, с которым он толковал о всемирной республике, были западней, расставленной республике, чтобы сделать все народы ее врагами. Он поддерживал движение против религии. Нам известно, Клоотс, о твоих ночных посещениях Гобеля, парижского епископа! Увы! Несчастные патриоты, что можем мы сделать, окруженные врагами, вступающими в наши ряды, чтобы погубить нас?» Затем, расчувствовавшись до слез, подражая словам Христа перед смертью, он прибавил: «Будем бодрствовать, потому что смерть отечества близка!»
Несчастный Клоотс не осмелился даже сделать попытку сбросить тяжесть обвинения.
Снисхождение, оказанное Дантону, распространилось и на Фабра д’Эглантина, поэта и народного льстеца, разбогатевшего столь внезапно, что это бросало тень на его честность.
Камилл Демулен тоже нуждался в оправдании за то сострадание, которое он выразил на суде в момент объявления приговора жирондистам.
Робеспьер любил и в то же время презирал этого молодого человека, вспыльчивого, как женщина, и непостоянного, как ребенок. «Нужно, — сказал Робеспьер, — принимать Камилла Демулена со всеми его добродетелями и недостатками. Робкий и доверчивый, нередко храбрый, но неизменно республиканец, Демулен был другом Мирабо, Ламета, Диллона, но все мы видели также, как он разбивал идолов, которым прежде курил фимиам. Я убеждаю его продолжать свое дело, но советую не оставаться таким переменчивым и стараться не ошибаться в людях, играющих великую роль на политическом поприще!»
Эта амнистия Робеспьера закрыла рты друзьям Эбера. Никто не осмеливался осудить того, кого прощал Робеспьер.
Пятого декабря Камилл Демулен начал в первом же номере «Старого кордельера» льстить Робеспьеру. «Победа осталась за якобинцами, — писал он об оправдании Дантона, — потому что среди руин колоссальных репутаций во весь рост стоит Робеспьер. Утвердившись в положении, которым овладели во время болезни и отсутствия Дантона, его обвинители в самых трогательных, самых убедительных местах речи шикали, качали головами и улыбались с состраданием, точно слушали человека, осужденного всеми. Однако мы победили, потому что после громоподобных слов Робеспьера, талант которого растет вместе с опасностями, и глубокого впечатления, которое он оставил в душах, невозможно было возвысить голос против Дантона, не дав, так сказать, публичную расписку в получении гиней от Питта».
Описав пером Тацита современные политические злодеяния, Демулен далее обратился к философии Фенелона, чтобы придать революции оттенок религиозный.
«Некоторые думают, что Свобода, подобно детству, должна беспрестанно кричать и плакать, прежде чем достигнет зрелого возраста. У Свободы нет ни старости, ни детства, у нее один возраст — зрелости и силы. Иначе идущие на смерть за республику казались бы столь же неразумными, как и фанатики Вандеи, идущие на смерть ради райских наслаждений, которыми они вовсе не будут наслаждаться. Если мы умрем в битве, воскреснем ли мы через три дня, как эти глупые крестьяне? Нет, Свобода, которую я боготворю, не какой-то неведомый Бог. Мы сражаемся, чтобы защитить блага, которые Свобода тотчас отдает в пользование тем, кто взывает к ней. Декларация прав, мягкость республиканских учреждений, братство, святое равенство, неприкосновенность нравственных правил — вот следы шествия богини.
Свобода не оперная нимфа, не красный колпак, не грязная рубаха и лохмотья. Свобода — это счастье, разум, равенство, справедливость, это ваша святая конституция. Хотите ли вы, чтобы я пал к ее ногам, пролив за нее всю мою кровь? Откройте темницу тем двумстам тысячам граждан, которых вы считаете подозрительными, потому что в Декларации прав не упоминаются дома для заключения подозреваемых лиц, а только тюрьмы для осужденных. Нет подозреваемых, а есть только лица, преступления которых предусмотрены законом; и не думайте, чтобы эта мера оказалась гибельна для республики, — это самая революционная мера, какую вы когда-либо могли принять! Вы хотите уничтожить всех своих врагов посредством гильотины; разве существовало когда-нибудь большее безумие, разве вы можете погубить хоть одного из них на эшафоте, не нажив себе врагов среди членов его семьи и его друзей? Неужели вы думаете, что опасны эти женщины, старики, эти худосочные, эти эгоисты, эти отставшие от революции, которых вы сажаете в тюрьмы?!
Из ваших врагов остались только трусливые и больные; храбрые и сильные эмигрировали, погибли в Лионе и в Вандее. Все остальные не стоят вашего гнева».
Демулен призвал учредить «комитет милосердия», что могло польстить великодушию победителей, утешив в несчастье и слабости побежденных. «Сколько благословений раздалось бы тогда отовсюду! Я убежден, что будь у вас комитет милосердия, свобода была бы упрочена, а Европа побеждена. Пусть безумцы и подлецы называют меня умеренным, если им угодно. При словах „комитет милосердия“ какой патриот не почувствует себя тронутым до глубины души? Потому что патриотизм не может существовать там, где нет ни человеколюбия, нет благотворительности. О, дорогой мой Робеспьер, к тебе я обращаюсь теперь с речью: я видел минуту, когда Питту оставалось победить только тебя, когда без тебя республика была бы повержена в хаос, а партии якобинцев и Горы обратились бы в Вавилонскую башню. Но, мой старый товарищ, ты, чьи блестящие речи будет читать потомство, вспомни, что любовь сильнее, нежели страх; что преклонение и религия привлекают благодеяния; что дела милосердия — это воображаемая лестница, о которой нам говорит Тертуллиан, вознесенная до неба, но туда никогда не поднимались по ступеням, залитым кровью! Ты был уже близок к этому взгляду до такой степени, что составил постановление и предложил учредить „комитет правосудия“, однако почему милосердие сделалось преступлением в республике?»
Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо, Шометт, у которых не хватило решимости настоять на своем в минуту спора, старались, подобно Камиллу Демулену, лестью расположить Робеспьера к себе. Жена Эбера[6], монахиня, освобожденная из монастыря революцией, достойная лучшего супруга, бывала в доме у Дюпле. Робеспьер относился к этой женщине с уважением, которого не мог оказывать Эберу, и она попыталась сблизить его со своим мужем. Приглашенная однажды на обед к Дюпле, она всячески старалась рассеять подозрения, которые Робеспьер питал против кордельеров. Во время обеда он намекнул Эберу, что сосредоточение власти в руках триумвирата, состоящего из Дантона, Эбера и его самого, возможно, укрепило бы республику. Эбер возразил на это, что чувствует себя неспособным ни к какой иной роли, кроме роли народного Аристофана. Робеспьер с недоверием посмотрел на него, а жена сказала, когда они вышли, что после такого отказа ему грозит смертельная опасность. «Успокойся, — ответил Эбер, — я не боюсь ни Робеспьера, ни Дантона. Пусть они явятся за мною, если осмелятся, в мою Коммуну».
Рукоплескания черни ободряли Эбера, он открыто поносил Комитет общественного спасения. Правительству оставалось или поразить этого крамольника, или быть пораженным им. Следовало воспользоваться минутой, когда заговорщики — Эбер и другие вожди его партии — грозили Дантону. Вот побудительная причина снисходительности Робеспьера по отношению к Дантону и Камиллу Демулену. Решившись погубить обе партии, Комитет общественного спасения предпринял на них нападение в один и тот же день. Надо было оставить надежду одному, чтобы тем легче раздавить другого. Тайна этой политики Комитета сохранялась весьма тщательно. Дантон, столь дальновидный, принял долготерпение Робеспьера за союз; но это оказалась ловушка, и он попался в нее. Об этом спустя несколько дней заявил крик его униженной гордости: «Умереть не страшно, но умереть одураченным Робеспьером!..»
Конвент притворялся малоактивным с тех пор, как в его руки перешла вся верховная власть. Властелину нет надобности говорить — он поражает. Кроме того, депутаты опасались, что Конвент распадется, если будет вступать в споры со своими врагами. Его достоинство и сила заключались в молчании. Мнение возникало и высказывалось только у якобинцев. Робеспьер не упускал там ни одного случая, чтобы угрожать приверженцам Эбера. «Пусть те, — воскликнул он однажды, глядя на группу, которую образовали Ронсен, Венсан и кордельеры, — пусть те, кто хотели, чтобы Конвент был опозорен, увидят здесь предвестие своей гибели! Пусть они услышат предсказание верной смерти!»
Камилла Демулена вызвали на заседание якобинцев 7 января, чтобы выслушать оправдания его выпадов против Террора; он явился уже побежденный. «Слушайте меня, граждане, — сказал он. — Я уже не знаю, что со мной происходит. Повсюду меня обвиняют, клевещут на меня. Я долго верил обвинениям против Комитета общественного спасения, но Колло д’Эрбуа уверил меня, что эти обвинения составляют целый роман. Я теряю голову. Неужели, по-вашему, быть обманутым — преступление?» — «Объяснитесь по поводу „Старого кордельера“», — кричит кто-то. Робеспьер строго смотрит на кричащего. «Недавно, — говорит он, — я взял под свою защиту Камилла Демулена, обвиненного якобинцами. Дружба позволяла мне сделать некоторые замечания относительно его характера. Но сегодня я вынужден говорить совсем в другом духе. Он обещал отречься от политической ереси, которой покрыты страницы „Старого кордельера“. Возгордившись необычайной популярностью своих памфлетов, он так и не сошел с того пути, на который вступил вследствие заблуждения. Писания его опасны. Они поддерживают надежду в наших врагах. Они льстят общественной злобе. Надо строго поступить с его сочинениями, от которых не отрекся бы даже сам Бриссо, и спасти его самого. Я требую, чтобы эти номера были сожжены».
«Сжечь не значит ответить!» — воскликнул неосторожный памфлетист. «Как сметь, — продолжал Робеспьер, — оправдывать страницы, служащие утехой аристократов? Знай, Камилл, что если бы ты не был Камиллом, то такого снисхождения к тебе не было бы». — «Ты меня обвиняешь здесь, — возразил Демулен, — но разве я не ходил к тебе? Разве я не читал тебе мои листки, заклиная тебя именем дружбы наставить меня твоими советами?» — «Ты показал мне только часть своих листков, — строго заметил ему Робеспьер, — так как я не желал никаких нареканий, то не хотел читать остальные. Сказали бы, что я продиктовал их тебе». — «Граждане, — сказал тогда Дантон. — Камилл Демулен не должен пугаться строгих наставлений, которые ему делает Робеспьер. Пусть справедливость и спокойствие сопровождают ваши решения! Осуждая Камилла, берегитесь нанести роковой удар свободе печати!»
Эта ссора, предвестница еще более ожесточенных ссор, не помешала Робеспьеру продиктовать свои постановления Конвенту. «Сделаем мир свидетелем наших политических тайн, — говорил он в своем докладе от 5 февраля о духе республиканского правления. — Какова наша цель? Мы не намереваемся устроить Французскую республику по образцу Спарты. Но гром гремит и продолжает угрожать нам. Если пружина народного правления во время мира — добродетель, то во время революций это одновременно добродетель и террор. Террор есть не что иное, как правосудие быстрое, строгое, непреклонное. Природа наделяет всякое физическое и духовное существо инстинктом самосохранения — это закон природы. Процарствуй тирания один только день, и на следующий не останется уже ни одного патриота! „Пощадите роялистов!“ — кричат нам. Нет, пощадите невинность, пощадите слабых, пощадите несчастных. Заговорщики уже не граждане, а враги. Жалуются на заточение в тюрьмах врагов республики. Подыскивают примеры в истории тиранов, обвиняют нас в том, что мы сокращаем судопроизводство и нарушаем формальности. В Риме, когда консул открыл заговор и уничтожил его в ту же минуту, казнив приверженцев Катилины, он тоже был обвинен в том, что нарушил формальности… и кем? Честолюбивым Цезарем, который хотел увеличить свою партию шайкой заговорщиков!»
Этот намек на Дантона и его приверженцев заставил Конвент вздрогнуть, а самого Дантона — побледнеть.
«Две партии раздирают нас, — продолжал Робеспьер, — одна побуждает нас быть слабыми, а другая толкает к крайним мерам; одна желает обратить свободу в вакханку, а другая — в проститутку. Посредственные интриганы, часто даже добрые граждане, введенные в заблуждение, примыкают то к той, то к другой партии. Но предводители их держат сторону королей. Первые напоминают вам о милосердии Цезаря, другие подражают в безумиях Калигуле. Но и океан выкидывает нечистую пену на берега — разве пена делает океан менее величественным?»
Этот доклад стал набатом Конвента против приверженцев Эбера и Дантона. Комитет общественного спасения приказал арестовать Граммона, Дюре и Лапалю, друзей Венсана и Ронсена, обвиненных в том, что они обесчестили Террор грабежом и казнями.
Эберисты всполошились. Болезнь Робеспьера, вследствие которой он не появлялся в течение нескольких дней в Комитете, поощряла их решительность. Пятого марта Эбер, подстрекаемый Ронсеном и Венсаном, объявил кордельерам, что необходимо восстание. При этом слове все побледнели и клубисты один за другим покинули зал. Венсан тщетно пытался успокоить слабых и удержать бегущих. Тщетно он покрыл черным крепом статую Свободы. Только одна секция — «Единства», во главе которой был Венсан, — присоединилась к ним. Остальные, узнав о болезни Робеспьера, выразили тревогу за жизнь человека, которая являлась в их глазах жизнью республики. Секции выбрали депутатов, чтобы осведомиться о состоянии его здоровья и дать отчет о ходе болезни. Добровольное стечение народа к дверям простого гражданина дало почувствовать Робеспьеру его силу.
Колло д’Эрбуа поручили заменить Робеспьера во время заседания якобинцев. Он заклинал добрых граждан оставаться спокойными и приверженными центру правительства. Колло д’Эрбуа, который примкнул бы к движению Эбера, если бы это движение имело успех, старался теперь подавить его, потому что оно не победило. Тринадцатого марта Сен-Жюст сделал поразивший всех доклад о партиях, якобы существующих за границей. В их деятельности, оказывается, были замешаны Шабо, Фабр д’Эглантин, Ронсен, Венсан, Эбер, Моморо, Дюкроке, полковник Сомюр и еще несколько интриганов из партии кордельеров. «Находятся люди, — заявил Сен-Жюст, — готовые, подобно Герострату, сжечь храм Свободы, лишь бы заставить говорить о себе. Вот откуда возникают эти внезапные бури. Есть один самый полезный из всех патриотов. Он думает, что революция закончена и необходимо простить всех разбойников. Это угодливое предложение было принято всеми заинтересованными лицами — и вот герой готов. Итак, определите границы для власти, потому что у человеческого разума есть свои границы, за которыми начинается смерть. Даже у мудрости есть свои границы. За пределами свободы начинается рабство, как за пределами природы — хаос. Трудные времена минуют. Видите ли вы могилы тех, кто еще вчера составлял заговоры? Уже приняты меры, чтобы определить виновных. Они окружены».
Минута приближалась. Ночью Ронсен, Эбер, Венсан, Моморо, Дюкроке и еще восемь человек были арестованы и водворены в Консьержери. К ним отнеслись как к обыкновенным преступникам, а не как к политическим заговорщикам. Они жаловались, плакали. Шпион Робеспьера, заключенный вместе с ними, следующим образом описывает их поведение: «Один только Ронсен казался спокойным. Когда он увидел, как Моморо что-то пишет, он сказал ему: „Все это бесполезно. Это политический процесс. Вы занимались разговорами с кордельерами в то время, когда надо было действовать. Однако будьте спокойны, — прибавил он, обращаясь к Эберу и Венсану, — время отомстит за нас. У меня есть ребенок, которого я усыновил. Я внушил ему стремление к безграничной свободе. Когда он вырастет, то не забудет незаслуженную смерть своего отца. Он заколет тех, кто довел нас до смерти. Для этого необходим только нож“».
Эберисгы отправились на казнь на пяти тележках утром 24 марта 1794 года. Толпа не удостоила их своего внимания. Только когда проезжала последняя тележка, в которой находились Анахарсис Клоотс, Венсан, Ронсен и сам Эбер, несколько человек, держа палки с пучками зажженной пакли, символом «угольщиков» «Папаши Дюшена», приблизили их к лицу Эбера.
Так окончила свое существование эта партия, более достойная названия шайки. Уважение, которое питал Робеспьер к Пашу, побудило его исключить последнего из числа осужденных. Робеспьер не нашел мэра Парижа ни достаточно порочным, ни достаточно смелым, чтобы стать угрозой правительству. Вскоре затем арестовали Шометта, епископа Гобеля, Эро де Сешеля и Симона, делившего с ним власть в Савойе. Таким образом, у Дантона одного за другим отнимали людей, служивших ему поддержкой, а он ничего не замечал или, чувствуя свое бессилие, притворялся, что ничего не замечает.
Робеспьер, удалившийся после победы над эберистами в свое убежище, продолжал приводить в исполнение свой план очищения республики. Он написал проект доклада по делу Шабо, который был найден неоконченным среди его бумаг. В этом докладе выставлялся заговорщиком человек самый заурядный. Мрачно настроенное воображение Робеспьера преувеличило решительно все. Его политика, вкупе с его подозрительностью, настаивала на необходимости поддержания Террора в Конвенте, чтобы подготовить его к изгнанию самого Дантона.
LV
Бездействие Дантона — Тайное заседание трех комитетов — Дантон, Камилл Демулен, Филиппо, Лакруа и Вестерман арестованы — Заседание Конвента — Единогласное постановление — Процесс — Казнь
Робеспьер медлил с ударом. «Как бы я хотел иметь фонарь греческого философа, — сказал он однажды, — чтобы прочесть в сердце Дантона, кто он — друг или враг республики!»
Якобинцы меньше колебались в своих подозрениях. Дантон в их глазах был не более чем глиняный идол народа, который разрушится при первом ливне; у толпы следовало отнять этого бога, заставив ее поклоняться чистой революционной добродетели.
Робеспьер соглашался с этим, однако мысленно спрашивал себя, не перейдет ли популярность Дантона к партии Горы после его смерти, к второстепенным лицам, столь же порочным, но менее влиятельным и более вероломным, чем Дантон. Его соперник был вместе с тем и самым старинным и известным товарищем его революционной карьеры. В течение пяти лет борьбы, поражений и побед они неустанно сражались, чтобы низвергнуть королевство, спасти страну и основать республику. Они всегда чувствовали, по крайней мере выказывали, взаимное уважение и восхищение друг другом, трогавшие всех, они неизменно защищались от общих врагов. В республике оставалось достаточно места для двух великих честолюбий.
Притом Дантон являлся отцом своих детей, которые должны были вдруг осиротеть, и был влюблен в молодую жену, которую предпочитал всемогуществу.
Чувствовал ли Дантон опасность, нависшую над ним? Слишком нерешительный для человека, желающего низвергнуть диктатуру, но слишком смелый для человека, не решающегося выступить против нее, он принял позу терпеливого заговорщика, способного все изменить, но предпочитающего не пользоваться этой своей способностью. «Франция думает, что может обойтись без меня — посмотрим», — часто говорил он.
Робеспьер всегда казался ему метафизиком, запутавшимся в своих системах, а теперь еще и погрязшим в крови. «Дантон, — сказал ему однажды Фабр д’Эглантин, — знаешь ли ты, в чем обвиняют тебя? Говорят, что ты пустил колесницу революции единственно для того, чтобы обогатиться, тогда как Робеспьер остался бедняком среди сокровищ монархии, повергнутых к его ногам». — «А знаешь, что это доказывает? — отвечал ему на это Дантон. — То, что я люблю золото, а Робеспьер — кровь!» Говорили, что Дантон настоял на том, чтобы Конвент назначил значительные суммы для содержания Комитета общественного спасения, дабы навлечь на неподкупность Робеспьера подозрения, которые возводились на него самого. Ходили слухи, что Лакруа и он привезли из своей поездки в Бельгию много награбленных сокровищ. Не желая владеть ими от своего имени, они перевели их на имя бывшей директрисы придворного театра мадемуазель Монтансье. Она использовала их при постройке здания Оперы, доходы с которой шли в их пользу. Говорили также, будто некоторые из украденных в придворных кладовых бриллиантов попали в руки одного из агентов Дантона.
С тех пор как Комитет общественного спасения правил Францией через палача, Дантон старался привить своей партии название партии милосердия. При правительстве, вся сила которого заключалась в жестокости, призыв к милосердию являлся призывом к восстанию.
Неизбежность столкновения между Робеспьером и Дантоном была очевидна для всех монтаньяров. Вынужденные выбирать между этими двумя, они чувствовали, что сердце их на стороне Дантона, а разум на стороне Робеспьера. Они обожали первого, чьи речи так часто разжигали в них огонь патриотизма; второго же они скорее боялись, чем уважали. Ему одному были известны тайны пути, он один вел демократию в постоянно исчезающую в тумане гавань, куда они все еще надеялись добраться через море крови. Итак, монтаньяры не могли решиться на потерю ни одного из этих людей; но, если бы это было необходимо, они последовали бы за Робеспьером, оплакивая Дантона.
Услужливые посредники старались устроить между ними объяснение. Оно состоялось в Шарантоне, на обеде у Пари, их общего друга. Немногие приглашенные, воодушевленные горячим желанием предупредить великий раскол, в начале беседы тщательно избегали щекотливых вопросов. Это им удалось, и начало обеда прошло мирно. Дантон был откровенен, а Робеспьер спокоен.
Однако к концу обеда все изменилось; потому ли, что высокомерный Дантон усмотрел в поведении Робеспьера признак слабости, или вино развязало ему язык, или гордость не разрешила скрыть презрение, которое он питал к Робеспьеру, но между двумя собеседниками завязался разговор, сначала натянутый, потом желчный и наконец угрожающий. «От нас двоих зависит, будет ли мир или война в республике, — сказал Дантон, — и горе тому, кто объявит ее! Я стою за мир, хочу согласия, но не отдам своей головы тридцати тиранам». — «Кого вы называете тиранами? — спросил Робеспьер. — В республике нет иной тирании, кроме тирании отечества». — «Отечество! — с усмешкой воскликнул Дантон. — Ужель оно — то самозваное сборище диктаторов, из которых одни жаждут моей крови, а другие не имеют мужества отказать в ней?» — «Вы ошибаетесь, — возразил Робеспьер. — Комитет учреждает надзор лишь за дурными гражданами. Хотя разве могут считаться хорошими гражданами те, которые стремятся разоружить республику в разгар борьбы и увенчать себя ореолом снисходительности в то время, когда мы принимаем на себя ненависть и нарекание за строгость?» — «Это намек?» — спросил Дантон. «Это обвинение!» — ответил Робеспьер. «Ваши друзья хотят моей смерти?» — «А ваши хотят смерти республики».
Вмешались другие гости. Спорщиков успокоили и почти примирили.
«Комитет общественного спасения, — сказал Робеспьер, — не только не хочет вашей смерти, но пламенно желает усилить правительство самым выдающимся представителем Горы. Разве я пришел бы сюда, если бы хотел вашей смерти? Но между нами распространяют клевету. Дантон, будьте осторожны! Принимая друзей за врагов, их иногда заставляют обращаться в таковых». Помолчав, он продолжал: «Посмотрим, сможем ли мы прийти к соглашению… Как вы думаете, должна ли власть становиться жестокой в случаях крайней опасности?» — «Да, — отвечал Дантон, — но она никогда не должна быть неумолимой. Придуманный мною Революционный трибунал должен был служить оплотом, вы превратили его в бойню. Вы поражаете без разбора! Вы казните столько же невинных, сколько и виновных». — «Казнен ли хотя бы один человек без суда? Поразили ли хоть одну голову, не осужденную законом?» При этих словах Дантон горько рассмеялся. «Невинные! Невинные! — воскликнул он. — Перед этим Комитетом, предоставившим выбирать виновных в Лионе ядрам и в Нанте — Луаре! Ты шутишь, Робеспьер! Вы считаете за преступление ненависть, которую питают к вам! Вы объявляете виновными всех ваших врагов!» — «Нет! — сказал Робеспьер, — и доказательство тому — то, что ты жив!»
С этими словами он встал и вышел из комнаты, явно разгневанный.
Приехав домой, Робеспьер тотчас послал за Сен-Жюстом. Они просидели, запершись, большую часть ночи и по много часов два последующих дня. Предполагают, что во время этих продолжительных бесед они составляли доклады и речи, с которыми готовились выступить против Дантона и его друзей.
Сам Дантон провел эти два дня в Севре, не предвидя или не желая отвратить грозу. Тщетно Лежандр, Лакруа, Камилл Демулен, Вестерман умоляли его принять меры предосторожности. Дантон улыбался равнодушно и гордо! «Я предпочитаю сам умереть на гильотине, чем гильотинировать других. К тому же они не дерзнут напасть на меня — я сильнее их!»
Он говорил, быть может, не то, что думал, выказывал спокойствие, чтобы оправдать свое бездействие. Но на самом деле он бездействовал потому, что не мог больше действовать. Дантон был огромной силой, но эта сила потеряла опорную точку, чтобы утвердить свой рычаг и поднять республику. Положиться на якобинцев? Но он предал их Робеспьеру. На кордельеров? Он предоставил их Эберу. На Конвент? Уходя, он подчинил его Комитету общественного спасения. Он мог взывать только к смутному ропоту общественного мнения. Но мог ли сентябрьский деятель оказаться в самом деле милосердным? Мог ли Марий олицетворять гуманность? Не погиб ли он под тяжестью своего прошлого? Дантон чувствовал это, хоть и не сознавался и напускал на себя притворную беспечность.
Робеспьер, Сен-Жюст, Барер и сам Комитет хотели обезоружить гиганта перед тем, как вступить с ним в бой. В ночь с 30 на 31 марта прошло тайное заседание Комитета общественного спасения, Комитета общественной безопасности и Законодательного комитета. Лица у всех были угрюмы, все избегали смотреть друг на друга, никакие частные разговоры не предшествовали совещанию. Сен-Жюст более резким голосом, чем обычно, потребовал, чтобы предстоящее совещание, так же как и решение, которое будет принято, сохранялись в тайне. Затем, как будто не отдавая себе отчета в значении собственного предложения, он сказал: «Под республику подведен подкоп в самом Конвенте. Человек, остававшийся долгое время полезным, притворился, что удаляется из правительственных комитетов, чтобы не иметь ничего общего со своими товарищами и обвинить их затем в покушении на целостность родины. Под личиной гуманности он извращает мысли, усиливает ропот, возбуждает умы, сеет раздор в национальном представительстве, поддерживает надежду Вандеи, быть может, состоит в переписке с изгнанными тиранами, собирает вокруг себя всех порочных, слабых и переменчивых людей республики, назначает им роли и внушает им, чтобы они порицали спасительные меры строгости комитетов. Этот человек заключает в себе одном контрреволюцию! Этот человек… вы уже все назвали имя этого человека, — сказал он после минутного молчания, — Дантон! Его преступления подтверждаются уже самым молчанием, которое вы храните при его имени! Если бы он был невиновен, ваш ропот уже прервал бы меня. Все считают его опасным. Будем же иметь мужество отстаивать свои убеждения. Будем непоколебимы в исполнении своего долга! Я требую, чтобы Дантон и его главные сообщники Лакруа, Филиппо и Камилл Демулен были арестованы сегодня же ночью и преданы революционному суду!»
Робеспьер, выразивший свое негодование в первый раз, когда Билло-Варенн предложил арестовать Дантона, теперь молчал. Все поняли, что Сен-Жюст говорил с его одобрения. Молчание в такой ситуации подразумевалось само собой. Болтливость свидетельствовала бы о соучастии, а соучастие было равносильно приговору.
Впрочем, один из служащих услышал сквозь щель в дверях несколько слов из речи Сен-Жюста, побежал к Дантону и рассказал ему, что его имя, повторенное несколько раз в объединенном заседании трех комитетов должно заставить его опасаться зловещего решения. Он предложил ему верное убежище. Молодая жена Дантона заклинала его своею любовью послушаться этого предостережения.
Но Дантон, похоже, устал жить в постоянном страхе, который Цезарь считал ужаснее самой смерти. «Они очень долго будут совещаться, прежде чем нанесут удар, — сказал он. — Скажу больше: они будут совещаться бесконечно, и это я нападу на них, а не они на меня!» Дантон попрощался со своим незадачливым спасителем, прочел несколько страниц и заснул.
В шесть часов утра жандармы постучались в его дверь.
Весть об аресте Дантона и нескольких его сторонников с наступлением дня распространилась по всему Парижу. Никто не хотел в нее верить. Но самая эта дерзость указывала на то, что поступившие так чувствовали за собой необычайную силу. Не знали, следует ли роптать или рукоплескать. Все молчали, ожидая разъяснений.
Конвент собирался медленно. Члены его вполголоса обменивались предложениями по поводу прошлой ночи. И каждый мысленно спрашивал себя: остается ли хоть малейшая уверенность в будущем при власти, осмелившейся устранить самого Дантона?
Вошел Лежандр. Его лицо отражало происходившую в душе борьбу между мужеством и страхом, между дружбой с Дантоном и окружавшим его безмолвным подобострастием.
«Граждане, — сказал он, — сегодня ночью были арестованы четверо из членов этого собрания. Один из них Дантон. Имена остальных мне неизвестны. Что за дело до имен, если носящие их виновны? Но я требую, чтобы вы их допросили, судили и осудили или оправдали. Граждане, я являюсь только плодом гения свободы; я всецело его творение, и я выскажу свое предложение по возможности проще. Не ожидайте от меня ничего, кроме взрыва чувств. Я считаю Дантона столь же невинным, как самого себя, а никто из присутствующих здесь никогда не усомнится в моей честности!»
Ропот неодобрения при этих словах явился свидетельством дурной славы Дантона. Лежандр начал путаться. Молчание, однако, восстановилось по призыву председателя, и оратор продолжал: «Я имею право опасаться, что личная ненависть лишит свободы людей, оказавших ей величайшие услуги. Я обязан сказать это о человеке, который в 1792 году поднял всю Францию энергичными мерами, о человеке, который заставил установить смертную казнь для всякого, кто не выдаст своего оружия или не обратит его против врага. Я не могу считать его виновным, и я хочу здесь напомнить нашу взаимную клятву, данную в 1790 году, клятву, обязывающую того из нас, кто увидит, что другой ослабел или изменил народному делу, немедленно заколоть его мечом; я доволен, что вспомнил об этой клятве сегодня! Повторяю, я считаю Дантона столь же невинным, как и я сам. С сегодняшней ночи он в оковах. Я требую, чтобы до чтения какого бы то ни было доклада заключенных вызвали и выслушали».
Робеспьер почувствовал опасность инстинктом, выработанным привычкой к собраниям. Он вбежал на трибуну, громко стуча каблуками, как будто искал себе опору.
«Граждане! — сказал он. — По смятению, царящему теперь в нашем собрании, по волнению, которое вызвали слова говорившего предо мной, нетрудно заметить, что решается вопрос чрезвычайной важности. Речь идет о том, чтобы узнать, одержат ли верх выгоды нескольких честолюбивых ханжей над выгодами всего французского народа. (Рукоплескания.) Лежандру неизвестны имена арестованных; весь Конвент знает их. В числе арестованных его друг Лакруа. Почему Лежандр притворяется, что это ему неизвестно? Потому что он прекрасно знает, что нельзя, не будучи бесстыжим, защищать Лакруа. Он говорил о Дантоне, потому что, без сомнения, думает, что с этим именем связана известная привилегия. Нет, мы не хотим более привилегий; нет, мы не хотим более идеалов! (Бурные рукоплескания.)
Граждане, настало время сказать правду. Меня тоже хотели запугать, мне представляли Дантона человеком, с которым я должен вступить в союз, который должен защитить меня, который, будучи уничтожен, оставит меня без прикрытия под стрелами врагов. Друзья Дантона доставляли мне письма, думая, что воспоминание о старой дружбе, прежняя вера в ложные добродетели побудят меня уменьшить рвение и любовь к свободе. Я усмотрел в льстивых речах, с которыми ко мне обращались, лишь верные признаки страха, охватившего их еще раньше, чем им начала грозить опасность.
Я был другом Петиона; как только он сбросил с себя маску, я оставил его. Я состоял в дружбе с Роланом; он изменил, и я донес на него. Дантон хочет занять их место, и теперь в моих глазах он является только врагом отечества. (Рукоплескания.) Теперь нам необходимо некоторое мужество и некоторое величие души. Низкие души или виновные люди всегда боятся падения себе подобных, потому что, лишившись оплота из людей виновных, они становятся ближе к мечу правосудия. Но если и существуют низкие души, в настоящем собрании есть также и души героические, потому что оно управляет судьбами мира и уничтожает все партии. Число виновных не так велико!»
Сен-Жюст взошел на трибуну. Его уверенный вид придавал произволу облик правосудия. Серьезным и монотонным голосом, точно рассуждая вслух, он зачитал составленный им и Робеспьером доклад о грозивших республике заговорах.
«Граждане, — сказал Сен-Жюст, — революция заключается в народе, а не в известности отдельных лиц. Есть нечто ужасное в священном чувстве любви к родине; оно так исключительно, что умерщвляет все без сострадания, без страха, без уважения к человеку, ради общественного блага. Оно низвергает Манлия, а Регула увлекает в Карфаген, повергает римлянина в пропасть и помещает Марата в Пантеон. Комитеты общественного спасения и безопасности, исполненные этого чувства, уполномочили меня потребовать у вас, во имя отечества, правосудия над людьми, давно уже изменяющими народному делу».
Перейдя затем к обзору всех партии, начиная с Мирабо и кончая Шабо, Сен-Жюст воскликнул: «Дантон, ты дашь ответ неизбежному, непреклонному Правосудию! Проследим твою деятельность и укажем на то, что с первого же дня, будучи соучастником всех преступлений, ты всегда был противником партии свободы и составлял заговоры вместе с Мирабо, Дюмурье, Эбером и Эро де Сешелем! Ты объявил себя сторонником умеренных принципов, твое огромное тело маскировало слабость твоих советов. Ты говорил, что строгие законы создадут республике слишком много врагов. Пошлый примиритель, все твои речи с трибуны начинались подобно грому, а кончал ты их сделкой между истиной и ложью! Ты приноровлялся ко всему. Бриссо и его сообщники всегда уходили довольные тобой. На трибуне, когда тебя осуждали за молчание, ты давал им благие советы быть еще более скрытными. Ты угрожал им не с негодованием, а с отеческой добротою; ты скорее советовал им развратить свободу, чтобы спасти себя, и лучше обмануть нас, чем погубить их. „Ненависть, — говорил ты, — недоступна для моего сердца“. Но разве ты не виновен и не ответствен за то, что не ненавидел врагов отечества?
Ты с ужасом смотрел на революцию 31 мая. Недостойный гражданин, ты составлял заговоры; фальшивый друг, ты два дня назад дурно говорил о Камилле Демулене, твоем слепом орудии, погубленном тобой, приписывая ему позорные преступления. Негодяй, ты сравнил общественное мнение с развратной женщиной; ты говорил, что честь смешна, что слава и потомство — глупость! Эти убеждения должны бы были примирить с тобой аристократию. Таковы были убеждения Катилины. Если Фабр невиновен, если герцог Орлеанский и Дюмурье невиновны, то, конечно, невиновен и ты. Я слишком много сказал. Ты ответишь перед правосудием».
Перейдя от Дантона к его сообщникам, Сен-Жюст просил Конвент отнестись ко всем им по возможности строже. В конце речи он заявил: «Дни преступления миновали. Когда создают республику, то относятся с жестокой, непоколебимой строгостью к тем, кто изменил ей. Пусть сообщники обнаружат себя, став на сторону преступников. Все сказанное нами никогда не исчезнет с лица земли. Можно лишить жизни людей, подобно нам пошедших на все ради истины, но нельзя лишить их ни чувства, ни гостеприимной могилы, где они найдут убежище от рабства и позора видеть торжество злодеев.
Я оглашаю проект постановления:
Национальный Конвент, выслушав донесение Комитетов безопасности и общественного спасения, постановил признать виновными Камилла Демулена, Эро, Дантона, Филиппо, Лакруа, уличенных в сообществе с герцогом Орлеанским и Дюмурье, с Фабром д’Эглантином и врагами республики в участии в заговоре, пытавшемся восстановить монархию, уничтожить народное представительство и республиканское правление. Вследствие этого Конвент приказывает предать их суду вместе с Фабром д’Эглантином».
Никто не возразил против этих заключений. Голосование было так же единодушно, как и страх. Репутацию, свободу, жизнь и смерть представителей единогласно предоставили Комитету общественного спасения.
Между тем Дантон в своей темнице делал вид, что равнодушно относится к ожидавшей его участи. Он шутил через решетку с другими заключенными, в забавных выражениях описывал членов Комитета. «Республика сокрушит их, — говорил он. — Если бы я мог завещать свои ноги паралитику Кутону, а свою мужественность — слабосильному Робеспьеру, все могло бы еще некоторое время продержаться. Что касается меня, то я не сожалею о власти, потому что во время революции победа остается за наибольшими злодеями».
С удовольствием вспоминая о счастливых днях своего пребывания в Арсисюр-Об, он говорил о спокойствии, которое дает соприкосновение с природой душе человека, о семейном счастье, о своей пламенной любви к женщине, заставившей его забыть родину! Он жалел о множестве матерей, жен и невинных молодых девушек, заключенных в Люксембургской тюрьме. Он притворялся, что не знал об этих злоупотреблениях и насилии суровой власти Конвента. «Неужели, — спросила одна из узниц Лакруа, гулявшего с Дантоном по двору, — вы не знали, что тысячи арестованных наполняют тюрьмы, никогда не видели тележек с отправляющимися на казнь осужденными?» — «Нет, — ответил Лакруа, — я никогда не встречал их, никогда не видел их льющейся крови; она вызвала бы во мне ужас. Дантон и я, мы хотели республики без рабов».
Камилл Демулен благодаря любезности одного из тюремных надсмотрщиков получил возможность изредка переписываться с женой.
«Благодаря судьбе, — писал он, — я вижу из тюрьмы сад, где в течение восьми лет своей жизни постоянно видел тебя; Люксембургский сад пробуждает во мне массу воспоминаний о нашей любви. Меня держат в одиночном заключении, но никогда еще я не был мыслью, воображением, почти до осязаемости, ближе к тебе, к твоей матери, к нашему маленькому Горацию. Я пишу тебе это письмо единственно с тем, чтобы попросить у тебя самые необходимые вещи, но все время моего заключения я буду проводить за письмами к тебе, потому что мне не придется брать перо для своей защиты. Все мое оправдание заключается в восьми республиканских книгах. Это надежное изголовье, на котором покоится моя совесть в ожидании приговора суда и потомства. Я бросаюсь к твоим ногам, простираю руки, чтобы обнять тебя, и не нахожу… — Здесь заметны следы слез. — Пришли мне стакан, на котором вырезаны С и L, наши инициалы, и книгу, которую я купил несколько дней назад, где есть чистые листы, вложенные для того, чтобы писать заметки. Эта книга рассказывает о бессмертии души. Мне необходимо убедиться в существовании Бога, более справедливого, чем люди, и в том, что я непременно увижусь с тобою. Не слишком огорчайся моими мыслями, мой дорогой друг. Я еще не окончательно разочаровался в людях. Да, моя возлюбленная, мы еще можем снова увидеться в Люксембургском саду. Прощай, Люсиль! Прощай, Гораций! Я не могу обнять вас, но, проливая слезы, воображаю, что прижимаю вас к своей груди…»
Здесь опять виден след слез.
Час спустя заключенный снова взялся за перо.
«Небо сжалилось над моей невинностью, — писал он жене, — оно послало мне сон, в котором я увидал всех вас. Пришли мне прядь своих волос и свой портрет, потому что я думаю только о тебе, а не о том деле, которое привело меня сюда и смысл которого я не могу угадать».
На следующий день Камилл Демулен писал жене последнее письмо. Это было завещание его сердца, отдавшегося любви, прежде чем перестать биться под рукой палача.
«Второго апреля, 5 часов утра.
Благодетельный сон сократил мои мучения. Человек свободен, когда спит. Небо сжалилось надо мною. Минуту назад я видел во сне и по очереди целовал всех вас, тебя, твою мать, Горация, всех! А потом снова увидел себя в тюрьме. Начало светать. Не имея возможности видеть тебя и слышать то, что ты говорила, потому что ты и твоя мать во сне разговаривали со мной, я встал, чтобы хоть самому поговорить с тобой и написать тебе. Но когда я отворил окно, мысль о моем одиночестве, ужасные решетки, засовы, отделяющие меня от тебя, сокрушили мою душевную твердость. Я заплакал, зарыдал, крича в моей гробнице: „Люсиль! Люсиль! О, дорогая моя Люсиль! Где ты?“
Дорогая Люсиль! Я переживаю снова первые дни нашей любви, когда меня интересовал всякий уходивший от тебя единственно потому, что он был у тебя. Вчера, когда гражданин, отнесший тебе мое письмо, вернулся, я сказал ему: „Итак, вы видели ее?“ — и поймал себя на том, что осматривал его, точно его платье и он сам сохранили следы твоего присутствия, тебя самой. У него добрая душа, потому что он немедленно доставил тебе мое письмо. Я буду видеть его, кажется, два раза в день, утром и вечером. Этот вестник моих несчастий становится мне так же дорог, как когда-то мог быть вестник радостей.
Ты представить себе не можешь, что значит сидеть в одиночном заключении, не зная за что, не будучи допрошенным и не получая ни одной газеты! Это смерть при жизни; это значит существовать только для того, чтобы чувствовать, что находишься в гробу! И это Робеспьер подписал приказ о моем аресте! И это республика, после всего что я сделал для нее! И вот какую награду я получаю за столько добродетелей и жертв! Я, в течение пяти лет подвергавшийся стольким опасностям ради республики, оставшийся бедняком во время революции, я, который должен просить прощения только у тебя одной на свете и которому ты уже простила, потому что знаешь, что, несмотря на недостатки, мое сердце достойно тебя, — и это я брошен в тюрьму людьми, называвшими себя моими друзьями и величающими себя республиканцами! Сократ выпил цикуты, но он по крайней мере видел в тюрьме своих друзей и жену.
Как тяжело быть в разлуке с тобой! Самый большой преступник был бы слишком строго наказан, если бы был разлучен со своей Люсиль иначе, чем смертью, которая дает почувствовать горечь подобной разлуки только в течение одного мгновения. Меня зовут…»
Продолжение письма: «Меня только что допрашивали комиссары Революционного трибунала… Мне задали только один вопрос: не составлял ли я заговора против революции? Какая насмешка! Разве можно оскорблять так самый чистый республиканизм! Я предвижу ожидающую меня судьбу. Прощай, Люсиль, передай мой прощальный привет отцу. Мои последние минуты не покроют тебя бесчестием. Я умираю тридцати четырех лет. Я пришел к сознанию, что власть опьяняет почти всех людей, что все говорят подобно Дионисию Сиракузскому: „Тирания — прекрасная эпитафия!“ Но утешься, эпитафия у твоего бедного Камилла будет еще более славная: эпитафия Брутов и Катонов, убийц тиранов. О, дорогая Люсиль! Я мечтал о республике, которую обожал бы весь мир. Я не мог представить себе, что люди так кровожадны и несправедливы. Я вполне сознаю, что пал жертвой моей дружбы с Дантоном, и благодарю своих убийц за то, что они дают мне умереть с ним. Прости мне, мой дорогой друг, моя истинная жизнь, которой я лишился с той минуты, как нас разлучили! Я беспокоюсь насчет памяти обо мне, хотя мне скорее следовало бы позаботиться о том, чтобы ты меня поскорее забыла, моя Люсиль! Умоляю тебя, не призывай меня своими слезами, они разорвали бы мне сердце. Живи ради нашего ребенка! Говори ему обо мне; ты скажешь ему то, чего он не может услышать: что я бы его очень любил!
Несмотря на казнь, я верю, что есть Бог. Моей кровью я искуплю свои грехи, слабости человечества; за то, что во мне было хорошего, за мои добродетели, любовь к свободе Бог меня вознаградит. Когда-нибудь я увижусь с тобою, о Люсиль! При той чувствительности, которой я обладаю, смерть, освобождающая меня от зрелища стольких преступлений, разве уж такое большое зло? Прощай, моя жизнь, моя душа, мое земное божество! Прощай! Люсиль! Моя Люсиль! Моя дорогая Люсиль! Прощай, Гораций! Аннета! Адель! Прощай, отец! Я чувствую, как от меня убегает берег жизни! Я еще вижу Люсиль! Я вижу ее, мою возлюбленную! Мои связанные руки обнимают тебя, и моя отделенная от туловища голова не отводит от тебя своих потухающих глаз».
Суд начался 2 апреля. Дантон предстал перед судьями с театральным величием. Когда председатель спросил его имя, возраст и место жительства, он ответил: «Я Дантон, достаточно известный в революции. Мне тридцать пять лет. Моим жилищем скоро будет Нирвана, мое имя будет жить в Пантеоне истории».
«А мне, — сказал Камилл Демулен, — тридцать три года, возраст санкюлота Иисуса, когда Он умер».
Когда. Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель, родственник Демулена, обязанный ему своим положением, посадил с ними на одну скамью Шабо, Фабра д’Эглантина и других интриганов, Дантон и его друзья встали и отошли, возмущенные тем, что их смешивают с людьми, обвиняемыми в подлости. Допрос начали с них. Фабр д’Эглантин защищался с искусством человека, изощрившегося в красноречии. Показание Камбона, отличавшегося античной честностью, не оставило никакого сомнения в подделке финансового декрета. Несчастный юный Базир был виновен только в том, что дружил с Шабо, и в молчании, которое хранил, чтобы не погубить своего друга. Базир умер за то, что не согласился сделаться доносчиком.
Наконец председатель суда Эрман вызвал Дантона.
Он обвинялся в дружбе с Дюмурье и в тайных сношениях с целью восстановления королевской власти путем совращения армии и выдвижения ее против Парижа. Дантон громко сказал: «Неужели оклеветавшие меня негодяи осмелятся напасть на меня открыто? Пусть они явятся, и я тотчас же покрою их самих тем позором, который они заслужили! Впрочем, — продолжал он, путаясь в словах и с торопливостью, свидетельствовавшей о бурливших в нем мыслях, — я сказал и повторяю: мое жилище скоро будет в Нирване, а мое имя — в Пантеоне. Голова моя здесь и отвечает за все… Жизнь мне в тягость, мне хочется поскорее освободиться от нее!.. Люди моего закала неоценимы… На их челе неизгладимыми знаками запечатлена печать свободы, республиканский гений… И меня-то обвиняют в раболепстве перед двором! Сен-Жюст! Ты отвечаешь за клевету, направленную против лучшего друга народа. Читая этот список ужасов, я чувствую, как содрогается все мое существо».
Эти слова свидетельствовали скорее о гордости, чем о невинности. Председатель заметил подсудимому, что Марат, обвиненный подобно ему, защищался бы иначе и разбил бы обвинение своими хладнокровно приводимыми опровержениями.
«Хорошо, — продолжал Дантон, — я перейду к своему оправданию, — но, снова уклонившись от логической защиты, воскликнул с волнением: — Я продался Мирабо, герцогу Орлеанскому, Дюмурье!.. Весь свет знает, что я вел борьбу с Мирабо, что я защищал Марата! Низкие клеветники, покажитесь, и я сорву с вас маску, скрывающую вас от народного преследования!»
Председатель еще раз призвал его к умеренности и скромности, приличествующей подсудимому.
«Подсудимый, подобный мне, — возразил Дантон, — познавший цену слов и дел, ответствует перед судом, но не говорит с ним. Меня обвиняют в том, что 10 августа я удалился в Арсисюр-Об. Я скажу вот что: в то время я заявил, что французский народ одержит победу или меня не будет на свете! Мне необходимы, добавил я, лавры или смерть! Где же те люди, у которых Дантон заимствовал энергию? За два последних дня суд узнал Дантона! Завтра я надеюсь почить на лоне славы!.. Петион, — продолжал он, потеряв нить мыслей и снова найдя ее, — Петион из Коммуны пошел к кордельерам! Он сообщил нам, что в полночь ударят в набат и на следующий день сойдет в могилу тирания. Мне отдали на хранение, когда я был министром, пятьдесят миллионов — я сознаюсь в этом. Это было сделано, чтобы дать толчок революции. Правда, что Дюмурье пробовал привлечь меня на свою сторону, стараясь польстить моему тщеславию, предложив мне министерство; но я заявил ему, что желал бы занять подобное место только под гром пушки. Мне говорят также о Вестермане, но с ним у меня никогда не было ничего общего. Я знаю, что 10 августа Вестерман вышел из Тюильри весь залитый кровью роялистов, а я говорил, что с семнадцатью тысячами человек, расположенных по предложенному мной плану, можно было бы спасти отечество…»
Слова Дантона так невнятно слетали у него с губ, что, казалось, они своей тяжестью душили мысли. Ему недоставало красноречия обвиняемого, хладнокровия правдивости и голоса сердца. Он старался заменить их жестами и шумом. Конвульсивные подергивания лица, отрывистая речь, пена, выступившая на губах, сдавленное дыхание свидетельствовали о том, что он не в силах продолжать говорить. Судьи выказали к нему сострадание и заметили, что ему надо успокоиться. Он замолчал.
Перешли к Камиллу Демулену, обвиненному в том, что он оскорбил народное правосудие, сравнив его с преступлениями тиранов. «Я не мог защищаться против моих врагов иначе, чем сильно заостренным оружием, и я неоднократно доказывал революции, что готов жертвовать ей всей моей жизнью», — сказал он.
Лакруа, на вопрос по поводу его полномочий в Бельгии и исчезновения воза с 400 000 фунтов ценного груза, ответил: «Мы, Дантон и я, купили разного белья для народных представителей. У нас был воз серебра, который расхитили в одной деревне».
Это первое заседание встревожило Комитет общественного спасения. Дантон, ободренный сочувствием, которое ему выказывал народ, говорил громко, чтобы его слышали вне зала. Минутами он так ревел, что голос его доносился до другой стороны Сены. Казалось, в груди его раздавался набат, призывавший к восстанию. Эрман звонил, не переставая, чтобы водворить тишину. «Разве ты не слышишь звона?» — спросил он Дантона. «Председатель, — ответил тот, — голос человека, защищающего свою жизнь, обязан покрыть звон твоего колокольчика».
На следующем заседании обвиняемые, и в особенности Лакруа, настойчиво потребовали, чтобы членов Комитета вызвали в качестве свидетелей. Фукье-Тенвиль отклонил это требование. Председатель приступил к допросу Филиппо, доказывавшему свою невинность с достоинством и силой убеждения. «Вам дано право погубить меня, — сказал он, — но я запрещаю вам оскорблять меня». Вестерман давал показания как воин, для которого важнее спасти свою честь, чем отстоять свою жизнь.
Подсудимых снова увели в тюрьму. Встревоженный Комитет общественного спасения не решался ни продолжать процесс, ни прекратить его. Закон требовал, чтобы прения продолжались по крайней мере три дня. Заседание следующего дня могло окончиться оправданием. Роковая случайность положила конец беспокойству Комитета.
Заключенные Люксембургской тюрьмы, надеясь на популярность Дантона, решили воспользоваться волнением, вызванным процессом, чтобы составить заговор с целью поднять народный мятеж. Ночью в комнате генерала Диллона состоялось совещание между Шометтом и некоторыми из главных подсудимых. Они договорились с несколькими сторонниками на воле. Жена Камилла Демулена должна была броситься к толпе, повлиять на нее своей красотой, горем и красноречием и увлечь ее против Конвента.
Антонелль, бывший председатель Трибунала, был уведомлен о заговоре. О нем донес заключенный Лафлотт. Четвертого апреля рано утром Сен-Жюст поспешил созвать Конвент. Билло-Варенн прочел письмо Лафлотта; Конвент постановил, что все виновные в заговоре против народного правосудия не будут допущены до прений и лишатся права защиты. Члены Комитетов тотчас бросились к Фукье-Тенвилю, чтобы передать ему это постановление. Фукье прочитал его судьям. Дантон встал, чтобы продолжать свою защиту. «Народ! — кричит он шумящей вокруг него толпе. — Молчи! Ты будешь судить меня, когда я кончу говорить! Мой голос должен слышать не только ты, но вся Франция! Я беру в свидетели всех присутствующих, что мы не оскорбляли суд». Присутствующие рукоплесканиями подтверждают слова Дантона. Негодующая толпа начинает волноваться и приближается к скамье подсудимых, как бы желая освободить их. Но за отсутствием возбуждающей силы все успокоилось. Председатель отказывает в слове Камиллу Демулену, который возмущается и разрывает исписанный лист, а клочки бросает на паркет. Но потом он подбирает их и, скомкав в шарики, начинает бросать ими в голову Фукье-Тенвиля. Дантон нагибается и следует его примеру.
Клочья речи Камилла Демулена, собранные после заседания одним из друзей Дантона, передали госпоже Дюплесси, теще Демулена, для восстановления во всей целости.
Дантон тщетно пытался протестовать еще раз. «Когда-нибудь, — воскликнул он, — истина будет обнаружена; я вижу великие бедствия, надвигающиеся на Францию. Вот что значит диктатура!»
Суд объявил заседание закрытым. Назавтра, так как истек трехдневный срок, объявили, что прения закончены.
Присяжные совещались долго. Страшная тревога овладела их сердцами. Никто из них не верил в преступность Дантона, но все верили в его порочность. Большинство колебалось, начались зловещие споры. Субербьель, бывший друг обвиняемых, колебался больше всех. Он любил Дантона, боялся Робеспьера, но более всего он боготворил республику. Взволнованный своими мыслями, он порывистыми шагами ходил взад-вперед по коридору, примыкающему к залу совещаний. К нему подошел один из его товарищей, Топино-Лебрюн. «Ну, Субербьель, — спросил Лебрюн, — что ты тут делаешь?» — «Я размышляю об ужасном поступке, исполнения которого от нас требуют», — ответил Субербьель. «А я уже покончил с размышлениями». — «К чему же ты пришел?» — «Я сказал себе: это не процесс, а мероприятие. Мы вознесены благодаря обстоятельствам на такую высоту, где правосудие исчезает, уступая место политике. Мы уже не присяжные, а мужи государства». — «Однако, — заметил Субербьель, — разве есть два рода правосудия: одно для обыкновенных людей, а другое для людей, стоящих выше? И невинность внизу разве становится преступлением наверху?» — «Дело не в этих рассуждениях, а в благоразумии и патриотизме. Дантон и Робеспьер не могут прийти к соглашению. Для спасения отечества один из них должен погибнуть! Спроси себя, как добрый патриот: который из двух более необходим в данную минуту республике, Робеспьер или Дантон?» — «Робеспьер!» — не колеблясь ответил Субербьель. «Итак, ты произнес приговор», — заявил Топино-Лебрюн и ушел.
Вернувшись в тюрьму, где должны были ждать часа казни, осужденные сбросили с себя маски, в которых разыгрывали перед публикой драму, и приняли перед лицом смерти свой естественный облик. Эро де Сешель, ученик Руссо, вынул из кармана книгу сочинений этого философа, прочел несколько страниц и поздравил себя с тем, что уходит из мира, с предрассудками и суевериями которого боролся, чтобы водворить первенство природы и разума. «О, мой учитель! — воскликнул он, закрывая книгу. — Ты страдал за правду, я умираю за нее. Ты гений, я мученик; ты более велик как человек, но кто из нас может быть назван более философом?»
Филиппо улыбался, как будто совесть его черпала мужество в сознании совершенных им добрых дел. Камилл Демулен решил перед смертью прочесть Юнга и Гарвея, двух поэтов агонии. «Ты, значит, хочешь умереть дважды!» — сказал ему, шутя, Вестерман. «О, моя Люсиль! О, мой Гораций! — воскликнул Демулен, заливаясь слезами. — Что будет с вами?»
Лишь Дантон, похоже, продолжал играть спектакль: он отпускал остроты, чтобы они пережили его, точно это были медали с его изображением, которые он бросал потомству с порога могилы. «Они думают, что могут обойтись без меня, — говорил Дантон. — Но они ошибаются. Я был государственным деятелем европейского масштаба. Они не подозревают, какую пустоту оставит после себя эта голова, — сжимал он щеки ладонями своих больших рук. — Я хорошо воспользовался своим коротким существованием, наделал много шума на земле, насладился жизнью, пора заснуть!»
В тот день, 5 апреля, в четыре часа дня, помощники палача пришли, чтобы связать руки и обрезать волосы осужденным. Те подчинились беспрекословно, приправляя шутками свой смертный приговор: все, за исключением одного Демулена. Когда палачи хотели схватить Камилла, чтобы связать его так же, как других, он с отчаянием начал отбиваться от них: эти приготовления не оставляли у него сомнений в неизбежности смерти. Пришлось повалить его на пол. Усмиренный и связанный, он умолял Дантона вложить ему в руку прядь волос Люсиль, которую он носил под одеждой. Дантон оказал ему эту печальную услугу и затем беспрекословно дал себя связать.
Всех осужденных посадили в одну тележку. Небольшая кучка мужчин в лохмотьях и подкупленных женщин следовала за тележкой, осыпая осужденных бранью и насмешками. Камилл Демулен не переставая всхлипывал, обращаясь к толпе: «Великодушный народ, несчастный народ! Тебя обманывают, тебя губят, умерщвляют лучших твоих друзей! Узнайте меня, спасите меня! Я Камилл Демулен! Это я призвал вас к оружию 14 июля! Это я дал вам национальную кокарду!» Совершая усиленные движения плечами, чтобы ослабить веревки, он так изодрал свою рубашку, что его костлявый торс виднелся из тележки почти совершенно обнаженный. Со времени казни госпожи Дюбарри не слыхали подобных криков и не видали таких судорог во время агонии. Дантон, сидевший рядом с Демуленом, старался усадить своего молодого товарища, упрекая его за выставление напоказ своего отчаяния. «Да сиди же ты смирно, — говорил он ему строго. — Перестань дразнить эту мерзкую сволочь!» Что касается его самого, то он уничтожал толпу равнодушием и презрением. Когда кортеж проезжал мимо дома, где жил Робеспьер, толпа удвоила оскорбления, как бы желая почтить своего кумира, усугубляя мучения его соперника. «Бедный Камилл, — сказал Робеспьер, — отчего я не мог спасти его! Но он сам себя погубил! Что касается Дантона, я прекрасно знаю, что он расчищает мне дорогу; но, невинные или виновные, мы все должны отдать наши головы республике. Республика узнает своих по ту сторону эшафота».
Эро де Сешель первым сошел с тележки. Порывисто приблизил он лицо свое к лицу Дантона, чтобы поцеловать его. Палач разлучил их. «Злодей, — сказал Дантон палачу. — Ты не помешаешь нашим головам обменяться поцелуем в корзине».
За ним взошел Камилл Демулен. В последнюю минуту к нему вернулось спокойствие. Он теребил локон жены, как будто хотел высвободить руку, чтобы поднести эту реликвию к губам. Подойдя к орудию смерти, он спокойно посмотрел на нож, с которого стекала кровь его друга, потом поднял глаза к небу и воскликнул: «Так вот конец первого апостола свободы! Чудовища, убивающие меня, недолго переживут меня. Попроси передать эти волосы моей теще», — сказал он затем палачу. Это были его последние слова.
Дантон взошел после всех. Никогда не имел он столь величественного и внушительного вида. Он выпрямился на эшафоте, как бы примеряясь к своему пьедесталу. Его лицо, казалось, говорило: «Всмотритесь в меня внимательней, вы больше не встретите никого, похожего на меня». Однако природа на минуту сломила эту гордость. Крик, при воспоминании о молодой жене, вырвался у него из груди. «Дорогая моя, — воскликнул он со слезами на глазах, — я больше не увижу тебя!» Затем, как бы упрекая себя, он прибавил: «Довольно, Дантон, довольно слабости!» И, повернувшись к палачу, сказал повелительно: «Покажи мою голову народу — она стоит этого». Голова его упала. Палач, повинуясь последнему его желанию, вынул ее из корзины и обнес вокруг эшафота.
Толпа рукоплескала.
LVI
Письмо госпожи Дюплесси Робеспьеру — Сен-Жюст в армии — Битва при Флёри — Решение вторгнуться в Голландию — Австрийцы снова переходят Рейн — Пруссаки удаляются в Майнц — Бой 1 июня 1794 года — Кондорсе принимает яд — Террор и казни усиливаются — Перенесение гильотины — Казнь аббата Фенелона
Не успел умереть Дантон, как Террор, на укрощение которого он положил столько сил, вмиг ожил. Двадцать семь осужденных всех сословий, взглядов, обоих полов, брошенные в Люксембургскую тюрьму по обвинению в заговоре, предстали перед Революционным трибуналом. Среди них присутствовали генерал Артур Диллон, Шометт, адъютанты Ронсена, генерал Бейсер, епископ Гобель, актеры Граммон, отец и сын, вдова Эбера и, наконец, жена Камилла Демулена. Общим их преступлением стала неосторожная попытка к освобождению себя или дорогих для них людей.
Госпожа Эбер вполне сознавала ожидавшую ее участь. Она не хотела продлевать жизнь, полузадушенную в детстве монастырем, опозоренную в миру именем, которое она носила, проведенную в борьбе между ужасом и любовью к памяти мужа, несчастную всегда. «Я обязана революции только мгновением свободы и счастья, — говорила она своей подруге по несчастию Люсиль Демулен, — … ужасно любить человека, которого все ненавидят. Мне не простят память о нем; я умру, чтобы искупить смертью страсть, которую оплакиваю… Вы, сударыня, счастливы, — прибавила она. — Против вас не может быть выставлено никакой улики. Вас не отнимут у ваших детей, вы останетесь живы!» Люсиль Демулен не разделяла этой надежды: «Негодяи убьют меня, как и его, но они не знают, какое негодование возбуждает в душе народа кровь женщины! Разве не кровь женщины изгнала навсегда из Рима Тарквиния? Пусть они убьют меня, и тирания падет вместе со мною!»
Эти две вдовы, которые за несколько дней до того враждовали друг с другом, являли собой одну из жесточайших насмешек судьбы. За несколько месяцев перед этим обе радовались казни королевы и смерти госпожи Ролан. Теперь же они на себе испытывали те же страдания. Заблуждение и месть следуют одно за другой во времена переворотов.
Тщетно мать Люсиль, прекрасная и несчастная госпожа Дюплесси, обращалась к друзьям Робеспьера, стараясь разжалобить его воспоминаниями о прежних отношениях. Все двери закрывались при упоминании имен родственников Камилла и Дантона. «Робеспьер, — написала она в отчаянии, — тебе мало того, что ты убил своего лучшего друга, тебе нужна еще кровь его жены, моей дочери!.. Твое чудовище Фукье-Тенвиль только что отдал приказ отправить ее на эшафот. Робеспьер, если кровь Камилла не опьянила тебя до потери рассудка, если ты помнишь, как ласкал маленького Горация, которого любил держать на коленях, если ты вспомнишь, что должен был сделаться моим зятем, женившись на Адели, сестре Люсиль, пощади невинную жертву! Но если твоя ярость подобна ярости льва, поскорее возьми также и нас — меня, Адель и Горация; разорви нас собственными руками, на которых еще не остыла кровь Камилла. Не медли — и пусть нас соединит одна могила!»
Это письмо осталось без ответа. Люсиль отвезли на эшафот 13 апреля. Ее стройный стан, лицо, казавшееся еще моложе ее лет, бледность, борющаяся на щеках со свежестью юности, имена ее мужа, матери и ребенка, которых она звала, сидя в тележке, везущей ее к эшафоту, — все это трогало толпу. В ее лице смерть наносила удар не партии, а природе. Ее оплакивали. Быть может, эта жертва была отомщена более, чем другие, несколько месяцев спустя. Эта кровь женщины обесцвечивала пролитую раньше.
Комитеты боялись, чтобы смерть Дантона не вызвала волнений в департаментах. Его казнь могла стать государственным переворотом. Результат превзошел все ожидания. Общий крик одобрения донесся из всех клубов республики, все друзья Дантона отреклись от него. Даже Лежандр низкопоклонством искупил слабую попытку к независимости, которую осмелился предпринять. Он надоел Робеспьеру заявлениями о своем раскаянии. «Я был другом Дантона, пока верил в его честность, — говорил он, — теперь во всей республике не найдется человека, более меня убежденного в его преступлениях».
Комитет общественного спасения, укрепив власть внутри страны, обратил все внимание на границы.
Сен-Жюст снова отправился в армию. Открытие кампании 1794 года требовало со стороны Конвента принятия энергичных мер. С подозрением наблюдавшие друг за другом союзники, рассчитывая на внутренние раздоры во Франции, ничего не предпринимали в течение всей зимы. Они довольствовались тем, что сохраняли свои позиции. План заключался в том, чтобы всей массой двинуться на Ландреси, а оттуда через Лан на Париж. Войска их в марте состояли из: 60 тысяч австрийцев и эмигрантов под началом герцога Саксен-Тешенского на Рейне; 65 тысяч пруссаков около Майнца, в Люксембурге и на Самбре, под предводительством Бальё, Бланкенштейна и принца Кауница; наконец, 120 тысяч под началом принца Кобургского и Клерфэ маневрировали между Кенуа и Эско.
Военные силы французов составляли: Верхне-Рейнская армия — 60 тысяч; Мозельская — 50 тысяч; Арденнская — 30 тысяч; Северная — 150 тысяч. Военные действия начались наступлением союзников и осадой Ландреси. Центр французов стремительно отодвинули, оба фланга оставались без прикрытия и связи с главной частью армии.
Во время этих сражений генералы Суам и Моро врасплох напали на Клерфэ и отняли у него города Куртре и Менен. Пишегрю, увлеченный своими первыми успехами, не побоялся оставить дорогу на Париж без прикрытия, перебросив всю свою армию для поддержки Моро и Суама. «Если Кобург осмелится проникнуть во Францию, — думал Пишегрю, — он очутится между Парижем и 120-тысячной французской армией, которая отрежет его от Фландрии и Германии».
Этот смелый план удался. Принц Кобургский не принял вызов и повернул свою армию, намереваясь следовать за Пишегрю и окружить его уже в завоеванных им землях.
Единственный военный совет, созванный в Турне, на котором присутствовал император, составил новый план кампании, его назвали «планом уничтожения французской армии». Союзники надеялись, что, когда армия будет окружена, руки у революции окажутся связаны и можно будет нанести ей удар прямо в сердце.
Они шестью колоннами отправились против Северной армии, которую собирались встретить между Мененом и Куртре. Пишегрю отсутствовал: он делал смотр войскам на Самбре. Моро и Суам расстроили планы союзников, одновременно напав на разрозненные колонны и помешав им соединиться. Восемнадцатого мая они одержали победу у Туркуэна и обратили в бегство при Ватерлоо наступавшую английскую армию. Герцог Йоркский, командовавший этой армией, спасся только благодаря быстроте своего коня. Три тысячи пленных и шестьдесят пушек достались республиканцам. Моро, которому была поручена осада Ипра, отбросил Клерфэ, пришедшего на помощь городу во главе тридцати тысяч солдат. Моро овладел городом после нескольких жестоких штурмов и взял шесть тысяч пленных.
Во время этих операций Карно сохранил Самбру, хотя уже много раз ее то уступали союзникам, то вновь овладевали ею, — казалось, эта река является фатальной границей, оспариваемой монархиями у республики. Карно послал туда Журдана, несправедливо лишенного командования Северной армией и назначенного теперь командовать Самбро-Маасской. Так Журдан отомстил своей неблагодарной родине, защищая ее своей шпагой и своим гением. Сен-Жюст и Леба, находившиеся в слабых корпусах, постоянно перебрасывали свои войска на другую сторону реки, чтобы перенести военные действия на неприятельскую землю. Журдан, прибывший с Арденнской армией, по совету этих представителей решил перейти Самбру. Марсо и Дюгем оттеснили австрийцев, и благодаря такому маневру следовавшая за ними армия смогла перейти Самбру, но, не получив поддержки, вскоре переправилась обратно. Сен-Жюст приказал генералам Шарбонье и Дежардену снова овладеть Самброй или умереть. 20 мая они бросились на противоположную сторону реки. Остановившись на неприятельском берегу, Шарбонье и Дежарден по приказу военного совета отправили Клебера и Марсо за припасами на французский берег. Атакованные во время этого неосторожного разделения войск, французы были отброшены в реку и спаслись только благодаря храбрости Клебера и Бернадотта, которые поспешили вернуться, когда услыхали пушечную пальбу. Окрашенная кровью французов, Самбра снова потекла между ними и неприятелями.
Несмотря на то что Журдан приближался, нетерпеливый Сен-Жюст не хотел его ждать. «Шарлеруа, Шарлеруа! — повторял он беспрестанно генералам, как Катон римлянам: — Поступайте, как хотите, но республике нужна победа».
Двадцать шестою мая Клебер переправился снова и в течение трех часов ждал под градом картечи подхода колонн, которые должны были следовать за ним. Наконец, подавленный вновь подоспевшими батареями, расстроившими оба фланга его авангарда, он вынужден был отступить. Двадцать девятого числа Сен-Жюст заставил переправиться Марсо и Дюгема. Голова их колонны наткнулась на тридцатитысячное войско принца Оранского, и только остатки разгромленной колонны французов смогли переправиться через реку. Наконец в разгар этих бесполезных наступлений появился Журдан. Сен-Жюст тотчас объявил его командующим обеими армиями, подчинил ему всех генералов и все корпуса и предоставил право самостоятельно вести военные действия. Журдан в десятый раз перешел Самбру и пошел к Шарлеруа. Начав бомбардировать город, он распределил свои войска на позициях в ожидании близкой битвы; но, внезапно атакованный массой трех неприятельских армий, был вынужден, несмотря на чудеса храбрости и находчивость Клебера, Марсо, Дюгема, Лефевра и Макдональда, поспешно отступить в долину Самбры и снова искать защиты за ее водами. Сен-Жюст, разгневанный, хоть и сам стал свидетелем стойкости войск, страшился того, чтобы эта новая неудача не поколебала популярности Комитета и Робеспьера. Он сам бился как герой, но храбрость без победы ничего не значит. Победа для Сен-Жюста имела политическое значение. Карно постоянно писал ему: «Победа на Самбре или анархия в Париже».
Восемнадцатого июня Журдан наконец воспользовался беспечностью, которую проявил Кобург, снова перешел Самбру и двинулся на Шарлеруа. На середине пути он поставил в редуте восемнадцать орудий крупного калибра, которыми заставил артиллерию Шарлеруа замолчать. В тот же день город сдался. В то время как гарнизон уходил из города, пушечные выстрелы, гремевшие вдали, возвестили Шарлеруа о приближении запоздавшего подкрепления, а Журдану — о близком сражении. Это подходил принц Кобургский, который, соединившись с принцем Оранским, открыл огонь по аванпостам французской армии. Журдан расположил свои войска в виде серпа; оба его крыла упирались в Самбру, перейти которую теперь уже было невозможно, и им не оставалось иного выхода, кроме как победить или умереть. Марсо, Лефевр, Шампионне и Клебер командовали корпусами.
Принц Кобургский действовал согласно избитому приему войны, разделив свои силы и атаки. Он образовал из своих 80 тысяч человек пять колонн, которые двинулись полукругом, чтобы напасть на французскую армию на всех пунктах сразу. Принц Оранский, генерал Каснодович, принц Кауниц, брат императора герцог Карл и генерал Балье командовали наступающими колоннами. Оттесненный Шампионне отступил. Очищенное им пространство немедленно заняла многочисленная неприятельская кавалерия, и оно сделалось центром поля сражения.
Ход битвы между Лефевром и Шампионне и австрийцами скрывали от Журдана облака пыли. В эту минуту над облаками появился воздушный шар с офицерами французского генерального штаба. Это Карно пожелал применить в военном искусстве бесполезное дотоле изобретение. Подвижная наблюдательная станция, недоступная ядрам, должна была доставить сведения главнокомандующему. Офицеры, находившиеся на шаре, заметили опасное положение Шампионне и спустились, чтобы сообщить об этом Журдану. Последний немедленно двинулся на помощь Шампионне со своими резервами, состоявшими из шести батальонов и шести эскадронов, и вместе с ним вернулся форсированным маршем на покинутые позиции. Большой редут, снова перешедший в руки французов, начал осыпать ядрами австрийцев, вырывая целые ряды их. Французская кавалерия галопом бросилась в образовавшиеся бреши, расширяя их ударами сабель, и захватила пятьдесят артиллерийских орудий. Принц Кобургский заметил трехцветное знамя, развевающееся над укреплениями Шарлеруа, дал сигнал к отступлению и, покинув поле сражения, отдал честь победы Журдану — 26 июня 1794 года.
Двадцать тысяч трупов остались на поле сражения. Эта победа вновь отдала в руки республики Бельгию и не замедлила подчинить законам Конвента французские города, временно занятые иностранцами. Карно и Сен-Жюст решили соединить Северную армию с Самбро-Маасской, отправить Пишегрю на завоевание Голландии, прервать сношения между армиями Клерфэ и герцога Йоркского и таким образом разъединить огромную союзную армию, поднять Рейнские провинции и Нидерланды, воспользоваться нерешительностью Пруссии, отделить Австрию от союзников и выслушать мирные предложения, которые император уже начал делать Робеспьеру.
Единственной опасностью для республики в последние месяцы предыдущей кампании стала блокада Ландау и оккупация линий Вейсенбурга — ключей к Рейнской и Вогезской долинам. Тогда Комитет общественного спасения решил совершить отчаянное усилие, чтобы вернуть эту позицию и освободить от блокады Ландау. Массовый набор и единодушный порыв воинственного населения Эльзаса, Вогезов и Юры быстро пополнили ряды этих трех армий. Пишегрю командовал Рейнской армией. В несколько дней он воодушевил свою армию огнем, горевшим в его молодой душе. С тридцатью тысячами человек он бросился на Вогезские высоты, сначала имел успех, но затем потерпел неудачу и отступил; несмотря на поражение, он заслужил уважение членов Конвента, ставших свидетелями его храбрости. Получив подкрепление из Арденнской армии, он снова двинулся вперед, бросился на австрийского генерала, разбил его, отбросил правое крыло, захватил позиции, взял в плен значительные силы и соединился с Рейнской армией. Блокада с Ландау была снята 28 декабря 1793 года. Австрийцы перешли Рейн обратно, пруссаки отошли к Майнцу. Старый герцог Брауншвейгский отказался от командования, оскорбленный тем, что его победил двадцатишестилетний генерал.
После зимы 1793–1794 года другие границы сделались так же безопасны, как и рейнские. В Савойе генерал Дюма овладел Альпийскими высотами и с вершин Сен-Бернара и Мон-Сени угрожал пьемонтцам. Комитет общественного спасения задумал вторжение в Италию. Массена и Серюрье постепенно открывали доступ к ней со стороны Ниццы. Бонапарт, бывший в то время только командующим батальоном этой армии, посылал планы Карно и Баррасу.
В Вандее бунтующие отряды республиканцев повсюду несли с собой огонь и смерть. Главнокомандующий д’Эльбе попал в их руки и был расстрелян в Нанте.
В Пиренеях испанская армия, лишившаяся двух своих генералов, прикрывалась рекой Таго от атак Ожеро, Периньона и Дюгомье. Старый генерал Дагобер, с нетерпением переносивший свое бездействие, занял Каталонию, с торжеством вошел в Монтелло и умер в Сеу-д’Уржель семидесяти восьми лет от роду. Отдав огромные контрибуции, доставшиеся ему после побед, в кассу армии, Дагобер, умирая, не имел ничего, кроме мундира и жалованья. Офицеры и солдаты его армии устроили ему похороны в складчину.
Испанский король предложил мир, поставив условием освобождение двух детей Людовика XVI и предоставление дофину небольшого удела в смежных с Испанией провинциях. Комитет общественного спасения написал народному представителю, сообщившему ему эти условия: «Отвечайте пушками!» Дюгомье, повинуясь этому приказанию, одержал победу и пал на поле битвы, пораженный ядром в голову. «Скройте мою смерть от солдат, — сказал он двум сыновьям, — пусть победа усладит мои последние минуты». Периньон, назначенный представителями главнокомандующим вместо Дюгомье, довершил победу.
Генералы Бон, Вердье и Шабер выбили у неприятеля целые ряды и пошли в штыки на неприятельский лагерь. Смерть испанского главнокомандующего и трех генералов стала возмездием за смерть Дюгомье и повлекла за собой бегство неприятельской армии. Десять тысяч испанцев были взяты в плен. Границу очистили, и неприятель всюду отступал перед упорством и натиском республиканских батальонов. Упрямство Робеспьера, гений Карно, непоколебимость Сен-Жюста вскоре перенесли военные действия на неприятельскую землю.
В войне на море имеют значение не только храбрость и численность; здесь недостаточно человека — нужны дерево, бронза, снасти, маневрирование, дисциплина; можно импровизировать в армии, но флот создается медленно и так же медленно воспитываются люди, способные служить на нем.
Брестский флот под началом адмирала Морара де Галля, крейсировавший у берегов Бретани, взбунтовался против офицеров из-за того, что якобы они нарочно удалили флот от Бреста, чтобы сдать, подобно Тулону, англичанам, и вынудил их вернуться.
Комитет общественного спасения послал в Брест трех комиссаров, которые сделали вид, что верят матросам, и начали искать между командирами флота воображаемых заговорщиков. Они посеяли террор во флоте, подобно тому как он свирепствовал на суше. Тюрьмы и смерть сократили число офицеров; Морара де Галля заменил Вилларе-Жуайез, из простого капитана корабля возвысившийся до командира эскадры. Возмутившиеся корабли получили новых командиров и даже новые имена, заимствованные из выдающихся событий революции.
Между тем из Америки ожидалось прибытие двухсот судов, нагруженных зерном. Вилларе-Жуайез получил приказ отойти на некоторое расстояние от берега, чтобы патрулировать этот транспорт при входе во французские воды, а также подучить экипаж в ожидании больших маневров. Во всем республиканском флоте числилось двадцать восемь линейных судов, внушительные остатки вооруженных сил Америки и Индии. Вилларе-Жуайез и Жан-Бон Сент-Андре находились на стотридцатипушечном корабле «Гора». Не успел флот тремя колоннами выйти в море, как был замечен адмиралом Хау, крейсировавшим с тридцатью тремя английскими судами у берегов Нормандии и Бретани. Французский адмирал хотел уклониться от боя, имея в виду сначала исполнить полученный им приказ — охрану ожидаемого зерна. Англичане тоже сначала сделали вид, что избегают сражения. Наступившая ночь разъединила оба флота, но на рассвете они снова увидали друг друга. Три английских корабля врезались в центр линии французских судов, сцепились с «Мстителем» и подожгли его снасти. Уже готово было завязаться генеральное сражение, но густой туман опустился над океаном и два дня окутывал оба флота, делая невозможными любые маневры. Но адмирал Хау ухитрился поставить французский флот под ветер и благодаря этому получил огромное преимущество, увеличившее силу его эскадры и ее подвижность.
Это произошло на рассвете 1 июня 1794 года. Солнце ярко сияло, волны вздымались, но не мешали движению; храбрость была одинакова с обеих сторон; только у французов это была храбрость скорее отчаяния. Возгласы «Да здравствует республика!» и «Да здравствует Британия!» раздавались с обеих сторон.
Вместо того чтобы прямо двинуться на линию французских судов, английский адмирал взял направление по диагонали, разгромил левую половину выстрелами из всех орудий, в то время как правая половина, находясь под противным ветром, смотрела, неподвижная, на свои горящие корабли. Говорят, что никогда подобная жажда смерти не подымала друг против друга два враждующих народа. Казалось, дерево и паруса были охвачены тем же нетерпеливым ожиданием столкновения, что и моряки. Четыре тысячи орудий, отвечая друг другу с враждебных палуб, изрыгали картечь на расстояние пистолетного выстрела. Мачты были срублены. Паруса — в огне. Палубы покрыты оторванными членами тел и обломками снастей. Хау, находившийся на корабле «Королева Шарлотта», сражался, точно на большой дуэли, с адмиральским кораблем «Гора». Корабль «Якобинец» неверным движением прорвал общую линию и открыл это судно. Левая половина французского флота была уничтожена, но не побеждена. Центр пострадал мало. Ночь опустилась над этой бойней и прекратила ее.
Хау отрезал от флота и окружил шесть республиканских кораблей. День должен был осветить сдачу этих судов или их сожжение. Французский адмирал захотел спасти их или сгореть вместе с ними. Размышление умерило пыл народного представителя Жан-Бона Сен-Андре. Флот достаточно совершил для его славы, и представитель отдал приказ отступать. Его обвинили в трусости и едва не сбросили в море. Корабль «Гора» уже казался потухшим вулканом. В него попало триста ядер, все его офицеры были ранены или убиты, все канониры погибли у своих орудий. То же произошло со всеми судами, принимавшими участие в битве.
Окруженный тремя неприятельскими судами, корабль «Мститель» еще сражался, но его капитан был уже разорван пополам, офицеры искалечены, почти все матросы перебиты, мачты срублены, от парусов осталась одна зола. Экипаж, опьяненный порохом и кровью, дошел до того, что, гордясь своим флагом, решился на массовое самоубийство. Моряки прибили флаг к обломку мачты, отказались от всяких переговоров и ждали, чтобы волны, с каждой минутой все более заливавшие трюм, погрузили его в свою пучину. По мере того как корабль, ярус за ярусом, опускался в волны, бесстрашный экипаж давал залпы из орудий; когда волны заливали один ярус, экипаж поднимался к следующей батарее и разряжал ее против неприятеля. Наконец, когда волны перекатывались уже через палубу, вровень с водой раздался последний залп и экипаж погрузился в море вместе со своим кораблем под крики «Да здравствует республика!»
Англичане, охваченные восторгом, бросились в шлюпки и спасли многих из этих героев. Эскадра вернулась в Брест как раненый, но победоносный воин. Конвент объявил, что родина признает ее заслуги, и приказал, чтобы модель «Мстителя» привесили к своду Пантеона. Поэты Шенье и Лебрен обессмертили корабль в своих стихах. Геройская гибель «Мстителя» стала сюжетом одной из популярнейших народных песен — «Марсельезой» моряков.
Горизонт прояснялся на всех границах, тогда как тучи над Парижем сгущались с каждым днем все более и более. Кровь жертв смешивалась с кровью защитников родины.
Комитет общественного спасения, разгромив жирондистов, Эбера и Дантона, имел возможность сохранить власть только при условии, что народу будет уступлено право смерти. Раз начался Террор, он должен был раздавить первого, кто захочет остановить его.
Робеспьер и его друзья ждали благоприятного часа, чтобы остановить бойню. Благоприятный час все не наступал. Гильотина косила уже все сословия. Комитет получал обвинительные доносы из Парижа от представителей клубов и округов. Он проглядывал эти доносы, и, если, по его мнению, агент был достоин доверия, обвиняемых отсылали в Трибунал. Таким образом, обвиненные наполнили все восемнадцать тюрем Парижа. Каждый вечер общественный обвинитель отправлялся в Комитет за инструкциями. Если Комитет хотел, чтобы смертный приговор последовал немедленно, то Фукье-Тенвилю передавали список этих обвиняемых. Если же чья-либо голова не была намечена для казни, Комитет предоставлял Фукье-Тенвилю руководствоваться списками обвиняемых, имена которых следовали в случайном порядке. Общественный обвинитель вступал в соглашение с председателем суда. По аналогии обвинений, он соединял в одном и том же обвинительном акте имена узников, которые совершенно не знали друг друга. Он же заботился о немедленном приведении приговоров в исполнение. Тележки, сообразно с предполагаемым числом осужденных, стояли в назначенный час у Дворца правосудия. Общественные «оскорбительницы» ожидали у колес. Народ толпился на улицах. Смерть сделалась ежедневным, рутинным явлением.
Двадцатичетырехлетний сын Кюстина, заключенный в тюрьму за то, что оплакивал своего отца, томился в ожидании суда. Его молодость, красота, слезы его жены тронули одного из сторожей. Юная сообщница достала Кюстину женскую одежду, в которой он должен был бежать, когда стемнеет. Настал условленный день и час. Вдруг Кюстин узнает, что Конвент издал декрет, согласно которому всякий способствовавший бегству узника приговаривается к смерти. Он снимает уже надетую женскую одежду, сопротивляется объятиям жены и мольбам девушки, которая клянется, что последует за ними и умрет за него, если это будет нужно. Ничто не может поколебать его. Он проводит последнюю ночь своей жизни в общей камере для осужденных, стараясь осушить слезы жены и вызвать у нее желание жить ради их дорогого ребенка. При первых лучах рассвета молодая женщина падает без чувств. Этим обмороком пользуются, чтобы унести ее. Так Кюстин пал жертвой своей сыновней любви и великодушия.
Клавьер, узнавший в заключении, что его друг Ролан покончил жизнь самоубийством, философствует, разговаривая вечером со своими товарищами по заключению на тему существования загробной жизни. Он разбирает самые быстрые и верные средства добровольно избежать смерти на плахе, чтобы сохранить наследство своим детям. На следующий день сторожа застают Клавьера лежащим неподвижно в луже крови, с ножом, пронзившим его сердце. Его жена, уроженка Генуи, узнав о смерти мужа, отравилась, предварительно распорядившись обеспечить свое состояние за детьми и найдя им покровителей в чужой семье.
Лионский епископ Ламурет, находясь в заключении, обращал неверующих к Богу и ободрял отчаявшихся. «Нет, друзья мои, — воскликнул он накануне своей казни, хлопнув себя по лбу, — нельзя убить мысль, а мысль — это весь человек! Что такое гильотина? Щелчок по шее — и только!»
Оставалось только два славных жирондиста, которым удавалось в течение шести месяцев избежать проскрипций Горы: Луве и Кондорсе.
Кондорсе на следующий же после 31 мая день ожидал жандармов, которые должны были подвергнуть его домашнему аресту. Монтаньяры на минуту остановились в нерешительности перед великим именем. Они боялись опозорить революцию, осудив философа. Якобинцы упрекали монтаньяров в слабости: чем выше человек, тем опаснее заговорщик; уважение — не более чем предрассудок; самые великие головы должны пасть первыми! Уступая слезам жены, Кондорсе дал согласие на то, чтобы его друг Пинель скрыл его в надежном убежище в одном из бедных кварталов Парижа, под сенью башен св. Сульпиции. Там госпожа Верне, бедная вдова, посвятившая всю свою жизнь несчастным, жила в своем домике, который сдавала нескольким спокойным жильцам. Пинель привел сюда Кондорсе, когда стемнело. Он хотел уже сообщить госпоже Верне имя друга, которого поручает ее гостеприимству. «Нет, — ответила эта великодушная женщина, — я не хочу знать его имени; я знаю, что он несчастен, и этого довольно. Я спасу его ради Господа, а вовсе не ради его имени. Его убежище станет от этого безопаснее».
Кондорсе заперся с несколькими книгами в комнатке верхнего этажа и никуда не выходил. Он отворял окно только ночью, спускался вниз только для того, чтобы поесть, как гость, за столом хозяйки. Ему показалось однажды, что он встретил на лестнице члена Конвента из партии монтаньяров по имени Марко. «Я погиб, — сказал он госпоже Верне, — у вас в доме живет монтаньяр. Я должен бежать, потому что я Кондорсе». — «Оставайтесь, — ответила бесстрашная женщина, — я ручаюсь за него. Я скажу ему: Кондорсе здесь, он осужден, я знаю это и даю ему убежище. Если это откроется, я погибну вместе с ним». Член Конвента сохранил тайну. Каждый день осужденный и осуждающий встречались на лестнице и делали вид, что не знают друг друга.
Кондорсе оставался в этом убежище осень и зиму 1793 года, а в первые месяцы 1794-го написал книгу «Картина прогресса человеческого разума». Надежда философа одержала верх над отчаянием гражданина. Он знал, что страсти преходящи, а разум вечен. Он признавал его существование подобно тому, как астроном признает существование светила даже во время его затмения.
Кондорсе мог спастись, если бы захотел подождать. Но в начале апреля у него появилось предположение, что врагам известно его убежище, и он не пожелал навлечь несчастья на свою великодушную хозяйку.
Пятого апреля в 10 часов утра Кондорсе спустился в гостиную под предлогом завтрака. Тут же находилась дверь на улицу. Не успел он сесть, как притворился, что забыл в своей комнате книгу. Ничего не подозревавшая госпожа Верне предложила сходить за ней. Кондорсе согласился и воспользовался отсутствием хозяйки, чтобы выскочить из дома.
Он проблуждал целый день в окрестностях Парижа, а когда настала ночь, постучал в дверь домика в деревне Фонтэне-о-Роз, где его друзья, господин и госпожа Сюар, жили в уединении. Его впустили. Никому не известно, что произошло во время этого ночного свидания между осужденным, умолявшим дать ему убежище, и его друзьями, боявшимися навлечь опасность на свое жилище, укрыв в нем осужденного. Одни говорят, что дружба оказалась трусливой, другие — что Кондорсе великодушно отказался, несмотря на настояния, обрести приют в их доме. Как бы там ни было, но после короткого разговора он вышел через потайную дверь.
На другой день под вечер в харчевню Кламара вошел человек, изнемогавший от усталости, весь в грязи, с безумными глазами и длинной бородой. Его куртка ремесленника, шерстяная шапка, подбитые гвоздями башмаки составляли контраст с нежными руками и белизной кожи. Он потребовал хлеба и яиц и ел с жадностью, свидетельствовавшей о продолжительном голоде. На вопрос хозяина, чем он занимается, он ответил, что служил лакеем у господина, который только что умер. В подтверждение своих слов он вытащил из кармана бумажник с подложными документами.
Изящество бумажника выдало Кондорсе. Брошенный в тюрьму города Бур-ла-Рен, философ принял яд, который постоянно носил с собой. Национальная стража, стоявшая у двери и не слыхавшая из камеры ни одного звука, нашла вместо узника труп. Так умер этот новый Сенека. Очутившись между двух лагерей и желая победить старый мир и умиротворить новый, Кондорсе погиб при их столкновении без удивления, без стона; он знал, что истины даются человеку не даром.
Другой философ, Мальзерб, перенес похожие несчастья, но оставил по себе более громкую славу. Он запечатлел свою жизнь своею смертью. После проявления им высшей степени верности во время защиты Людовика XVI, Мальзерб удалился в деревню и жил там как патриарх, окруженный детьми и внуками. Предположили, что его добродетельный образ жизни стал протестом против эпохи. Его арестовали 22 апреля вместе с дочерью, госпожой де Розамбо, муж которой был казнен за день до ее ареста, внучкой и ее мужем Шатобрианом, старшим братом того, который придал своему имени больше блеска, чем было пролито крови его родственников.
Идя на суд, Мальзерб оступился на пороге камеры. «Дурное предзнаменование, — сказал он, — римлянин вернулся бы домой!» Заключенные Консьержери просили у него благословения, почитая в нем древнюю добродетель, которая вместе с ним должна была взойти на небо. Он благословил их улыбаясь. «Особенно не жалейте меня, — сказал он, — я попал в опалу за то, что опередил республику своими реформами. Я умираю, примирившись с прошедшим и будущим».
Вся его семья последовала за ним на эшафот.
В то время как великодушный старец шел умирать за то, что защищал своего короля, Клери томился в тюрьме Лафорс за то, что прислуживал королю. Своим продолжительным страданием в Тампле и дальнейшим суровым заключением он опроверг все сомнения, могущие опозорить его память и доброе имя.
Один из первых трибунов парламента Дюваль-Дюпремениль и Шапелье, докладчик первой конституции, погибли вместе с Мальзербом. Всходя на тележку, которая должна была отвезти их на гильотину, Шапелье сказал Дюпременилю: «Народ задаст нам сейчас задачу, которую трудно разрешить». — «Какую?» — «Узнать, к кому из нас двоих относятся его проклятия и оскорбления». — «К обоим», — ответил Дюпремениль.
Старик Люкнер, давно забытый в тюрьме, депутат Мазюйе, обвиненный за содействие освобождению Петиона и Ланжюине, и Туре, один из просвещеннейших реформаторов закона, последовали за ними на плаху. Все члены парижского парламента, все главные сборщики податей, вся знать Франции, вся магистратура, все духовенство были вырваны из их замков, церквей, убежищ, брошены в парижские тюрьмы, доставлены в суд и оттуда увезены на гильотину.
Более восьми тысяч подозреваемых переполняли одни только парижские тюрьмы еще за месяц до смерти Дантона. Из Сен-Жерменского предместья в одну ночь отправили в места заключения триста семейств, носящих громкие исторические имена, — военных, политиков, епископов.
Не давали себе даже труда отыскивать за ними преступление. Достаточно было, чтобы в квартале нашлись доносчики: закон не только поддерживал обвинение, но давал им известную долю вознаграждения из конфискованного имущества. Народ, бывший одновременно доносчиком, судьей и наследником жертв, думал, что обогатится конфискованным имуществом. Когда не хватало поводов к обвинению, старались воспользоваться действительными или выдуманными заговорами в тюрьмах. Шпионы, переодетые в арестантскую одежду, выпытывали признания о желании бежать и планы бегства; а иногда и измышляли все это и доносили Фукье-Тенвилю.
Из сотен имен составляли списки обвиняемых, которые о своих преступлениях впервые узнавали из обвинительных актов. Их называли «топливом для гильотины». С каждым днем росло число повозок, увозивших осужденных на эшафот. В четыре часа утра, более или менее нагруженные, они катились через мост Менял и по улице Сент-Оноре к площади Революции.
В этих похоронных повозках нередко везли мужа и жену, отца и сына, мать и дочерей. Страдальческие лица, смотрящие друг на друга с величайшей нежностью последнего прощания, головки молодых девушек, опустившиеся на колени матерей, головы жен, склонившиеся на плечи своих мужей, сердца, прижимающиеся одно к другому, биение которых должно скоро прекратиться, седые и белокурые волосы, срезанные одними и теми же ножницами, шествие процессии, однообразный стук колес, железная ограда из сабель жандармов, сдавленные рыдания, оскорбления толпы, — все придавало этой резне характер более ужасный, чем простое убийство, потому что здесь убийство предлагалось народу как зрелище и развлечение.
Прохождение этих процессий довольно скоро обратилось в пытку и позор для включенных в маршрут кварталов. Окна, магазины, лавки — все закрывалось при приближении шествия. Жильцы покидали свои квартиры. Домовладельцы начали подавать в Коммуну петиции, жалуясь на то, что их дома обратили в привилегированные места для лицезрения казней. Кровь тысяч жертв окрасила землю и заражала воздух. На площади Тюильри и на Елисейских полях уже не было видно гуляющих. Миазмы смерти портили листву деревьев.
Две казни, более ужасные и торжественные, чем другие, наконец возбудили негодование этих кварталов против местонахождения гильотины. После взятия королем Прусским Вердена в 1791 году город праздновал въезд освободителей Людовика XVI. Жители повезли на бал своих дочерей; одни — по убеждению, другие — из страха. По освобождении Вердена республика вспомнила эти празднества, украшенные присутствием детей, не принимавших участия в устройстве бала. Тем не менее их отвезли в Париж и предали суду. Ни их возраст, ни красота, ни повиновение родителям, ни давность события — не приняли во внимание ничего! Все они были одеты в белые платья. Везшая их тележка походила на корзину с лилиями, головки которых качаются при движении руки. Палачи плакали вместе с ними.
На следующий день еще более многочисленные тележки везли на казнь всех монахинь Монмартрского аббатства. Настоятельницей их была госпожа Монморанси. Преступление этих бедных девиц состояло в том, что они исполнили волю своих родителей и остались верны данным обетам. Окружив настоятельницу, они запели, взойдя на тележки, своими нежными голосами священные гимны и пели их весь путь. Казни этих двух дней, когда были преданы смерти юность, красота и религия, заставили толпу отвести глаза.
Коммуна побоялась злоупотребить патриотизмом богатых кварталов и склонна была более доверять предместьям. Выбор ее остановился на предместье Сент-Антуан, местности, где 14 июля зародилась революция; гильотину приказали воздвигнуть у заставы Трона. Уже не беспокоясь о том, что она смутит сердца и вызовет сожаления у жителей этого предместья, республика ознаменовала новое место еще более многочисленными казнями. Тележки все увеличивались в количестве. Однажды на них везли сорок пять судей Парижа и тридцать три члена тулузского парламента; в другой раз — двадцать семей купцов из Седана.
Одну из тележек окружали дети в лохмотьях; казалось, эти дети оплакивали и благословляли отца. Сидевшим в тележке стариком был Фенелон, внучатый племянник автора «Телемака» — этого источника революции, сбившейся с истинного пути и упивавшейся теперь кровью своей семьи. Аббат Фенелон учредил в Париже богоугодное заведение для бездомных детей, которые каждую зиму спускались с гор Савойи зарабатывать себе пропитание во Франции, поступая в услужение в больших городах. Узнав, что их покровителя хотят у них отнять, дети утром отправились всей толпой в Конвент умолять представителей о человеколюбии. Их молодость, речи, слезы тронули депутатов. «Разве сами вы дети, что вас разжалобили эти слезы? — воскликнул Билло-Варенн. — Войдите хоть раз в сделку с правосудием и завтра же аристократы убьют вас без сострадания!»
Конвент не решился смягчить приговор. Аббат Фенелон отправился на плаху, сопутствуемый своими добрыми делами. Дряхлому восьмидесятидевятилетнему старцу пришлось помочь взойти на ступени гильотины. Взойдя на эшафот, Фенелон попросил палача развязать ему руки, чтобы послать благословение бедным малюткам. Растроганный палач повинуется. Фенелон протягивает руки. Дети склоняют свои обнаженные головы под благословение умирающего. Пораженная толпа следует их примеру, падает на колени. Льются слезы, раздаются рыдания. Казнь принимает характер жертвоприношения.
Предместье Сент-Антуан также вознегодовало на то, что стало местом смерти. Земля отталкивала кровь. Но осуждающие находили, что смерть шествует недостаточно быстро.
На кладбище Монсо вырыли огромную яму (ее долго не засыпали), края которой были уставлены бочками с известью. Сюда сбрасывались головы и тела обезглавленных. Настоящая кровавая клоака, над которой возвышалась надпись Dormir (спать), точно палачи хотели успокоить себя тем, что жертвы их никогда не проснутся.
LVII
Андре Шенье — Принцесса Елизавета перед Революционным трибуналом — Робеспьер царит в Коммуне и в Конвенте
Уверенность в неизбежной смерти не посеяла ужаса в парижских тюрьмах. Каждый день отсрочки оказывался праздником жизни, который старались посвятить удовольствиям. Легкомыслие заменяло бесстрашие. Между заключенными завязывались кратковременные дружеские отношения, любовь. Свидания, тайная переписка, театральные представления, устраиваемые в камерах, музыка, поэзия и танцы продолжались до последних минут. Когда отрывали от игры одного, он передавал свои карты следующему; когда кого-либо заставали за столом, он спешил допить свой стакан; застигнутые в объятиях любовницы торопились насладиться последним взглядом. Никогда еще бесстрашный и сладострастный ум французской молодежи не играл так с опасностью. Казнь придавала этой молодежи величие, но не сделала ее серьезнее. Многие находили отраду в религии. Священники, пребывающие в заключении или пробиравшиеся в тюрьму переодетыми, совершали таинства, больше похожие на жертвоприношения. Поэзия, этот выраженный словами вздох души, делала бессмертными последние биения сердец поэтов.
Андре Шенье, обладавший душой древнего римлянина и воображением древнего грека, отважным патриотизмом отвлеченный от занятий поэзией в политику, был заключен в тюрьму за принадлежность к партии жирондистов. Мечты его пылкого воображения нашли предмет поклонения в лице заключенной в той же тюрьме мадемуазель де Куанье. Андре Шенье выказывал этой молодой узнице восторженное поклонение и уважение, казавшееся еще более трогательным вследствие тени преждевременной смерти, уже витавшей над нею. Он посвятил ей самый мелодичный из вздохов, когда-либо вышедших из недр тюрьмы.
Неспелый колос ждет, не тронутый косой, Все лето виноград питается росой, Грозящей осени не чуя; Я так же хороша, я так же молода! Пусть все полны кругом и страха, и стыда — Холодной смерти не хочу я! Широкая мечта живет в моей груди, Тюрьма гнетет меня напрасно: впереди Летит, летит надежда смело. Так, чудом избежав охотника сетей, В родные небеса, счастливей и смелей, Несется с песней Филомела. О, мне ли умереть? Упреком не смущен, Спокойно и легко проносится мой сон Без дум, без призраков ужасных; Явлюсь ли утром — все приветствуют меня, И радость тихую в глазах читаю я У этих узников несчастных. О смерть! Меня твой лик забвеньем не манит. Ступай утешить тех, кого печаль томит, Иль совесть мучит, негодуя. А у меня в груди тепло струится кровь, Мне рощи темные, мне песни, мне любовь… Холодной смерти не хочу я! Так, пробудясь в тюрьме, печальный узник сам, Внимал тревожно я замедленным речам Какой-то узницы… И муки, И ужас, и тюрьму — я все позабывал, И в стройные стихи, томясь, перелагал Ее пленительные звуки. Те песни, чудные свидетели тюрьмы, Кого-нибудь склонят певицу этой тьмы Искать, назвать ее своею… Был полон прелести аккорд звенящих нот, И, как она, за дни бояться станет тот, Кто будет проводить их с нею.В Кармелитский монастырь, в узкую и мрачную камеру, с окном, выходившим в сад, были заключены три молодые женщины. Никогда скульптор не соединял в подобной группе красоту и грацию лиц и форм, которые могли растрогать даже палачей. Одна из них была госпожа д’Эгильон — кровь ее родственников еще дымилась на эшафоте; другая — Жозефина Ташер, вдова генерала Богарне, незадолго перед тем заплатившего жизнью за неудачу, которую он потерпел в Рейнской армии; третья и прекраснейшая из всех — юная Тереза Кабаррюс, возлюбленная Тальена, виновная в том, что спасла в Бордо от смерти множество жертв.
Ложем для всех трех пленниц служил матрац, брошенный на полу в нише, в глубине их темницы. Они проводили на нем время под гнетом воспоминаний, тревоги и жажды жизни; кончиками ножниц и зубьями гребенок писали на штукатурке стены вензеля, цифры, имена людей, о которых печалились, горькие жалобы об утерянной свободе. Еще и сейчас можно прочесть эти надписи. В одном месте: «Свобода, когда ты перестанешь быть пустым звуком?» В другом: «Сегодня сорок семь дней, как нас заперли». В третьем: «Нам сказали, что завтра нас выпустят». На противоположной стене: «Тщетная надежда!» Немного ниже три подписи рядом: «Гражданка Тальен, гражданка Богарне, гражданка д’Эгильон».
Образ смерти, витавшей над ними, не щадил ни их взоров, ни их воображения. Они размещались в той самой камере, где сентябрьские убийцы зарезали наибольшее число священников. Двое из убийц, утомившись и желая отдохнуть, прислонили к стене свои сабли. Контуры этих сабель оставили на сырой штукатурке кровавый отпечаток от рукоятки до конца клинка, точно огненные мечи карающих ангелов, которыми те размахивают вокруг скинии.
Трем узницам-кармелиткам суждено было избежать казни.
Двух из этих женщин связывали узы нежной дружбы, хоть они нередко и оспаривали друг у друга восхищение народа, командиров армии или Конвента. Одной предстояло занять место на троне, куда ее возведет любовь молодого Бонапарта, другая в скором времени фактически низвергнет республику, внушив Тальену мужество напасть на Комитет в лице Робеспьера.
В Париже имелась еще одна тюрьма, куда уже восемь месяцев не проникали ни шум извне, ни утешения дружбы, ни образы любви, ни улыбка жизни. Это был Тампль. Восемь месяцев прошло с тех пор, как отворились двери, чтобы выпустить идущую на эшафот королеву. В это время дофин уже находился под надзором жестокого Симона и не мог видеться с сестрой и теткой. Они лишь изредка могли видеть его между зубцами башни, когда его выводили подышать свежим воздухом.
Девятнадцатого января, накануне годовщины смерти короля, дофина окончательно лишили свободы, заперев, как дикого зверя, в верхнюю комнату башни, вход в которую был запрещен всем. Симон швырял ему туда пищу в приотворенную дверь. Мальчик не вставал с постели, которую никогда не перестилали. Окно, запертое висячим замком, не отворялось. У дофина не было ничего, чтобы занять руки и ум: ни книги, ни игрушки, ни инструментов. Его умственные способности начали расстраиваться, а тело лишилось подвижности. По-видимому, Симон получил приказание произвести опыт, до какой степени одичалости можно довести сына короля.
Узницы не переставали плакать и сокрушаться об этом ребенке. На их вопросы им отвечали только оскорблениями. Более всего их возмущало обращение к ним на «ты». Во время Великого поста им приносили скоромную пищу, чтобы заставить их нарушить предписания подвергнувшейся гонению религии. Когда настали первые весенние дни, их лишили свечей, и они вынуждены были по вечерам сидеть в потемках. Однако строгость заключения не уменьшила ни распускающейся красоты юной принцессы, ни спокойствия духа ее тетки. У первой торжествовали над гонениями природа и молодость, у другой — религия.
Девятого мая, в то время, когда принцессы перед отходом ко сну молились, стоя у своих постелей, в дверь их комнаты начали стучать так, что дверь покачнулась на петлях. Принцесса Елизавета поспешно оделась и пошла отворить. «Иди немедленно вниз, гражданка», — приказали ей тюремные стражники. «А племянница?» — спросила принцесса. «Ею займутся после».
Тетка, предчувствуя свою участь, бросилась к племяннице и обняла ее, как бы желая оградить ее от новых страданий. Юная принцесса плакала и дрожала. «Успокойся, дитя мое! — сказала ей тетка. — Я, наверное, скоро вернусь». — «Нет, гражданка, — возразили тюремщики, — ты уже не вернешься; возьми свой чепец и иди». Сойдя вниз, Елизавета увидала у калитки комиссаров. Ее посадили в карету и повезли в Консьержери.
Наступила полночь. Можно было подумать, что для удовлетворения нетерпения суда дня недостаточно. Товарищ председателя суда ожидал принцессу Елизавету и допросил ее без свидетелей. Потом ей дали несколько часов отдохнуть на том же самом ложе, на котором Мария-Антуанетта провела свои предсмертные часы. На следующий день ее отвезли в суд в сопровождении двадцати четырех осужденных, избранных с целью вызвать у народа воспоминание о дворе и желание отомстить ему. В их числе были госпожи де Сенозан, де Монморанси, де Канизи, де Монморен и ее восемнадцатилетний сын, бывший военный министр Ломени и старый версальский придворный Сурдевиль. «На что она может жаловаться? — воскликнул с усмешкой общественный обвинитель, увидев около сестры Людовика XVI свиту из женщин, носящих самые громкие имена. — Видя себя у подножия гильотины в кругу преданного дворянства, она может вообразить, что находится в Версале».
Обвинения делались в язвительном тоне, ответы давались с презрением. «Вы называете моего брата тираном, — сказала принцесса прокурору и судьям. — Если бы он действительно был тираном, то вас не было бы здесь и я не стояла бы пред вами!» Она выслушала свой приговор без удивления и горести, попросила только прислать ей священника, чтобы запечатлеть смерть небесным прощением. Ей отказали и в этом утешении. Задолго до часа казни она вошла в общую камеру, чтобы ободрить тех, кто был осужден разделить ее участь, и с трогательной заботливостью присутствовала при туалете женщин, которые собирались умереть вместе с нею. Ее последней мыслью была забота о целомудрии: она отдала половину своей косынки одной девушке и собственноручно завязала ее, чтобы оскорбление не было нанесено даже во время смерти.
Ее длинные белокурые волосы поделили между собой, как реликвию, женщины, составлявшие предсмертную свиту принцессы, и даже сами палачи. Народ, собравшийся, чтобы осыпать ее оскорблениями, оставался безмолвен при ее проезде. Красота, сиявшая душевным спокойствием, непричастность ко всем беспорядкам, лишившим двор популярности, юность, принесенная в жертву любви к брату, добровольное обречение себя на лишения ради своей семьи делали из нее самую чистую жертву роялизма. Тайное угрызение совести мучило всех. Ее товарищи по казни боготворили ее уже до смерти. Гордясь тем, что умирают вместе с невинной, они, прежде чем взойти на эшафот, почтительно подходили к принцессе и просили утешить их поцелуем. Палачи не решились отказать им в том, в чем отказали Эро де Сешелю и Дантону. Принцесса по очереди обнимала всех осужденных перед тем, как они поднимались по лестнице. После этого прощального целования она подставила и свою голову под нож гильотины. Невинная среди искушений молодости и красоты, набожная и чистая среди легкомыслия двора, смиренная в величии, терпеливая в темнице, гордая перед казнью, принцесса Елизавета оставила своей жизнью и смертью образец невинности на ступенях трона, предмет восхищения — для света и вечный позор — для республики.
По природе своей преступление недолговечно. Нельзя сделать заурядным явлением ярость, месть, грабеж, резню. Их переживают, их стыдятся, и стыд отряхивают с ног своих. Революция, восставшая для ниспровержения древнего и ненавистного неравенства, не могла безнаказанно изменить себе. Сокрушив трон, она должна была наконец выбрать другую законную власть из среды народа и упрочить ее посредством соответственных учреждений, а не только гонений. Террор являлся не властью, а тиранией. Тирания не могла стать правительством свободы. Эти мысли все время занимали Робеспьера. Он ломал голову над тем, какую власть установить в республике.
Он был единственным, имевшим влияние в республике. «Ради чего, — говорил он своим друзьям, — я посвятил революции свою жизнь, свои мысли, свое время, красноречие, имя и кровь? Чтобы свергнуть королей и аристократов, восстановить власть народа и сделать его способным и достойным личного и естественно ему принадлежащего самоуправления. И что же мне предлагают теперь, когда тираны и аристократы низвергнуты, а народ управляет через своих представителей? Занять самому место тиранов, которых мы уничтожили, и восстановить в моем лице, именем народа, свергнутую тиранию?
Предположим, — продолжал он, — что я не употреблю во зло верховную власть и моя диктатура станет для республики диктатурой разума и справедливости; но, захватив ее или согласившись ее принять, я подал бы честолюбцам самый соблазнительный пример. Мое владычество будет кратковременно. Грудь моя, я знаю, служит тайной целью для сотни тысяч кинжалов. А после меня кто поручится за моего преемника? Опасность диктаторской власти заключается не столько в личности диктатора, сколько в самом учреждении. Она спасает один день, чтобы погубить целое столетие. Пусть погибнет день, но будущее да будет неприкосновенно! Пусть лучше народ заблуждается, падает, снова встает, даже ранит себя, чем дать ему эту унизительную опеку. Есть люди полезные, но нет ни одного необходимого. Один только народ бессмертен».
Так говорил Робеспьер своим наперсникам. Отказ его от верховной власти звучал искренне. Имелись и другие причины, по которым он не хотел получить правление исключительно в свои руки. Он пока не сознавался в этих причинах и дошел в своих размышлениях до того, что не знал на самом деле, какую форму придать революционным учреждениям. Скорее теоретик, чем деятель, Робеспьер проникся более идеей революции, чем политической формулой. Его теории, целиком заимствованные из книг, были блестящи, но туманны. Он думал, что бесконечно повторяемые слова о свободе, равенстве, бескорыстии сами по себе уже составляют правительство. Он идеализировал народ, вместо того чтобы относиться к нему серьезно. Он возмущался, видя его нередко слабым, трусливым, жестоким, невежественным, непостоянным, столь недостойным положения, предназначенного ему природой. Он отчаялся в людях; он боялся самого себя. «Смерть! Постоянно смерть! — часто восклицал он в тесном кругу. — И негодяи приписывают ее мне. Какую память оставлю я по себе, если это продолжится так?! Жизнь тяготит меня!»
Наконец истина обнаружилась. Он воскликнул с жестом, выразившим, что он отчаялся в самом себе: «Нет! Я создан не для того, чтобы управлять, но чтобы побивать врагов народа».
Сен-Жюст приходил в то время к Робеспьеру по несколько раз в день, и они беседовали, запершись вдвоем. Сен-Жюст старался убедить своего учителя в необходимости менее тонкой политики и более определенных планов.
Несмотря на свою молодость, Сен-Жюст стал если не по взглядам, то по характеру вполне зрелым государственным человеком. Полномочия в лагерях и надменность, приобретенная благодаря власти над генералами, показали ему, как легко покоряются люди воле одного. Его храбрость и привычка к огню придавали ему вид вождя, способного не только задумать, но и привести в исполнение смелое предприятие. Робеспьер оставался единственным человеком, перед которым Сен-Жюст преклонялся. Поэтому, обвиняя его в нерешительности, он тем не менее уважал его медлительность и обрекал себя на гибель вместе с ним. Пасть вместе с Робеспьером значило погибнуть вместе с делом революции.
Кутон, Леба, Коффиналь, Буонаротти часто также допускались на эти совещания. Все они были искренними республиканцами, однако, подобно Сен-Жюсту, чувствовали, что настал критический момент. «Общественное мнение наметило тебя, — говорил Буонаротти Робеспьеру. — Если ты не оправдаешь его, то изменишь не себе, а народу. Если ты остановишься, он перешагнет через твой труп и возьмет себе в руководители негодяев, которые увлекут его в анархию, близкую к тирании».
Робеспьер и его друзья пришли к заключению, что республика нуждается в учреждениях, а во главе комитетов необходимо поставить верховного руководителя, направляющего исполнительную власть, и что, если якобинцы, Конвент и народ решат поставить кого-нибудь во главе правительства, то Робеспьер согласится временно принять на себя эту обязанность.
Они решили, что необходимо лишить власти членов Комитета; наблюдать, очистив их ряды, за якобинцами; завладеть генеральным советом Коммуны, который всегда мог опереться на восстание; остаться, при посредстве Сен-Жюста и Леба расположить к себе войска; отозвать постепенно из департаментов уполномоченных депутатов и удалить из Конвента всех, кого подозревали в честолюбивых замыслах; подготовить Робеспьеру такую произвольную, законную и грозную власть, чтобы ему не осталось требовать ничего более, как заставить все головы склониться. Однако Робеспьер оставил за собой право действовать только силой убеждения, а отнюдь не прибегать к мятежу, уважать верховную власть народа и принять только тот титул, который ему будет предоставлен представителями. Кутону поручили составить декрет, которым комитетам предоставлялась диктатура, тот самый таинственный декрет, несколько дней спустя названный «Декретом 22 прериаля».
Положение было напряженным. Смерть Дантона лишила Гору главы. Вследствие этого переворота Робеспьер достиг власти и почета, заставлявших членов Конвента трепетать перед ним, но в то же время и ненавидеть. Имя Дантона вызывало у них угрызения совести. Его место на Горе, оставшееся пустым, служило им укором. Память о нем должна была угнетать их до тех пор, пока они не отомстят за него.
Но никто не решался поверить соседу своих сокровенных мыслей иначе, как намеками. Робеспьеру приходилось по выражению лиц угадывать, кто расположен к нему, а кто питает ненависть.
Среди этих подозрительных лиц самыми заметными оставались Лежандр, прикрывавшийся, впрочем, маской угодливости; Леонар Бурдон, плохо скрывающий свое озлобление; Колло д’Эрбуа, чересчур чванливый и напыщенный, чтобы сносить превосходство таланта; Барер, неопределенное выражение лица которого не давало возможности остановиться на каком-либо подозрении; Сийес, надевший маску мрачности, царившей в его душе, так что на лице можно было прочесть лишь бесчувственность; Баррас, притворявшийся бесстрастным; Фрерон, сдерживавший слезы, которые переполняла его душа со времени казни Люсиль Демулен; Тальен, плохо скрывавший печаль, которая овладела им с тех пор, как попала в тюрьму Тереза Кабаррюс; Карно, суровое и воинственное чело которого гнушалось притворства; Бадье, то льстивый, то задорный; наконец, Куртуа, депутат Оби, друг Дантона, никогда не одобрявший его проступков, зато ни разу не изменивший его памяти, честный человек, сердца которого не ожесточили республиканские принципы.
«Болото», состоявшее из остатков жирондистов, более чем когда-либо сговорчивых и подобострастных, молча голосовало. Но в то время, когда одно только признание, что принадлежишь к известной партии, составляло уже преступление, никто не признавался в своей принадлежности к какому-либо из течений. Все эти люди разыгрывали энтузиастов и внешне составляли единство; все стремились смешаться с общей массой из страха быть заподозренными. Обособленность могла быть принята за оппозицию, а оппозиция — за заговор.
Во внутренней жизни обоих больших комитетов партии соприкасавшиеся ближе лучше определяли друг друга. Члены Комитета общественной безопасности, люди посредственные, не вызывали сами никакого движения, а только следовали за движением. Они начали соперничать в преимуществах с Комитетом общественного спасения только тогда, когда раздоры в этом главенствующем комитете вынуждали то Билло-Варенна и его друзей, то Робеспьера с его сторонниками взывать о слиянии обоих советов, чтобы образовать таким образом большинство.
В Комитете общественного спасения, центре и очаге управления, между партиями Робеспьера и Билло-Варенна начало обнаруживаться глухое, но глубокое противостояние. Карно, Робер Линде, Приер старались устранить его на своих секретных заседаниях из боязни, чтобы им не воспользовались партии, угрожающие общественному спокойствию: иногда они присоединялись к Робеспьеру, но чаще к Билло-Варенну или Бареру. Сосредоточенная гордость Робеспьера, суровость Кутона, догматизм Сен-Жюста оскорбляли этих членов Конвента и невольно повергали их в немую апатию, похожую на оппозицию. В отсутствие Робеспьера произносилось слово «тиран».
Среди якобинцев Робеспьер царил. Презрительный в Комитете, небрежный в Конвенте, он каждый вечер усердно посещал заседания клуба якобинцев и казался на них неутомим, красноречив и ужасен.
Дюфурни, в течение многих лет постоянно председательствовавший на этих собраниях, осмеливался иногда прерывать оратора. Более того, он высказал неудовольствие после доклада Сен-Жюста и осуждения Дантона. Подвергшийся нападению со стороны Вадье, Дюфурни пытался оправдаться. Робеспьер, дав излиться потоку скопившегося негодования, сказал Дюфурни: «Вспомни, что Шабо и Ронсен были так же нахальны, как и ты, и что нахальство есть клеймо преступления!» — «Мое состоит в спокойствии», — ответил Дюфурни. «Спокойствие! — возразил Робеспьер. — Нет, в душе твоей нет спокойствия. Я изобличу тебя перед лицом народа твоими же собственными словами. Спокойствие! Все заговорщики всегда взывают к нему, но не находят его. Как! Они осмеливаются жалеть Дантона, Лакруа и их сообщников, когда преступления этих людей написаны нашей кровью, когда Бельгия дымится еще от их измен! Ты думаешь ввести нас в заблуждение своими вероломными замыслами! Но тебе это не удастся. Ты был другом Фабра д’Эглантина». И Робеспьер обрисовал Дюфурни как интригана и честолюбца, потребовав затем его изгнания. Дюфурни, напуганный этим гневом, предвещавшим в то время казнь, пожалел, что не угадал раньше могущества и ненависти Робеспьера. Его отвезли в Комитет общественной безопасности.
Сен-Жюст с каждым днем играл в Конвенте все большую роль. Он старался возвысить душу республики до степени полного перерождения общества. В этом юном, прекрасном, вдохновенном человеке видели предвестника новой эры. «Надо, — сказал он 15 апреля в своем докладе относительно всеобщего полицейского надзора, — заставить понять, что революционное правительство не находится ни в состоянии победы, ни в состоянии войны, но составляет переход от зла к добру, от порока к честности, от дурных начал к хорошим. Революционер непоколебим, но чувствителен, мягок, вежлив. Жан-Жак Руссо был революционер: он не был ни высокомерен, ни груб. Я знаю, что все, желавшие блага, погибли. Кодр был брошен в пропасть; Ликургу выкололи глаза спартанские негодяи, и он умер в изгнании; Фокион и Сократ выпили яд. Не беда — они совершили добро! Вы проявляли строгость, и вам следовало делать это. Необходимо было отомстить за наших отцов и похоронить под обломками монархию, могилу стольких порабощенных поколений. Свобода вышла из недр бурь и страданий, подобно миру, вышедшему из хаоса, и человеку, плачущему при рождении. (Конвент восторженно рукоплещет.)
Полюбим безвестную жизнь. Честолюбцы, ступайте на кладбище, где покоятся рядом заговорщики и тираны, и сделайте выбор между славой, созданной молвой, и истинной славой, заключающейся в самоуважении! Было бы бесчеловечно не различать добрых и злых. Правительство обвиняют в диктаторстве; с каких это пор враги революции преисполнены такой заботой о сохранении свободы? В Риме не нашлось никого столь бесстыдного, чтобы упрекнуть Цицерона за строгость, проявленную им по отношению к Каталине. Один только Цезарь сожалел об этом изменнике! Вам надлежит явить миру печать вашего гения! Создайте гражданские учреждения, о которых еще никто не помышлял! Так вы покажете превосходство демократии. Но не сомневайтесь, всему, ныне существующему вокруг нас, настанет конец, потому что все это несправедливо. Свобода воцарится во всем мире. Да исчезнут партии! Да царит над всеми властями один Конвент! Да будут революционеры римлянами, а не варварами!»
Эти лирические излияния, казалось, вызвали проблеск спокойного будущего среди современных ужасов. Конвент с восторгом приветствовал их: жестокости утомили депутатов, они радовались малейшему намеку на милосердие. Робеспьер и его друзья предупредили это стремление Конвента. Слова Сен-Жюста являлись не чем иным, как мыслями его учителя, провозглашенными с трибуны, чтобы воздействовать на общественное мнение. В Робеспьере присутствовали два существа: враг прежнего строя и провозвестник нового, и со смертью Дантона кончилась его первая роль. Теперь он жаждал взяться за вторую. Но закон — ничто, если он является выразителем единственно человеческой воли. Чтобы сделать его священным, необходимо, чтобы он стал выразителем воли божественной. Подчинение человеческим законам — это рабство, а в степень долга его возводит чувство, возносящее это подчинение к Богу. Таким образом, общество из тирании, каковой оно является в глазах атеиста, превращается в религию в глазах верующего.
Понятие о Боге, это общее сокровище всех земных религий, оказалось поругано при разрушении верований; искажено и уничтожено в уме народа пародиями католической религий и гонениями, учиненными Эбером и Шометтом. Народ, легко смешивающий символ с идеей, вообразил, что Бог является предрассудком. Республика как бы изгнала со своей территории и из своих Небес бессмертие души. Атеизм явился для одних возмездием отверженному ими культу за продолжительное порабощение, для других — учением, благоприятствующим всем преступлениям. Народ, разорвав узы веры в Бога, воображал, что расторгает одновременно все узы долга. Террор на земле долженствовал заменить правосудие на небе. Теперь, когда захотели уничтожить эшафот и освятить установления, приходилось вновь создать совесть народа. Совесть без Бога — это суд без судьи. Свет совести есть не что иное, как отражение идеи о Боге. Заглушите Бога, и в человеке наступит тьма.
Робеспьер глубоко сознавал эти истины. Надо сказать, хоть и прискорбно этому верить, он сознавал их не только как политик, заимствующий узы у неба, чтобы крепче связать ими людей, но и как убежденный сектант, первый преклоняющийся перед идеей, боготворить которую он хочет заставить народ. Идеями своими он напоминал Магомета. Наступал час перемен. Прежде всего он хотел изменить душу народа.
Робеспьер дерзнул, дерзнул не без колебания и не без отваги. «Я знаю, — сказал он одному из своих друзей, — что меня может обратить в прах та идея, которую я хочу заставить воссиять над головами». Многие из его друзей отговаривали его от этого поступка, он настаивал на своем. В начале апреля Робеспьер провел несколько дней в лесу в Монморанси. Он часто бывал в хижине, в которой жил Руссо. В этом доме он закончил свой доклад, под теми самыми деревьями, под которыми так чудно писал о Боге его учитель.
Седьмого мая Робеспьер взошел на трибуну с докладом в руке. Никогда еще, по словам людей, бывших свидетелями этого дня, его манера держать себя не выражала такого сильного напряжения воли. Никогда еще его голос не звучал более торжественно.
«Граждане, — сказал Робеспьер, — всякое учение, утешающее и возвышающее душу, должно быть принято; отбросьте все те учения, которые пытаются унизить или развратить ее. Оживите, разбудите все благородные чувства и все великие нравственные идеи, которые стремились в вас заглушить. Кто вам дал полномочия возвестить народу, что Божества не существует, — вам, питающим пристрастие к этому бесплодному учению, но никогда не питавшим подобного чувства к родине? Какую выгоду находите вы в том, чтобы убедить человека, что его судьбой управляет слепая сила, что его душа есть не что иное, как легкое дыхание, прекращающееся у врат могилы? Внушит ли ему мысль о своем ничтожестве более чистые и возвышенные чувства, чем мысль о его бессмертии? Внушит ли она ему больше уважения к себе подобным, больше самоотверженности ради родины, больше смелости, чтобы относиться с презрением к тирании, и более равнодушия к смерти? Вы, жалеющие добродетельного друга, находите утешение в мысли, что лучшая часть его существа избегла смерти! Вас, плачущих над гробом сына или супруги, утешит ли тот, кто скажет вам, что от них остался лишь жалкий прах?
Мысль о Верховном Существе и о бессмертии души — беспрерывное воззвание к справедливости; эта мысль в одно и то же время социальная и республиканская! (Аплодисменты.) Мне неизвестно, чтобы какой бы то ни было законодатель решился когда-либо национализировать атеизм. Я знаю, что мудрейшие из них позволяли себе даже примешивать к истине вымысел, чтобы действовать на воображение невежественных масс народа или усилить их привязанность к существующим учреждениям. Ликург и Солон прибегали к авторитету оракулов, и даже сам Сократ, желая заставить своих сограждан уверовать в истину, счел себя обязанным уверять их, что она была внушена ему божеством домашнего очага.
Вы, конечно, не выведете из этого заключения, что для того, чтобы просвещать людей, необходимо их обманывать, а лишь то, что вы счастливы, что живете в век и в стране, просвещенность которых оставляют единственно только призывать людей к природе и к истине.
Берегитесь порывать священную связь, соединяющую Создателя с творением!
Великий человек, истинный герой слишком уважает самого себя, чтобы удовлетвориться мыслью, что он обратится в ничто. Негодяй, презренный в собственных глазах, отвратительный в глазах других, чувствует, что природа не может наградить его лучшим даром, как обратив его в ничто. (Аплодисменты.)
Руссо величием своей души и характера показал себя достойным звания учителя рода человеческого. Он открыто напал на тиранию; он вдохновенно говорил о Божестве; его красноречие, сильное и честное, описывало пламенными красками прелесть добродетели; отстаивало умиротворяющие догматы, служащие опорой человеческому сердцу. Ах! Если бы он был свидетелем этой революции, предвестником которой являлся, кто может сомневаться, что его благородная душа не вступилась бы восторженно за справедливость и равенство?! А что сделали ради нее его презренные противники? Они вступили в борьбу с революцией с той минуты, как начали опасаться, чтобы она не поставила народа выше их.
Вероломный Гюаде донес на гражданина только за то, что он произнес слово „Провидение“! Мы слышали немного спустя, как Эбер обвинил другого в том, что он писал против атеизма! Разве не Верньо и Жансонне в вашем собственном присутствии и с вашей же трибуны с жаром ратовали за то, чтобы изгнать из введения к конституции упоминание о Верховном Существе, помещенное туда вами? Дантон, снисходительно улыбавшийся при словах „добродетель“, „слава“, „потомство“, система которого заключалась в уничижении всего, что может возвеличить душу, с большим жаром говорил в пользу того же мнения.
Фанатики, не ждите от нас ничего! Призывать людей к чистому поклонению Верховному Существу — значит нанести смертельный удар фанатизму. Всякая ложь исчезает перед истиной, и все нелепости рушатся перед разумом. Без насилия, без гонений все секты должны сами собой смешаться в общей религии природы. (Аплодисменты.)
Притом, что общего между священниками и Богом? Насколько Бог природы отличается от Бога священников? (Аплодисменты не прекращаются.) Священники создали Бога по своему образцу; они создали его ревнивым, капризным, алчным, жестоким, неумолимым; они удалили его на Небеса, как во дворец, и призывали его на землю лишь для того, чтобы выпрашивать себе богатства, почести, удовольствия и власть. Истинный служитель Верховного Существа — природа; его храм — Вселенная; его религия — добродетель.
Оставим священников и обратимся к Божеству. (Аплодисменты.) Установим нравственность на вечных и освященных основах; внушим человеку то религиозное уважение к человеку, то глубокое сознание его обязанностей, которое составляет единственную гарантию общественного блага.
Все враги республики — развращенные люди. (Аплодисменты.) Патриот — человек честный и великодушный в полном смысле этого слова. Мало уничтожить королей, необходимо заставить все народы уважать французский народ за его характер. На что была бы годна всесветная слава нашего оружия, если бы страсти безнаказанно терзали недра нашей родины? Не будем опьяняться нашими успехами. Будем ужасны в несчастиях, будем скромны в своем торжестве и упрочим у себя мир и благосостояние посредством мудрости и нравственности. Вот истинная цель наших трудов, самая геройская и самая трудная задача. Мы рассчитываем достигнуть этой цели, предлагая вам следующий декрет:
„Пункт 1. Французский народ признает существование Верховного Существа и бессмертие души.
Пункт 2. Он признает, что достойное Верховного Существа поклонение заключается в исполнении обязанностей человека“».
Единодушные рукоплескания приветствовали это первое обращение революции к Богу. Чтобы напомнить человеку о бессмертии и его значении, были учреждены празднества. Самый торжественный праздник предстоял 8 июня.
Делегация от якобинцев поздравила депутатов с тем, что они заставили правосудие и свободу вознестись к своему источнику. Кутон в восторженной речи призывал материалистов-философов воздержаться от отрицания Верховного существа Вселенной перед лицом величия Его дел так же, как и от отрицания Провидения перед лицом возрождения развращенного народа. Вид этого дряхлого человека, поддерживаемого на трибуне двумя сотоварищами и призывающего среди пролитой им крови Небесного Судию и бессмертие души, свидетельствовал о фанатической вере Кутона, скрывавшей перед ним самим жестокость средств перед святостью цели.
Каково бы ни было противоречие между кровожадной репутацией Робеспьера и его ролью восстановителя идеи о Божестве, он вышел с этого заседания более великим, нежели явился туда. Он сорвал печать с человеческой совести; совесть ответила ему от лица нации и всей Европы тайными рукоплесканиями. Тот, кто исповедует Бога перед лицом народа, не замедлит, как говорили, осудить преступления и смерть. Все сердца, утомленные ненавистью и борьбой, втайне желали Робеспьеру всемогущества. Он захватил в этот день нравственную диктатуру. Сила и величие восстановленного им в республике учения, казалось, покрыли ореолом его имя.
На следующий день перенесли в Пантеон останки Жана-Жака Руссо, чтобы погребение учителя состоялось во время триумфа его ученика.
LVIII
Покушение на Колло д’Эрбуа — Сесиль Рено — Празднество в честь Верховного Существа — Декрет 22 прериаля — Робеспьер отделяется от своих товарищей — Его секретные заметки относительно некоторых членов Конвента
Надежды на возвращение правосудия и гуманности, зародившиеся только что на описанном заседании, были отсрочены двумя случайными обстоятельствами. Эти обстоятельства помешали Робеспьеру сдержать революционное правительство и встать во главе комитетов.
Один из искателей приключений, которых пошлая судьба вовлекает в несчастья, прибыл в Париж с намерением убить Робеспьера. Звали его Ладмираль. Он родился в горах Пюи-де-Дума, где жители грубеют и закаляются так же, как их почва. До революции он служил лакеем у бывшего министра Бертена. Затем Дюмурье определил его в Брюсселе на одну из временных должностей, но вследствие случайностей войны и революции он лишился места. Свое недовольство он счел за убеждение и вознегодовал на притеснителей своей родины.
Робеспьер был первым, о ком подумал Ладмираль. Террор носил имя Робеспьера.
По прибытии в Париж Ладмираль случайно поселился в доме, где жил Колло д’Эрбуа. Он вооружился пистолетами и кинжалом и начал следить за Робеспьером: по целым дням поджидал его в коридорах Комитета общественного спасения, но случай все время похищал у него его жертву. Утомившись преследованием, он вообразил, что судьба предназначила ему другую жертву. Ладмираль выждал на лестнице дома Колло д’Эрбуа момент, когда лионский проскриптор возвращался ночью с заседания якобинцев, и дважды выстрелил в него из пистолета. Первый выстрел дал осечку, вторая пуля, миновав Колло, попала в стену. Колло и его убийца схватились врукопашную и покатились по лестнице. Выстрелы, крики, шумная борьба привлекли соседей, прохожих и солдат с ближайшего поста. Ладмираль скрылся в своей комнате, устроил там баррикаду и грозил, что будет стрелять в каждого, кто попытается взломать его дверь. Слесарь Жоффруа не испугался этих угроз. Ладмираль выстрелил в него и тяжело ранил. Схваченный и связанный солдатами убийца был отведен к Фукье-Тенвилю.
В это же время семнадцатилетняя девушка явилась к Робеспьеру и настойчиво потребовала свидания с ним. В руках она несла небольшую корзину. Возраст, манера держать себя и наивное выражение лица не внушили хозяевам Робеспьера ни малейшего подозрения. Ее впустили в прихожую к депутату, где она долго его ждала. Настойчивость незнакомки возбудили всеобщее беспокойство, и потребовали, чтобы она ушла. Девушка настаивала на том, чтобы остаться. «Общественный деятель, — говорила она, — должен во всякое время принимать тех, кому необходимо его видеть». Призвали стражу, молодую незнакомку арестовали и обыскали ее корзину. В ней нашли кое-какие принадлежности одежды и два небольших ножа — оружие, недостаточное в руках ребенка, чтобы причинить смерть. Ее отвели в трибунал на улице Пик, где допросили со всей торжественностью, точно великую преступницу. «Зачем вы явились к Робеспьеру?» — спросили ее. «Чтобы увидеть, как выглядит тиран». Сделали вид, что в этом ответе заключается признание в заговоре.
Арест девушки связали с покушением Ладмираля. Распространили слух, будто ее наняло английское правительство. Говорили о маскараде в Лондоне, на котором женщина, одетая Шарлоттой Корде, сказала, потрясая кинжалом: «Я ищу Робеспьера». Другие утверждали, будто Комитет общественного спасения приказал убить возлюбленного этой девушки и что покушение стало возмездием. Все эта выдумки были лишены основания. Убийство заключалось лишь в разыгравшемся воображении ребенка, принимающего свою мечту за действительность и желающего испытать, внушит ли ей знаменитый человек ненависть или любовь, — подражание Шарлотте Корде, смутное по своей цели, невинное по форме.
Девушку звали Сесиль Рено. Она была дочерью бумажного фабриканта в Ситэ. Имя Робеспьера, постоянно повторяемое в ее присутствии родителями-роялистами, внушило ей любопытство. Ее ответы на допросе свидетельствовали о ее чистосердечии. «Зачем, — спросили ее, — вам понадобился сверток с женской одеждой?» — «Потому что я ожидала, что меня отправят в тюрьму». — «А зачем вы взяли с собою два ножа? Вы хотели убить Робеспьера?» — «Нет, я никогда и никому не хотела причинить зла». — «Так зачем же вы хотели видеть Робеспьера?» — «Чтобы убедиться собственными глазами, соответствует ли этот человек тому представлению, какое я составила о нем». — «Почему вы роялистка?» — «Потому что я предпочитаю иметь одного короля вместо шестидесяти тиранов». Ее, так же, как и Ладмираля, заключили в тюрьму. Фукье-Тенвиль пустил в ход все свое искусство, чтобы обратить ребячество в заговор и выдумать сообщников.
Известие об этих двух покушениях вызвало в Конвенте и среди якобинцев взрыв негодования против роялистов, восторг по отношению к депутатам и усилило обожание Робеспьера. Колло д’Эрбуа мгновенно вырос в глазах общества вследствие опасности, которой подвергся. Кинжал превратил Марата в божество. Нож Сесиль Рено сделал Робеспьера святым.
Конвент встретил его, как униженный римский сенат встречал тиранов, покровительствуемых милосердием богов. Секции, которым повсюду чудились организованные шайки убийц, «губителей свободы», возносили благодарность гению республики. Некоторые предложили дать телохранителей членам Комитета общественного спасения. Якобинцы на очередном собрании приветствовали друг друга, обнимаясь, как люди, встречающиеся после избегнутой ими смертельной опасности. Колло, которого толпа несла на руках, благодарил Бога за то, что он сохранил ему жизнь. «Тираны, — воскликнул он, — хотят избавиться от нас, но им неизвестно, что, когда умирает патриот, остающиеся в живых дают над его телом клятву отомстить за преступление!»
Во время заседания Лежандр возобновляет предложение предоставить правительственным чиновникам охрану. Кутон отвечает, что члены Комитета не хотят иной охраны, кроме Провидения.
Робеспьер появляется последним, всходит на трибуну, тщетно пытается заставить выслушать себя среди заглушающих его голос неистовых восклицаний, выражающих восторг и любовь. Наконец он получает возможность говорить.
«Я принадлежу, — заявляет он среди благоговейной тишины, — к числу тех, кому удары угрожали наименее серьезно. Однако я не могу отделаться от некоторых размышлений. Следовало ожидать, что защитники свободы будут служить мишенью для кинжалов тирании. Чем ненадежнее жизнь защитников народа, тем более они должны торопиться совершить в свои последние дни то, что может послужить на пользу свободе. Преступления тиранов и оружие убийц сделали меня свободнее и беспощаднее к врагам народа!..» При этих словах все сердца вспыхивают восторгом и Робеспьер бросается в объятия якобинцев, однако тотчас вновь всходит на трибуну и с презрением отвергает предложение Лежандра. В этом предложении ему почудилось скрытое намерение заставить защитников народа соединиться в триумвират тиранов.
На заседании Конвента, происходившем на следующий день, Барер приписывает иностранным правительствам, и в особенности Питту, участие в организации безумного поступка Ладмираля и ребячества Сесиль Рено. Конвент делает вид, что верит в существование этих заговоров и что, защищая Робеспьера, вместе с тем спасает и родину. Барер заканчивает свою речь предложением принять жесткое постановление, которым повелевалось бы казнить всех английских и ганноверских пленников, захваченных впредь войсками республики.
Робеспьер, поощряемый взглядами и жестами всех присутствовавших, заступает место Барера. «Впоследствии послужит прекрасным предметом восхищения для потомства, — сказал он, — а ныне составляет зрелище, достойное земли и небес, — лицезреть собрание представителей французского народа, одною рукою приносящих к ногам вечного Творца дары великого народа, а другою обращающих громы против тиранов, составляющих заговоры». Продолжительные рукоплескания прерывают Робеспьера. В нем видят уже не человека, а олицетворение родины. «Они погибнут, — продолжает он вдохновенным голосом, — они погибнут, тираны, вооружившиеся против французского народа! Погибнут партии, опирающиеся на власть, чтобы уничтожить нашу свободу! Конечно, они не столь безумны, чтобы думать, что смерть нескольких представителей могла бы упрочить их торжество. Они ошибаются, если думают, что, отправив нас в могилу, увидят выходящими оттуда с торжеством Бриссо, Эберов, Дантонов, чтобы вновь посеять между нами раздор».
При оскорблении памяти Дантона Гора выражает свое неудовольствие жестами.
«Когда мы падем под их ударами, — продолжает Робеспьер с напускным равнодушием, — вы пожелаете довести до конца свое великое предприятие или разделить нашу участь! Среди вас нет ни одного, который не пожелал бы явиться туда, где будут лежать наши окровавленные трупы, чтобы дать клятву над ними в том, что будут истреблены последние враги народа!»
Все представители встают в единодушном порыве и простирают руки в немой клятве.
«Окруженный убийцами, — продолжает Робеспьер, — я уже представил себя находящимся в той новой ситуации, в какую они хотят меня поставить! Но я привязан к временной жизни только любовью к отечеству и жаждой справедливости и, свободный более, чем когда-либо, от всяких личных соображений, я чувствую себя вполне способным энергично напасть на всех негодяев, составляющих заговор против человеческого рода! Чем больше они спешат прекратить мою деятельность на этом свете, тем больше я буду торопиться наполнить ее поступками, полезными для всех. Я оставлю им, по крайней мере, завещание, чтение которого приведет в содрогание всех тиранов и всех их сообщников!»
На это заявление, как бы переносящее трибуну по ту сторону могилы, Конвент ответил продолжительными рукоплесканиями. Тогда Робеспьер перестает говорить о себе и дает советы республике.
«Развратным людям удалось низвергнуть республику и народный ум в хаос. Теперь необходимо воссоздать гармонию нравственного и политического мира. Говоря это, я, может быть, оттачиваю против себя кинжалы, но потому-то я и сказал это. Я достаточно жил! Я видел, как французский народ из недр разврата и рабства вознесся на вершину славы и республиканской доблести. Я видел его разбитые оковы. Я видел больше: как собрание, облеченное французской нацией всемогуществом, быстрыми и твердыми шагами шло к народному благу, как оно подавало пример всяческого мужества и добродетели! Довершайте, граждане! Доканчивайте ваше высокое предназначение! Вы поставили нас впереди, чтобы выдержать первый натиск врагов человечества. Мы заслужили эту честь и своею кровью начертаем вам путь к бессмертию!»
Никогда еще подобная речь не раздавалась в стенах совещательного собрания. Конвент приказал напечатать ее на всех европейских языках. Она подготавливала умы в полной мере к церемонии завтрашнего дня. Насмешка, все пятнающая во Франции, на этот раз была вынуждена выказать восхищение перед догматами, осмелившимися отнестись с презрением к смерти и свидетельствовать о Боге!
Робеспьер ожидал этого дня с нетерпением. Из всех миссий, к которым, как казалось, он был призван, самой высшей он считал возрождение в народе религиозного чувства. Робеспьер и в самом деле готов был умереть после этого дня. Внутренняя радость от сознания, что дело его совершено, отражалась в чертах его лица после доклада в Конвенте. Домашние и друзья удивлялись его необычайному спокойствию. Он восхищался обновленной весной природой, украсившейся цветами, как бы в ожидании торжественного союза, который он хотел заставить ее заключить с ее Создателем. Он постоянно говорил о 8 июня, на которое назначили праздник в честь Верховного Существа, и сожалел о жертвах, которые не увидят этого чудного дня. Он говорил, что надеется закончить эпоху казней восстановлением братства и милосердия и собирался обсудить с Виллатом и Давидом все приготовления к торжеству. Робеспьер хотел, чтобы эта церемония проникла в сердце народа. «Для чего, — сказал он накануне Субербьелю, — во Франции продолжает существовать эшафот? Сама жизнь должна явиться завтра перед источником всей и всяческой жизни». Он потребовал, чтобы в день церемонии не совершали казней.
Конвент провозгласил Робеспьера председателем, чтобы автор декрета стал в то же время и главным его исполнителем. На рассвете он отправился в Тюильри отдать последние приказания распорядителям религиозного торжества. В первый раз за всю свою политическую карьеру он облекся в торжественную одежду уполномоченного. Голубой сюртук, немного светлее, чем у членов Конвента, белый жилет, желтые замшевые панталоны, сапоги с отворотами, круглая шляпа, украшенная пучком перьев трех цветов, привлекали к нему все взоры. Он держал в руке огромный букет из цветов и колосьев. В своем рвении он забыл даже о потребностях человеческой природы: Конвент собрался в зале заседаний, шествие приготовилось выйти, а он еще ничего не ел. Виллат, живший в Тюильри, предложил зайти и позавтракать у него.
Войдя к Виллату, Робеспьер бросил шляпу и букет в кресло и облокотился на подоконник, любуясь видом толпы, теснившейся в цветниках и аллеях сада. Женщины, одетые в нарядные платья, держали на руках детей. Лица у них сияли. «Вот, — сказал Робеспьер, — самая умиляющая часть человечества. В лице этих свидетелей торжества видна вся Вселенная. Как красноречива и величественна Природа! Такое торжество должно заставить содрогнуться тиранов и нечестивцев!»
Огромный амфитеатр, напоминавший собой римский цирк, примыкал к дворцу Тюильри. Конвент вошел в него прямо из центрального павильона, как цезари входили в свои колизеи. Посреди этого амфитеатра для Робеспьера оставили трибуну, возвышающуюся над скамьями. Расположенная против нее колоссальная группа символических фигур олицетворяла атеизм, эгоизм, ничтожество, преступления и пороки. Эти фигуры, слепленные Давидом из горючих материалов, были предназначены для сожжения в виде жертвоприношения.
Все депутаты, одетые в одинаковые голубые сюртуки с красными отворотами, с букетами в руках, медленно заняли свои места. Появился Робеспьер. Народ, среди которого имя его властвовало так же, как его трон возвышался над Конвентом, думал, что собираются провозгласить его диктатуру. Толпа ждала его речи. Одни надеялись на амнистию, другие — на учреждение милосердной власти. Бездействовавший Трибунал и разобранный на один день эшафот открывали умам перспективу надежды.
«Французы, республиканцы, — сказал Робеспьер, — наконец настал навеки благословенный день, который французский народ посвящает Верховному Существу! Никогда еще созданный им мир не предоставлял своему Творцу зрелище, более достойное Его взоров. Он видел, как на земле господствовали тирания, преступления и лицемерие. Он создал королей не для того, чтобы истреблять человеческий род; Он создал священников не для того, чтобы впрягать нас, как презренных скотов, в колесницу королей и дать миру пример низости, гордости, трусости, скупости, разврата и лжи. Он создал мир для того, чтобы проявить свое могущество, и создал людей для того, чтобы они помогали друг другу, любили друг друга и достигли счастья путем добродетели.
Творец природы соединил всех смертных одной огромной цепью любви и счастья: да погибнут тираны, осмелившиеся порвать ее!
Существо из существ, мы не должны обращаться к Тебе с неправыми молитвами, Ты знаешь создания, вышедшие из твоих рук, их нужды не могут укрыться от Тебя, так же как и самые затаенные их мысли. Ненависть к лицемерию и тирании пылает в наших сердцах вместе с любовью к справедливости и родине. Кровь наша проливается в защиту человечества. Вот наша молитва, наши жертвы, вот дары, которые мы приносим Тебе!»
Робеспьер, спустившись с амфитеатра, приказал поджечь группу, изображавшую атеизм. Пламя и дым поднялись к небу. Члены Конвента, следуя за своим вождем, прошли двумя колоннами через толпу народа к Марсовому полю. Между колоннами депутатов двигались деревенские телеги, повозки, запряженные быками, и другие символы земледелия, ремесел и искусств. Робеспьер часто оборачивался, чтобы измерить расстояние, отделявшее его от товарищей. Все взоры были обращены только на него.
Посреди Марсова поля на месте прежнего Алтаря Отечества возвышалась символическая гора. К ее вершине вела узкая и крутая тропинка. Там заняли места Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст и Леба. Прочие члены Конвента разместились на склонах горы. Под залпы из пушек Робеспьер провозгласил декларацию веры французского народа. Народ был опьянен. Конвент мрачен.
Угрожающие взгляды, подозрительные жесты, двусмысленные намеки поразили взоры и слух Робеспьера на обратном пути. «От Капитолия до Тарпейской скалы всего один шаг!» — кричал один. «На свете есть еще Бруты», — бормотал другой. «Видишь этого человека? — спрашивал третий у шедшего рядом с ним. — Он хочет приучить республику боготворить кого-нибудь, чтобы потом заставить боготворить себя». — «Он выдумал Бога, потому что он величайший тиран. Он хочет быть его жрецом, а может сделаться его жертвой».
Робеспьер потерял свое обаяние и лишился популярности на том самом алтаре, на котором восстановил служение Верховному Существу. Этот день возвеличил его среди народа и погубил в Конвенте. Он вернулся домой задумчивым. Весь день ему досаждали анонимными поздравлениями. Продолжительные возгласы под его окнами благодарили его за возвращение души народу, а Бога — республике. Многие из записок содержали одно только слово: «Дерзайте!»
Действительно, для Робеспьера настала минута риска. Если бы у него хватило смелости объявить конец революционной власти, начало народного правления и отмену казней, то он царствовал бы уже на следующий день, обвинил в пролитой крови своих врагов, присвоил себе популярность милосердия и спас бы республику. Но он ничего этого не сделал. Он дал убаюкать себя этим колеблющимся порывам народной любви и всемогущества и ловил рукою только воздух.
Сен-Жюст желал большего. Видя, что он не может заставить Робеспьера решиться принять верховную власть из рук народа, он вознамерился заставить Комитет общественного спасения присудить ее ему.
В отсутствие Робеспьера Сен-Жюст нарисовал на тайном заседании картину отчаянного положения республики. «Бедствие достигло крайних пределов, — сказал молодой представитель, — нас терзает анархия, законы, которыми мы наводняем Францию, представляют собой смертоносное орудие, которое мы передаем в руки партий. Каждый народный представитель при армиях и в департаментах является королем в своей провинции; кровь затопляет нас, золото исчезает, границы обнажены, война ведется без общего плана, и даже наши победы есть не что иное, как счастливая случайность. Приведут ли все эти волнения к ослаблению или могуществу? Хотим ли мы жить или умереть? Республика будет жить или умрет вместе с нами! Для всех нас есть только одно средство спасения: сосредоточение разъединенной власти в одном человеке.
Вы спросите, кто же этот человек, столь высоко стоящий над слабостями и подозрениями человечества, что республика может быть олицетворена им? Признаюсь, эта роль превышает человеческие силы, миссия эта ужасна, а опасность чрезвычайна, если мы ошибемся в выборе.
Он должен обладать знанием людей и событий, которые разыгрываются уже в течение пяти лет; он должен пользоваться такой всеобщей популярностью, чтобы глас народа присудил ему диктатуру, которую мы только наметили для него! При описании этого человека никто из вас не станет колебаться и назовет Робеспьера! Он один соединяет в себе, благодаря уму, обстоятельствам и добродетели, условия, которые могут оправдать такое неограниченное доверие Конвента и народа! Не скроем от себя, в чем заключается наше благо! Победим, в виду явной необходимости, наше самолюбие, зависть, отвращение! Не я указал на Робеспьера, а его добродетель! Не мы сделаем его диктатором, а Провидение республики!»
При слове «диктатор» все лица нахмурились. Все почтительно отклонили мысль Сен-Жюста, как одну из грез, вызванных лихорадкой патриотизма. «Робеспьер велик и мудр, — послышалось в ответ, — но республика выше и мудрее, чем один человек. Диктатура сделалась бы троном отчаяния, и никто не сел бы на него, пока живы республиканцы!»
Сен-Жюст тщетно пытался настаивать; Леба тщетно пытался прояснить мысль своего сотоварища. Члены Комитета разошлись взволнованные, возмущенные, но предупрежденные. Неосторожность Сен-Жюста оказалась вменена в преступление Робеспьеру. «Верховную власть не вымаливают, а захватывают; пусть он завладеет ею, если осмелится!» — сказал Билло своим друзьям. С этого дня комитеты начали питать против Робеспьера подозрения, которые во время совещаний проявлялись ропотом и злобными восклицаниями.
Однако со следующего после празднества дня Конвент начал издавать множество декретов, проникнутых истинным духом революции.
Законы были мягки, как растроганные человеческие сердца. Конвент объявил, что нищета является обвинителем эгоизма собственников и непредусмотрительности государства. Конвент восхвалял труд, призревал детей, воспитывал юношество, питал старость. Он разделил национальные земельные имущества на мелкие части, доступные самым маленьким капиталам, чтобы поощрить к приобретению собственности. Он классифицировал население. Он назначил пособие кормящим грудью матерям и субсидии многочисленным семьям, которые не могли питаться на заработок своих отцов. Он регулировал подати с бедняков и возложил бремя их на состоятельных. Учредил мастерские для не имеющих работы. Назначил пенсии женам, матерям, дочерям защитников родины, которые умерли или были ранены, борясь за нацию. Покровительствовал деревне за счет городов — притонов роскоши и пороков, которые он хотел ограничить, а также покровительствовал искусствам и полезным наукам. Он оказывал широкую благотворительность от лица нации и обратил ее в обязанность, а милосердие — в учреждение.
Читая эти декреты, народ начал надеяться, что завоевал своею кровью принцип демократии и что философия, исчезнувшая во время революционной борьбы, явится следствием его победы и начнет им управлять. Один только эшафот противоречил этим надеждам.
Робеспьер, зная о ненависти к нему комитетов, наконец решил поразить своих врагов дерзостью и опередить их внезапностью: 22 прериаля, через два дня после торжества в честь Верховного Существа, он предложил Конвенту, по соглашению с Кутоном, проект декрета о преобразовании Революционного трибунала. Это был закон, санкционировавший произвол и каравший за всякий проступок приговором к казни.
К разряду врагов народа принадлежали все граждане независимо от того, были они или нет членами Конвента, на которых могло пасть подозрение. Нация не считалась уже невиновной, а члены правительства — неприкосновенными. Это было всемогущество судебных и карательных мер, диктатура не человека, но эшафота.
Рюан, выслушав проект этого декрета, воскликнул: «Если бы этот проект прошел немедленно, я прострелил бы себе голову!» Барер, которого предложение декрета убедило в могуществе Робеспьера, отстаивал его необходимость. Бурдон, депутат Уаза, также решился возразить. Робеспьер настаивал, чтобы его обсудили на том же заседании. «С тех пор как мы избавились от заговорщиков, — сказал он, кивнув в сторону места, которое раньше занимал Дантон, — мы подаем голоса немедленно; просьбы об отсрочке повредят в настоящую минуту!»
Когда на другой день открылось заседание, Бурдон решил взойти на трибуну. Он потребовал, чтобы Конвент сохранил за собой исключительное право отдавать своих членов под суд. Мерлен, депутат от Дуэ, поддержал мнение Бурдона. Решили провести работу по разъяснению декрета; это должно было обезоружить Робеспьера и комитеты.
На следующем заседании Дельбрель и Маларме потребовали новых разъяснений. Кутон энергично отстаивал свой труд, льстил Конвенту, ободрял комитеты, нападал на Бурдона. Тот поспешил оправдаться, но с достоинством: «Пусть они знают, эти члены комитетов, что если они патриоты, то и мы патриоты не менее их. Я уважаю Кутона, уважаю Комитет; но я уважаю также непоколебимую партию Горы, которая спасла свободу!»
Возмущенный Робеспьер немедленно заявил: «Бурдон пытается отделить Комитет от Горы. Конвент, Комитет и Гора — это одно и то же. Граждане! Когда вожди преступной партии — Бриссо, Верньо, Жансонне, Гюаде и прочие негодяи — встали во главе одной части этого священного собрания, наступил момент, когда лучшая часть Конвента должна была сплотиться, чтобы побороть их. Тогда имя Горы сделалось священным, потому что обозначало ту часть представителей народа, которые борются против обмана; но с той минуты, когда эти люди пали под мечом закона, когда честность, правосудие, нравы пришли в норму, в Конвенте могут быть только две партии: добрая и злая. Если я имею право обратиться с этой речью к Конвенту вообще, то, мне кажется, я также имею право обратиться и к знаменитой Горе, которой я, конечно, не безызвестен.
Монтаньяры, вы всегда будете оплотом народной свободы, но вы не имеете ничего общего с интриганами и нечестивцами. Гора есть не что иное, как вершина патриотизма. Монтаньяр — честный патриот. Допустить, что несколько интриганов, более презренных, чем остальные, попытались увлечь часть Горы и сделались вождями партии, значило бы оскорбить Конвент».
Бурдон воскликнул, прерывая оратора: «В мои намерения никогда не входило сделаться главою партии!»
«Было бы верхом позора, — продолжал Робеспьер, — если бы некоторые из наших коллег, введенные в заблуждение клеветой относительно наших намерений и цели наших трудов…» Бурдон из Уаза снова прервал его: «Я требую доказательств того, что утверждают. Только что достаточно ясно сказали, что я негодяй!» — «Я требую во имя отечества, — настаивал Робеспьер, — права продолжить свою речь. Я не назвал Бурдона. Горе называющему себя! Но если он желает признать себя в том общем изображении, набросать которое повелел мне мой долг, то не в моей власти воспрепятствовать ему в этом. Гора чиста, она свята, но интриганы не принадлежат к Горе. Не допускайте, чтобы между нами делали различие, потому что мы составляем часть вас и без вас мы ничто. Дайте нам силу нести бремя, почти превышающее человеческие силы, которое вы возложили на нас. Будем всегда действовать заодно, наперекор нашим общим врагам…»
Рукоплескания большинства Конвента не дали ему закончить. Потребовали немедленного принятия декрета. Лакруа, Мерлен, Тальен отказываются от своего мнения. Торжество Робеспьера является полным и всеобъемлющим. В тот же вечер Тальен, дрожавший за свою жизнь, написал Робеспьеру секретное письмо, найденное в бумагах Робеспьера после его смерти.
«Робеспьер, — писал Тальен, — ужасные и несправедливые слова, сказанные тобою, еще звучат в моей уязвленной душе. С откровенностью честного человека я хочу дать тебе некоторые разъяснения. Тебя давно уже окружают интриганы, возбуждая твои подозрения против некоторых из твоих коллег, особенно против меня. Так происходит не впервые. Необходимо вспомнить мое поведение в то время, когда я мог бы отомстить многим. Суди сам: я, Робеспьер, не переменил ни убеждений, ни поведения; будучи постоянным приверженцем справедливости, истины и свободы, я ни на минуту не уклонился от своего пути. Что касается приписываемых мне намерений, то я их отрицаю. Меня выставили как безнравственного человека; пусть явятся ко мне — и явившиеся застанут меня с моею старой, достойной уважения матерью, в том самом жилище, которое мы занимали до революции. Роскошь изгнана из него, и, помимо книг, то, чем я владею, не прибавило к моему достатку ни одного су. Я, без сомнения, мог впасть в ошибки, но они невольны и неизбежны при человеческой слабости. Живя уединенно, я имею мало друзей; но я всегда останусь другом всех истинных защитников народа».
Робеспьер не потрудился ответить на это письмо. Он недостаточно уважал Тальена, чтобы думать, что подобное перо может когда-либо обратиться в кинжал. Во время революции никогда не опасаются подлых людей в достаточной мере. Они, однако, только и опасны.
Месяц спустя, в клубе якобинцев, Робеспьер столь же неосторожно напал на человека, еще более изворотливого и опасного, чем Тальен: на Фуше. Робеспьер заставил исключить его из членов клуба за то, что он проповедовал атеизм. «Боится, что ли, этот человек предстать пред нами? — спросил он. — Боится он глаз и ушей народа? Боится, чтобы шесть тысяч глаз, устремленных на него, не обнаружили в его лице всей его души?»
Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст настоятельно требовали, на основании принятого декрета, отправить в Трибунал лиц, возбуждающих волнение в Конвенте. Основными из них были: Фуше, Тальен, Бурдон из Уаза, Фрерон, Тюрио, Лекуантре, Баррас, Лежандр, Камбон, Леонар Бурдон, Дюваль, Одуэн, Каррье, Жозеф Лебон. Комитеты медлили в своей решимости. Кутон обратился к якобинцам: «Тени Дантонов, Эберов и Шометтов еще блуждают среди нас, — сказал он им на заседании 26-го числа. — Республика возложила всю свою надежду на Конвент. Он заслужил это; но там осталось еще несколько вредных умов. Настало время обнаружить и наказать их. Пусть падут негодяи, да погибнут они!»
В Комитете общественного спасения возникали ожесточенные споры. «Ты хочешь, значит, отправить на гильотину весь Конвент?» — спросил Билло-Варенн однажды Робеспьера. Карно горячо негодовал против Сен-Жюста, который с опрометчивостью молодости выказывал намерение расстроить его планы войны. Бадье, председатель Комитета общественной безопасности, разделял злобу своих коллег и выражал ее с еще большей грубостью. Накануне того дня, когда Эли Лакост должен был сделать доклад о сообщниках Ладмираля и Сесиль Рено, Вадье явился в Комитет. «Завтра, — сказал он Робеспьеру, — я сделаю доклад по делу, имеющему отношение к этому, и предложу привлечь к суду семейство Сен-Амарант». — «Ты этого не сделаешь», — надменно возразил Робеспьер. — «Нет, сделаю, — ответил Вадье. — Все доказательства у меня в руках: они подтверждают измену, и я раскрою ее целиком». — «Подтверждают или нет, я не знаю, но если ты это сделаешь, тебе придется иметь дело со мной!» — возразил Робеспьер, вставая и едва удерживая слезы гнева, выступившие у него на глазах. «Хорошо, — прибавил он, — я избавлю вас от своей тирании. Спасите отечество без меня, если сможете! Что касается меня, то решение мое непоколебимо, и я не хочу повторять роли Кромвеля». Сказав это, он удалился, и более не возвращался в Комитет общественного спасения.
Одни смотрели на его уход как на слабость, другие видели в этом хитрость. С той минуты, когда Робеспьер не мог более обуздывать комитеты, он счел, что ему благоразумнее удалиться от своих коллег открыто. Этим отсутствием он объявил себя в фактической оппозиции к правительству. Так как он замышлял низвергнуть Комитет, то не мог принимать участие в его действиях. Удаление его послужило поводом к обвинениям, более веским и грозным, чем пустые слова. Скоро должно было выясниться, кто возьмет верх — один человек или анархия.
Несмотря на свое удаление, Робеспьер отчасти сохранил власть в Комитете. Сен-Жюст только что уехал в Рейнскую армию. За его отъездом осталось вакантным место президента бюро общего надзора полиции. Робеспьер взялся заместить своего юного коллегу. Таким образом, он держал в руках нити всех заговоров, которые могли быть составлены против него, и через многочисленных шпионов мог опутать своих врагов их же собственными сетями. Из найденных после его падения документов можно видеть, какой надзор установил он за всеми подозрительными членами Конвента и комитетов. Он уже не был рукой революционного правительства, но остался его соглядатаем.
Робеспьер ежедневно получал сведения о действиях своих врагов. Кутон вел для него наблюдения за тем, что происходило в недрах Комитета общественного спасения, Давид и Леба — за тем, что творилось в Комитете общественной безопасности, Коффиналь наблюдал за Революционным трибуналом, а Пайян — за Коммуной. Собственноручные заметки Робеспьера свидетельствуют о том, что он непрестанно размышлял о характерах лиц, которых намеревался уничтожить вместе с комитетами или привлечь к правлению.
«Дюбуа-Крансе, — пишет он, — изгнан из Шербургской армии. Заявил, что следует истребить всех вандейцев до единого. Друг Дантона. Сторонник Орлеанов, с которыми находится в дружеских отношениях».
«Дельма, бывший дворянин, запятнавший себя интригами, союзник Жиронды, друг Лакруа, поверенный Дантона; находится в сношениях с Карно».
«Тюрио всегда оставался лишь сторонником герцога Орлеанского. Его молчание после падения Дантона противоречит его постоянной болтливости до этого события. Он втайне возбуждает Гору. Столовался с Дантоном и Лакруа у Гюсмана и в других подозрительных местах».
«Бурдон (из Уаза) запятнал себя преступлениями, содеянными им в Вандее, где он во время оргий с изменником Тунком забавлялся тем, что собственноручно убивал солдат. Он соединяет в себе трусость и жестокость. Он был самым ярым защитником атеистической системы. В день празднества в честь Верховного Существа он со злобой обратил внимание своих коллег на благосклонность, выраженную мне народом. Находясь в гостях у Буланже, он встретился с девушкой, которая приходится ему племянницей. Он взял с камина два пистолета. Племянница заметила ему, что они заряжены. „Что ж, если я застрелюсь, — сказал он, — скажут, что ты меня убила, и тебя гильотинируют!“ Он выстрелил в девушку, но пистолет, к счастью, дал осечку».
«Леонар Бурдон, один из неразлучных сообщников Эбера, друг Клоотса. Он один из первых ввел в Конвенте обычай говорить с покрытой головой и заседать в неприличном костюме».
В противоположность людям, находившимся у него на подозрении, Робеспьер записывал также имена тех, кого намеревался призвать на высшие должности республики. Это были Эрман, намеченный в администрацию, Пайан или Жюльен — для народного образования, Анрио — в парижскую мэрию, Бюшо или Фуркад — в министерство иностранных дел, д’Альбарад — во флот и множество других лиц с неизвестными именами, но якобы отличившиеся рвением, патриотизмом и гражданской доблестью.
Рядом с этими заметками, начертанными его пером, в ящиках стола Робеспьера находились сотни писем, с подписями и анонимных, которые как своим энтузиазмом, так и ругательствами свидетельствовали об огромном значении этого имени в республике.
«Ты, озаряющий Вселенную произведениями своего ума, наполняешь мир славой своего имени, — говорится в одном из писем. — Истины, изрекаемые тобою, — принципы природы, твой язык — язык человечества; ты возвращаешь людям их природное достоинство. Второй Создатель, Ты возрождаешь человеческий род».
«Робеспьер! Робеспьер! — читаем в другом письме. — Тебе удалось уничтожить самую твердую опору республики. Таким образом и Ришелье добился власти, пролив на эшафотах кровь всех врагов своих планов. Ты сумел предупредить Дантона и Лакруа; сумеешь ли ты предупредить удар моей руки и руки двадцати двух Брутов, подобных мне? Ты погибнешь от той руки, которую не подозреваешь и которая сжимает твою».
«Я видел тебя рядом с Петионом и Мирабо, отцами свободы, — гласило еще одно письмо, — теперь я вижу лишь тебя, оставшегося невредимым среди разврата. Не доверяй никому, кроме самого себя, приведения в исполнение своих замыслов. В будущие века на тебя будут смотреть как на краеугольный камень нашей конституции!»
«Ты еще жив, тигр, алчущий крови Франции, палач своей родины! — восклицает аноним. — Ты еще жив! Но час твой близится: рука, которую пытаются узнать твои растерянные взоры, уже поднялась против тебя. Я каждый день бываю с тобою; каждый день, каждый час я ищу, куда бы нанести тебе удар. Прощай, сегодня же вечером, глядя на тебя, я буду радоваться твоему страху!»
Но если Робеспьера не отвлекали от наблюдений за врагами ни домашние распри, ни крайняя нужда, ни восторги перед ним, ни угрозы его корреспондентов, то и комитеты не ослабляли свою ненависть к нему. Билло-Варенн, Колло д’Эрбуа, Барер, Вадье, Амар, Эли Лакост старались усиленным террором оградить себя перед Конвентом и якобинцами от обвинений в снисходительности, которые Робеспьер мог возбудить против них. С другой стороны, они приписывали ему одному казни Трибунала и выставляли его в своих интимных беседах как ненавистного палача.
Сидевшим на скамьях передавались фальшивые списки лиц, головы которых требовал Робеспьер, чтобы настроить против него из страха тех, кого еще не настроила против него зависть. Крайняя опасность, глубокая тайна, возвышавшийся поблизости эшафот придавали нарождавшейся оппозиции характер, таинственность и отчаянность заговора. Душою его стали Тальен, Баррас и Фрерон. Эти три депутата, отозванные с мест своих миссий в Бордо, Марселе и Тулоне, пробыв долгое время верховными властелинами жизни и имущества тысяч граждан, с трудом смогли сойти на уровень простых депутатов. Диктаторская власть, которой они пользовались, привычка к битвам, слава побед, мундир, который они носили, находясь во главе войск, придавали их решениям отпечаток воинственности. Вся тактика этих заговорщиков, подобно Дантону забывающих во время революции принципы и видящих в ней только обстоятельства, любящих более власть и наслаждения, чем ее учреждения, состояла в том, чтобы действовать, предупреждать и поражать.
LIX
Барер, Анакреон гильотины — Госпожа де Сент-Амарант — Заговор шестидесяти — Робеспьер в клубе якобинцев — Попытка к примирению между членами комитетов
Комитеты изыскивали все новые способы скомпрометировать Робеспьера. Чтобы успешно бороться с его влиянием в среде якобинцев, приходилось строго и жестоко применять ужасный декрет 22 прериаля. Никогда еще Террор не поражал столько виновных, находившихся на подозрении, и невинных, как начиная с того дня, когда Робеспьер решил положить этому предел. Между комитетами началось соревнование в жестокости и казнях. «Дело идет хорошо, жатва обильная, корзины наполняются», — говорил один из членов Комитета общественной безопасности, подписывая длинные списки лиц, отправляемых в Трибунал. «Я видел тебя на площади Революции любующимся зрелищем гильотинирования», — говорил другой. «Да, — отвечал первый, — я ходил посмеяться над тем, какие лица корчат эти негодяи». Не щадившие крови оставались, однако, бескорыстны в отношении имущества казнимых. Билло-Варенн, умиравший с голоду в Кайенне, не мог упрекнуть себя в том, что присвоил себе хоть одну монетку, принадлежащую республике, опустошенной им.
Вадье, доживший до глубокой старости в изгнании и нищенствуя за границей, говорил сыну одного из отправленных им на эшафот: «Мне девяносто два года. Сила моих убеждений продлила мою жизнь. В одном я могу упрекнуть себя, а именно в том, что не понял, кто такой Робеспьер, и принял гражданина за тирана».
Левассер, восторженный монтаньяр, также осужденный и терпевший нужду в Брюсселе, воскликнул в присутствии одного из своих соотечественников, который только перед тем посочувствовал его преклонному возрасту: «Скажите своим парижским республиканцам, что вы видели, как старик Левассер сам стлал себе постель и снимал пену с котелка, в котором варились бобы, единственная пища в дни нужды». — «А какого вы теперь мнения о Робеспьере?» — спросил его молодой француз. «О Робеспьере? Не произносите этого имени! Это единственное, в чем мы можем упрекнуть себя: Гора находилась в состоянии затмения, когда убила его», — ответил Левассер. Престарелый Субербьель говорил на смертном одре то же самое: «Самые кровавые революции — это революции совести. Робеспьер был совестью Революции. Они убили его потому, что не поняли его». Совесть и убеждения так перепутались в душах у людей той эпохи, что даже на склоне лет они принимали одно за другое и, показывая свои руки, которыми ничего не награбили, но которые были по локоть в крови, думали, что чисты перед Богом.
Некоторые из проскрипторов до того привыкли к крови, что чередовали в своей жизни смерть с наслаждениями. Жестокие утром, сладострастные вечером, они из комитетов или с площади, на которой возвышался эшафот, отправлялись на роскошные пиры, наслаждались музыкой и поэзией, находили забвение с легкомысленными женщинами. Казалось, они спешили посвятить удовольствиям часы, которые каждую минуту могли быть прерваны заговором.
Барер был человеком утонченным и скорее угодником Революции, чем апостолом республиканской добродетели. Его прозвали Анакреоном гильотины, потому что в своих докладах он изображал приятные картины, прикрашивая зловещие постановления, точно набрасывал багровые цветы на кровь. В деревне Клиши он купил и с изяществом отделал увеселительный дом и удалялся туда дважды в неделю, чтобы освежить свои мысли. Туда он возил эпикурейцев революции, в том числе финансиста Дюпена. Дюпен прославился своим докладом о шестидесяти главных откупщиках, среди которых находился и знаменитый химик Лавуазье, которого он заставил осудить на смерть заодно со всеми. Дюпен прославился также как любитель изысканного стола. Прекрасные женщины, гордившиеся честью оказаться близко к главарям республики, принимали участие в этих пирах в Клиши. Легкомысленные, как веселье, но безмолвные, как смерть, эти женщины слышали все, но ничего не удерживали в памяти.
Человеческой душе потребно сверхъестественное, таинственное. Одного разума мало, чтобы объяснить жалкое существование человека в земной юдоли. Тайна — это тень, принесенная из бесконечности и наброшенная на человеческий ум. Она служит подтверждением существования Вечности, не объясняя ее. У всех народов, во все века были свои тайны. С тех пор как философия XVIII века рассеяла в умах Европы средневековые суеверия, страсть к сверхъестественному изменилась — не в своей сущности и легковерии, а в объекте. Никогда еще интеллектуальный мир не был ослаблен большим числом тайных учений и химерических философий. Сведенборг в Швеции, Вейсгаупт на Рейне, граф Сен-Жермен, Бергасс, Сен-Мартен во Франции, франкмасоны, розенкрейцеры, иллюминаты и деисты повсюду основывали свои школы, вербовали приверженцев, грезили о таинствах. Революция не уменьшила этой инстинктивной склонности человека к чудесному. Напротив, довела ее до галлюцинаций. Чем значительнее события, чем большее число людей настигают катастрофы, тем сильнее человек узнает свое несовершенство и убеждается в том, что рука Божия управляет событиями, людьми и всем, что вращается вокруг нас, рушится и вновь возникает.
В одном из отдаленных и бедных кварталов Парижа в то время жила Катерина Тео. Эта женщина, ум которой ослабел с возрастом, была уверена или, по крайней мере, делала вид, что уверена в том, что обладает сверхъестественным даром ясновидения и пророчества. Престарелая пифия видела в Робеспьере нового Саула. Она провозглашала его избранником Божиим и указывала на него как на восстановителя истинной религии, водворителя совершеннейшего порядка на земле. Бывший монах Картезианского монастыря Дом Жерль сошелся с пророчицей с улицы Контрэскарп благодаря той притягательной силе, которая влечет верующего к чудесному. Дом Жерль сделался первым учеником этой вдохновенной женщины, он запоминал и объяснял ее пророчества и основал вместе с нею нечто вроде церкви, куда верующие стекались толпой, чтобы быть приобщенными и получить откровения новой религии. Странные церемонии, иносказательный язык, вдохновение, сопровождающееся конвульсиями, девушки небесной красоты, видения, пение, музыка, братские объятия, наконец, тайна придавали этой возрождающейся религии очарование одухотворенности и чувственности. Революция изображалась в прорицаниях Катерины Тео как сошествие Святого Духа на главу народа. Священники и короли должны были исчезнуть с лица земли. Робеспьер выступал как Мессия, который должен все упорядочить и обратить к Богу.
Дом Жерль был членом Учредительного собрания. Его склонность к благочестивому легковерию проявилась уже там: он возвестил с трибуны о мнимых откровениях девушки по имени Сюзетта Лабрус, но общий смех встретил этот ребяческий вздор. Сюзетта Лабрус, изгнанная из Парижа, отправилась пророчествовать в Рим и умерла там как невинная жертва своих галлюцинаций в темнице замка Св. Ангела. Но Дом Жерль упорствовал в своем заблуждении относительно подобных видений.
Он часто пересказывал Робеспьеру пророчества Катерины Тео о его будущем величии. Робеспьер не был суеверен, религией его стала логика. Однако вследствие ли возвышения Робеспьер сделался суеверным относительно самого себя, или же он желал возбудить суеверие в других, чтобы увеличить свою популярность, но он не только снисходительно относился к собраниям у Катерины Тео, а даже покровительствовал им. Он получал письма от пророчицы и ее приверженцев, продиктованные, как говорили, духом-провозвестником. В празднестве Верховного Существа, в символике этой церемонии, именах, которые давали Богу и Природе, имелось явное сходство с именами и церемониями тайной религии. В народе возникло достаточно основательное мнение, что Робеспьер хотел взять на себя роль верховного первосвященника, а попытки Дома Жерля, его поверенного, являлись попытками создания религиозного учреждения: таким образом, принять в нем участие означало угодить диктатору, и эта причина привлекала на сборища новоявленной секты больше приверженцев, нежели сама вера.
В то же самое время в одном из самых роскошных зданий в центре Парижа, незадолго перед тем построенном богатым философом Гельвецием, жила еще молодая женщина, красота которой не имела бы соперниц, если бы у нее не было шестнадцатилетней дочери. Женщину эту звали госпожой де Сент-Амарант. Хоть она и выдавала себя за вдову дворянина, убитого в дни 5–6 октября, когда он защищал вход в покои королевы в Версале, и старалась держать себя с достоинством, относительно ее происхождения ходили слухи.
Ее дом с начала революции объединял самых выдающихся людей всех партий. Мирабо, Сийес, Петион, Шапелье, Бюзо, Луве, Верньо постоянно посещали ее. Красота госпожи де Сент-Амарант и ее ум сглаживали все различия во мнениях.
Тем не менее она явно выказывала расположение к традициям и надеждам роялизма и хранила в своих покоях, не делая из этого особой тайны, портреты короля и королевы.
Молодой человек, служивший при прежнем дворе, сын господина Сартина, начальника парижской полиции, только что женился на дочери госпожи де Сент-Амарант. До своей женитьбы он состоял в связи с актрисой итальянского театра мадемуазель Гранмезон. Покинутая своим любовником, эта молодая актриса продолжала переписываться с ним. Сартин время от времени тайно встречался со своей прежней возлюбленной и узнавал через нее политические секреты. Мадемуазель Гранмезон выведывала их у Антуана Триала, друга Робеспьера, актера того театра, где служила и она.
Госпожа де Сент-Амарант хотела снова открыть свой дом для празднеств и удовольствий. Она верила в гений Робеспьера и горела желанием познакомиться с ним, обольстить его и заставить разделить ее взгляды. Тщетно мадемуазель Гранмезон, дрожавшая за своего любовника, писала Сартину, что между комитетами и Робеспьером происходит борьба, что топор гильотины колеблется в выборе между снисхождением и еще более деятельным террором: госпожа де Сент-Амарант слушалась только своих иллюзий и увлекла за собой свою дочь, зятя и пятнадцатилетнего сына.
Господин Кевремон, близкий некогда Орлеанскому дому, а теперь искавший дружбы Робеспьера, заставил госпожу де Сент-Амарант разделить его восхищение человеком, избранным судьбой. Будучи фанатическим учеником Катерины Тео, Кевремон рассказывал госпоже де Сент-Амарант о новой религии, в которую глубоко верует восстановитель порядка. Он внушил ей, ее дочери и зятю желание присоединиться к этой религии. Маркиза Шатеней, ярая поклонница Катерины Тео, окончательно убедила госпожу де Сент-Амарант присоединяться к их обществу. Прекрасные роялистки получили от последней из сивилл поцелуй, который вскоре должен был сделаться поцелуем смерти.
Служило ли действительно расположение двух молодых женщин залогом успеха в глазах Робеспьера, или он дал увлечь себя чувству гордости, видя преклоняющимися перед ним двух самых известных красавиц Парижа, но только он согласился на свидание со своими поклонницами. Триал, актер и общий друг, сопровождал Робеспьера к госпоже де Сент-Амарант, занял место за столом между гостями, которых выбрал сам, и говорил с ними как человек, который обязан только виновных обречь гильотине, продолжавшей поражать невинных. Он намекнул на свои планы, чтобы возбудить надежду.
Комитет общественной безопасности узнал об этих свиданиях. Бадье ввел одного из своих агентов, Сенара, на собрания Катерины Тео, чтобы следить за тем, что говорили главные ее приверженцы, и записывать их имена. После 20 прериаля он подозревал, что Робеспьер хочет привязать к себе народ посредством суеверий, а высший класс расположить предзнаменованиями милосердия. Бадье хотел выставить Робеспьера со смешной стороны и обличить его в измене.
Комитет общественной безопасности, войдя в тайное соглашение с Комитетом общественного спасения и заговорщиками партии Тальена, приказал арестовать Катерину Тео и ее главных адептов. Комитеты распорядились подвергнуть аресту также маркизу де Шатеней, Кевремона, Сартина и все семейство де Сент-Амарант. Они арестовали также мадемуазель Гранмезон и ее слугу и решили соединить все эти обвинения, не имевшие между собой никакой связи, в один общий обвинительный акт, подобный тому, который Лакост составлял против Ладмираля и Сесиль Рено под неопределенным названием «иностранный заговор». Бадье поручили составить предварительный доклад «О секте Катерины Тео». Поступая так, надеялись, что хитрый старик сумеет придать ребяческому суеверию Дома Жерля мрачную окраску заговора, а заодно рассчитывали выставить в смешном виде и Робеспьера.
Робеспьер заранее почувствовал удар. Но кинжал прикрывался почтением. Он не мог открыто взять на себя защиту сектантов, когда его самого обвиняли в том, что он хочет воскресить суеверия. Робеспьер настоял, чтобы чтение доклада Бадье в Конвенте отложили под предлогом, что доклад не заслуживает внимания. Но Бадье стоял на своем. Пришлось молча сносить саркастические замечания докладчика, улыбки слушателей, ядовитые намеки на его желание сыграть роль Магомета.
Вскоре за тем Эли Лакост представил декрет, предлагавший предать Трибуналу всех обвиняемых. Желали привлечь, обвинив в соучастии с Ладмиралем и Сесиль Рено, отца, мать и братьев этой девушки, а также Сартина, госпожу де Сент-Амарант, ее дочь и сына, господ Лаваля-Монморанси, Рогана-Рошфора, принца Сен-Мориса, отца и сына Сомбрель, которые ускользнули из рук сентябрьских убийц, Мишониса, обвиненного в сострадательности и чрезмерной любезности к пленным принцессам, госпожу де Ламартиньер, наконец, мадемуазель Гранмезон, наказанную за свою любовь к Сартину, и даже лакея этой актрисы. К числу шестидесяти обвиняемых присоединили привратника дома, где Ладмираль пытался убить Колло д’Эрбуа, и его жену: «Оба виновны в том, — сказал обвинитель, — что не выказали достаточно радости, когда убийца был арестован!»
Услыхав имена госпожи де Сент-Амарант и ее семьи, Робеспьер промолчал. Ему прекрасно было известно, что в обвинение хотят впутать его имя.
Шестьдесят обвиняемых, предполагаемые соучастники, в первый раз встретились в суде. Ладмираль держал себя спокойно; Сесиль Рено просила прощения у отца, матери и братьев в том, что своим легкомыслием навлекла на них обвинение в соучастии в преступлении, даже не совершенном ею.
Монморанси, Роган, Сомбрели не посрамили имен, которые носили, и умерли так же, как сражались их предки.
Госпожа де Сент-Амарант лишилась чувств в объятиях своих детей. Сартин, проходя мимо мадемуазель Гранмезон, облил руки актрисы слезами. Жена его держала себя с достоинством, превосходящим ее возраст, и с кротостью, превосходящей ее красоту. Она радовалась, что умрет вместе с матерью, мужем и братом. Она не оттолкнула даже мадемуазель Гранмезон. Ревность и разница в общественном положении исчезли вблизи смерти. Умирающие составляли одну семью.
Семнадцатого июня Ладмираль, Сесиль Рено и их «соучастников» казнили. Чтобы поразить народ иллюзией виновности, в первый раз после Шарлотты Корде на всех осужденных надели красные шерстяные рубахи, одежду убийц. Отряд кавалерии и пушки, заряженные картечью, ехали впереди и позади поезда. Все взоры были устремлены на женские головки. Яркий отсвет, бросаемый красными рубашками, еще более выделял белизну и нежность их лиц. Жертвы обменивались грустными улыбками, отрывистыми словами вполголоса и взаимными соболезнованиями.
Шествие продолжалось три часа. Госпожа де Сент-Амарант умерла предпоследней, Сартин — последним. В течение казни, длившейся три четверти часа, он видел, как скатились головы его любовницы, шурина, которого он любил как сына, тещи и жены.
Эта бойня возмутила народ против Робеспьера. Не верили, чтобы его влияние в комитетах упало настолько, чтобы он не мог допустить казни, которой не хотел. Те, кто возлагал на него надежды, вознегодовали. Друзья — удивлялись. Враги — почувствовали отвагу. Робеспьер не осмеливался ни признаться, ни отречься от причастности к усилившейся резне. Положение оказалось ужасным, невыносимым и заслуженным. Вечный урок людям, несущим перед потомками ответственность за преступления, против которых они не осмеливались протестовать.
По речам, которые Робеспьер произносил в течение этих дней в клубе якобинцев, нельзя было угадать, нападет он на палачей или на жертвы. Политический деятель, не осмеливающийся высказать свои взгляды прямо, примыкает сразу к двум партиям. «Настало время, граждане, — наконец воскликнул он 1 июля, — чтобы правда прозвучала в этом зале так же мощно, как она раздавалась во время великих событий революции. Заявляю благонамеренным людям о существовании плана похитить аристократов у национального суда и погубить отечество, поразив патриотов. Когда обстоятельства расследуются, я дам более подробное объяснение. Теперь же я сказал достаточно для тех, кто меня понимает. Никогда ничья власть не заставит меня воздержаться от объявления истины в недрах Собрания и в присутствии республиканцев. Не во власти тиранов и их клевретов запугать мое мужество. Какие бы ни распускали против меня пасквили, я останусь представителем народа и буду бороться не на жизнь, а на смерть с тиранами и заговорщиками!»
Несколько дней спустя Робеспьер высказался яснее: он выставил себя жертвой и старался возбудить к себе сочувствие, почти жалость, со стороны патриотов: «Эти чудовища, — воскликнул он, — стараются навлечь позор на каждого, кто внушает им страх своей неподкупной честностью. Лучше нам было бы вернуться в леса, чем добиваться таким образом почета, известности и богатства в республике. Мы можем упрочить ее только охранительными институтами, а эти институты могут быть созданы не иначе как с уничтожением неисправимых врагов свободы и добродетели. Но эти изверги не восторжествуют, эти низкие заговорщики должны или отказаться от своего заговора, или отнять у нас жизнь! Я знаю, что они попытаются сделать это. Они покушаются на это ежедневно. Но гений свободы парит над патриотами!»
Эти воззвания Робеспьера приводили в сильнейшее возбуждение небольшое число якобинцев. Эти люди дела готовы были идти вместе с ним к цели, которую он им намечал. В своем нетерпении они жаждали открытого восстания и заклинали своего учителя назвать им своих врагов. Они клялись, что убьют их за его дело. Но Робеспьер продолжал отказываться от диктатуры с непонятным упорством. «Имя мятежника приводит меня в ужас, — говорил он. — Тень Катилины всегда передо мной. Я уважал в лице Конвента отечество, закон, народ. Я не хочу запятнать узурпаторством ни свою добродетель как республиканца, ни память по себе. Я хочу власти, но дарованной, а не похищенной». Кумир народа, в течение пяти лет выслушивавший его лесть и принимавший его поклонение, он хотел, чтобы народ сказал свое слово, провозгласив его первым человеком в республике.
Робеспьер втихомолку готовил речь для Конвента; в этой речи он громил своих врагов, рисуя перед глазами народа их интриги и свою неподкупность. Он тщательно оттачивал эту речь, обширную, как республика, теоретичную, как сама философия, и восторженную, как революция. В ней он такими яркими красками рисовал пороки Конвента, что оставалось только назвать имена врагов.
Эта речь должна была занять два заседания. В первой части Робеспьер громил, не поражая никого, и указывал, не называя имен. Во второй части он готовил возражение, если бы кто-нибудь имел дерзость ответить ему, выходил из туч, поражал как громом, опутывал одного за другим всех враждебных ему членов комитетов. Он клеймил, разил, увлекал с трибуны на эшафот виновных, остававшихся до тех пор незамеченными. Для этой цели он и набросал в секретных заметках портреты лиц, предназначенных к позорному столбу.
Вооружившись этими двумя речами, Робеспьер спокойно ожидал битвы. Никто не обладал такой уверенностью в себе, чтобы открыто вступить в борьбу с кумиром якобинцев. Смерть по одному его движению могла поразить любую голову. Ввиду этих затруднений Барер предлагал с ним договориться, Колло д’Эрбуа рассуждал о недоразумениях, даже Билло-Варенн произнес слово «мир». Угодливые посредники предлагали свои услуги, чтобы избегнуть разрыва. Лежандр льстил. Только Баррас, Бурдон, Фрерон и Тальен затаили в себе ненависть.
Переговоры закончились предложением о свидании между Робеспьером и главными членами обоих комитетов. Кутон, Сен-Жюст, Давид, Леба явились вместе с Робеспьером. Лица у всех выражали смущение, глаза были опущены, никто не произнес ни слова. Чувствовалось, что обе партии, идя на примирение, в то же время боялись, чтобы кто-нибудь не проник в их мысли.
Лакост подробно изложил предмет неудовольствия комитетов. «Вы составляете триумвират», — сказал он Сен-Жюсту, Кутону и Робеспьеру. «Триумвират, — возразил Кутон, — не составляется из трех мыслящих голов, сходящихся в одном мнении; триумвиры узурпируют всю власть, а мы предоставляем ее вам». — «В этом-то мы и обвиняем вас, — воскликнул Колло д’Эрбуа, — отказаться от правления в такое трудное время такой силе, какую представляете вы, — значит изменить ему и предать его в руки врагов свободы». Затем, обратившись к Робеспьеру с умоляющим жестом, он сделал вид, что хочет упасть перед ним на колени: «Заклинаю тебя именем отечества и твоей собственной славы, позволь убедить себя нашей искренностью и самоотвержением; ты — первый гражданин республики, мы — второстепенные; мы чувствуем к тебе почтение, которое ты заслужил своей честностью, красноречием, гением; вернись к нам, помиримся, пожертвуем интриганами, которые стремятся разъединить нас!»
Робеспьер, казалось, был тронут Колло д’Эрбуа. Он заявил, что совершенно равнодушно относится к власти, предложил отказаться от управления даже полицейским бюро, заведование которым вызывало упреки в его адрес; в неопределенных выражениях высказался о заговорщиках, которых прежде всего необходимо было уничтожить в Конвенте.
Карно и Сен-Жюст имели очень неприятное объяснение по поводу восемнадцати тысяч человек, которых Карно отделил от Северной армии и выставил против Кобурга, намереваясь отправить их для завоевания Фландрии с моря. «Вы все хотите забрать в свои руки, — воскликнул Карно. — Вы расстраиваете все мои планы, казните генералов, находящихся под моим началом, сокращаете кампании. Я предоставил вам управление внутри страны, так оставьте мне поле битвы, а если вы хотите захватить и его, так возьмите на себя ответственность за границы! Что станется со свободой, если вы погубите отечество?»
Сен-Жюст заявил, что с полным уважением относится к военному гению Карно. Барер всем льстил. Один Билло молчал. Его молчание беспокоило Сен-Жюста. «Есть люди, — сказал юный фанатик, — мрачное выражение лиц которых заставили бы Ликурга прогнать их из Лакедемонии». — «Есть люди, — отозвался Билло, — скрывающие свое честолюбие за молодостью лет и разыгрывающие Алкивиадов, чтобы впоследствии сделаться Пизистратами!»
При имени Пизистрата Робеспьер вообразил, что указывают на него, и хотел удалиться. Робер Линде вмешался в спор и сказал несколько разумных и мягких слов. Лицо Билло прояснилось, и он обратился к Робеспьеру, протягивая ему руку: «В сущности, я упрекаю тебя только в твоих вечных подозрениях; я охотно высказываю те подозрения, которые я лично питал против тебя. В чем нам прощать друг друга? Разве мы не думали и не говорили всегда одинаково?» — «Это правда, — сказал Робеспьер, — но вы убиваете без разбора виновных и невинных, аристократов и патриотов!» — «Зачем тебя нет с нами, чтобы ты мог делать между ними выбор?» — «Настало время, — ответил Робеспьер, — учредить такой суд, который не выбирал бы, а поражал с беспристрастием закона и не руководствовался бы случайностью и предубеждением партий».
Дело касалось жизни тысяч граждан. Робеспьер хотел умерить Террор, а прочие объявили, что он необходим теперь более, чем когда-либо, чтобы уничтожить и искоренить крамольников. «Так к чему же вы изобрели закон 22 прериаля? — спросил Билло. — Неужели для того, чтобы он покоился в своей обложке?» — «Нет, — возразил Робеспьер, — для того, чтобы свыше грозить всем врагам Революции без исключения и даже мне самому, если бы я поднял свою голову выше законов».
LX
Термидор
Друзья Робеспьера старались убедить его, что всякое сближение представляет собой западню, расставленную ему комитетами: «Они унижаются потому, что боятся. Если одно твое молчание довело их до такого унижения, то что будет, когда ты начнешь обвинять их? Но если ты покажешь сегодня, что согласен примириться с ними, в чем можешь ты обвинить их? Если они выдадут тебе самых незначительных и опозоренных из твоих врагов, то лишь затем, чтобы сберечь наиболее опасных и хитрых. Вызывай их ежедневно на бой с высоты трибуны якобинцев. Если они не примут вызов, их трусость послужит к их обвинению; если они его примут, народ будет за тебя!»
Сен-Жюст, выведенный из терпения умеренностью Робеспьера, в пятый уже раз уехал в Самбро-Маасскую армию. «Я еду с тем, чтобы меня убили, — сказал он Кутону. — Республиканцам осталось место лишь в могиле».
Якобинцы, секционеры, Пайан, Анрио и его штаб, Добсент, Коффиналь, громко говорили о вооруженном нападении на Конвент. «Если Робеспьер не хочет быть нашим главой, — говорили во всеуслышание коммунары, — то имя его станет нашим знаменем. Надо силой положить предел его бескорыстию или республика погибнет! Бескорыстие, губящее свободу, виновнее честолюбия, спасающего ее. Дай Бог, — прибавляли они, — чтобы Робеспьер почувствовал жажду власти, в которой его обвиняют! Республике необходим честолюбец!»
Ничто не свидетельствовало о великом событии, ожидавшем Робеспьера. Исключая четырех или пятерых людей из народа, скрывших оружие под одеждой, которых якобинцы вооружили без его ведома, чтобы они следовали за ним и охраняли его жизнь, все остальное не отличало Робеспьера от самого простого гражданина. Никогда он не держал себя проще и скромнее. Он не ходил более в комитеты, редко бывал в Конвенте, неаккуратно посещал якобинцев. Он перестал писать, но много читал. Можно было бы сказать, что он погрузился в тот философский покой, которому люди предаются накануне великих событий, оставаясь только истолкователями событий и предоставляя судьбе действовать самостоятельно. Выражение уныния смягчало его обыкновенно пронзительный взор. Даже голос его сделался мягче. Он избегал встречи с дочерьми Дюпле, в особенности с той, с которой должен был соединиться навеки, когда минует гроза. Было очевидно, что его жизненный горизонт омрачился. Между ним и его счастьем оказалось слишком много пролитой крови. Страшная диктатура или торжествующий эшафот стали единственными образами, на которых отныне он мог остановить свое внимание. Робеспьер старался отделаться от них, отправляясь в далекие прогулки по окрестностям Парижа. Один или с кем-нибудь из близких он бродил целыми днями в лесах Медона, Сен-Клу или Вирофле. Казалось, что, удаляясь от Парижа, где катились тележки, переполненные жертвами, он хотел положить возможно большее расстояние между собой и своей совестью.
Рассказывают, что 7 термидора (25 июля), накануне возвращения из армии Сен-Жюста, когда Робеспьер решил поставить на карту свою жизнь ради восстановления республики, он отправился в последний раз провести весь день в сельском домике Жан-Жака Руссо, на опушке леса Монморанси. Он просидел на траве много часов, обхватив голову руками и прислонившись к простому забору, окружающему маленький садик. Лицо его было бледно как смерть. Робеспьер охватывал последним взглядом свое прошлое, настоящее, будущее, судьбу республики, народа и свою собственную. Если он мог умереть от горя, раскаяния и страха, то именно во время этого безмолвного размышления.
Сен-Жюст, вернувшись, несколько раз заходил к Робеспьеру, чтобы переговорить с ним. Устав ждать его, он отправился, еще покрытый дорожной пылью, в Комитет общественного спасения. Его встретили зловещим молчанием, и он ушел оттуда в убеждении, что примирение невозможно и все сердца замышляют смерть. На следующий день, как говорят, Сен-Жюст стал убеждать Робеспьера нанести удар первым. Комитеты готовились к удару. Они знали, как важен выбор президента в собрании, если он может по своему желанию поддержать или обезоружить оратора. Они приказали вызвать Колло д’Эрбуа на президентское место в Конвенте.
Робеспьер перечитал и, по всей вероятности, еще несколько раз переделал свою речь. Когда он 8 термидора, выходя из дома, прощался с домашними, лицо его выражало большее волнение, чем во все предыдущие дни. Его друзья и дочери его хозяина окружили его, проливая слезы. Советовали спрятать под одеждой оружие. «Нет, — возразил Робеспьер, — защитой мне служит мое имя, а оружием — юля народа. Притом большинство Конвента честные люди. Мне нечего бояться среди представителей, которым я хочу только внушить желание блага».
На нем был тот же самый костюм, в каком он появлялся в день прославления Верховного Существа. Робеспьер, без сомнения, желал, чтобы народ узнал его по этой одежде, как свое живое знамя. Леба, Кутон, Сен-Жюст, Давид отправились на заседание раньше его. Собрание было многочисленно, трибуны заняты по большей части якобинцами. Войдя, Робеспьер попросил дать ему слово. Заговорщики, удивленные его появлением, поспешили оставить свои места и отправились разыскать членов комитетов и своих друзей, находившихся в саду и в других залах, чтобы привести их поскорее в зал заседания.
В ожидании слова Робеспьер медленно скручивал рукопись в правой руке, подобно оружию, которым намеревался поразить врагов. Наконец он взошел на трибуну.
«Граждане, — сказал он, — пусть другие рисуют вам заманчивые картины я сообщу вам полезные истины. Революции, до сих пор изменявшие положение государств, имели целью или перемену династии, или переход власти от одного лица ко многим. Французская революция явилась первой, основанной на теории прав человека и на принципах справедливости. Поэтому с самого своего возникновения она терпела гонения в лице всех добросовестных людей, боровшихся за нее.
Друзья свободы старались низвергнуть власть тиранов силой истины; тираны стараются уничтожить защитников свободы клеветой; они называют тиранией даже власть принципов истины. Когда эта система возьмет верх, свобода погибнет, потому что сама природа требует, чтобы влияние ее существовало везде, где собираются люди, во имя тирании или правды. Когда последняя преследуется как преступление — господствует тирания; когда добрые граждане обречены на молчание — властвуют злодеи.
Теперь мне необходимо высказать то, что у меня накопилось на сердце.
На чем основывается гнусная система террора и клеветы, которыми преследуют меня? Мы страшны патриотам!
Мы, вырвавшие их из рук заговорщиков! Мы, борющиеся за них ежедневно против лицемерных интриганов! Мы страшны Конвенту! Но кто защищал Конвент с опасностью для своей жизни? Кто жертвовал собой ради его славы, когда низкие сообщники тирании проповедовали от его имени атеизм и ждали только сигнала к резне, чтобы искупаться в крови представителей народа? Кому предназначались первые удары заговорщиков? Нас убивают и нас же изображают страшилищами! И в чем же состоит великая суровость, в которой нас обвиняют? Кто были жертвами? Эбер, Ронсен, Шабо, Дантон, Лакруа, Фабр д’Эглантин? Это в их-то наказании нас упрекают? Никто не должен был осмелиться защищать их. Нет, мы не были слишком строги: я призываю в свидетели республику, которая еще существует!
Разве мы ввергли в темницы патриотов и внесли Террор во все классы общества? Мы обвиняли только одних извергов. Разве мы обратили меч против большей части Конвента? Те, кто обвинили нас, — чудовища. Вследствие какого, однако, стечения обстоятельств это грозное обвинение пало только на голову одного из его членов? Странный проект — заставить Конвент постепенно уничтожить самого себя собственными руками, чтобы пробить ему дорогу к неограниченной власти! Пусть другие замечают смешные стороны этого обвинения, я вижу только его жестокость. Вы, чудовища, старающиеся лишить меня уважения Конвента, дайте по крайней мере отчет общественному мнению в гнусной настойчивости, с которой вы преследуете всех друзей отечества. Быть предметом ужаса в глазах тех, кого уважаешь и любишь, для человека чувствительного и честного — самая ужасная из пыток! Заставить его претерпеть ее — самое ужасное из преступлений!
В Конвенте воображали, что Гора находится под угрозой, потому что некоторые ее члены не считали себя в безопасности и, чтобы вызвать сочувствие со стороны всего Конвента, внезапно начали процесс шестидесяти двух арестованных депутатов, а затем обвили меня во всех этих событиях, в которых я не принимал ровно никакого участия. Слово „диктатура“ имеет магическое действие. Оно клеймит свободу, унижает правительство, уничтожает республику, разрушает все революционные учреждения, делает ненавистным народное правосудие, которое изображает как установленное честолюбием одного лица; оно направляет в одну точку ненависть всех людей и кинжалы всех фанатиков и аристократов.
Кто я такой — я, которого обвиняют? Раб свободы, живой мученик республики, столько же жертва, сколько и враг преступления. Все мошенники оскорбляют меня; поступки самые законные для других — для меня становятся преступлениями; на человека начинают клеветать, как только он познакомится со мною. Когда жертвы их злобы жалуются, эти мошенники извиняют себя, говоря: „Этого хочет Робеспьер, мы не можем ничего поделать“. Бесчестные последователи Эбера говорили то же самое, когда я изобличил их; они выдавали себя за моих друзей, а затем объявили меня сторонником умеренности; это тот же сорт контрреволюционеров, которые преследуют патриотизм. Дворянам говорили: „Он один подверг вас проскрипции“; священникам говорили: „Без него вы были бы спокойны и торжествовали бы“. Меня делали ответственным за все жалобы, поводов к которым я не мог устранить, говоря: „Ваша участь зависит от него одного“. Старались доказать, что Революционный трибунал есть суд крови, созданный мною одним, и что я приказал во что бы то ни стало убивать всех добродетельных людей.
Каждому депутату, возвращавшемуся из своей миссии в департаменты, говорили, что я один потребовал его отозвания. Сообщали моим товарищам все то, что я сказал, а в особенности то, чего я не говорил. Но кто такие они, эти клеветники?
Я могу ответить, что авторами клеветы стали, прежде всего, герцог Йоркский, мистер Питт и все тираны, вооружившиеся против нас. А кто еще?.. Ах! Я не могу назвать их в эту минуту и в этом месте, я не решаюсь окончательно разорвать завесу, покрывающую глубокую тайну беззаконий; но могу уверенно утверждать, что среди авторов этого заговора находятся сторонники системы подкупа и крайних средств, гнусные проповедники атеизма и безнравственности, которым они служат основой.
Что сказали бы, если бы зачинщики заговора, о котором я только что говорил, принадлежали к числу тех, кто отправил на эшафот Дантона, Фабра и Демулена? Негодяи! Они хотели заставить меня сойти в могилу с позором, и я оставил бы по себе на земле память тирана! С каким вероломством они злоупотребляли моим доверием! Как они притворялись разделяющими принципы добрых граждан! Какой их притворная дружба казалась искренней и приветливой! Вдруг их лица сделались мрачны, дикая радость заблистала в глазах; это случилось в ту минуту, когда они думали, что приняли все меры, чтобы одолеть меня. Сегодня они снова льстят мне, их речи любезнее, чем когда-либо; три дня назад они готовы были донести на меня как на Каталину, а сегодня они приписывают мне добродетели Катона. Им нужно время, чтобы возобновить свои преступные интриги. Как жестока их цель и как презренны их средства! Судите по одной подробности. Я был назначен, за отсутствием моих сотоварищей, заведовать главным полицейским бюро при Комитете общественного спасения. Мое короткое правление ограничилось тем, что я вызвал около тридцати арестованных отчасти для того, чтобы освободить подвергшихся преследованию патриотов, отчасти, чтобы убедиться в своем мнении относительно некоторых врагов революции. Итак, можно ли поверить, что одного слова „главная полиция“ оказалось достаточно, чтобы возложить на мою голову ответственность за все действия Комитета общественной безопасности, за ошибки конституционных властей, за преступления всех моих врагов? Быть может, нет ни одного арестованного лица, ни одного потерпевшего гражданина, которому бы не сказали про меня: „Вот виновник твоих бед; ты был бы счастлив и свободен, если бы его не было!“ Более шести недель назад сила клеветы, невозможность делать добро и остановить зло принудили меня решительно отказаться от своих обязанностей члена Комитета, и клянусь, что об этом я советовался только с моим разумом и благом отечества.
Как бы там ни было, вот уже по крайней мере шесть недель назад кончилась моя „диктатура“. Было ли патриотизму оказано больше покровительства? Сделались ли заговорщики трусливее? Стало ли отечество счастливее? Я желал бы этого. Но мое влияние всегда ограничивалось защитой отечества пред народным представительством и судом общественного разума; мне было разрешено бороться против заговоров, угрожавших вам; я хотел вырвать с корнем систему растления и раздоров, на которую я смотрю как на единственное препятствие к упрочению республики. Я думал, что она может покоиться не иначе как на незыблемых основах нравственности. Все сплотилось против меня и против тех, у кого были такие же принципы.
О! Я без сожаления расстанусь с жизнью! Какой друг отечества захочет пережить момент, когда запрещают долее служить ему и защищать угнетенную невинность? К чему жить при том порядке вещей, когда интрига постоянно берет верх над правдой? Как перенести пытку лицезрения непрерывного следования друг за другом ряда изменников, более или менее способных скрывать свою отвратительную душу под личиной добродетели и даже дружбы? Видя бездну пороков, которую поток революции смешал в одну кучу с гражданскими добродетелями, я боялся иногда, признаюсь в этом, быть очерненным в глазах потомства по причине нечистого соседства с порочными людьми, и я в восторге, видя негодование Катилин моего отечества, проводящих демаркационную линию между собою и всеми благонамеренными людьми. Добрые и злые исчезают с земли, но при различных условиях. Французы, у вас нет иной гарантии свободы, кроме строгого соблюдения принципов всеобщей морали. Что значит для нас победа над королями, если мы побеждены пороками, влекущими за собой тиранию!
Народ, вспомни, что если в республике правосудие не соседствует с ограниченной властью и если это слово не означает любви к равенству и отечеству, то свобода есть не что иное, как пустое слово! Народ, ты, которого боятся, которому льстят и который презирают, ты, властелин, с которым обращаются как с рабом, вспомни, что везде, где не царит правосудие, судьями являются страсти.
Неужели мы подпишемся под этим законом? Нет! Будем защищать народ, рискуя его уважением; пусть они стремятся к эшафоту дорогой преступления, а мы пойдем путем добродетели!»
Эту длинную речь, из которой мы привели только самые важные места, выслушали с притворным уважением. Все ждали, пока разразится ропот, чтобы присоединиться к нему. Привлечь к себе внимание значило погубить себя, каждый дрожал перед остальными. Когда Робеспьер направился к своей скамье, все, мимо кого он проходил, кланялись ему. Конвент не знал, разразиться негодованием или рукоплескать. Негодование было бы началом боя; рукоплескание — порабощением. Молчание прикрывало его нерешительность. Но тут раздался чей-то голос.
Это был голос Лекуантра. Он потребовал, чтобы речь Робеспьера напечатали. Это значило заставить Конвент принять ее.
Бурдон, имя которого встречалось везде, где велось дело против Робеспьера, в эту минуту почувствовал, что одна лишняя дерзость ничего не прибавит к его репутации в глазах Робеспьера, и рискнул: «Я протестую против опубликования этой речи. Она может заключать в себе заблуждения, как и истины, и осторожность со стороны Конвента требует отправить ее на рассмотрение обоих».
Никакого взрыва неудовольствия не последовало против замечания, которое еще накануне показалось бы богохульством. Робеспьер был поражен, видя свое падение.
Кутон, в свою очередь, потребовал не только того, чтобы речь напечатали, но даже чтобы ее отправили во все департаменты республики. Если бы это голосование допустили, поражение врагов Робеспьера стало бы полным. Бадье встает с готовностью пожертвовать собою. Робеспьер хочет прервать его речь, но Бадье настаивает на своем. Он защищает доклад, сделанный им о Катерине Тео, на него только что нападал Робеспьер. Он делает намеки на то, что ему известны многие тайны, в которые замешаны сами его обвинители. Он оправдывает Комитет общественной безопасности.
«Я тоже приму участие в прениях, — восклицает суровый и неподкупный Камбон, — хоть я никогда и не старался составить себе партию. Все партии встречали меня так, как будто я противопоставляю их честолюбию свой патриотизм. Настало время сказать истину целиком. Один человек парализует Конвент, и этот человек Робеспьер!» При этих словах Робеспьер встает и извиняется, что оскорбил честность Камбона.
Билло-Варенн требует, чтобы оба комитета, которым предъявлено обвинение, объяснили свое поведение. «Я обвиняю не комитет, — отвечает Робеспьер. — В конце концов, чтобы избежать множества споров, я требую, чтобы мне позволили объясниться подробнее». — «Мы все этого требуем!» — воскликнули, вставая, двести членов Горы.
Билло-Варенн продолжает: «Робеспьер прав, необходимо сорвать маску, чье бы лицо она ни прикрывала; и если правда, что мы не сделаемся свободнее, то я предпочитаю, чтобы мой труп послужил троном тирану, чем своим молчанием сделаться сообщником его преступлений».
Панис, бывший сначала другом, а потом подвергшийся преследованиям Робеспьера, упрекает его за то, что он царит повсюду и единолично и подвергает проскрипции людей, кажущихся ему подозрительными. «Сердце мое разрывается, — восклицает Панис, — настало время излить все, что его переполняет. Меня представляют извергом, упившимся кровью и разбогатевшим от грабежа, а я во время революции не мог даже купить саблю моему сыну, собравшемуся ехать воевать на границы, и одежду для моих дочерей! Робеспьер составил список, куда он внес и мое имя, и наметил мою голову для первой массовой казни!»
Поток негодования разражается при этих словах. Робеспьер встречает его с непоколебимой стойкостью. «Отбросив щит, — говорит он, — я стою перед своими врагами. Я ни от чего не отрекаюсь, никому не льщу, не хочу ни поддержки, ни снисхождения ни от кого. Я исполнил свой долг, у меня хватило мужества явиться, чтобы изложить в присутствии Комитета истины, которые я считаю необходимыми для блага отечества, а мое обвинение хотят отправить на рассмотрение тем, кого я обвиняю!»
«Кто хвастается тем, что имеет мужество быть добродетельным, — кричит ему Шарлье, — должен иметь мужество и для правды: назовите тех, кого вы обвиняете!» — «Да, да, назовите их!» — повторяет группа монтаньяров. Робеспьер молчит. Барер, видя колебание Собрания, пробует вернуться к своей первоначальной лести, однако в менее низкопоклоннических выражениях: «Мы ответим на эту напыщенную речь победами!» — восклицает он и доказывает, что Конвент должен сам отменить декрет, постановивший опубликование и рассылку речи, опасной для республики. Огромное большинство подает свой голос вместе с Барером.
Робеспьер, оскорбленный, но не побежденный, бросается, окруженный преданной ему группой, в клуб якобинцев, где его встречают как мученика за правду, оскорбленного народом. Донесенный на руках до трибуны, Робеспьер читает речь, отвергнутую Конвентом. Крики негодования то и дело прерывают речь. Закончив, Робеспьер усталым голосом говорит: «Братья, речь, которую вы только что слышали, — мое предсмертное завещание!» «Нет! Нет! Робеспьер, ты будешь жить — или мы все умрем», — отвечают ему трибуны, простирая к нему руки. «Да, это мое предсмертное завещание, — повторяет он с пророческой торжественностью, — это мое предсмертное завещание! Я видел сегодня: клика негодяев так сильна, что я не могу надеяться ускользнуть от нее. Я умираю без сожалений! Я оставляю вам эту речь как память по себе. Отделите злых от слабых! Освободите Конвент от извергов, держащих его под игом! Верните ему свободу, которой он ожидает от вас так же, как 31 мая и 2 июня! Отправляйтесь, если это необходимо, и спасите отечество! Если, несмотря на эти великодушные усилия, мы падем, тогда, друзья мои, вы увидите, как спокойно я выпью цикуту!..» Давид прерывает его слова античным жестом и криком, вырвавшимся из глубины души: «Робеспьер, если ты выпьешь цикуту, то я выпью ее вместе с тобою!» — «Все! Все! Мы все погибнем вместе с тобою! — восклицают тысячи преданных голосов. — Погибнуть с тобой значит погибнуть вместе с народом!»
Кутон, спокойно наблюдающий общее волнение, хочет воспользоваться удобной минутой, чтобы заставить якобинцев взяться за меч. Он требует, чтобы недостойные члены Конвента, которых он замечает в зале клуба, удалились. При этих словах Колло д’Эрбуа, Лежандр и Бурдон, которые явились в клуб, чтобы понаблюдать за настроением умов, приходят в волнение. Колло вбегает на трибуну, хочет защищаться, обращает внимание на то, что он первый по времени республиканец, указывает место на своей груди, куда ему были нанесены Ладмиралем раны. Голос Колло заглушают свистки, жесты его передразнивают, ему угрожают ножами. Депутату с трудом удается спастись от ярости якобинцев.
Пайан, подойдя к Робеспьеру, советует ему воспользоваться настроением толпы и овладеть обоими комитетами, собравшимися в данную минуту в Тюильри. Это намерение встретило бы отклик, расстояние было небольшим, успех легким, удар решительным. Конвент, оставшийся без главы, на другой день упал бы к ногам Робеспьера. Но во время бури, поднятой после изгнания Колло, властителем якобинцев снова овладело чувство необходимости соблюдения закона. Робеспьер решил, что любовь народа избавит его от необходимости прибегать к силе, и отказался. После этого отказа, быть может, честного, но неверного политически, Коффиналь хватает за руку Пайана и, выведя его из зала, говорит: «Ты видишь теперь, что его добродетель не может согласиться на восстание; раз он не хочет, чтобы его спасли, пойдем приготовимся защищать себя и отомстить за него!»
Коффиналь и Пайан отправляются в совет Коммуны и проводят ночь в совещаниях с Анрио о том, как поднять мятеж на следующий день.
В то время как Робеспьер возбуждал умы якобинцев, Сен-Жюст отправился после заседания Конвента в Комитет общественного спасения. Сотоварищи встретили его с мрачными лицами. «Кто отозвал тебя из армии?» — спросил его Билло-Варенн. «Доклад, который вы заставили меня сделать Конвенту», — ответил Сен-Жюст. «Прочитай нам этот доклад», — сказал Билло. «Он не окончен, — возразил юный депутат. — Я пришел, чтобы обсудить его с вами». Лицо его не выражало ни малейшего неудовольствия. Барер начал льстиво убеждать его не дать увлечь себя на сторону Робеспьера против Комитета и постараться избегнуть ужасной распри в республике. Сен-Жюст слушал Барера, погрузившись в глубокую задумчивость.
Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в зал стремительно вбежал Колло д’Эрбуа в разорванной одежде и с испуганным лицом. Он вернулся от якобинцев, и у него были еще перед глазами занесенные над его головой ножи. «Что случилось?» — спрашивает Сен-Жюст. «И ты еще спрашиваешь! — восклицает Колло, бросаясь на Сен-Жюста. — Ты еще спрашиваешь! Ты, соучастник Робеспьера! Ты, заключивший с ним и Кутоном триумвират, в котором первым делом намечено убить нас!»
Пересказав друзьям сцену в клубе, он хватает Сен-Жюста за воротник сюртука и, тряся его, говорит: «Ты здесь затем, чтобы шпионить и доносить на своих сотоварищей! Твои руки полны доказательств, которые ты хочешь представить против нас. Ты прячешь под своей одеждой низкий донос, выводы которого служат нашим общим смертным приговором. Ты не выйдешь отсюда до тех пор, пока не покажешь нам свои заметки!» Говоря так, Колло д’Эрбуа старался найти под одеждой Сен-Жюста бумаги, в которых, как он думал, заключаются доказательства измены депутата. Карно, Барер, Линде, Билло-Варенн бросаются между противниками, стараясь защитить Сен-Жюста. Колло ограничивается тем, что объявляет Сен-Жюсту, что тот не выйдет из помещения до тех пор, пока не сообщит им содержания доклада.
Сен-Жюст откровенно признается, что просил бы, чтобы Колло д’Эрбуа и Билло-Варенн отправились в Конвент и прекратили распри, царящие в комитете. Он отказывается остаться дольше на заседании. «Вы иссушили мое сердце, — говорит он, уходя, — я иду излить его в Конвенте». По уходе Сен-Жюста члены комитета по предложению Колло д’Эрбуа решили, что Анрио будет арестован на следующий день за слова, сказанные им у якобинцев, а Анрио будет вытребован для объяснения в Конвент. Они расстались на рассвете и побежали к своим друзьям, чтобы предупредить их об опасностях, которыми грозил грядущий день.
Тальен, Фрерон, Баррас, Фуше, Дюбуа-Крансе, Бурдон и их друзья, число которых быстро увеличивалось, не спали всю ночь. Став накануне свидетелями колебаний в Конвенте, осведомленные о волнениях у якобинцев, уверенные в неизбежности борьбы не на жизнь, а на смерть на следующий день, они потратили на совещания те немногие часы, которые им оставались, чтобы спасти свои головы. Пыл ненависти поддерживался в Тальене любовью. Вечером какое-то неизвестное лицо сунуло ему в руку записку от Терезы Кабаррюс. Записка эта, которую подкупленный тюремщик согласился передать из Кармелитской тюрьмы, была написана кровью. В ней заключались следующие слова: «Начальник полиции только что объявил мне, что завтра я отправлюсь в суд, следовательно, на эшафот. Это слишком мало походит на сон, который я видела сегодня ночью: будто Робеспьера не было более в живых и двери тюрем оказались открыты… Благодаря вашей необычайной подлости скоро во Франции не останется никого, кто мог бы устроить, чтобы мой сон сбылся!»
Тальен ответил коротко: «Будьте столь же осторожны, насколько я буду мужествен, и успокойтесь».
Исход борьбы зависел извне от людей, которым предстояло защищать Конвент с горстью штыков против пушек; внутри — от результатов будущего заседания. Защиту внешнюю поручили Баррасу, представителю военной силы партии; что касается заседания, то решили уничтожить Робеспьера, лишив его права говорить с трибуны. Для этого необходим был президент — сторонник его врагов: он имелся в лице Колло д’Эрбуа; далее требовалось, чтобы большинство решило заранее пожертвовать собой. Этого можно было достигнуть, разделив монтаньяров, оживив жажду мщения в сердцах друзей Дантона, отделив центр, покорный голосу Робеспьера скорее из страха, нежели из любви, взывая, наконец, ко всем жертвам, ко всем питающим озлобление и зависть. Ловкие агенты рыскали всю ночь, стараясь лишить «болото» последней надежды, которую оно упрямо продолжало возлагать на Робеспьера, и уничтожить в душе этих обломков Жиронды благодарность за то, что он отстоял шестьдесят две головы против требований комитетов. Три раза переговоры кончались ничем и три раза возобновлялись. «Болото» боялось ошибиться и депутаты пришли к решению только с наступлением дня. Бурдон де л’Уаз убедил представителей бывших жирондистов, что их спасение заключается в равновесии Конвента, что подчиниться диктатору, подобному Робеспьеру, — значит отдать себя во власть подлого раба толпы, что народ, уже потребовавший у него стольких голов, неизбежно потребует и все остальные, наконец, что вручить ему власть — значит протянуть ему нож, которым он перережет их всех.
Робеспьер не знал об измене «болота». Он твердо рассчитывал на этих людей, которые до тех пор были верны своему слову. «Я более ничего не жду от Горы, — сказал он на рассвете своим друзьям. — Они видят во мне тирана, от которого хотят избавиться, но большинство Конвента за меня!»
День застал его среди этих иллюзий. Он ожидал наступления его с надеждой, якобинцы предсказывали ему успех. Коффиналь объезжал предместья, Анрио произносил речи в Коммуне. Пайан призывал членов муниципалитета заключить союз. Анрио, покачивавшийся в седле после ночной попойки, расставлял по улицам, прилегающим к ратуше, батареи, а на мостах и площади Карусель — пушки. Депутаты, утомленные продолжительной бессонницей, со всех сторон стекались на свои посты. Народ, возбужденный, бродил по улицам и площадям в предчувствии великого события.
Робеспьер заставлял себя ждать. В зале Конвента распространился слух, что он войдет в Конвент не иначе как с оружием, когда наконец он появился в обществе Сен-Жюста и Кутона.
Одетый с еще большей изысканностью, чем обыкновенно, Робеспьер шел медленной походкой. В глазах его можно было прочесть уверенность в победе. Он сел, ни к кому не обратившись ни жестом, ни улыбкой, ни взглядом. Кутон, Леба, Сен-Жюст, Робеспьер-младший выражали ту же решимость, они вели себя как обвиняемые, но в то же время как коллеги, все еще равные остальным по положению. Предводители «болота», пришедшие последними, прежде чем войти, прохаживались по коридорам с предводителями Горы. Члены этих двух партий, которых до этого дня разъединяло взаимное отвращение, обменивались теперь крепкими рукопожатиями и многозначительными взглядами. Бурдон, встретив Дюран-Мальяна в галерее, воскликнул: «Ах, какие молодцы представители правой!» Тальен разрывался на части, осаждая в зале Свободы всех колеблющихся депутатов. Одних ободрял, других запугивал, но вдруг сказал: «Пойдемте, Сен-Жюст, к трибуне; надо с этим покончить!» И бросился к своей скамье.
«Когда я в последний раз вернулся из армии, — начал Сен-Жюст, — я перестал узнавать лица! Право голоса в Комитете осталось у двух или трех членов. Они взлелеяли мысль захватить в свои руки всю власть. Я не мог одобрить зла: я объяснился с комитетами. „Граждане, — сказал я, — мною овладевают мрачные предчувствия, все преображается в моих глазах; но я буду изучать ситуацию, и все, что окажется непохожим на чистую любовь к народу и республике, покараю своей ненавистью“. Я объявил тогда, что если бы занялся докладом, который хотели мне поручить, то обратился бы к первоисточнику. Колло д’Эрбуа и Билл о намекнули, что в этом докладе не следовало касаться Верховного Существа и бессмертия души. К этим идеям вернулись, их нашли нескромными, краснели за Божество!»
После нескольких замаскированных, но язвительных намеков Сен-Жюст закончил свою речь в следующих выражениях: «Человек, вынужденный удалиться из комитетов вследствие самого обидного обхождения, — находится перед вами. Правда, его объяснения недостаточно вески, но его удаление и горечь, таящаяся в его душе, могут отчасти извинить его. Его клеймят именем тирана общественного мнения, ему ставят в вину его красноречие. Но какое, однако, исключительное право на общественное мнение имеете вы? Кто мешает вам оспаривать уважение отечества, вам, находящим, что дурно порабощать его? Может ли быть победа более невинная и более бескорыстная? Завистливая посредственность желает, чтобы гения отвели на эшафот! Но видали ли вы ораторов под скипетром королей? Нет, молчание царит вокруг тиранов; дар убеждения — это душа свободных народов. Уничтожьте самых красноречивых, и вы дойдете до того, что увенчаете самых завистливых.
Вчера Робеспьер высказался не вполне ясно. Существовал план узурпировать власть путем свержения некоторых членов комитета. Билло-Варенн и Колло д’Эрбуа виновны! Я их обвиняю! Я желаю, чтобы они оправдали себя, а мы — стали умнее!»
Эта речь, как мы видим, намекала на смерть, но не требовала ее. Сен-Жюст предоставлял запуганному, раболепному Конвенту нанести удар тем, кого коснулось его подозрение. Колло д’Эрбуа, опасаясь влияния Сен-Жюста на Собрание, спешит дать слово Тальену. «Граждане, — говорит Тальен. — Сен-Жюст только что сказал вам, что он не принадлежит ни к какой партии заговорщиков; я скажу то же самое. Повсюду только и делают, что сеют раздор. Вчера один из членов правительства вышел из его состава и произнес речь от своего собственного имени. Сегодня другой делает то же самое. Увеличивают страдания отечества, раздирают его, толкают в пропасть. Я требую, чтобы завеса была сорвана окончательно!» Трижды повторенные шумные аплодисменты дают Тальену понять, что его гнев находит отзвук в груди депутатов. Билло-Варенн встает с еще более трагическим выражением лица, чем обыкновенно. «Вчера, — говорит он глухим голосом, — клуб якобинцев был полон подставными лицами. Там вырабатывали план резни в Конвенте!..»
Движение ужаса прерывает заявление Билл о. Он указывает пальцем на членов Горы и восклицает: «Я вижу на Горе одного из тех, кто угрожал представителям народа!» — «Арестовать его! Арестовать его!» — раздается крик со всех скамей. Судебные приставы хватают одного из сидящих на Горе и выводят из зала.
«Настала минута сказать правду, — продолжает Билло. — После всего, что произошло, мне странно было видеть Сен-Жюста на трибуне. Он дал слово комитетам показать им свой доклад. Собрание должно признаться, что оно находится между двух опасностей. Оно погибнет, если окажется слабым! Вы содрогнетесь от ужаса, когда узнаете, в каком положении находитесь, когда узнаете, что военная сила находится в руках изменника, что на Анрио донесли в Комитет как на соумышленника заговорщиков! Вы содрогнетесь, когда узнаете, что здесь есть человек, — Билло искоса бросает взгляд на Робеспьера, — который, когда был поднят вопрос об отправке представителей народа в департаменты, не нашел в поданном ему списке двадцати членов, достойных этой миссии! (Взрыв оскорбленной гордости раздается на скамьях, где сидят упомянутые представители.) Робеспьер, говоря вам, что он удалился из Комитета потому, что его там стесняли, — продолжает Билло, — тщательно скрывает от вас истину. Он не говорит вам, что после шестимесячного единоличного господства в Комитете он встретил сопротивление в тот момент, когда хотел заставить принять декрет 22 прериаля: декрет, который в избранных им нечистых руках мог сделаться гибельным для патриотов!..»
Гневные вопли прерывают оратора. «Да, знайте! — продолжает он. — Председатель Революционного трибунала вчера открыто предложил якобинцам изгнать из Конвента тех членов, которыми решили пожертвовать. Но народ не дремлет! Патриоты сумеют умереть, чтобы спасти представителей! Мы сумеем умереть! Нет ни одного представителя, который захотел бы жить под игом тирана!» — «Смерть тиранам!» — раздается единодушный вопль. Билло продолжает: «Люди, постоянно толкующие о справедливости и добродетели, и есть те, кто попирает их ногами. Я просил арестовать секретаря Комитета общественного спасения, обокравшего народ, и один только Робеспьер защищал его. Когда я в первый раз изобличал Дантона, Робеспьер вскочил, как бешеный, говоря, что я хочу погубить лучших патриотов. Пропасть под нашими ногами, — уже кричит Билло, — ее нужно или заполнить нашими трупами, или ввергнуть в нее изменников!»
Единодушные рукоплескания провожают Билло-Варенна до его скамьи.
Робеспьер с искаженным лицом бросается на трибуну, с которой только что был нанесен удар его несокрушимости. «Долой тирана! Долой тирана!» — вопит Гора. Эти крики, усиливающиеся при каждом движении губ Робеспьера, окончательно заглушают его голос. Тальен вбегает на трибуну, локтем отодвигает Робеспьера и говорит среди гробовой тишины: «Я только что просил разорвать завесу. Наконец она разорвана. До сих пор я считал своей обязанностью молчать: я узнал от человека, близкого к тирану, что он составил проскрипционный список. Но вчера я присутствовал на заседании у якобинцев, я слышал, я видел, как формируется армия нового Кромвеля, и я вооружился кинжалом, чтобы пронзить его сердце, если у Конвента не хватит мужества обвинить его!»
Сказав это, Тальен вынимает из-под одежды обнаженный кинжал, данный ему любимой женщиной, и взмахивает этим кинжалом над самой грудью Робеспьера, который отступает, не уступая однако трибуны своему врагу. Смелость Тальена передается самым нерешительным из присутствующих. Все чувствуют, что меч, извлеченный при таких обстоятельствах, может быть вложен в ножны не иначе, как окрашенный кровью Робеспьера или их самих.
«Мы, республиканцы, — продолжает Тальен более спокойным голосом, — будем обвинять тирана с мужественной честностью перед всем французским народом! На что бы ни рассчитывали сторонники человека, которого я обвиняю, не будет ни 31 мая, ни проскрипций. Одно только право народного суда покарает преступников! Я требую ареста Анрио, чтобы вооруженные силы не были введены в заблуждение своими начальниками. Затем мы потребуем пересмотра декрета 22 прериаля, изданного по единоличному предложению человека, о котором мы говорим… — Казалось, губы Тальена отказываются произнести имя Робеспьера. — Человек, стоящий рядом со мной на трибуне, — новый Каталина! Те, кем он окружил себя, — новые Берресы. Со времени моей миссии я преисполнен отвращения. Робеспьер хотел нас разъединить и напасть на нас поочередно, чтобы остаться одному со своими распутными и погрязшими в пороках единомышленниками! Я прошу постановить, что наше заседание продолжится до тех пор, пока меч закона не обеспечит сохранность республики».
Предложения Тальена встречены одобрительными криками. Робеспьер хочет говорить, но новые крики «Долой тирана!» заглушают его слова. Многочисленные голоса призывают на трибуну Барера. Он хладнокровно уничтожает Робеспьера, которого поддерживал накануне.
«Хотят вызвать волнения в народе, — говорит он. — Хотят захватить власть, принадлежащую народу. Комитеты — это щит, убежище правительства. В ожидании опровержения фактов, сообщаемых Робеспьером, мы предлагаем вам меры, необходимые для общественного спокойствия: эти меры состоят в упразднении должности командующего вооруженными силами и его штаба». Барер предлагает объявить эти меры в прокламации к народу.
Робеспьер с сожалением улыбается. Он все еще остается на трибуне, со скрещенными на груди руками, со сжатыми губами, дергающимися на щеках мышцами и взглядом, то скользящим по Горе, то опускающимся к «болоту». Он беспрестанно смотрит в сторону входной двери, как будто ожидая, что снаружи раздадутся голоса или шаги народа, который медлит прийти к нему на помощь.
Старик Бадье, председатель Комитета общественной безопасности, толкает его локтем, входя на трибуну.
«До 22 прериаля, — говорит Бадье, — я смотрел сквозь пальцы на этого коварного человека, умевшего являться под всевозможными личинами. Всем известно, что он открыто защищал Базира, Шабо, Камилла Демулена, Дантона! Тиран — имя, которым я его называю, — хотел разделить оба комитета. Если он обращался преимущественно ко мне, то это только потому, что я сделал доклад против суеверия, не понравившийся ему. И вы знаете отчего? Под матрацем Катерины Тео нашли письмо, адресованное Робеспьеру. Ему писали, что миссия его предсказана в пророчествах и что он должен восстановить религию без жрецов и сам сделаться первосвященником нового культа!»
При этих словах в рядах Собрания раздается аффектированный смех. Бадье вероломно наслаждается вызванной им реакцией. Робеспьер пожимает плечами. Бадье продолжает: «Если послушать этого человека, так можно подумать, что он единственный защитник свободы. Он с ума сходит по ней, он готов все бросить; он редкой скромности человек! У него постоянный припев: „Меня притесняют, меня лишают слова“, а между тем он один только и говорит. Он говорит: „Такой-то составил заговор против меня, значит, он составил заговор против республики!“ Он заставляет шпионов следить за каждым депутатом. Мой сопровождал меня даже до стола, за который я садился…»
Вадье слишком долго держит руку над головой Робеспьера, как будто замахнувшись. Размышления могут ослабить удар, и Тальен решает его ускорить: «Я прошу, чтобы спорящие не уклонялись от первоначального вопроса».
«Я верну всех вас к нему сам!» — вскричал вдруг Робеспьер, делая несколько шагов вперед. Тальен бросается к нему и отталкивает в сторону. «Оставим, — говорит он, — эти частности, как бы они ни были важны. Среди нас нет никого, кто не мог бы предъявить против него обвинения в каком-либо инквизиторском поступке. Но все ваше негодование я призываю вас выразить по поводу речи, которую он произнес вчера у якобинцев! В ней тиран обнаружил всего себя, и ею я хочу его добить! Этот человек, добродетель и патриотизм которого так превозносились, этот человек, который во время событий 10 августа появился снова только три дня спустя после революции; этот человек, который в комитетах должен был являться защитником угнетенных, покинул их шесть недель назад, чтобы оклеветать их в то время, когда они спасали отечество!» — «Это правда, это правда!» — раздается со всех сторон. «Ах! Если бы я хотел, — заключает Тальен, — описать все происшедшие акты насилия, я доказал бы, что все они совершены в тот период, когда Робеспьер стоял во главе генеральной полиции!»
Робеспьер в негодовании бросается в сторону Тальена. «Это ложь! — восклицает он, протягивая руку. — Я…» Шум снова прерывает его слова. Более возмущенный несправедливостью, нежели смущенный числом своих врагов, он сбегает со ступеней трибуны, взбирается на Гору, бросается в центр своих прежних друзей, обращается к ним, упрекает в измене, умоляет заставить дать ему слово. Все отворачиваются от него. Он спускается в центр и, обращаясь с мольбою к оставшимся в живых жирондистам, говорит: «Я прошу убежища у вас, людей незапятнанных, а не у этих разбойников», — он указывает на Фуше, Бурдона и Лежандра. С этими словами Робеспьер садится на свободное место на одной из скамей «болота». «Подлец! — кричат ему жирондисты. — Это было место Верньо!»
Отвергнутый всеми, он снова ищет убежища на трибуне. Обращаясь к президенту, он грозит ему кулаком:
«Председатель убийц! Дашь ли ты мне наконец слово?» — «Получишь, когда настанет твой черед!» — отвечает ему Тюрио, которому уступил председательство Колло д’Эрбуа. «Нет, нет, нет!» — кричат заговорщики. Робеспьер упрямо продолжает говорить, но слышны только хрипы. «Захлебнулся кровью Дантона!» — кричит ему Гарнье. Эти слова добивают Робеспьера. Никому не известный представитель, по имени Луше, высказывает наконец пожелание, которое давно уже у всех на устах, но которого никто не решается высказать. «Я требую, — кричит он, — приказа об аресте Робеспьера!»
Тишина предшествует взрыву. Собрание колеблется. Несколько рук на скамьях Горы дают сигнал к аплодисментам, которые встречают предложение Луше. Аплодисменты продолжаются, нарастают и разражаются громом.
В эту минуту встает Робеспьер-младший, невиновный, уважаемый, незапятнанный преступлениями. «Я так же виновен, как и мой брат, — говорит он, — я разделял его доблесть, я хочу разделить и его судьбу!» Несколько возгласов восхищения служат ответом на этот акт самоотвержения.
Робеспьер снова пытается говорить, на этот раз уже не за себя, а за брата. «Я принимаю свой приговор, я заслужил вашу ненависть; но мой брат, он невиновен в том, за что вы хотите покарать меня!» Упорный топот и глухая брань служат ему ответом. Он тщетно обращается то к председателю, то к Горе, то к «болоту».
«Председатель, — кричит Дюваль, — нам хотят сказать, что у Конвента есть властелин?» — «Он был им слишком долго!» — отвечает чей-то голос. «Ах! Как трудно сразить тирана!» — восклицает Фрерон, делая при этом рукою жест, каким топор вонзают в сердцевину дерева. Эти слова и этот жест как будто с корнем вырывают Робеспьера из трибуны. «Голосовать, голосовать! Арестовать его!»
Арест принимается единодушно. Все члены Собрания встают и кричат: «Да здравствует республика!» — «Республика? — с иронией восклицает Робеспьер. — Она погибла, потому что победили разбойники». И он спускается со скрещенными руками к подножию трибуны.
В то же время процессия повозок с сорока пятью осужденными выехала из Дворца правосудия и проследовала по предместью Сент-Антуан по направлению к эшафоту. Несколько друзей осужденных и великодушные граждане, узнав, что Конвент раскололся, и предполагая, что из осколков тирании само собой родится милосердие, кинулись за повозками и заставили их вернуться под крики «Пощады!». Анрио, для которого продолжение Террора являлось доказательством могущества, подъезжает верхом с группой своих приверженцев, разгоняет сабельными ударами жалостливых граждан и приказывает окончить казнь.
Накануне, в промежутке между речью Робеспьера и его падением, были отрублены шестьдесят две головы. В их числе оказалась голова Руше, автора поэмы «Месяцы», этой французской летописи, и голова Андре Шенье, бывшего в то время надеждой, а с тех пор сделавшегося предметом вечного траура французской поэзии. Эти два поэта сидели рядом на скамье со связанными руками, спокойно разговаривали о другом мире и с презрением — о том, который готовились покинуть; они отворачивались от этого стада рабов и декламировали стихи, столь же бессмертные, как и память о них. Андре Шенье, уже находясь на эшафоте, ударился лбом о столб гильотины. «Жаль, — сказал он, — там было кое-что!» Трогательный упрек судьбе, сожаление не о жизни, но о гении, скошенном раньше времени. Франция, подобно безумной Офелии Шекспира, срывала с головы и бросала к своим ногам, в кровь, цветы из собственного венка.
LXI
Суд над Робеспьером и над революцией
После короткого допроса в Комитете общественной безопасности Робеспьера отправили в Люксембургскую тюрьму, его брата — в Сен-Лазар, Сен-Жюста — в Экоссе, Леба — в Лафорс, Кутона — в Лабурб. Небольшие отряды жандармов проводили каждого из обвиняемых в его тюрьму, но ни один из них не был принят: настолько тюремщиков поразил их арест. Каким образом охранники и тюремщики стольких тюрем, находящихся на противоположных концах Парижа, которые рисковали жизнью в случае неповиновения приказаниям комитетов, могли проникнуться уважением в одинаковой мере и в один и тот же час к столь непохожим друг на друга обвиняемым? Разгадка этой тайны заключается, быть может, в смелой, хотя и коварной политике вождей движения. Они предчувствовали, как уверяют современники, что Трибунал, преданный Робеспьеру, оправдает обвиняемых, что такая мера, как перемена состава Трибунала, потребует много времени, что при новом составе процесс затянется надолго и будет ужасен; что народ, в продолжение многих дней толпившийся вокруг здания суда, не позволит вырвать из своих рук столь важного подсудимого; наконец, что против Робеспьера нет серьезных поводов к обвинению и что, если ему разрешат вернуться в Конвент, он явится туда не как оправдавшийся Марат, но как обвинитель. Эти соображения заставили термидорианцев — так их прозвали в народе — принять решение. Им нужны были две вещи: быстрое судебное производство и наличие преступления. Пока комитеты рассылали по тюрьмам обвиняемых, среди бела дня и по людным кварталам доверенные люди разносили тюремщикам приказ их не принимать. Толпа, разумеется, собиралась вокруг тюрем и торжественно сопровождала гонцов дальше. Таким образом, пришлось бы счесть преступным явное неповиновение тюремщиков и наказать за него. Их вовлекали в бунт, как в западню. Как ни опасен был народный мятеж, враги Робеспьера все же предпочитали его колебаниям Конвента и суду диктатора. Таковы были показания стариков, свидетелей или участников этого мрачного дня. Они допустимы, несмотря на некоторое неправдоподобие. Но почти столь же вероятно предположение, что сторонники партии Робеспьера ускользнули из Конвента в момент его ареста и бросились к тюремщикам, чтобы, застращав их, заставить отказаться от заключения в тюрьму невинных.
Как бы то ни было, после того как обвиняемых не приняли в тюрьмах, их вырвали из рук жандармов, окружили кучкой якобинцев и с торжеством отвели в Коммуну.
Восстание 9 термидора становилось далеко не безопасной для врагов Робеспьера игрой. Очаг восстания находился в ратуше. Флерио, Пайан, Добсент, Коффиналь, Анрио оставались там все время. Якобинцы тоже дежурили бессменно под председательством Вивье. Коммуна все время получала через своих агентов известия из Конвента. Сразу по получении новости о падении Робеспьера она составила исполнительный комитет из двенадцати членов. Площадь ратуши была покрыта щетиной штыков. Канониры Анрио, явившиеся со своими орудиями, и национальная жандармерия дали клятву избавить Конвент от его притеснителей. На нескольких колокольнях в окрестностях Парижа били в набат. На улицах кварталов Сент-Антуан и Сен-Марсо трубили сбор. Национальная гвардия, привыкшая к победам Коммуны, отовсюду спешила на свои посты. Набережные, посты, площади до самого Нового моста представляли собой один сплошной лагерь. Напротив, окрестности Тюильри были пустынны и молчаливы.
Жители предместий грозными толпами стекались на призыв адъютантов Анрио и эмиссаров Коффиналя. Все сулило победу мстителям за Робеспьера. Они уже вели себя с наглостью победителей. Посланного из Конвента, явившегося сообщить Коммуне приказ об аресте Анрио и о предании суду Пайана и Флерио, избили. Когда он попросил расписку в получении приказа, мэр Флерио ответил ему: «Пойди скажи тем, кто тебя прислал, что в такие дни, как сегодня, расписок не дают. Да скажи еще Робеспьеру, чтобы он не боялся: народ за него!»
Известие об аресте Робеспьера, о котором сообщили через несколько минут его приверженцы, бежавшие с трибун Конвента, довело до экстаза возбуждение Коммуны. Анрио, обнажив саблю, поклялся, что приведет привязанными к хвосту своей лошади всех негодяев, которые осмелились посягнуть на народного кумира. Стоя среди адъютантов у стола, заставленного бутылками, в вестибюле ратуши, Анрио искал вдохновения в опьянении и мужества в проклятиях. Во время этой оргии к совету обратился с недвусмысленной речью мэр. Пайан составил обращение, где клеймил врагов самого добродетельного из патриотов Робеспьера, апостола добродетели Сен-Жюста и Кутона, у которого осталась живой только голова, как выразился Пайан, а тело давно сожжено огнем патриотизма!
Возбужденный этими словами, но еще более вином, Анрио вскакивает на лошадь, несется в Люксембург и возвращается с отрядом жандармов, с которыми проезжает по улице Сент-Оноре. Узнав в толпе Мерлена из Тионвиля, Анрио задерживает его и отдает под стражу. Добравшись до решетки площади Карусель, Анрио хочет проникнуть за нее, но несколько гренадеров Конвента скрещивают штыки перед грудью его лошади. На шум выходит офицер Конвента и кричит жандармам: «Арестуйте этого мятежника!» Жандармы повинуются закону, арестовывают своего генерала, связывают своими поясами и бросают, мертвецки пьяного, в одну из комнат Комитета общественной безопасности.
В то время как Анрио пал таким образом у входа в Конвент, Сен-Жюст, Леба и Кутон были с триумфом приведены своими освободителями на площадь перед ратушей. Муниципальный совет громкими криками призывал Робеспьера. Молва передала уже, что привратник в Люксембурге отказался принять арестованных. Многие спрашивали, уж не убили ли злодеи из Конвента добродетельного гражданина в ту минуту, когда он подчинился закону. Никто не знал причины его отсутствия, но Флерио, Пайан, Коффиналь быстро успокоили Совет. Вот что произошло.
Робеспьер хотел умереть или победить, оставшись чистым, по крайней мере с виду. Когда у Люксембургских ворот его окружили и умоляли встать во главе народа, чтобы наказать Конвент, он упрямо остался во власти жандармов, позволив им отвести себя в муниципальную тюрьму. Там ни настояния якобинцев, ни посланцы Флерио и Пайана не могли заставить его нарушить приказ об аресте. Робеспьер, которого в течение трех часов продержали под арестом, уступил только патриотическим настояниям Коффиналя, который явился, чтобы разогнать жандармов, вызволить его и заставить показаться в зале общего собрания в ратуше. «Если это преступление, то я беру его на себя; если это слава, то она останется за тобою так же, как и спасение народа! — сказал ему Коффиналь. — Разборчивость в средствах создана для преступлений, но не для добродетели. Спасая себя, ты спасаешь свободу и отечество. Осмелься быть преступным такой ценою!»
В ту минуту, когда Робеспьера, внесенного на руках в зал общего собрания, буквально душили в объятиях, его брат, Сен-Жюст, Леба и Кутон объявили об аресте Анрио. Коффиналь, не теряя ни минуты, возвращается на площадь, обращается с воззванием к нескольким отрядам секционеров и отправляется во главе их в Комитет общественной безопасности. Там он находит пьяного Анрио, освобождает его, сажает на лошадь, все еще привязанную к решетке, и привозит к его же канонирам. Анрио, разбуженный, ободренный, горящий желанием отомстить за свой позор, обращает пушки против Конвента.
Было семь часов вечера. В это время депутаты обычно возвращались на заседание. Лица у всех оказались бледны от смущения. Вполголоса передавались мрачные предзнаменования, собранные со всех сторон в эти часы бездействия: клятва якобинцев умереть или победить вместе с Робеспьером, освобождение арестованных, звук набата, присоединение секций к Коммуне, пушки, наведенные на Тюильри, приближение трех тысяч юных питомцев нации, этих преторианцев Робеспьера, спешащих с Марсова поля, чтобы освятить кровью царствование нового Мария.
Бурдон всходит на трибуну. Все разговоры смолкают. Бурдон объявляет, что якобинцы только что приняли депутацию от Коммуны и братаются с инсургентами. Он предлагает Конвенту выйти к народу, как и 30 мая, чтобы успокоить волнение граждан. Мерлен рассказывает, как его арестовали приверженцы Анрио и освободили жандармы. Лежандр поддерживает поколебавшееся мужество присутствующих. Его прерывает шум снаружи. Это канониры, которым Анрио приказал выломать двери. Депутаты бросаются к выходу. Колло д’Эрбуа стремительно занимает президентское кресло. Находясь против двери, это место служило мишенью для первых пуль. «Граждане, — восклицает Колло, надевая шляпу и садясь, — настал момент умереть на своем посту!» — «Мы и умрем там!» — отвечают в один голос все члены Конвента, садясь в ожидании удара. Граждане на трибунах, наэлектризованные этим поступком, встают, дают клятву защищать Конвент, толпой выходят из зала и рассыпаются по садам, дворам и соседним кварталам, крича: «К оружию!» Конвент выносит декрет, которым Анрио объявляется вне закона. Амар выходит в сопровождении своих храбрых товарищей и обращается с речью к войскам. «Канониры, — говорит он им. — Неужели вы покроете бесчестьем родину, которой оказали столько услуг? Взгляните на этого человека: он пьян! Кто, кроме пьяницы, приказал бы расстреливать представителей и родину?»
Канониры, тронутые этими словами, отказываются повиноваться своему начальнику. На его место назначают отважного Барраса. Выбирают двенадцать комиссаров, чтобы идти брататься с секциями и присоединить к Конвенту национальную гвардию. Народ, который дергают во все стороны и который уже устал от этих конвульсий, слушает поочередно то прокламации Коммуны, то декреты Конвента, не зная, на чьей стороне право.
Ночь уже покрывала своей тенью отряды войск, постепенно редевшие около ратуши и делавшиеся все более плотными вокруг Тюильри. Баррас и депутаты объезжали верхом, при свете факелов, центральные кварталы Парижа. Они громко призывали граждан на защиту представителей от мятежной орды. Скоро вокруг Конвента собралась горсть преданных людей числом около тысячи восьмисот человек. Баррас мог бы увеличить это ядро к рассвету, но он знал цену времени и могущество отваги.
Он хладнокровно составляет план кампании и тотчас приводит его в исполнение. Баррас приказывает окружить ратушу отрядами, которые отрезают мятежникам отступление и возможность получить подкрепление. Сам, с пушками в авангарде, он медленно продвигается к ратуше вдоль набережной. Леонар Бурдон следует с другой колонной по узким улицам, параллельным набережной, чтобы одновременно появиться с другой стороны Гревской площади. По мере того как Баррас и Бурдон подходят к очагу восстания, гул толпы вокруг ратуши начинает как будто замолкать. Волнение затихает по мере их приближения. Баррас, успокоенный безлюдностью набережных, приказывает головным своей колонны остановиться, галопом возвращается в Конвент, входит в зал и поднимается на трибуну. Успокоив Конвент, он снова вскакивает на лошадь под крики: «Да здравствует республика! Да здравствует спаситель Конвента!» После него всходят на трибуну Фрерон и его адъютанты. Он дает отчет о состоянии Парижа со стороны Марсова поля. «Мы перерезали им путь, мы послали канониров-патриотов на площадь Ратуши, приказав им уговорить их заблудших товарищей. Теперь мы заставим покориться восставших. Если они откажутся выдать нам изменников, мы погребем их под развалинами здания, в котором они находятся!»
Тальен садится в председательское кресло. «Отправляйтесь, — говорит он энергичным тоном Фрерону. — Отправляйтесь! И пусть солнце не взойдет, пока не падут головы заговорщиков!»
Между тем Робеспьер все еще оставался в Коммуне в бездействии. У него был вид скорее заложника, чем вождя восстания. Выходя из полицейской префектуры, чтобы отправиться в Ратушу, Робеспьер все время повторял увлекавшей его депутации: «Вы губите меня! Вы губите себя! Вы губите республику!» С тех пор как он вошел в совет Коммуны, он делал вид, что остается равнодушным к движению, совершающемуся вокруг него. Сен-Жюст и Кутон умоляли его уступить голосу народа, принять на себя диктатуру и употребить неограниченную власть в течение ночи на то, чтобы на следующий день передать ее очищенному Конвенту. «Народ, — повторял ему Кутон, — ждет от тебя одного только слова, чтобы уничтожить своих тиранов! Обратись к нему хоть с прокламацией, чтобы указать ему, что он должен делать». — «От чьего же имени?» — спросил Робеспьер. «От имени попранного Конвента», — ответил Сен-Жюст. «Вспомни слова Сертория, — прибавил Кутон, — Рим уже не в Риме, он там, где я!»
«Нет, нет, — возразил Робеспьер, — я не хочу показать пример порабощения народного представительства.
Нас превращает в ничто только народ, мы не должны заменять свою волю его правами». — «В таком случае, — воскликнул Кутон, — нам остается только умереть!» «Ты прав», — флегматично произнес Робеспьер. Перед глазами у него был лист бумаги со штемпелем Парижской коммуны. Это было наскоро составленное воззвание к мятежу. Робеспьер, уступая настояниям коллег, начертал в конце страницы половину своего имени, но затем, вследствие угрызений совести или нерешительности не докончил подписи и отбросил бумагу и перо.
Это поведение, губившее друзей Робеспьера, не уронило его, однако, в их глазах. Кутон упрекал себя в том, что не сумел возвыситься до такого бесстрастия в своем патриотизме. Леба, человек дела, почувствовал, что им овладело восхищение. Робеспьер-младший угадывал свой долг по глазам брата. Сен-Жюст не решался спорить против идеи, которую считал выше своей если не по гениальности, то по благородству.
В этот момент отряд Бурдона, неслышно проскользнувший по боковым улицам на набережную, прежде чем вступить на Гревскую площадь, остановился с криком «Да здравствует Конвент!». Тщетно Анрио, с саблей в руке, скакал, как безумный, среди толпы и, топча ее лошадью, отвечал на ее крик криком «Да здравствует Коммуна!». Приближающиеся войска вызвали упадок духа в рядах секционеров. Канониры свистками заглушили слова своего генерала, развернули дула пушек в сторону ратуши и огласили площадь и набережные громогласным «Да здравствует Конвент!», а затем рассеялись.
Глубокое молчание царит у дверей Коммуны. Бурдон в этой неподвижности подозревает ловушку. Он думает, что мятежники, укрепившись в залах, начнут громить его колонну и погребут себя под развалинами ратуши. Наконец Дюлак, решительный агент Комитета общественной безопасности, во главе двадцати пяти саперов и нескольких гренадеров, переходит площадь, вышибает двери ударами топоров и поднимается, со штыками наперевес, по главной лестнице.
При звуке приближающихся шагов, Леба, у которого имелось при себе два пистолета, предлагает один из них Робеспьеру. Но Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон предпочитают смерть от рук врагов. Бесстрастно сидя за столом в зале Равенства, они прислушиваются к шагам, смотрят на дверь и ждут решения своей участи.
При первом стуке ружейного приклада о ступеньки лестницы Леба стреляет себе в сердце и падает мертвый на руки Робеспьера-младшего. Последний, хоть и убежден в своей невинности, не хочет пережить ни своего брата, ни друга. Он открывает окно, выпрыгивает во двор и ломает себе ногу. Коффиналь, наполняя ругательствами залы и коридоры, встречает Анрио, подхватывает его на руки, подносит к открытому окну и кидает со второго этажа на кучу мусора, восклицая во тьму: «Убирайся, жалкий пьяница! Ты недостоин эшафота!»
Леонар Бурдон выстраивает свой полк в боевом порядке перед входом, а сам поднимается по лестнице в сопровождении пяти жандармов. Дверь подается под ударами ружейных прикладов. «Смерть тирану!» — кричит Бурдон. «Который тиран?» — кричат солдаты. Бурдон не решается встретиться взглядом со своим безоружным врагом. Стоя немного поодаль от жандарма, он хватает правой рукой руку, в которой тот держит пистолет, и, указывая ему левой рукой, в кого нужно целиться, направляет дуло оружия на Робеспьера: «Вот он!» Раздается выстрел, голова Робеспьера падает на стол, заливая кровью воззвание, которое он не успел подписать. Пуля раздробила ему зубы.
При звуке выстрелов и криках «Да здравствует Конвент!» колонны Барраса наводняют площадь, берут приступом ратушу, запирают все выходы, овладевают восьмьюдесятью членами Коммуны, связывают их и приготовляются вести с триумфом в Конвент.
В пять часов голова колонны входит в Тюильри. По шумному волнению узнают о приближении Барраса и Фрерона. Председательствует Шарлье. «Подлый Робеспьер там, — говорит он, указывая на дверь, — хотите ли вы, чтобы его внесли?» — «Нет! Нет!» — отвечают представители, одни побуждаемые ужасом, другие — состраданием. «Оставить в Конвенте человека, запятнавшего себя всеми преступлениями, — восклицает Тюрио, — значило бы лишить подобающего ему блеска этот прекрасный день! Робеспьера и его сообщников ждет другое место — площадь Революции».
Робеспьера положили на стол в приемном зале. Огромная толпа входила, уходила, текла все время, желая взглянуть на низвергнутого главу республики. Несколько депутатов из числа его вчерашних льстецов пришли убедиться, правда ли, что тиран больше не встанет. Приставы Конвента пальцами указывали на него публике, как на дикого зверя в клетке. Робеспьер притворился мертвым, чтобы избежать оскорблений и ругательств. Один чиновник из Комитета общественного спасения подошел к нему, развязал подвязку, спустил чулок и, положив руку на обнаженную ногу, убедился по пульсации артерии в том, что он жив. «Надо его обыскать», — заявили в толпе. В кармане нашли пару пистолетов, на кобуре каждого был выгравирован герб Франции. «Взгляните на этого злодея, — крикнули из толпы, — вот доказательство того, что он мечтал о троне: он носил запрещенные символы королевской власти!»
В эту минуту Лежандр вошел в зал, приблизился к своему врагу и, обратившись к нему с театральным жестом, произнес: «Ну, тиран! Ты, для которого вчера была мала республика, занимаешь теперь два квадратных фута на этом столе!» Робеспьер с ужасом и презрением слушал этот голос, который он заставлял замолкать в Конвенте одним взглядом. Оставаясь неподвижным, он видел и слышал все. Кровь, лившаяся из раны, запеклась у него во рту. Он собрался с силами и вытер ее кобурой, все еще лежавшей рядом. Жара в зале стояла невыносимая, щеки Робеспьера горели лихорадочным румянцем. Возле него поставили на стол сосуд с уксусом, и время от времени он смачивал уксусом губку и отирал себе губы.
После этой продолжительной выставки Робеспьера перенесли в Комитет общественной безопасности. Билло-Варенн, Колло д’Эрбуа, Вадье, самые заклятые его враги, ждали его там. Они допросили его — скорее для проформы. Раненый смог отвечать им только взглядом, и пришлось сократить их радость и его пытку. Когда его перенесли в госпиталь «Отель Дьё», хирурги перевязали рану. Робеспьер застал там Кутона, Анрио и своего брата. После перевязки всех раненых перенесли в Консьержери и поместили в одну камеру. Сен-Жюст уже ожидал их там у трупа Леба.
Двадцать восьмого июля заключенных отправили на заседание Революционного трибунала. Фукье-Тенвиль ограничился установлением личности, он даже не посмел поднять глаз ни на Дюма, своего товарища по обязанностям судьи, ни на Робеспьера, своего патрона.
В пять часов тележки ждали приговоренных у главного входа. Их привязали за ноги, за туловища и за руки к перекладинам первой тележки и повезли по самым длинным и населенным улицам Парижа. Неровности мостовой исторгали у раненых крики и стоны. Двери, окна, балконы, крыши были усеяны зрителями, в основном празднично одетыми женщинами, но толпа, немногочисленная и угрюмая, смотрела на процессию, не выражая ни сожаления, ни удовлетворения. Только юноши, лишившиеся отцов, и женщины-вдовы прорывали цепь жандармов, хватались за оси и осыпали Робеспьера проклятиями.
Голову Робеспьера обвязывала запятнанная кровью повязка, поддерживавшая подбородок и связанная узлом на затылке. Видны были только одна щека, лоб и глаза. Сопровождавшие его жандармы указывали на него концом сабель. Он отворачивался и пожимал плечами, как будто в нем возбуждало сожаление заблуждение, приписывавшее ему одному все вопиющие преступления революции. Поза его выражала покорность, но не страх. Тайна, окутывавшая его жизнь, скрывала его мысли. Он готовился умереть, не сказав последнего, главного слова.
Перед домом Робеспьера толпа остановила шествие и начала плясать вокруг тележки.
Ребенок, несший ведро с бычьей кровью, обмакнул в нее метлу и обрызгал ею стены дома. Робеспьер закрыл глаза. Это был единственное движение, которым выразилось состояние его души в течение тридцатичасовой муки.
Шествие двинулось дальше к эшафоту. Кутан ехал в задумчивости. Робеспьер-младший был в полуобмороке. Толчки, бередившие его сломанную ногу, вырывали у него невольные крики. У Анрио все лицо было окровавлено, из одежды на нем осталась одна рубашка, забрызганная грязью. На бледном, но спокойном лице Сен-Жюста, одетого прилично и подстриженного, не было заметно ни унижения, ни гордости. По устремленному вверх взгляду было видно, что он сознает, за что идет на смерть. Человек непонятый, состоящий целиком из одного разума: сердце его было так же чуждо природе, как и его теории. Отсутствующее сердце ни в чем не упрекало его отвлеченную совесть, он умирал всеми ненавидимый и всеми проклинаемый, но не чувствующий за собой вины. Можно лишь удивляться, сколько молодости сочеталось с таким догматизмом, сколько грации — с таким фанатизмом и сколько совести — с такой неумолимостью.
Достигнув статуи Свободы, палачи подняли раненых на помост гильотины. Ни один из осужденных не обратился к народу. Робеспьер твердыми шагами поднялся по ступеням эшафота. Прежде чем отцепить нож, палачи сорвали повязку, покрывавшую его щеку, чтобы лезвие топора не притупилось. Робеспьер зарычал от боли — и рычание его услышали в самых отдаленных концах площади Революции.
Несколько недель спустя молодая женщина с шестимесячным ребенком на руках вошла в меблированный дом и выразила желание поговорить с дочерью хозяина. Незнакомка была дочерью Дюпле, вдовой Леба. После самоубийства мужа, казни отца, убийства матери и ареста сестер госпожа Леба переменила имя и начала одеваться, как одеваются женщины из народа; она зарабатывала пропитание себе и ребенку стиркой белья. Несколько республиканцев, подвергшихся преследованию, знали ее тайну. Ей не осталось после мужа ни наследства, ни портрета, она молча обожала память о нем.
Юная беглянка узнала, что у квартирной хозяйки Сен-Жюста, художницы по профессии, имелся портрет ученика Робеспьера, нарисованный ею незадолго до его казни. Бабетта горела желанием приобрести этот портрет, напоминавший ей в лице товарища и лучшего друга Леба ее мужа. Молодая художница, сама доведенная до нищеты заключением отца, запросила за свою работу шесть луидоров. У госпожи Леба не было такой суммы: она спасла от секвестра один только сундук с тряпьем, белье и подвенечное платье. Несчастная женщина предложила сундук со всем содержимым в уплату за портрет. Художница согласилась. Таким образом, благодаря любви сохранилось для потомства единственное изображение юного революционера — прекрасного, как античный герой, странного, как теория, вдумчивого, как система, трагичного, как предчувствие. Это скорее изображение идеи, чем человека.
Послесловие,
написанное автором 15 лет спустя (октябрь, 1861)
Жизнь есть урок, который время преподает человеку, развертывая перед ним события, как свиток.
Кто не изменялся, тот не жил, так как он ничему не научился.
Тот, кто утверждает, что знает все с первого дня, не должен был ни родиться, ни жить, ни умереть, потому что ему нечему было учиться.
Жизнь не походит на Овернские источники, полные нечистых осадков и возвращающие вам вместо брошенного в них цветка или плода камень. Жизнь — поток, ведущий к истине, то есть к добру. Времени все известно, и мы можем узнать что-либо, лишь воспользовавшись им для пополнения нашего невежества.
В течение моей жизни я несколько раз изменял свое мнение и поведение сообразно различным положениям и не раскаиваюсь в этом. Скорее я мог бы упрекнуть себя в том, что недостаточно изменился, то есть недостаточно воспользовался временем, которое Бог даровал мне прожить.
Сказать: «Я ошибся» — значит унизиться в своей гордыне, но гордыню в себе необходимо побороть, если хочешь быть честным человеком и заслужить помилование грядущего Судьи.
Вот почему я без колебания изменился бы еще раз, если бы пришел к заключению, что мои настоящие мнения — заблуждение.
Удивительно ли, что, думая таким образом, я чувствую чуть ли не угрызения совести при воспоминании о некоторых ошибках, совершенных мною при оценке поступков деятелей Великой французской революции, что, перечитывая, я отношусь со строгой критикой к этой книге (которая в свое время стала событием) и представляю собой теперь любопытное зрелище, обратившись из историка в критика. Пример такой критики самого себя уже был дан во Франции сочинением, озаглавленным «Руссо — судья Жан-Жака». Но если я не получил от природы в дар стиля и красноречия Жан-Жака Руссо, то я не получил также и его свирепой колкости. Жизнь научила меня скромности, а явления общественные, как и частной жизни, сокрушившие, но не окончательно сломившие меня, оставили во мне, как следствие моих произведений и поступков, гордое смирение перед людьми и смиренную покорность перед Богом.
Каково же было настроение моего ума в 1846 году, когда я писал эту книгу?
Великая история есть свод различных мнений. Такого свода недоставало Франции; попытаться дать его по мере моих сил было благим делом. Я давно думал об этом. «Необходимо изложить для этого народа, — сказал я своим друзьям, — в беспристрастной истории, нравственной и в то же время трогательной, живой комментарий его первой революции; необходимо доказать всеми фактами этой революции, что в истории, так же как и в нравственности, каждое преступление, даже сегодня удавшееся, влечет за собой назавтра полное искупление; что народы, так же как и отдельные личности, обязаны честно делать дела честные; что цель не оправдывает средства, как это утверждают люди, возведшие мошенничество в науку; что самые чистые принципы гибнут вследствие безнравственности исполнителей; что совесть не терпит сделок с ней. Написанная в этом духе история революции станет для народа высоким уроком нравственности, пригодной наставить и удержать его накануне близких потрясений».
Если бы республике, как я уже теперь не сомневаюсь, хотя бы временно пришлось получить от французской нации и общества полномочия, вызванные необходимостью, если бы на нее была возложена обязанность спасти родину после падения авантюрной монархии, то я желал бы, чтобы будущая республика была жирондистской, а не якобинской.
Вот цель моей книги.
В деревне, в промежутках между сессиями, и в Париже, между заседаниями, я стал рыться во всевозможных документах, печатных, рукописных, живых, которые помогли бы мне осветить эту достопамятную эпоху. Они были многочисленны, объемисты, искренни; моим усилиям благоприятствовало то, что в воспоминаниях свободная рука искала беспристрастного света, который загорается лишь тогда, когда партии уже отошли в вечность, а страсти угасли. Я решил быть справедливым ко всем, а прежде всего, если понадобится, к себе самому; я не пренебрегал ничем, чтобы быть хорошо осведомленным. Что касается слога, то я не обращал на него внимания; я был уверен, что сами события настроят меня на ясность, порядок, свет, праведность и даже — единственное красноречие историка — чувствительность, вкладывающую сердце в свой рассказ. Я по природе склонен к чувствительности; мне оставалось только дать волю своей натуре. Каждое сомнение в какой-либо подробности, приводимой мною в моем пространном рассказе, я могу опровергнуть серьезными доказательствами. Правдивость есть честность истории. Ложь перед потомством есть ложь перед Богом, потому что история божественна.
Один сочинитель, пишущий сильно, но не всегда попадающий в цель именно в силу своего таланта, господин Касаньяк, также написал книгу о жирондистах. Он обвиняет меня в том, что я не только исказил, а прямо-таки выдумал рассказ о предсмертном банкете жирондистов накануне их казни. Этот глубоко драматичный ужин жертв показался мне самому столь странным и невероятным, что, признав в нем для истории фальшивый тон поэмы или романа, я решил воспроизвести его или под сомнением, или заключить в скромные рамки прозы. Однако из того, что какой-либо факт драматично живописен и патетичен, все-таки не следует, что он фальшив.
Я наслышан об одном духовном лице, аббате Ламбере, присягнувшем священнике, друге нескольких жирондистов, имевшем сношения с ними в то время, когда они сидели в тюрьмах, и присутствовавшем при последних их минутах. Я навел справки об этом священнике и узнал, что он еще жив, примирился с церковью после эпохи отречения и в течение долгих лет оставался священником в Бессанкурской коммуне в департаменте Сены и Уазы. Я обратился к нему письменно с просьбой сообщить мне, действительно ли он находился в сношениях с побежденными 31 мая и, если этот слух основателен, не согласится ли он принять меня и сообщить мне сведения, столь важные для истории. Он ответил мне с чрезвычайной охотой и заявил, что ею удивляет, что имя его дошло до меня, и что, так как его возраст и недуги лишают его возможности предпринять путешествие, он очень рад будет принять меня в своем скромном домике.
Бессанкурский священник, в то время еще бодрый, сообщил нам — то есть мне и одному молодому человеку, впоследствии моему сотоварищу в Учредительном собрании 1848 года, — желаемые сведения о последних днях, настроении и разговорах осужденных. Нам едва хватало дня, чтобы собрать показания единственного оставшегося в живых свидетеля этой великой драмы. Мы прерывали рассказ только для завтрака и обеда и расстались с ним вечером, полные признательности за его прием и нагруженные живыми сведениями, вынесенными из нашей беседы.
Некоторое время спустя я снова поехал в Бессанкур прояснить некоторые обстоятельства. В этот раз меня сопровождал литератор, сделавшийся впоследствии известным историком другой нашей исторической эпохи, которому я поверял все свои труды. В случае необходимости он замолвит за меня слою. Это второе путешествие в Бессанкур и подробные сообщения аббата Ламбера окончательно убедили меня в правдивости его слов. Я думаю, что он не любил, чтобы его прихожане думали о нем как о присягнувшем священнике, и что ему было скорее досадно, нежели приятно, когда о нем говорили как о свидетеле событий, напоминавших ему о его проступке перед священническим саном, хоть он впоследствии и искупил этот проступок раскаянием в нем.
Помимо печатных и рукописных документов, собранных в огромном и блестящем архиве Бюше — Ру, которые послужили мне руководством, постоянно открытом на моем столе в течение двух лет, я не пренебрегал ни одной из устных справок, полученных от родных или друзей действующих лиц (даже мне антипатичных), общественную или личную жизнь которых мне предстояло изучить. Издалека история представляет собой гладкую поверхность; она становится достоверной лишь вблизи.
Актер исчезает, обнаруживается человек, история делается нагой, как истина.
Таким образом, я совершенно уяснил себе Дантона. Вот единственный государственный муж в революции после Мирабо, Юпитер-громовержец этих бурь, трибун, сердце которого судорожно билось, сжимаясь заранее от укоров совести, вырывалось в самых раскатах его голоса, повергавших в ужас и бегство его жертвы. Вот человек, который мог бы быть великим провозгласителем новых истин, если бы у него хватило мужества воздержаться от совершения преступления орудием свободы.
Вторая жена Дантона, вышедшая за него замуж в пятнадцатилетием возрасте, была жива в то время, когда я писал свою книгу; жива она еще и теперь. Я разыскал ее; ради меня она согласилась отбросить свое вдовье покрывало и прислала ко мне своего сына от второго брака, молодого человека с незапятнанным именем, занимающего высокое положение в обществе. Я узнал от него все интимные подробности характера, домашней жизни, личных чувств, последней разлуки и трагической смерти этого человека — устрашающего снаружи и чувствительного в душе. По этой-то модели, вышедшей из мрака супружеского алькова, я и вылепил бюст Дантона.
Желая выставить Робеспьера в его истинном свете, как поистине исторический характер убежденного фанатика, действовавшего вначале под впечатлением политической и социальной аберрации, а в конце — отчаянного зверства, я тщательно разыскивал в течение целой зимы тончайшие нити, еще имевшие связь с истинной и сокровенной правдой об этом трибуне, свергнутом 9 термидора, в день, о котором Бонапарт говорил во время своего пребывания на острове Св. Елены: «Это был судебный приговор, но без следствия». Острота смелая, но вполне верная.
Я узнал случайно, что одна из дочерей столяра Дюпле с улицы Сент-Оноре проживает еще на улице Турнон под именем госпожи Леба; она была живым преданием семьи, оказавшей в своем доме Робеспьеру такое задушевное и такое продолжительное гостеприимство.
Я встретил в госпоже Леба женщину времен вавилонского пленения, удалившуюся от житейской суеты в верхний этаж нищенского жилища, окруженную портретами членов своей семьи, рассеянной 18 фрюктидора; своих сестер, из которых красивейшая должна была стать женой Робеспьера, самого Робеспьера в его элегантных костюмах: он с гордостью появлялся в них для контраста с куртками, красными колпаками и деревянными сабо — гнусной лестью якобинцев равенству и нищете черни.
Мне были разрешены свободный доступ в ее уединенное убежище и право сколько угодно перелистывать, страницу за страницей, живую книгу ее неисчерпаемых и страстных воспоминаний обо всех внутренних и внешних подробностях частной и общественной жизни Робеспьера. Все, что я привожу в своей книге об аскетическом, уединенном, трудолюбивом, целомудренном и, так сказать, отвлеченном образе жизни кумира якобинцев и народа, есть дословный рассказ госпожи Леба. Мне принадлежат только слог и выводы.
Сен-Жюст также играл большую роль в этих воспоминаниях. Мне кажется, что до выхода замуж за Леба юная дочь Дюпле одно время мечтала сделаться женой молодого красавца-проконсула, фанатичного Сеида, этого Магомета с антресолей. Каждый раз, когда в нашей беседе упоминалось имя Сен-Жюста, голос госпожи Леба делался мягче, выражение лица — нежнее, а глаза ее переносились от висящего на стене портрета к небу: как бы в немом упреке ему за то, что оно допустило, чтобы топор 1794 года пресек сладкую мечту вместе с головой этого ангела-истребителя.
Другой источник, несравненно более драгоценный и оригинальный, я нашел в лице Субербьеля, верного старого террориста, оставшегося до восьмидесяти лет таким же фанатичным поклонником Робеспьера, каким он был в день провозглашения Верховного Существа.
Субербьель, живший невидимкой в квартале Пале-Рояль со старухой служанкой, встретил меня у изголовья своей кровати с плохо скрытой радостью, как умирающий принимает своего наследника. В квартире его, помещавшейся в нижнем этаже вполне приличного дома, царил беспорядок, но это происходило от небрежности: предметы мебели были нагромождены один на другой, картина на картину: все это походило на аукцион.
Он являлся одним из самых близких поверенных Робеспьера, старшим врачом и в то же время главным агентом Марсовой школы, корпуса юных янычар, которые охраняли Конвент, а главным образом самого Робеспьера, и готовы были лететь к нему на помощь в случае, если бы его вызвали на бой в Собрании или в столице. Субербьель на протяжении сорока лет разделял все увлечения своего учителя «добродетельными идеями», в истинность которых верил до конца.
Мне, признаюсь, тяжело было переносить этот апофеоз Робеспьера. Во время рассказов южная кровь Субербьеля, приливавшая к голове, придавала его лицу выражение лица сивиллы, вдохновленной эшафотом; дрожь экстаза приподнимала седые волосы. А красный отсвет от пунцового полога, пронизанного лучами утреннего солнца, отражаясь на кровати старика, казался не отражением света, а кровью. Он не был жесток, но его до сих пор опьяняло поле битвы 9 термидора.
В чем цель исторического портрета? Не иначе как в том, чтобы вызвать и сосредоточить внимание на личности, которая появляется на сцене и сейчас будет действовать у вас на глазах. Следовательно, рассуждая логически, настает момент сказать читателю: «Вот каков был этот человек, вот откуда он явился, вот каким образом он вышел из мрака, через что прошел, прежде чем принять участие в данном событии».
Главное свойство моей книги, которое бросается мне в глаза, когда я перечитываю ее, и составляет, без сомнения, одну из причин возбуждаемого ею интереса, — это то, что люди занимают в ней гораздо большее место, нежели факты. Я везде олицетворял события в действующих лицах; это верное средство оставаться всегда интересным, так как люди живут, а события мертвы; у людей есть сердце, а у событий его нет; события отвлеченны, а люди реальны. Выкиньте из книги сотню людей, оживляющих ее своим духом, подогревающих все своей страстью, — и книги не существует.
Иллюстрации
Мирабо (1749–1791)
Принцесса Елизавета Французская (1764–1794)
Герцог Орлеанский (1747–1793)
Неккер(1732–1804)
Принцесса Ламбаль (1747–1793)
Госпожа Ролан (1754–1793)
Барбару (1767–1794)
Петион(1753–1794)
Верньо (1753–1793)
Барнав (1761–1793)
Мальзерб (1721–1794)
Байи (1736–1793)
Бриссо (1754–1793)
Кюстин(1740–1793)
Дюмурье (1739–1823)
Барер (1755–1841)
Фабр д'Эглантин (1750–1794)
Сент-Жюст (1767–1794)
Марат (1743–1793)
Дантон (1759–1794)
Фукье-Тенвиль (1746–1795)
Колло д'Эрбуа (1749–1796)
Сийес (1748–1836)
Баррас (1755–1829)
Примечания
1
Теофилия Ферниг (1775–1819), Фелисите Ферниг (1770–1841).
(обратно)2
Фузильеры [фузилёры] — в XVIII веке пехотные солдаты французской армии, вооруженные кремневыми ружьями.
(обратно)3
Семьи маркизов Малой де Берси.
(обратно)4
В современной историографии все источники упоминают Клер Лакомб.
(обратно)5
Так называли Клоотса из-за его авторства теории «единственной нации, включающей все человечество».
(обратно)6
Мари Маргарит Франсуаза Гупиль (1756–1794).
(обратно)

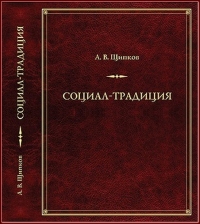



Комментарии к книге «История жирондистов Том II», Альфонс де Ламартин
Всего 0 комментариев